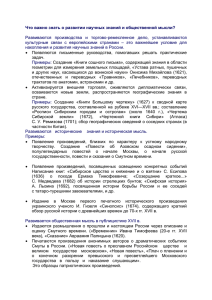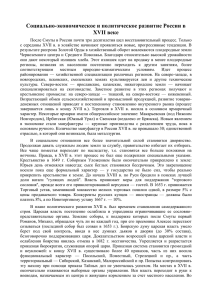Роль западноевропейской массовой литературы в процессе
advertisement

А.В. Архангельская (Москва) РОЛЬ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ СМЕНЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ В РОССИИ XVII СТОЛЕТИЯ. Традиционно принято считать, что феномен массовой литературы не предполагает эстетических критериев при подходе к его анализу и скорее заслуживает рассмотрения с точки зрения вульгаризации, адаптации для неразвитого вкуса явлений большой литературы. Однако изучение историколитературного процесса показывает, что в некоторые периоды литературного развития явления такого рода могут играть значительную роль в становлении новой (по сравнению с предшествующим этапом) эстетической системы. С такой ситуацией мы сталкиваемся при изучении русского литературного процесса второй половины XVII века. Рассмотрение некоторых теоретических закономерностей этого процесса и является предметом данной статьи. Исследователями неоднократно обсуждались проблемы, связанные с так называемым периодом «западного влияния» в русской литературе, начало которого обычно относится ко второй половине XVII в. Хрестоматийное определение XVII века в истории русской литературы как «переходного периода» основательно и не вызывает сомнений: именно тогда происходила смена литературной системы ценностей, когда вместо традиционных православно-византийских ориентиров на первое место выступили ориентиры латинско- западноевропейские в их польских версиях. Столь же общим местом является утверждение о том, что усвоение западноевропейского литературного материала было не синхронным, что в XVII в. усваивались, как правило, средневековые произведения, созданные в XII–XIII вв. (авантюрно-рыцарский и любовнорыцарский роман, дидактическая и «смехотворная» новелла, драматургия), или даже более ранние (например, в 1607 г. был сделан первый перевод сборника басен Эзопа). А.И. Белецкий замечал по этому поводу: «Ни польские писатели “золотого” XVI в, ни польская барочная литература XVII в. не получили у нас ни влияния, ни даже известности»1. То же самое можно сказать о произведениях западноевропейской литературной, философской и научной мысли: современное ее состояние было абсолютно незнакомо русскому читателю второй половины XVII в. Эта ситуация также неоднократно вызывала разнообразные отклики литературоведов. С одной стороны, она давала возможность порассуждать об известном провинциализме русской литературы. С другой, обращалось внима- 2 ние на то, что «гении философской и научной мысли Запада – и на самом Западе – были светочами лишь для немногих современников; их идеи проникали в читательскую среду и на Западе медленно, трудно, встречая порой ожесточенное сопротивление и преследование... Если мы вспомним, например, совершенное забвение самого имени Шекспира на Западе во второй половине XVII в., станем ли мы удивляться, что в театре царя Алексея Михайловича ставили не “Короля Лира”, а “Темир-Аксаково действо”?»2 Более того, усваивавшиеся в России тексты чаще всего представляли собой «переводы с вульгарных пересказов для “народного” чтения, нехитро мотивированных и без особой художественности, тогда как в Западной Европе те же сюжеты уже были художественно обработаны великими писателями»3 (в качестве примера можно привести хотя бы обработки отдельных новелл из «Декамерона» Дж. Боккаччо в сборнике «Фацеций», переведенном с польского языка в 1680 г.). Таким образом, большую часть переводного наследия второй половины XVII в. вполне можно считать «массовой литературой» с точки зрения образованного европейского читателя этого периода. И точно так же они стали интерпретироваться русскими читателями спустя всего лишь чуть более полувека: «образованное общество екатерининского времени относилось к обрусевшим переводным повестям двояко: с одной стороны, сюжеты этих повестей пересказывались и печатались людьми, увлеченными так называемой “народностью”, с другой – эти повести пренебрежительно критиковались, как остатки средневековой дикости и примеры дурного вкуса»4. Именно такие признаки Ю.М. Лотман считал необходимыми для выделения такого явления, как массовая литература : «...в определенном коллективе она будет осознаваться как культурно полноценная и обладающая всеми качествами, необходимыми для эстетического функционирования. Однако, во-вторых, в том же обществе должны действовать и быть активными нормы и представления, с точки зрения которых эта литература не только оценивалась бы чрезвычайно низко как “плохая”, “грубая”, “устаревшая” или по какому-либо другому признаку исключенная, отверженная, апокрифическая, но и как бы не существовала вовсе»5. В этой ситуации следует выделить два аспекта, которые можно условно назвать «временным» и «эстетическим». Неоднократно обращалось внимание на то, что временная дистанция – явление неизбежное для периода «литературной учебы». Как отмечал А.С. Бушмин, «наряду с последовательной, поступа- 3 тельной преемственностью, нередко наблюдается и обращение ... непосредственно к традициям отдаленных эпох. <...> В своем закономерном поступательном движении литература ассимилирует весь предшествующий опыт»6. В XVII в. неподготовленное к восприятию светской литературы сознание русского читателя не могло сразу принять высшие ее достижения. Нужен был подготовительный период, призванный помочь русскому человеку понять, что литература не только являет ему идеальные примеры для подражания, не только учит, как надо жить, но иногда и просто развлекает, веселит. Как писал П.В. Владимиров, «многие из этих (переводных – А.А.) произведений составляли совершенную новость для русского общества. За смех, по старинным требникам, полагалась епитимья»7. Действительно, «новой русской литературе предстояло научиться смеяться»8, и это было нелегкой задачей, ибо русский читатель еще хорошо помнил, что «смешно – это страшно», что смех-игра «не выводит за пределы мира как такового, а позволяет проникнуть в его заповеданные области, где серьезное пребывание было бы равносильно гибели»9. И лишь в XVIII веке, когда «смехотворные веселые повести» окончательно приживутся в русской литературе, когда эпоха средневековых запретов окажется уже далеко позади, а русская культура будет стоять на пороге новых достижений, появится на сборнике «Истории из Римских деяний» описанная И.Е. Забелиным отметка женским почерком: «Сия книга в скуке отрада, когда Василий Федорович в суде, не с кем время разделить»10. В этой ситуации становится понятным не только само по себе обращение к более ранним по времени создания текстам (т. е. текстам, близким не синхронно, а стадиально), но и метод работы с этими текстами. Рассмотрим этот метод на примере новеллистического жанра. В сюжетном отношении дидактические и «смехотворные» новеллы, переведенные в России во второй половине XVII в., представляют собой порождение средневековой городской культуры, тесно связанной с фольклором, так что многие из этих сюжетов уходят корнями в глубины народного творчества. В эпоху Ренессанса в Западной Европе они извлекаются на свет и проникают в большую литературу благодаря обработкам Боккаччо, Чосера, Браччолини и др. Западнославянским странам (и прежде всего Польше) они стали известны одновременно с зарождением «ренессансного стиля жизни», «ренессансной реабилитации человека на всех уровнях»11. В это время там зреет новая, барочная куль- 4 тура, вобравшая в себя эти элементы Ренессанса и обогатившаяся ими. В таком виде эти новеллы перенимает Россия. При этом если эпохе Средневековья данные тексты обязаны составом героев, основными сюжетными коллизиями, типами конфликта и его разрешения, а также тесной связью с фольклором, то ряд более частных моментов: дидактизм, остроумие, развлекательность, – являясь актуальными для эпохи барокко, приобретает в Польше XVI–XVII вв. более сильный акцент, который можно выделить и в русских новеллах XVII–XVIII вв., что позволяет говорить об элементах барокко. При этом необходимо помнить, что речь идет именно о выделении отдельных моментов уже сложившихся в содержательном отношении текстов, а не о привнесении какого-то нового содержания. Наибольшую трудность представляет вопрос о влиянии эпохи Ренессанса. И здесь, видимо, необходимо различать эволюцию западноевропейской новеллы от Средних веков к Возрождению и эволюцию новеллистического жанра, переходящего из страны в страну и в конце концов пришедшего в Россию. Что касается первого аспекта проблемы, то, несомненно, можно говорить о средневековой западноевропейской новелле и о западноевропейской новелле эпохи Возрождения. Несмотря на то, что последняя вырастает на основе первой, очевидны значительные различия и в уровне художественной обработки материала, и в его идейно-эстетической направленности. Появление ренессансных «переделок» средневековых сюжетов объясняется тем, что дух средневекового города, характерная для него секуляризация мышления и связь литературного творчества с фольклором оказались близки духу новой культурной эпохи, а комплекс проблем, рассматриваемых городской новеллой (и прежде всего – внимание к отдельной человеческой личности, тем более к человеку социально незначительному) – актуальным для авторов-гуманистов и позволил им решать вопросы, вызванные к жизни новым временем, поднявшись на более высокий уровень обобщения. Сущность этого процесса можно хорошо проследить на примере «Декамерона» Дж.Боккаччо. Автор «воспринял из «Новеллино» и других ранних сборников новелл анекдотическую фабулу, трезвый бытовой элемент, жизненную непосредственность, прославление находчивости и остроумия... К этим унаследованным элементам он добавил... богатство психологического содержания и сознательную артистичность формы, воспитанную внимательным 5 изучением античных авторов. В силу такого подхода к новелле она стала полноправным литературным жанром»12. С новеллой странствующей, заимствующейся дело обстоит несколько иначе. Из того, что «Фацетии» Поджо Браччолини представляют собой пример гуманистической новеллистики, вряд ли следует делать вывод о том, что русские фацеции являются продолжением и развитием новеллистической традиции эпохи Возрождения. Эти новеллы перенимали страны, только начинающие знакомство со светской культурой. Соответственно, для них не могли сразу стать актуальными идеи большого уровня обобщения, представленные, к тому же, во всем блеске обновленных средств поэтической выразительности, характерных для античности. Поэтому в каждой новой стране на пути странствования жанра все больше отбрасывалось «возрожденческое» и оставалось только «средневековое». Способствовало этому и существовавшее в то время свободное отношение к переводу – он не только не был дословным, но и мог легко заменяться на пересказ. Характерный момент: герои, приобретшие имена в новеллах Боккаччо, опять теряют их в русских фацециях XVII – первой половины XVIII вв. При этом, чем дольше был путь новеллы, тем больше она приближалась к средневековому состоянию и утрачивала гуманистические черты. Поэтому применительно к польским фацециям XVI–XVII вв. представляется более обоснованным говорить о влиянии на них ренессансной культуры13, чем в случае с русскими фацециями. Таким образом, временная дистанция между периодом создания текста и его перевода в данном случае определяет целый комплекс особенностей этих переводов. Преобладание диахронных связей было характерно и для всех предшествующих «периодов заимствований» в древнерусской литературе, будь то формирование литературной системы в X–XII вв. за счет перевода преимущественно ранневизантийских памятников или эпоха «второго южнославянского влияния», в XIV–XV вв. обратившаяся, скажем, к творениям отцов Церкви IV–VI вв. И все же, как представляется, между этими периодами и рассматриваемой эпохой европеизации русской литературы во второй половине XVII в. не следует ставить знак равенства, как это иногда делается. Не следует потому, что кроме «временного» критерия имеет место еще и критерий, названный нами «эстетическим». 6 Древнерусские переводы XI–XII и XIV–XV вв., при всей их «хронологической удаленности» от современного литературного процесса, представляли собой обращение к текстам, осознававшимся в определенной мере как канонические образцы, обладающие всей полнотой литературного и идеологического авторитета. Иерархическая система жанров, унаследованная из византийской книжности, обладала разной (для разных уровней) степенью авторитетности, но в то же время осознавалась как некий единый ансамбль, все части которого подчинены общей цели. В работах последнего времени отмечается также и тот факт, что применительно к ранним русским переводам «точнее было бы говорить не о теории [перевода], а о [переводческой] доктрине»14, поскольку «средневековые книжники озабочены не мастерством или удобочитаемостью перевода, а его доктринальной правомерностью»15. В XVII в. переводческая доктрина сменяется теорией перевода. В результате свободное отношение к переводимому тексту распространяется на всю систему литературы в целом и ведущей формой литературных связей становится национальная адаптация, так называемое «склонение на русские нравы» переводимых (а зачастую пересказываемых) произведений. Кроме того, в эту эпоху «каждому жанру предстояло выделиться из сложно организованного ансамбля... свою обособленную жизнь предстояло начать светскому началу в литературе: мирской сюжет, мирская тема, эмансипировавшись от религиозной, духовно-учительной литературы, связываются по преимуществу с ситуацией человека в мире... реальном и земном...»16 В этой ситуации происходит обращение не просто к светской литературе, а к традиции, максимально противостоящей привычной литературной системе, обращение к беллетристическим жанрам, до этого принципиально чуждым русской литературной традиции. Вопрос о значении переводных произведений, явно принадлежащих ко «второму ряду» западноевропейской словесности, для истории русской литературы не остался за пределами внимания исследователей. Так, некоторые из них, видя в этих явлениях неизбежные результаты эпохи «литературной учебы», сокрушаются о том, что «эта учеба предала забвению многие традиционные достижения, например, психологизм и словесное изящество. Пожалуй, только в пушкинскую пору начался синтез двух линий – национальной и западной»17. В противоположность этому рядом исследователей неоднократно отмечалось, что 7 иноязычное происхождение некоторых текстов позволяло их переводчикам и переписчикам острее ставить социальные вопросы времени; так что, например, переводные фацеции представлялись чуть ли не рупором свободомыслия. Вряд ли оба эти утверждения полностью оправданы; нам кажется, что в переводной литературе рассматриваемого периода не следует видеть ни особенно передовых идей, ни «тормоза» для развития оригинальных произведений. Однако свое место в истории русской литературы они занять должны. И место это не из последних: ведь наряду с оригинальными бытовыми повестями конца XVII – начала XVIII вв. они привлекали внимание читателей-современников к проблемам обычных, рядовых людей, заурядных героев повседневности; вместе с оригинальной же демократической сатирой (смеховой литературой) XVII в. обращали внимание на социальные проблемы современного им общества; наконец, они приобщали русского читателя к достижениям западноевропейской культуры, способствовали становлению «культуры заимствования», учили новым представлениям о жизни и литературе. Пусть все эти моменты они освещали не столь интенсивно и концентрированно; пусть главной их целью оставалось простое развлечение читателей (хотя и это само по себе уже было немаловажно, учитывая специфику предшествующей литературной системы), – все равно ту роль, которую тексты такого рода сыграли в формировании русской литературной системы, отрицать невозможно. 1 Белецкий А.И. На рубеже новой литературной эпохи // История русской литературы. В 10-ти тт. Т.3. Ч.1. М.-Л., 1941. С. 7. 2 Там же. С. 20. 3 Орлов А.С. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства. М., 1910. С. 87. 4 Там же. С. 89. 5 Лотман Ю.М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // Поэтика. Хрестоматия по вопросам литературоведения для слушателей университета. М., 1992. С. 18. 6 Бушмин А.С. Межлитературные связи и преемственность – закономерность литературного развития // Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур. М., 1986. С. 18. 7 Владимиров П.В. К исследованию о “Великом Зерцале”. // Ученые записки Казанского университета. Казань, 1884. С. 4-5. 8 История русской литературы, т.1. Л., 1980. С. 114. 9 Лотман Ю., Успенский Д. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси. // Вопросы литературы, 1977, № 3. С. 156. 10 Забелин И.Е. Опыт изучения русской древности и истории, т.1. М., 1872. С. 192. 11 Мочалова В.В. Комическое в литературном развитии (динамика жанра польской эпиграммы XVI-XVIII вв.) // Славянские литературы в процессе становления и развития. М., 1987. С. 234. 12 История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. Изд. 4-е. М., 1987. С. 178. 13 См., например: Krzyżanowski J., Żukowska-Billip K. Dawna facecja polska (XVI-XVIII w.). Warszawa, 1960. S. 6-11; Gracioti S. Polska facecja humanisticzna i jej włoskie wzorce // Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Wrocław, 1980. S. 94. 8 14 История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т.1. Проза. СПб., 1995. С. 26. 15 Там же. 16 Мочалова В.В. Русско-польские литературные связи XVII-XVIII вв. и становление личностного начала в русской литературе // Литературные связи и литературный процесс. Из опыта славянских литератур. М., 1986. С. 215-216. 17 Истоки русской беллетристики. Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л., 1970. С. 479.