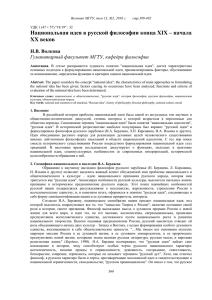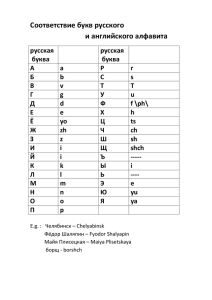Логика «русской идеи» *
advertisement
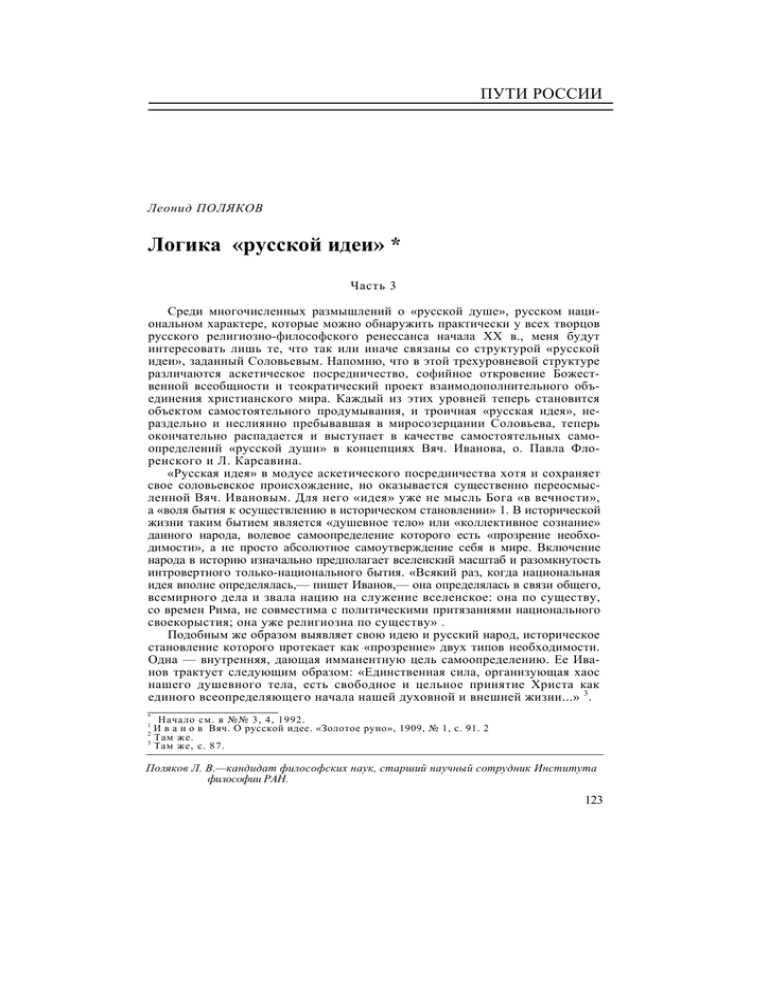
ПУТИ РОССИИ Леонид ПОЛЯКОВ Логика «русской идеи» * Часть 3 Среди многочисленных размышлений о «русской душе», русском национальном характере, которые можно обнаружить практически у всех творцов русского религиозно-философского ренессанса начала XX в., меня будут интересовать лишь те, что так или иначе связаны со структурой «русской идеи», заданный Соловьевым. Напомню, что в этой трехуровневой структуре различаются аскетическое посредничество, софийное откровение Божественной всеобщности и теократический проект взаимодополнительного объединения христианского мира. Каждый из этих уровней теперь становится объектом самостоятельного продумывания, и троичная «русская идея», нераздельно и неслиянно пребывавшая в миросозерцании Соловьева, теперь окончательно распадается и выступает в качестве самостоятельных самоопределений «русской души» в концепциях Вяч. Иванова, о. Павла Флоренского и Л. Карсавина. «Русская идея» в модусе аскетического посредничества хотя и сохраняет свое соловьевское происхождение, но оказывается существенно переосмысленной Вяч. Ивановым. Для него «идея» уже не мысль Бога «в вечности», а «воля бытия к осуществлению в историческом становлении» 1. В исторической жизни таким бытием является «душевное тело» или «коллективное сознание» данного народа, волевое самоопределение которого есть «прозрение необходимости», а не просто абсолютное самоутверждение себя в мире. Включение народа в историю изначально предполагает вселенский масштаб и разомкнутость интровертного только-национального бытия. «Всякий раз, когда национальная идея вполне определялась,— пишет Иванов,— она определялась в связи общего, всемирного дела и звала нацию на служение вселенское: она по существу, со времен Рима, не совместима с политическими притязаниями национального своекорыстия; она уже религиозна по существу» . Подобным же образом выявляет свою идею и русский народ, историческое становление которого протекает как «прозрение» двух типов необходимости. Одна — внутренняя, дающая имманентную цель самоопределению. Ее Иванов трактует следующим образом: «Единственная сила, организующая хаос нашего душевного тела, есть свободное и цельное принятие Христа как единого всеопределяющего начала нашей духовной и внешней жизни...» 3. * 1 2 Начало см. в №№ 3, 4, 1992. И в а н о в Вяч. О русской идее. «Золотое руно», 1909, № 1, с. 91. 2 Там же. 3 Там же, с. 87. Поляков Л. В.—кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН. 123 Другая — внешняя, определяемая востоко-западной судьбой России и задающая уникальность ее вселенского служения. «Мистики Востока и Запада согласны в том,— утверждает Иванов,— что именно в настоящее время славянству, и в частности России, передан некий светоч; вознесет ли его наш народ или выронит,— вопрос мировых судеб. Горе, если выронит, не для него одного, но и для всех; благо для всего мира, если вознесет. Мы переживаем за человечество — и человечество переживает в нас — великий кризис» 4. Первая (внутренняя) необходимость может оформить волю «русской души» в национальную идею лишь в том случае, если сама эта душа изоморфна ей (необходимости). «Эллин» Иванов смотрел на Христа в свете древнейшей парадигмы жертвенного бога, отдающего себя на растерзание мировым стихиям. И в Христе главное для него — искупительная жертва, нисхождение в мир, Божественный образец кенозиса. Это находит симметричное отражение в русском характере, основное свойство которого — «пафос совлечения, жажда совлечься всех риз и всех убранств, и совлечь всякую личину и всякое украшение с голой правды вещей»5. Такой максимализм чреват обесценением всех ценностей вплоть «до унижения человеческого лика»6. Но в то же время и в соблазне тотального нигилизма проговаривает себя «закон нисхождения, эта творящая энергия нашей души, эта метафизическая форма-энергия, неотразимо влекущая нас к новозаветной энтелехии нашей национальной идеи»7. Раскрытие Христа как энтелехии «русской души», по-видимому, оказывается решающим для помещения России в центр судеб мира. Ее все-ленскость более чем естественна, она есть образ Божественной парадигмы и потому прозрение второй (внешней) необходимости совершается «русской душой» как продолжение и завершение первой. Русский народ — подлинный «христоносец», апокрифический Христофор, взявший на свои плечи Христа и ощутивший всю тяжесть мира. Несение «светоча» логично выпало на долю народа, склад души которого таков, «что христианская идея составляет, можно сказать., ее природу. Она выражает центральное в христианской идее — категорический императив нисхождения и погребения Света и категорический постулат воскресения»8. Встраивание русской аскетической идеи в эллинистический контекст помогло Иванову в какой-то степени в годы революционного саморазрушения России. Для многих это означало конец «русской идеи». Так, например, В. Розанов, ходивший в свое время «возле» и определявший ее как женственность России9, в 1918 г. напрочь позабыл свой оптимизм в отношении будущих российских судеб. Не «невестой» и «женой» открылась ему Россия, долженствующая как бы растворить в себе, духовно подчинить Германию (и вообще Запад). Теперь, глядя с «вершины тысячелетней пирамиды» (русской истории и русской литературы), он с мазохистским наслаждением восклицает: «Иди же ты, Вильгельм: и заканчивай похороны Руси... Справляй триумф, Вильгельм, и длинный ряд Вильгельмов и Фридрихов: ты победил восточного Ивана-Дурака» 10. «Слабая», «поверхностная», «подражательная» нация, отравленная а-историзмом христианства11 и погибшая 4 Там же, с. 92. Иванов Вяч. О русской идее. «Золотое руно», 1909, №№ 2—3, с. 90. 6 Там же. 7 Там же. 8 Там же, с. 93. 9 Согласно «физиологичной» и одновременно «духовной» формуле Розанова (отражающей, как он полагал, прозрение Достоевского), у России есть «внутренняя миссия» в Европе, в христианстве и в истории как таковой: «именно "докончить" дом ее, строительство ее, как женщина доканчивает холостую квартиру, когда входит в нее "невестою и женою" домохозяина». См. Р о з а н о в В. В. Сочинения. М., 1990, с. 327. 10 Там же, с. 461. 11 «Увы, история вообще есть языческое явление... И кто хочет очень «поклониться Христу», не должен приниматься за «дела истории». Там же, с. 455. 5 124 «от рук» единственного своего гениального творения — литературы. Вот финал розановского хождения «возле» «русской идей». И сбывшимся пророчеством о России явился ему теперь всю жизнь ненавидимый Гоголь с «городом N» («какая мысль о этом «N» — пустыня, небытие, даже нет имени, и в России именно нет самого имени, названия, это — просто НЕТ») 12. Иванов, не разъединявший (в отличие от Розанова) восточно-эллинистическую культовую мистериальность и христианство, сумел избегнуть морока «слинявшей» Руси. Поэт, чуткий к языковым корням исторического бытия, он восстал на защиту последнего прибежища «русской идеи» — языка, неразрывно сросшегося с «глаголами церкви». В языковой реформе он увидел попытку исказить духовный лик народа, покуситься на его преемство от «божественной эллинской речи», давшей русскому языку возможность стать «вселенским и всечеловеческим в духе» 13 И если может обернуться великой неудачей воля национальной души к христоподобию, если национальный характер не в силах воплотить категорический императив нисхождения, то есть еще одна — последняя — опора «русской идеи»: Богозамысел о языке. В стихии языка «искони посеяны... и всякое гениальное умозрение, и всякая имеющая процвести в ней святость. И Пушкин, и св. Сергий Радонежский обретают не только формы своего внутреннего опыта, но и первые тайные позывы к предстоящему им подвигу под живым увеем родного "словесного древа", питающего свои корни в Матери-Земле, а вершину возносящего в тонкий эфир софийской голубизны» 14. Этим переходом от мифологемы «нисхождения света» и парадигмы «голгофского страдальца» (В. Розанов, Андрей Белый) к божественной энергетике русского слова Иванов вплотную подвел «русскую идею» к проблеме воплощения. Для него самого она не стояла столь остро, оттесненная на задний план «пафосом совлечения» и метафорой «древа», корни которого — в архаике «МатериЗемли». Но для пост-соловьевской логики «русской идеи», движущейся в русле софийного призвания России, она становится ключевой. Свидетельством тому — богословское эссе о. Павла Флоренского «Троице-Сергиева Лавра и Россия», написанное в годы гражданской войны. * * * Флоренский, подобно Иванову, также усматривает сущностный изоморфизм русской и эллинской стихий. Но у Флоренского общей почвой сравнения выступает не жертвенный дионисизм (Бог, отдающий себя на распятие стихиям мира), т. е. не культово-мистериальный фокус обеих культур, а сама их онтологическая структура, их имманентная «идейность», свободная собранность в пластически явленной «идее» — «лике». Поэтому сама явленность (данность) Лавры есть неопровержимое свидетельствование о «русской идее» и даже более: «можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи — энтелехия, скажем с Аристотелем»15 . Но какова же сама в с,ебе эта идея? Флоренский отвечает на это с помощью диалектики «лица» и «лика». «Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России; явленное мастерством высокого искусства,— пишет он;— то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гете, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик ее — лик лица ее, ибо под „ликом" мы разумеем чистейшее явление духовной формы...» 16. 12 Письмо Н. А. Котляревскому от ноября 1918 года. См. «Литературная учеба», 1990, кн. первая, с. 88. 13 И в а н о в В. И. Наш язык. «Из глубины. Сборник статей с русской революции». М., 1991, с. 161. 14 Там же. 15 Священник Павел Флоренский. Собр. соч., т. 1. Париж, 1985, с. 64. 16 Там же, с. 65—66. 125 «Идейность» преп. Сергия Радонежского должна быть понята на формальном и содержательном (духовном) уровнях. Формальный аспект «русской идеи» раскрывается в Преподобном, поскольку он «воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной, личности» 17. Духовно же Сергий есть «лик» России как «единственной» законной преемницы Византии и потому наследующей ее (Византии) религиозно-метафизическую идею. В XIV в. эта идея окончательно выявила себя в исихастских (паламистских) спорах, сводившихся в последнем счете «к проблеме Троицы и к проблеме воплощения» 18. Это значит, что духовный аспект Сергеева «лика» или «русской идеи» по существу представляет собой синтез двух идей. Исторически первая идея русского духа формируется под определяющим влиянием равноапостольного создателя славянской письменности Кирилла. Названный «философом» и еще в раннем возрасте имевший видение Софии, именно он смог исполнить миссию «первого родоначальника русской культуры» 19. Опираясь на отмеченную Соловьевым уникальность древнерусского иконографического сюжета Софии Премудрости Божией и свои исследования этой темы20, Флоренский пришел к выводу, что «Киевская Русь как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народности раскрывается под знаком идеи о божественной Восприимчивости мира»21. Только в лоне такой культуры и мог появиться в XIV в. преп. Сергий, которому было суждено раскрыть вторую основную идею русского духа. Софийная «основа» русской культуры уже сложилась, теперь предстояло с помощью «утка» — Троицы как второго предельного символа догматики — создать ее неповторимую ткань. И опять Флоренский опирается на иконографию, исходя из факта, что «икона Троичная, неизвестная миру, появляется впервые в Московский период Руси» 22. В равной степени для него важен факт появления в это время Троичного храма, адекватно соответствующего задаче создания русской государственности. По замыслу Преподобного, это есть «прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни» 23. В то же время сквозь прагматически-земную задачу Троичного храма просвечивает его первоидея — символизация Божественности как таковой. Предыдущая эпоха Руси выразила идею «женственной восприимчивости жизни». Теперь пришло время «мужественного оформления жизни» и, соответственно, «Руси Московской и Петербургской как веку оформления народа в государство маячит преимущественно другая идея — о воплощающемся, превышемирном Начале ценности» 24. Само собирание Руси, стяжание в нераздельную целостность столь разнородных и разнонародных земель осуществляется, согласно Флоренскому, как следование Божественной парадигме. Жизнь, пронизанная софийной энергетикой, становится способной принять в себя (запечатлеть) Троичность как сущность «превышемирного Начала». И тогда совершается это главное воплощение, предвосхищаемое в теократическом — построенном на тройственности служений — проекте Соловьева. Наступает действительная теофания, и '«русская идея» выявляет себя в своей глубочайшей изоморфности Божественной первосущности. Софийность мира есть его приуготовление к принятию триипостасной не17 Там же, с. 65. 18 Там же, с. 69. 19 Там же, с 71. 20 См. 10-е письмо книги «Столп и утверждение Истины». 21 Священник Павел Флоренский. Указ. соч., с. 70. 22 Там же, с. 75. 23 Там же, с. 74. 24 Там же, с. 70. 126 слиянной нераздельности, которая для преп. Сергия «была, в порядке общественного строительства, заповедью общежития» 25. Тут и раскрывается, согласно Флоренскому, глубочайший духовный аспект «русской идеи», символизированный «ликом» Сергия Радонежского и «лицом» созданной им монашеской общины. «Идея общежития, как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве,— пишет он,— назовется ли она по-гречески киновией, или по-латыни — коммунизмом, всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, была водружена и воплощена в Троице-Сергиевой Лавре Преподобным Сергием и распространялась отсюда, от Дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной, и, наконец, моральной» 26. При всей очевидной связи софийной темы с проблемой христианской общественности у Флоренского, в отличие от Соловьева, отсутствует глобализм теократического проекта последнего. Это вполне естественно, поскольку соловьевская логика «русской идеи» строилась как эсхатологически-проективная, устремленная в будущее. У Флоренского же «русская идея» есть состоявшееся прошлое и являет собой не призвание России, а, скорее, залог ее метафизического пакибытия. Последняя логическая возможность может быть осуществлена только как проекция «русской идеи» в настоящее, что и попытался сделать Л. Карсавин в своей работе «Восток, Запад и Русская идея» (1922) 27. * * * Одна из трудностей поставленной Карсавиным задачи состояла в том, что видение «русской идеи» в модусе «настоящего» он должен был совместить с унаследованным от Соловьева метафизическим принципом «всеединства» и его историософской проекцией — свободной теократией. А эта последняя так или иначе должна была придать карсавинскому подходу некоторый футуристический оттенок. Но исходная трудность коренилась, конечно, в природе самого «настоящего», его чисто негативной определенности как того, что существует между уже не существующим (прошлое) и еще не существующим (будущее). Как эта трудность реально прорабатывается в мысли Карсавина, мы можем наблюдать на следующих примерах. Начинает он свою книгу утверждением о том, что русский народ «велик не тем, что он еще совершит и о чем мы ничего знать не можем, а тем, что он уже сделал, что уже актуализовал и актуализует в себе: своею вековою государственностью, своею духовною культурою, церковью, наукой, культурою...» 28. В конце же книги мы встречаем рассуждение о желательности попытки — перед лицом необходимости действовать в настоящем — «хотя бы в самых общих чертах определить спецефическое задание русской культуры, русскую идею. Вполне это невозможно в силу потенциальности нашей» 29. Создается впечатление, что в мышлении Карсавина наличествует явный разрыв между «величием» русского народа, уже актуализовавшего себя в историческом бытии, и его «заданием», «идеей», в которых заключена его 25 Там же, с. 80. Там же, с. 81. 27 Принадлежность Карсавина к соловьевскому кругу «русской идеи» подтверждается и тем интересом к теме Софии, который он обнаружил в своей виртуозной стилизации под гностический текст «София земная и небесная». См. «Вопросы философии», 1991, № 9, с. 175—186. 28 Карсавин Л. П. Восток, Запад и Русская идея. «Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882—1952)». М., 1991, с. 70. 29 Там же, с. 124. 26 127 нераскрытая еще потенциальность. Какова природа этой потенциальности — вот ключевой вопрос, отвечая на который Карсавин и выстраивает свою конструкцию «русской идеи». Следуя логико-методологическому канону соловьевской метафизики всеединства (хотя, отчасти и видоизменяя его), Карсавин однозначно утверждает, что «субъектом человеческой истории является человечество» 30. Оно есть коллективный субъект или «симфоническая личность» предельного уровня обобщения, включающая в себя целую иерархию личностей промежуточных уровней (государства, нации, классы и т. п. вплоть до индивидов). «Русская идея» может быть выявлена лишь в контексте этого исторического иерархизма. Однако в реальной истории ввиду слабой рефлексивности русской мысли такое выявление приняло искаженно-однобокий характер. Карсавин нынужден констатировать, что «мы, русские, до сих пор были несклонны к самоопределению, наивно отождествляя свой национальный идеал с европеизацией или, не менее наивно, отрицая всякую ценность европейского»31. В революционном сломе 1917 г. он усматривает «второй период острой европеизации» и предупреждает: «Но очевидно — не в европеизации смысл нашего исторического существования и не европейский идеал предносится нам как наше будущее. Если бы было так, мы были бы народом неисторическим, годным лишь на удобрение европейской нивы32... и ни о какой русской идее не стоило бы и говорить»33. Карсавина не устраивает и предельно универсалистская интерпретация «русской идеи», предложенная Достоевским, «для которого будто бы национальное совпадает с общечеловеческим» 34. Явно учитывая критику национального мессианизма, ранее убедительно осуществленную Е. Трубецким, Карсавин хочет найти новые возможности в логике соловьевского теократизма, совмещенного с переомыслением места России в глобальной дихотомии «Восток— Запад». Саму эту дихотомию он также берет в исключительно религиозном аспекте, определяя Восток как высшую актуализацию теизма и пантеизма, а Запад как «христианский культурный мир», в рамках которого преодолена противоположность этих полюсов религиозности. Соответственно, Запад и Восток рассматриваются не в терминах «безбожного человека» и «бесчеловечного бога», а в модусе их отношения к истории. «В противоположность теизму, всегда конкретно-ограниченно историческому,— пишет Карсавин,— и в отличие от пантеизма, историю отрицающего, христианство всеисторично или сверх-исторично, немыслимое и не реальное вне исторических своих проявлений, но не связанное ни с одним из них всецело» 35. Позиция России в глобальной дихотомии совершенно определенна: ни о каком «посредничестве», ни о каком «востоко-западном» ее призвании не может быть и речи. Россия — часть западного христианского мира. И «русская идея» может быть адекватно понята лишь в западном контексте. Специфика этого контекста в том, что здесь актуализована высшая форма религиозности и культуры, т. е. противоположность теизма и пантеизма преобразована в христианский панэнтеизм. Однако и в «снятом» виде эти противоположности продолжают существовать в христианстве. Скрытое присутствие Востока внутри христианства выражается в том, что «в некотором смысле православие ближе к языческому Востоку в его пантеизирующей стихии, как западная религиозность ближе к нему в стихии теистической»36. 30 Там же, с. 63. Там же, с. 92. 32 Явная парафраза той «навозной теории славянства», которую критиковал Т. Ардов в статье «О русских судьбах» (1911), вызвавшей заметку В. Розанова «Возле „русской идеи"». См. Ардов Т. Судьба России. М., 1918, с. 11 и сл. 33 Карсавин Л. П. Восток, Запад и Русская идея, с. 105. 34 Там же, с. 92 . 35 Там же, с. 88 . 36 Там же, с. 109. 31 128 Разделенность христианского мира на восточный и западный (православный и католический) фиксируется Карсавиным в первую очередь на догматическом уровне. Для восточно-православного мира догматическое творчество завершается в VIII в., в то время как католический мир продолжает вплоть до середины XIX в. вносить новации в область стержневых вероисповедных формул. В этом выражается сущностное различие западно-католического и восточно-православного культурных типов. Первый активен, настойчив в актуализации своего религиозного ядра. Второй — пассивен, ориентирован на сохранение исходного религиозного импульса «в полноте и чистоте». Эта старая славянофильская констатация используется Карсавиным не для того, чтобы отдать предпочтение одному из них. Он старается увидеть достоинства и недостатки того и другого, чтобы наметить возможность исторической, а следовательно, и онтологической реализации «русской идеи». Недостатки — продолжения достоинств, и Карсавин вправе поэтому сказать, что «пассивность нашей (русско-православной.— Л. Я.) религиозности» адекватно «выражает всю нашу культуру» 37. Он нарочито оговаривается, что «никак нельзя умалять закоснелости православной культуры в состоянии потенциальности, не только догматической, но и всяческой» 38. В противоположность этой закоснелости активизм христианского Запада строится на неустанном догмотворчестве. Два католических догмата — Filioque и непорочное зачатие — определяют собой, согласно Карсавину, все историческое своеобразие западного мира. Из положения об исхождении Св. Духа «также и от Сына» с неизбежностью сформировались такие особенности европейского менталитета, как рационализм, эмпиризм и релятивизм. А в сфере собственно религиозной можно установить связь Filioque с арианством и антитринитаризмом. Не сомневаясь в ущербно-еретической форме этих новаций, Карсавин вместе с тем обнаруживает и их позитивный смысл. В догме Filioque ему видится глубоко оправданная тенденция к выявлению «ипостасного единства в абсолютном», а тем самым и установление христиански адекватного взгляда на соотношение сфер «абсолютного» и «реального». Этот взгляд состоит в том, что «реальность обладает абсолютной ценностью и должна быть всецело абсолютирована в каждом из своих моментов»39. Точно так же и догма непорочного зачатия, являясь несомненным «измышлением», в то же время «ценна тем, что подчеркивает обоженность человечества и реальность, а не только заданность его»40. Совокупная ценность обоих католических догматов определяется тем, что в них как бы просвечивает (сквозь ложно-искаженные формы) сущность христианства как истина бытия. Эта последняя есть «идеал всеединства», определяющий собой все тварное бытие, несущее на себе «структурный» отпечаток Божественного триипостасного первообраза. В свете такого идеала «раскрывается истинный смысл общественной деятельности как актуализации всеединства в каждом моменте бытия, а само всеединство постигается в его всевременности и всепространственности, что не исключает, а предполагает полное напряжение эмпирической деятельности, в которой Запад выдвигает эмпирическое и Восток — абсолютность»41. Только теперь мы можем определить, в чем «приблизительно» (как оговаривается сам Карсавин) состоит «русская идея». Она строится в логике «дополнительности», лежавшей в основании теократического проекта Соловьева. «Задача православной или русской культуры,—поясняет Карсавин,— и универсальна, и индивидуально-национальна. Эта культура должна 37 Там же, с. 113. Там же. с. 1 1 1 . Там же, с. 125. 40 Там же, с. 126. 41 Там же. 38 39 5 ОНС, № 5 129 раскрыть, актуализировать хранимые ею с VIII в. потенции, но раскрыть их путем принятия в себя актуализованного культурою западной (в этом смысл „европеизации") и восполнения приемлемого своим. „Восполнение" и есть национальное дело, без которого нет и дела вселенского. На богословском же языке приятие и восполнение западного православно-русским и будет воссоединением церквей»42. Так в карсавинской мысли обретает свою окончательность «русская идея» в модусе теократического проекта. И в свете предыдущего анализа невозможно согласиться с утверждением, что «это не более чем мессианская мифология»43. Как раз против какой бы то ни было мессианской исключительности была направлена карсавинская диалектика «многоединства», в которой каждый момент бытия признается равно необходимым по своему уникальному способу конкретизации абсолютного. А эта позиция если не тождественна, то разительно близка точке зрения такого неустанного разоблачителя русского мессианизма, каким являлся Е. Трубецкой. Для него истинный путь проникновения в сущность «русской религиозной идеи» открылся в «Трех разговорах» Соловьева. Именно там впервые с последней ясностью (т. е. на языке апокалиптического пророчества) было явлено, что «русское — не тождественно с христианским, а представляет собою чрезвычайно ценную национальную и индивидуальную особенность среди христианства, которая, несомненно, имеет универсальное, вселенское значение» 44. И хотя Е. Трубецкой искал миссию «восполнения» для России не в догматической сфере, а в специфическом раскрытии мистического начала в христианстве, нельзя не видеть сущностного сходства в его и карсавинской интерпретации «русской идеи». Оба они использовали логику соловьевского теократического проекта, позволившую преобразовать пафос русского мессианизма в смиренное принятие на себя одной из миссий внутри христианского мира. Именно к этой линии могли подключиться русские мыслители XX в., унаследовавшие логику «русской идеи» как основание для собственных поисков смысла России. И для многих из них выражением их кредо могли бы стать заключительные слова из статьи Г. Федотова «Национальное и вселенское», написанной им спустя три года после эмиграции из СССР. «Не горделивое спасение мира,— писал он,— а служение своему призванию, не „мессианство", а миссия, путь творческого покаяния, трудовой трезвенности, переоценки, перестройка всей жизни — вот путь России, наш общий путь» 45. И, пожалуй, единственным, кто не отступился от русской мессианской идеи, был Н. Бердяев. * * * Эволюция бердяевского мессианизма уже была рассмотрена мной в другой работе46. Поэтому здесь мессианская тема будет интересовать меня лишь в той степени, в которой она поможет понять завершающий шаг в более чем вековом движении логики «русской идеи». Но это означает, что мы обращаемся к самому существу бердяевского видения этой идеи. Ибо сам Бердяев не однажды и не случайно определяет ее как «мессианскую». 42 Там же, с. 122. Барабанов Е. В. Русская идея и кризис идентичности. «Вопросы философии», 1991, № 8, с. 114. 44 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. «Новый мир», 1990, № 7, с. 218. 45 См. «О России и русской философской культуре». М., 1990, с. 449 46 См. Поляков Л. В. Мессия XX века (Судьбы России sub specie Николая Бердяева). «Параллели. Альманах философской компаративистики». Вып. 1. М., 1991, с. 66—90. 43 130 Тем самым им вводится фундаментальное различение народа-мессии (что в христианском мире принципиально невозможно) и народа-хранителя «чистой мессианской идеи Царства Божьего»47. Различение, позволяющее ему «замкнуть» инициированный Чаадаевым антиномизм «русской идеи», перевести ее логический формализм в чистую и окончательную содержательность. На мой взгляд, именно это обстоятельство придает книге Бердяева ценность аутентичного свидетельства рефлексивной завершенности «русской идеи» как истока и энтелехии русской религиозно-философской мысли. Взятая вне этого аспекта, «Русская идея» способна вызвать либо корректное недоумение объективного историографа48, либо «протестующее недоумение» как результат обнаружения того, что вся книга — лишь «утопические фантазии и моралистические облачения, вероисповедные формулы и публицистические аргументы...»49. Второе «недоумение», фиксирующее не просто бердяевский «произвол и субъективизм» (основной упрек Бердяеву Н. Полторацкого), но базирующееся на установлении несостоятельности Бердяева как философа, заслуживает специального рассмотрения. Основной аргумент здесь настолько тесно связан с существом завершающей бердяевской трансформации логики «русской идеи», что его необходимо воспроизвести целиком. В книге Бердяева, пишет Е. Барабанов, «неприемлемыми оказываются не какие-то отдельные элементы интерпретации истории, не ошибочность оценок и характеристик, но сама изначальная подмена предметной реальности ее бесплотным проектом»50. Однако в контексте исследования логики «русской идеи» неприемлемой оказывается сама установка на «неприемлемость», которая вытекает не из имманентной критики, а из факта принадлежности критика к философии, определяющей себя в качестве «строгой науки». Соотношение «предметной реальности» и «бесплотного проекта» есть та «нейтральная полоса», вход на которую равно воспрещен для взаимоотрицающих друг друга философии «религиозной» и философии «научной». Что для одной «предметная реальность», то для другой оказывается лишь «бесплотным проектом», и наоборот. Так, для Бердяева «эсхатологическая перспектива» («бесплотный проект») и обращает «русскую идею» в «мессианскую идею Царства Божьего». Но это же составляет и обязательное условие содержательной трансформации чаадаевской антиномической логики. Чаадаев писал о своеобразном негативном мессианизме России, призванной показать миру, как нельзя жить. Вместе с признанием того, что Царство Божие отчасти уже воплощено в истории и социальной организации Запада, концепция негативного мессианизма оказывалась мощным стимулятором мышления в модусе «русской идеи». Переосмысливая чаадаевский негативный мессианизм, Бердяев радикально выводит Царство Божие за пределы истории, этого мира. Таким образом негативной мессианизм России становится универсальным свидетельством невозможности совмещения исторического эволюционизма «серединной» (буржуазной) культуры, выработанной Западом, и профетического эсхатологизма Царства Божия как последнего откровения о человеческом обществе, долженствующего изойти в мир (т. е. преобразовать его) в завершающую эпоху Св. Духа. Однако, чтобы зафиксировать это, Бердяеву пришлось пройти через соловьевский рубеж — учение о России как «Востоко-Западе»51. В этом стягивании полюсов в единое целое содержался своеобразный ответ на 47 Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. «О России и русской философской кулътуре» с. 216. 48 См. рецензию М. Карповича. «Новый журнал», 1947, № 17, с. 340—343. 49 Б а р а б а н о в Е. В. «Русская идея» в эсхатологической перспективе. «Вопросы философии», 1990, № 8, с. 71. 50 Там же 51 Ср. «Миссия России быть Востоко-Западом, соединительницей двух миров». Б е р д я е в Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1089, с. 524. 5* 131 чаадаевский вызов — афоризм № 106. В человечестве возможна, помимо «Востока» и «Запада», и «третья сторона», утверждал Бердяев. Опыт русского коммунизма заставил его возвратиться к самому истоку антиномической логики «русской идеи» — к чаадаевскому постулату равной необходимости и невозможности воплощения христианства в русской истории. Но этот возврат оказывается способом превращения структуры мысли (антиномизм) в содержательный трагизм истории «русской идеи». Эта история есть вечный спор «идеи» и «эмпирии», череда подмен Божьего замысла о России как свободной коммюнотарности («персоналистический социализм») то идеей «Москва—Третий Рим», то идеей «Москва—Третий Интернационал»... На мой взгляд, не случайно именно Бердяеву довелось свести «концы с концами» в логике «русской идеи». Эта логика изначально выстраивалась в рамках системы абсолютного, так сказать, провиденциального детерминизма. Для Чаадаева в идеальном порядке универсума не было места человеческой свободе. Свобода — лишь выражение человеческого несовершенства, и «если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы... это было бы высшей ступенью человеческого совершенства» 52. В концепции Соловьева носителем свободы выступает лишь душа мира, своеволие которой оборачивается дисгармоническим хаосом тварного бытия и фундаментальной несвободой человека перед лицом неизбежной смерти. По сравнению с Чаадаевым мы видим обратную картину: человек несвободен здесь, в этом мире, но восстановление единства души мира и Софии или, точнее, становление человечества Богочеловечеством принесет человеку свободу. Как писал об этом Соловьев в «Оправдании добра», «только в другом, надмирском порядке, представляемом Вселенскою Церковью, может вообще человек иметь положительную свободу» 53. Для Бердяева, истолковавшего догмат о творении мира «из ничего» как творение мира из свободы, открылась совершенно иная перспектива. Человек изначально, «онтологически» свободен, его действительная «природа» — творчество как самооправдание и как единственный путь к самому себе. И только на этом (свободно-творческом) пути осуществляются «встреча и диалогическая борьба человека с Богом» 54. Таким образом интерпретированная история предполагает, разумеется, полный отказ от платоновско-шеллинговской онтологии, лежавшей в основе мышления Чаадаева и Соловьева. Эмпирическая история не может быть лишь «божественной комедией» с заранее расписанными ролями и предрешенным концом. Бердяев настаивает на Божественной (а равно и человеской) трагедии, финальная сцена которой еще только должна быть сотворена совместным усилием (и даже «борьбой»!) человека и Бога. Но в таком случае и само отношение между «идеей» или «мыслью Бога» о русском народе и самим этим народом как историческим субъектом должно быть радикально переосмыслено. И Бердяев фактически осуществляет это переосмысление, когда последовательно отказывается от чаадаевских данностей (иными словами — обреченностей) русской истории. Первая данность — «огромность» России, пространственность как таковая, составляющая, по Чаадаеву, «всю философию» русской истории55. Вторая данность — мощная и неограниченная власть самодержца-императора над постоянно расширяющимся пространством. Именно в этом феномене — могущественнейшем земном царстве — видел Соловьев смысл бытия рус52 Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989, с. 55. Соловьев В. С. Сочинения в 2-х томах. Т. 1, с. 510. Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. Париж, 1938, с. 212. Понятно, что в этом случае традиционное «учение о Промысле и учение о благодати требует пересмотра». Там же, с. 206. 55 Чаадаев П. Я. Указ. соч., с. 154. 53 54 132 ского народа и через подчинение этого Царства Христу — осуществление «русской идеи». Обе эти данности признаются и Бердяевым, писавшим: «Но не случайно Россия так огромна. Эта огромность провиденциальна, и она связана с идеей и призванием русского народа. Огромность России есть ее метафизическое свойство, а не только свойство ее эмпирической истории. Великая русская духовная культура может быть свойственна только огромной стране, огромному народу... Русская литература, русская мысль были проникнуты ненавистью к империи, обличали ее зло. И, вместе с тем, предполагали империю, предполагали огромность России. Это — противоречие, присущее самой духовной структуре России и русского народа»56. Но, очевидно, его признание ведет к совершенно иным выводам. Если для Чаадаева и Соловьева возможно извлечь из этих данностей некий положительный результат в деле осуществления «русской идеи», то для Бердяева существенным и решающим становится само противоречие между «идеей» и «историей». Именно оно оставляет просвет в бытии исторической объективации, указывая на противоречивость, антиномизм (трагизм) как на единственный путь ускользания от рабства исторических данностей. Нужно помнить, что вообще «история есть неудача духа, в ней не образуется Царство Божие. Но самая эта неудача имеет смысл»57. И русская история — не исключение. И ее неудачность тоже имеет смысл. «Русская идея» как «Божий замысел о народе» не формирует историю, не творит ее. Есть соответствие между этой «идеей» и «русской душой» (характером), поляризованной и антиномичной. Но нет диктата «идеи» как определенного содержания, долженствующего воплотиться в русскость как «пассивную» (Чаадаев) или вообще «пустую» (Соловьев) форму. «Русская идея» в той логике, с помощью которой Бердяев завершает ее вековой цикл, оказывается индетерминированной формой прорыва имманентной замкнутости мира, «окном в трансцендентное». Так исходный чаадаевский антиномизм, побуждавший русских мыслителей в течение века то определять «русскую идею» через русскую историю, то, наоборот, русскую историю дедуцировать из «русской идеи», возвращается к своей «безысходности». Но это нельзя назвать возвращением «блудного сына». Опыт русской истории, заключенный между двумя Отечественными войнами, требовал адекватного промысливания и породил завершенный цикл «русской идеи». И только пройдя весь цикл, оказалось возможным «понять» (в кавычках, ибо точнее — сотворить) окончательность начала. Это и значит трагический вопрос, заданный Чаадаевым в форме антиномии провиденциальной логики и русской истории, понять как ответ. 56 5 7 Б е р д я е в Н. А. Русская идея, с. 236. Б е р д я е в Н. О рабстве и свободе человека, с. 218. © Л. Поляков, 1992