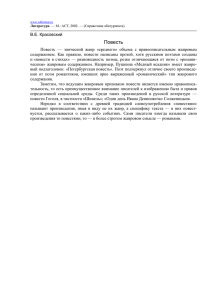Русская проза Урала: ХХ век
advertisement

Л.М. Слобожанинова Русская проза Урала: ХХ век Литературно-критические статьи 2002–2011 годов Екатеринбург 2015 ББК 83.2 С 48 Книга издана по инициативе и при содействии Объединенного музея писателей Урала и Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Рецензент д.ф.н., профессор М.А. Литовская С 48 Слобожанинова Л.М. Русская проза Урала: XX век: литературно-критические статьи 2002–2011 годов. — Екатеринбург, 2015. — 288 с. 100 экз. Книгу составили литературно-критические статьи, написанные автором в 2000-е годы и посвященные творчеству классиков Урала – Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова, а также других писателей региона, создававших свои произведения во второй половине XX века: В.П. Астафьева, А.П. Ромашова, П.Е. Кодочигова, Ф.И. Вибе, В.А. Блинова, Н.Г. Никонова. ББК 83.2 © Слобожанинова Л.М., 2015 О книге и ее авторе Увлеченные наукой люди обычно не выходят на пенсию. То есть они, конечно, могут перестать служить в своем научном или учебном учреждении, но продолжают думать над занимающими их проблемами, следить за новой литературой, интересоваться новыми методиками исследования, писать статьи, выступать с докладами на конференциях и семинарах, наконец, консультировать тех, кто обращается за помощью к их опыту и знаниям. Лидия Михайловна Слобожанинова из таких. Уроженка деревни Большая Белоносова, что недалеко от Каменска-Уральского, дочь сельской учительницы Екатерины Андреевны и крестьянина Михаила Никифоровича Белоносовых, она в 1943 году окончила среднюю школу в Шадринске, потом филологический факультет Уральского государственного университета, аспирантуру Ленинградского государственного университета и после защиты кандидатской диссертации много лет преподавала на филфаке УрГУ: читала основной лекционный курс «Литература народов СССР», разрабатывала специальные курсы, руководила курсовыми и дипломными работами, понемногу занималась литературной критикой. Постепенно направление интересов Лидии Михайловны менялось: от изучения литературы народов СССР к творчеству П.П. Бажова и – шире – прозе Уральского региона. Результат получился весомым: несколько книг, среди которых «“Малахитовая шкатулка” П.П. Бажова в литературе 30–40-х гг.» (1998) и «Сказы – старины заветы. Очерк жизни и творчества Павла Петровича Бажова (1879–1950)» (2000), более семидесяти научных статей, рецензии, комментарии. Без ее участия не обходятся ни научные собрания по литературе Урала, ни уже вышедшая Бажовская или только готовя- 3 щаяся Маминская энциклопедии, ни выпуски журналов к писательским юбилеям. Тексты, составляющие настоящий сборник, написаны Лидией Михайловной в 2000-е годы. В жанрово-стилевых и проблемно-тематических очерках творчества знаменитых и не очень уральских авторов разброс имен широк, но не случаен: Слобожанинова представляет прозу, созданную на Урале за столетие. Конечно, в книге есть убедительная интерпретация ряда произведений безоговорочных классиков литературы региона – Д.Н. Мамина-Сибиряка и П.П. Бажова. Но ими дело не ограничивается. Сибиряк по рождению, Виктор Астафьев за двадцать пять лет, прожитых в Чусовском и Перми, создает едва ли не лучшие свои повести: «Перевал», «Стародуб», «Звездопад», «Последний поклон», «Пастух и пастушка». Андрей Ромашов в историко-философской повести «Диофантовы уравнения» (1981) ставит психологические проблемы, нисколько не утратившие актуальность. Очерки о жизни прозаика Николая Никонова показывают широкий диапазон творчества писателя, работавшего и в жанре поэтической зарисовки, и в жанре романа. Менее известны, но по-своему не менее интересны произведения Павла Кодочигова, Феликса Вибе, Владимира Блинова. Большая часть глав книги существовала сначала в виде журнальных статей, рецензий, докладов, лекционных обзоров. Потом – с учетом вопросов, замечаний, новых материалов – уточнялась, переписывалась автором и для того, чтобы избежать неоправданных выводов, и для того, чтобы выразить свою мысль предельно внятно. Филологи слобожаниновской закваски боятся перемудрить, заговорить с потенциальным читателем на языке, который будет ему непонятен. Не только исследователь, но и популяризатор литературы Урала, Лидия Михайловна хочет, чтобы в результате чтения ее книги сложилась многогранная картина достижений прозы региона, с которыми хорошо бы ознакомиться его обитателям как для того, чтобы расширить представления о крае, в котором они живут, так и для того, чтобы вместе с писателями подумать о жизни. Опытный литературовед явно рассчитывает, что ее книга будет полезна учителям, школьникам, студентам, любителям классической литературы и современной прозы – широкой аудитории тех, кто толь- 4 ко учится читать сложную литературу, и тех, кого интересует мнение профессионала о творчестве того или иного автора. Казалось бы, о Бажове написано много, в том числе и самой Лидией Михайловной, но вот читаем проект новой школьной программы по литературе, и вновь писатель представлен как автор неких «уральских сказок». В подобном контексте, несомненно, полезной будет глава «Сказ или сказка?», где незатейливый с виду бажовский сказ рассматривается как сложнейший органический синтез устного повествования фольклорного типа и реалистического рассказа. Последние годы Лидия Михайловна со свойственной ей планомерной настойчивостью сплотила вокруг себя коллектив помощниковединомышленников – все вместе они нашли, проблемно-тематически организовали, перевели в новую орфографию, откомментировали, убедили издателя, представили читателям практически забытые тексты Мамина-Сибиряка вековой давности. Два тома уже вышли. Готовится к печати очередной, третий том, потому что должны же «современные читатели узнать наконец, насколько мы недооцениваем наследие знаменитого земляка!» Лидия Михайловна волнуется, кипятится, подгоняет, уговаривает – работа идет. Лидия Михайловна, мы ждем... М. Литовская 5 От автора Талантов на Руси всегда было много. Особенно на Урале, где жизнестойкие переселенцы из европейских губерний России породнились с «первонасельниками» края – башкирами, манси, потомками сибирских татар – и выдвинули из своей среды талантливых рудознатцев, горщиков, доменщиков, а позднее – мастеров искусства слова. Неостановимый процесс художественного развития предполагает подъемы, спады, относительно ровные пространства и мощные горные массивы, до сего времени мало исследованные потомками, как, например, творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка, разночинца и демократа. Социально-исторические катаклизмы 10–30-х годов XX столетия не проходят бесследно в художественной культуре Урала. Самый весомый результат – «Малахитовая шкатулка». Как сказал поэт Сергей Наровчатов, «Бажов принес нам в личине сказа величие высокой простоты». В уникальной системе фольклорно-мифологических и реалистических мотивов Павел Бажов утверждает достоинство и красоту человеческого труда. Считается, что истина не нуждается в дозволенности и обнаруживает себя там, где ее вовсе не ждут. «Момент истины» несут в себе повести «Стародуб», «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, «Диофантовы уравнения» Андрея Ромашова, «Стальные солдаты» Николая Никонова, очерково-документальные и беллетристические повествования Павла Кодочигова, Феликса Вибе и Владимира Блинова. В них воспроизводится духовная жизнь не только Урало-Сибирского региона, но до определенной степени всей России на протяжении полувека. Статьи, вошедшие в настоящий сборник, писались с начала 2000-х годов, когда в литературоведении становятся главными внесоциологические подходы. В творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка и 6 П.П. Бажова акцентируются общегуманистические мотивы, анализируется жанрово-стилевая система. Возникает необходимость пересмотра темы «Мамин и Горький», которой литературная критика 1950–1960-х годов уделяла особое внимание. Недоисследованными представляются некоторые аспекты творчества П.П. Бажова даже после выхода объемной Бажовской энциклопедии (2007). Нуждаются в уточнении вопросы об уникальной структуре бажовского сказа-жанра и эстетическом назначении богатейших ресурсов народного языка. Автор искренне благодарен редакции журнала «Урал», его тогдашнему главному редактору Николаю Владимировичу Коляде и его заместителю Олегу Петровичу Капорейко. В разные годы через журнал прошли все представленные в книге статьи. Необходимыми оказались советы, замечания и просто заинтересованное внимание со стороны людей, причастных к литературе Урала. Это Антонина Александровна Никонова, писатель и критик Валентин Петрович Лукьянин, директор Объединенного музея писателей Урала Валерий Павлович Плотников, научные сотрудники музея Рамзия Султановна Галеева, Надежда Прокопьевна Крякунова, Елена Павловна Буланова, Елена Константиновна Полевичок, Анжелина Ивановна Рязанова. Исследование творчества уральских писателей в течение многих лет проходило в тесном сотрудничестве с учеными филологического факультета Уральского государственного университета. Автором учтены пожелания доктора филологических наук, профессора Валентина Владимировича Блажеса, декана Валерия Александровича Гудова, профессоров Марии Аркадьевны Литовской, Елены Константиновны Созиной, Леонида Петровича Быкова, Игоря Евгеньевича Васильева. Благодарю сотрудников краеведческого отдела Государственной библиотеки им. Белинского Нину Викторовну Слинкину и Любовь Николаевну Легостаеву за практическую помощь в работе над многообразным материалом по истории литературы Урала. Глубоко признательна моему зятю Александру Серге­ евичу Руженцеву, который трудился над электронной версией книги и практически был ее первым редактором. 10 I. Уральская классика Непрочитанный Мамин (1890–1900 годы) Как писатель Мамин-Сибиряк открывается далеко не сразу, и причины тому существуют разные. Многие произведения после прижизненных публикаций не переиздавались ни в советское, ни в постсоветское время; другие прочитывались ровно наполовину, а порой и того меньше; третьи игнорировались «за ненадобностью», как те, что напрямую были связаны с религией и церковью. В иных случаях исследователей вводили в заблуждение критические суждения Мамина о своих произведениях. Процитируем из «Автобиографии», датированной 1885–1886 годами: «Кроме упомянутых романов, Д. Сибиряком (автобиография изложена от третьего лица. — Л. С.) написан целый ряд мелких очерков и рассказов, из которых можем указать только на имеющие психологическую подкладку: “В худых душах”, “На Шихане”, “Родительская кровь”, “Поправка д-ра Осокина” и др. Все остальные рассказы носят или принимают вид мелких фотографий. Местные интересы здесь выступают с особенной ясностью, и потому такие рассказы можно отнести к еще нарождающемуся отделу беллетристики, именно — областному»1. Это заявление никак не увязывается с художественными достоинствами таких очерков, как «Бойцы» (1883), «Золотуха» (1883), рассказов «Башка» (1884), «Переводчица на приисках» (1883), «Из уральской старины» (1885). Позднее они войдут в составленный Маминым объемный цикл «Уральские рассказы» (первое издание, 1888–1899 гг.), который по справедливости ставится в один ряд с «Записками охотника» Тургенева. Самокритичная позиция 1 Мамин-Сибиряк Д.Н. Автобиография // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч. в 12 т. Т. 12. Свердловск, 1951. С. 10. 8 Мамина близка к тому самоуничижительному мифу, который некогда служил этикетной формулой для древнерусского книжника1. С развитием категории личного авторства миф исчезает, однако так или иначе сказывается в русском писательском менталитете. О воспоминаниях «Из далекого прошлого» Мамин-Сибиряк отзывался более чем сдержанно: устал от многолетних трудов, «разучился писать большие вещи зараз... испортил руку, как говорят маляры, и почувствовал потребность отдохнуть над автобиографическими произведениями»2. Получается, написал кое-что преходящее. Между тем в зрелом творчестве Мамина-Сибиряка не находится другого произведения, в котором с такой же полнотой и непринужденностью выразился бы его независимый и крупный талант. Напечатанные в год пятидесятилетия Мамина очерки «Из далекого прошлого» дважды переиздавались при жизни писателя (1908 и 1911 гг.), входили во все советские собрания его сочинений и все-таки оставались для исследователей чемто малозначительным. Ценились как достоверный источник сведений о семье и о детстве, да еще великое множество раз цитировалось авторское признание в любви к своей малой родине: «Милые зеленые горы!.. Когда мне делается грустно, я уношусь мыслью в родные зеленые горы, мне начинает казаться, что и небо там выше и яснее, и люди такие добрые, и я сам делаюсь лучше». Довериться самооценке Мамина — все равно что поверить Бажову, который в письме к московскому критику Людмиле Скорино признавался: «Я же, как Вам известно, не очень умею анализировать, не привык к абстрагированному мышлению и не настолько грамотен, чтобы понимать вопросы в терминологической постановке литературоведов» (из письма от 18 октября 1945 г.)3. Звучит не без лукавства и не без ядовитой иронии в адрес литературоведов, которых Павел Петрович откровенно не любил. Однако принимать всерьез бажовское «опрощение» возможно лишь в том случае, если не знать его 1 Подробнее см.: Соболева Л.С. Культурные гнезда Строгановского региона (XVII–XVIII вв.) // Литературный процесс на Урале в контексте историко-литературных взаимодействий: конец XIV–XVIII вв.: Кол. моногр. Екатеринбург, 2006. С. 126. 2 Цит.по: Д.Н. Мамин-Сибиряк. Указ. изд. Т. 12. С. 361–362. 3 Бажов П.П. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск, 1955. С. 160. 9 статьи «Через всю жизнь», написанной к 150-летию Пушкина, высказываний об «Истории Пугачева», о «Капитанской дочке» и «Повестях Белкина», а также о рассказах раннего Чехова. По числу страниц это совсем немного, однако по глубине понимания творческой личности и по тонкости эстетического анализа это «немногое» стоит не одной профессиональной литературоведческой статьи. Автобиографическим циклом «Из далекого прошлого» открывается последнее десятилетие в жизни и деятельности МаминаСибиряка. Позади — огромный опыт в жанре социального романа и в малых эпических жанрах: рассказе, очерке, сказке, легенде, сказании. Написаны исторические очерки «Город Екатеринбург» и «Покорение Сибири». Освоен материал, который собирался в путешествиях по Чусовой и по Каме, в поездках по Верхотурскому тракту, по Зауралью, по Исети, по Южному Уралу, Башкирии, по демидовским заводам, а в петербургский период — по Финляндии и Прибалтике. Мамин-Сибиряк без преувеличений считается одним из самых эрудированных историков и знатоков Урала конца XIX — начала XX века. Его интересовало экономическое значение сплава уральского металла по Чусовой, кризис уральской горнопромышленности в пореформенные десятилетия, династии уральских золотопромышленников, судьбы «первонасельников» Урала — башкир и вогулов (манси), новгородская колонизация Перми Великой, походы Ермака и личность хана Кучума, пугачевское движение и вооруженные столкновения Оренбургского казачьего войска «со степью», старообрядчество на Урале как духовное и бытовое явление и многое-многое другое. Интерес Мамина-Сибиряка к прошлому Урала и России общеизвестен. Значительно менее осмыслено в литературе о творчестве этого писателя понятие историзма как одного из принципов реалистического искусства, который распространяется далеко не на все произведения исторического содержания, принадлежащие Мамину. Так, в ранних очерках о старой духовной школе (бурсе) исторического подхода еще нет. В очерке «Сорочья Похлебка», рукопись которого датирована 1883 годом и который при жизни автора не публиковался, художественное время статично: бурса, она и есть бурса, — некое явление, которое не просматривается ни в прямой, ни в обратной перс­ 10 пективе1. С точки зрения начинающего писателя, каким был Мамин в начале 80-х, «голодная, ожесточенная, воинствующая бурса» остается такой, какой была в те отдаленные времена, когда в ней учились гоголевские персонажи: Хома Брут и сыновья Тараса Бульбы. «Из бурсы вырабатывалось своего рода казачество, та учебная “сечь”, где выживал только сильный и где ценилась только сила». Многое изменилось в очерках «Из далекого прошлого» — в главах «Новичок», «Болезнь», «Казнь Фортунки» — по сравнению с «Сорочьей Похлебкой». С одной стороны, бурса середины 60-х годов ХIХ века, все та же голодная, тупеющая от бессмысленной зубрежки, беспощадная к слабому. Новичку из семьи священника Мамина не удается убедить великовозрастного Александра Иваныча в том, что в России жил писатель Гоголь. В ответ получил наставление: «Гоголь — птица, а не человек... Ты и этого не понимаешь. Утка такая есть дикая, которую зовут гоголем». Нет оснований упрекать позднего Мамина в смягчении красок и в отступлении от истинного и глубокого раскрытия одной из сторон действительности прошлого, как это делалось в советском маминоведении. Сопоставление с очерком «Сорочья Похлебка» убеждает в другом: меняется структура повествования, минувшее и настоящее как бы совмещаются в художественном сознании повествователя: прошлое — это события, люди и факты, настоящее — авторская позиция, точка зрения, взгляд. Дело не только в том, что в очерках 900-х годов несколько меньше эпизодов, в которых изобретательная на жестокости бурса издевалась над своими жертвами, — поздний Мамин хотел бы разобраться в истоках таких явлений. «Нужно заметить, что большинство этих драк происходило, точно по обязанности... Известное молодечество, удаль и молодой задор требовали выхода, и бурса его находила». Имело значение, что «между учениками была слишком большая разница в летах — тринадцатилетние мальчики, с одной стороны, и двадцатилетние парни, с другой. Из этого неравенства и естественного перевеса физических сил возникал особый вид школьного рабства». Все ли беспросветно и мрачно в старой духовной школе? Справедливо ли полагать, что бурса «глубоко развращала душу ребенка, 1 Очерк был включен в кн.: Мамин-Сибиряк Д.Н. Худородные. Свердловск. 1958. Подготовка текста и комментарий И.С. Дергачева. 11 развращала шаг за шагом, с беспощадной последовательностью»? Автор «Сорочьей Похлебки» категоричен в утверждении пагубного воздействия бурсы на своих воспитанников. Пятидесятилетний Мамин ищет более объективный ответ. В свое время через духовное обучение прошли самые близкие ему люди: отец Наркис Матвеевич, дед по матери Семен Степаныч, дьякон из села Горный Щит, дед по отцу Максим Петрович, служивший в церкви села Покровского Ирбитского уезда, — каждый из них стал достойной личностью. Мамину вспоминается поездка на рождественские каникулы вместе с бурсаком Александром Иванычем: «Как только наша кошовка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими все другие, ехавшие сейчас к себе домой». Единственная «штука», которую «отмочил» Александр Иваныч за всю поездку, оказалась сравнительно безобидной и до слез насмешила кучера Илью, сопровождавшего бурсаков, — рассыпал табак на полатях в доме той злющей старухи-раскольницы, где не удалось ни зачерпнуть ковшом воды из кадки, ни напиться чаю («раскольники чаю не пьют»). «Не пожалел трех папирос и раскрошил их по всем полатям... Пусть старуха почихает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку». По Мамину, бурса небезнадежна, если в ней есть один день, который помнился целый год, — «рекреация» (освобождение от занятий). Этот счастливый день приходился на конец мая, когда устанавливалась по-настоящему теплая погода и «вся бурса» вместе с инспектором и учителями выезжала «на природу». Трудно описать рекреацию во всех ее подробностях, — признается автор «Воспоминаний» и все же не скупится на детали. С утра «все заведение охвачено неописуемым волнением. Знаменитая инспекторская лошадь запряжена в простую телегу, а сторож Палька, тот самый, в чьи обязанности входила порка бурсаков, с самым добродушным видом нагружает эту телегу какими-то таинственными белыми ящиками, которые приносят из соседней пряничной два сторожа. Потом укладываются самовары и целая походная кухня». Верстах в пяти от города на берегу Исети 12 выбирается местечко «с большой зеленой каймой поемного луга — это и было место нашей рекреации». Целый летний день дети «играли, пели, лакомились и опять играли. Тут были и мяч, и свайка, и городки, и борьба, и беганье взапуски, и “куча мала”, и хоровое пенье. Инспектор принимал сам участие в игре в мяч, и это представляло собой трогательную картину. <...> Особенно веселился учитель греческого языка, очень ловкий и здоровый господин. Он же составлял ученический хор. Одним словом, с одной стороны были дети, настоящие дети, сбросившие с себя свою школьную озлобленность и жестокость, а с другой — взрослые люди, очень гуманные, простые и внимательные к детскому веселью». В сумерках «все пошли одной гурьбой, с веселыми песнями, как и следует закончиться настоящему празднику. Инспектор и учителя даже не сели на своих извозчиков, а шли вместе с толпой облепившей их детворы. Это была трогательная картина того, чем должна быть школа. Всё было забыто для счастливого дня: и инспекторские “субботы”, и зубренье, и строгие порядки дореформенной духовной школы. Эта старая школа умела на один день быть действительно гуманной, выкупая этим именно счастливым днем все свои педагогические вольные и невольные прегрешения...» Мамин-Сибиряк не без оснований упрекает новую школу: размерив время ученья по минутам, она «не нашла в своем распоряжении ни одного свободного дня, который могла бы подарить детям. Она формально справедливее и формально гуманнее, но в ней учитель и ученик отделены такой пропастью, через которую не перекинуто ни одного живого мостика. Новая школа не знает отступлений от своих программ, и ученики в ней являются в роли простых цифр известной педагогической комбинации». Поздний Мамин не раз удивит читателя неожиданным решением типично «бурсацких сюжетов». Один из них – «наказание невиновного». Чаще всего это был мальчик, подозреваемый в ябедничестве. В «Сорочьей Похлебке» маленький Фунтик приговорен к испытанию «на воздусях». «Виновного» укладывают на одеяло, после чего четыре пары дюжих рук подбрасывают одеяло под потолок, неожиданно опускают, а там уж что Бог даст: выживет или умрет. Фунтик погибает от удара головой о край железной кровати. 13 В рассказе с устрашающим названием «Казнь Фортунки» наказания не состоялось, хотя предполагалось, что угрюмого вида бурсак Ермилыч расправится с набедокурившим Фортункой в день рекреации, когда группа бурсаков отстанет от остальных и дорога пойдет лесом. Не на шутку испугавшийся Фортунка рванулся было, чтобы бежать, но Александр Иваныч его остановил. «Ермилыч тяжело дышал. Он точно застыл на одном месте, в той позе, когда зверь бросается на свою жертву. Один прыжок, и Фортунка был бы избит самым жестоким образом. Но случилось нечто неожиданное: Ермилыч вытащил свою гирьку и швырнул ее далеко в лес, а потом облегченно вздохнул, точно с него сняли какую-то тяжесть. — Ермилыч, ты что же это? — подзадоривал его Александр Иваныч. Но Ермилыч уже шагал вперед разбитой походкой и не оглядывался. Когда мы вернулись на квартиру и улеглись спать, Ермилыч, завертываясь в свое одеяло и отвечая на мой немой вопрос, проговорил с добродушной улыбкой: — Черт с ним, с Фортункой: не мог я на него рассердиться!..» Литературные критики начала прошлого века, наиболее внимательные к Мамину-Сибиряку, отчетливо представляли творческую независимость писателя, родившегося на Урале. «У него не было перепевов с чужого голоса, — писал С. Елпатьевский, — он сразу вошел в литературу не подражателем кому бы то ни было, а ярким, оригинальным и своеобычным художником»1. Справедливости ради следует сказать, что «перепевы» все-таки были, в особенности в начале 80-х, однако со временем отпали. Зрелый Мамин не оглядывается на литературные образцы даже самого высокого уровня. Не склонный к теоретизированию, он ни с кем не полемизирует, но пишет о том, что видел сам и хорошо знал. Не принимает сатирическую фольклорно-литературную традицию в изображении рядовых священнослужителей. «Поп, толоконный лоб», жадюга и трус, дьячок — тупица и пьяница — эти фигуры почти не встречаются у Мамина-Сибиряка. Его жизненный опыт был другим, но, очевидно, причины не только в родословии писателя — скорей всего, в глубо1 Елпатьевский С.Я. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк // Воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке. Свердловск, 1936. С. 128. 14 ком понимании религии и церкви как важнейшей сферы духовной жизни народа. Неслучаен для Мамина рассказ «Последняя треба» (1892), написанный в год смерти Марии Морицевны Абрамовой и посвященный «памяти Маруси». Этот рассказ, высоко ценившийся в петербургском литературном окружении Мамина, в советское время не переиздавался и не рассматривался, оставаясь в ряду произведений, не отвечающих идейным приоритетам эпохи. Мало кому известно его содержание: поп Савелий из глухой деревни Полома, отстраняя все другие дела, в одиночку едет в еще большую глушь – на лесной кордон, где после родов умирает жена лесника Евтропа. Занесенная снегом дорога трудна и опасна, так что даже сильная лошадь не вывезет двоих, а женщина, как все простые люди, страшится умереть без покаяния. «Поп подошел к больной. На него глянуло мертвеннобледное лицо. Жизнь едва теплилась, и только в глазах еще мелькало сознание. Говорить больная уже не могла. Поп Савелий знал, что она умрет тотчас же после исповеди и что ее поддерживает только жажда получить последнее напутствие. Большинство так: дождутся попа и помрут...» Священник исполняет свой пастырский долг, однако в деревню выносливая Лысанка привозит лишь тело окоченевшего на морозе Савелия. Мамин-Сибиряк, по сути, ведет речь об одном из самых гуманных обрядов православия: через предсмертную исповедь и отпущение грехов умирающий получает оправдание своей жизни и тем самым не уходит в «никуда», но, согласно христианской философии, приобщается к великой гармонии Вселенной. Ходом сюжетных событий дублируется извечный круговорот жизни и смерти: погибает священник, умирает женщина, породившая новую жизнь, и семилетняя девочка, дочь лесника, с ответственностью взрослой берет на себя заботу о младенце. Рассказ «Последняя треба»1 безупречен с бытовой и психологической стороны и вместе с тем ненарочито философичен, как это характерно для классических рассказов Мамина-Сибиряка: «Зимовье на Студеной», «Емеля-охотник», «Ак-Бозат» и других. 1 Переиздан: Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч. в 2 т. Т. 2 – М., 1999. Составление и комментарий Е.Н. Ефстафьевой. 15 К числу неповторимых маминских типов принадлежит отец, действующий в «Воспоминаниях» под своим собственным именем и со своей невымышленной биографией. По наблюдениям писателя, на уральских горных заводах «специально выработался тот симпатичнейший тип батюшек, которые были обеспечены известным жалованьем, а потом вращаются в более развитой среде, чем простые попы» (из романа «Дикое счастье»). Надо полагать, что Наркис Матвеевич представлял собой не только «симпатичнейшего батюшку», но был одним из самых образованных заводских священнослужителей того времени, личностью незаурядной, крупной. Большой души человек, он помнился Дмитрию Наркисовичу всю жизнь. В марте 1882-го начинающий писатель сообщает матери Анне Семеновне о своих первых литературных успехах и в первую очередь вспоминает отца: «Всякая моя радость отравлена отсутствием горячо любимого человека, единственного отца, которому мы обязаны, начиная с воспитания, и особенно тем, что это была глубоко честная, гуманная и любящая душа»1. Через двадцать лет рукой опытного мастера Мамин напишет его объемный литературный портрет. Надо ли говорить, что благородный облик отца исключал литературную проблему «отцов и детей». Священник «самой строгой жизни», «собирательная совесть» и опора семьи, неутомимый труженик и безусловный авторитет для детей, Наркис Матвеевич не вызывает конфликтов мировоззренческого, психологического и какого-либо другого содержания. Это выглядело бы как идеализация, если бы не было самой настоящей правдой. Взаимоотношения отца и сына видятся Мамину на общечеловеческом, почти библейском уровне — как нерушимая духовно-родственная связь. Понадобился немалый творческий опыт, чтобы реальное лицо стало художественным образом. Внутреннее чутье подсказывает автору, что уместнее всего в этом случае прямое слово, которым, кстати, блестяще владели русские классики. Примеры общеизвестны. «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, 1 16 Цит. по: Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 348. словом, все те, которых называют господами средней руки» (Н.В. Гоголь. «Мертвые души»). «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан его и широкие плечи выдавали крепкое сложенье, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными» (М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»). Мамин-Сибиряк: «Все утро отец проводил в заводской школе, где занимался сам, а там шли требы, чтение и бесконечная работа с разными церковными и отчетными книгами»; «всегда отец выступал в ореоле своей спокойной, мужественной любви, которая проявлялась с особенной силой, когда мы, дети, бывали больны. Стоило ему войти в комнату, как уже чувствуешь себя лучше...». Наркис Матвеевич мечтает учить сыновей в гимназии и глубоко переживает, оттого что этой заветной мечте не дано было осуществиться. Благодаря отцу, в небогатом домике висимского священника утверждается особое уважение к книге как к «предмету высшего духового порядка», своего рода культ книги. У Наркиса Матвеевича «была своя личная библиотека из лучших авторов, а потом всевозможные книги доставались от заводских служащих... читали “Современник” и Добролюбова», и Дмитрий Наркисович «еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения 50-х — начала 60-х годов» («Автобиография»). Здесь, пожалуй, сказано самое главное о самом авторе. Воспитанный «эпохой великих реформ» (отмена крепостного права, общая либерализация общественной жизни), писатель Мамин-Сибиряк на всю жизнь остается «шестидесятником», просветителем и демократом. Подобно Чехову, Мамин сохраняет независимую общественнополитическую позицию в обстановке многообразных идейных течений на рубеже веков: «и тот и другой не ориентировались на преобладающие в ту пору темы народничества, не обольстил их, слава богу, и марксизм с его интернациональными посулами»1. Шестидесятниками остаются «излюбленные» герои МаминаСибиряка. Они увлекаются естественными науками, работают ради просвещения темной крестьянской массы, но, в отличие от тургенев1 Молчанов Э. Пути-перепутья: Эпизоды и судьбы. Екатеринбург, 2006. С. 15. 17 ского Базарова, не объявляют себя нигилистами, так же как не призывают Русь «к топору» и не реформируют сельскую общину. Другое дело, что этот исторический тип просветителя далеко не сразу удается Мамину на уровне реалистического характера. Нечто условно-литературное проступает в фигуре Петра Блескина в рассказе «Первые студенты» (1887). Этот герой не растерял светлых идеалов юности и не заразился бездуховным меркантилизмом. Он деловит, собран, демократичен в отношении к приисковым рабочим и, в отличие от неуравновешенного Рубцова, не склонен к крайностям. После самоубийства своего однокашника Блескин берет на воспитание его маленькую дочь. Когда же Аня вырастает в разумную, образованную девушку, он отвечает согласием на ее предложение стать ее мужем. Чего же больше во всей этой романтической истории? «Разумного эгоизма» Чернышевского или же неизжитой псевдо-романтической стилистики, характерной для самых ранних произведений Мамина конца 70-х годов? Не хватает одного: благородной простоты, с которой выписан священник-шестидесятник Наркис Матвеевич Мамин. В зрелом творчестве Мамин-Сибиряк самобытен и не похож на других, однако без усилий быть самобытным; идет против течения не для того, чтобы побороть это течение, но потому, что так диктует его жизненный опыт и писательская интуиция. В один ряд с образованным священником поставлен висимский дьячок Николай Матвеич, несмотря на то, что у большинства русских писателей дьячок однозначен: тупица, самодур и пьяница. Однако маминские дьячки совсем особенные: одновременно они бывают кузнецами, охотниками, мастерами на все руки. Деревенский дьячок Матвей Иваныч в рассказе «Старая реформа» (1902) уберегает от участи золоторотцев бурсаков, срезавшихся на экзаменах в духовную семинарию. «Вот мое дело: последнее-распоследнее дело дьячок — так? А у меня ремесло: кузницу завел и свой кусок хлеба имею. Посмотри-ка, какие у меня руки <...> Теперь вот вас по Рассее большие тысячи с волчьим паспортом пустили, а вы не бойтесь, ничего не бойтесь, братцы...» Уникален своей жизнестойкостью дьячок Служной слободы Арефа в повести «Охонины брови» (1892). В этом образе легко ощутимы ассоциации с популярным персонажем народной сказки: из подземной каторги заводчика Гарусова ушел, чудом уцелел в башкирском 18 плену, домой возвратился и кобылу свою дьячихе привел. Казалось бы, невозможно после Арефы нарисовать более впечатляющего образа какого-либо другого дьячка. Поначалу висимский дьячок Николай Матвеич производит довольно жалкое впечатление. «Сквозь чуткий и тонкий сон самых ранних детских воспоминаний я вижу тощую, сгорбленную фигуру, которая на правом клиросе нашей маленькой деревянной заводский церкви каждое воскресенье читала совершенно непонятным бормотком и пела дребезжавшим старческим голосом. Это был самый ветхозаветный дьячок Николай Матвеич. Мочального цвета жиденькие волосы были заплетены в две тонкие косички и запрятаны за высокий воротник праздничного казинетового подрясника, такого же цвета усы и какая-то чахлая, точно заморенная бородка, русский нос картошкой, маленькие серые глаза с крошечным зрачком, тонкая загорелая шея, точно разграфленная глубокими морщинами, круглые очки в медной оправе, берестяная табакерка в кармане, легкое покашливание и несоразмерно тяжелые шаги благодаря праздничным новым сапогам — все это составляло единое целое. Заскорузлые руки с узловатыми скрюченными пальцами умело и ловко держали топор и с трудом перелистывали закапанные воском страницы богослужебных книг, что меня постоянно удивляло». Это портрет «официальный», но есть портрет «праздничный»: на именинах священника Николай Матвеич веселит гостей забавными историями из своей охоты. «Забитого дьячковской нуждой человека — как не бывало, а оставался истинный любитель охоты и артист». Мамин не жалеет красок на «семейный портрет». Содержать большую семью было возможно лишь благодаря охоте и тому, что Николай Матвеич «все знал, мог и умел». Для домашнего обихода он сам делал решительно все, «до ружейного ложа включительно... Свои курточки и шапки Николай Матвеич шил сам, не доверяя “матерешке”, и по части выделки меха не имел соперников, — никто не умел так выделывать олений мех, белку, куницу, лисицу и т.п.». Собой «настоящим» Николай Матвеич бывал в горах, в лесу, где держался прирожденным хозяином. Он и «по лесу ходил не так, как другие. Сейчас он идет рядом с вами, вы слышите его шаги, а потом точно сквозь землю провалился. Это была привычка “скрадывать”, 19 то есть идти на всякий случай под прикрытием. По дороге старик всегда приводил в порядок буйную горную растительность, — тут сухарина (сухое дерево) пала и придавила молодую поросль, там снегом искривило, там скотина поломала. Надо помочь молодым расти, а то погибнут. У старика были тысячи знакомых молодых деревьев, которым он спас тем или другим образом жизнь. Он заходил навестить их, как своих воспитанников, и торжествующе любовался». Священник Наркис Матвеевич называет висимского дьячка «философом». Автор-повествователь поймет смысл такой характеристики через много лет: Николай Матвеич из тех людей, которые способны подняться над бытом; это «созерцатель, живший широкой жизнью природы. Она заполняла его существование, заслоняла все остальные интересы, до дьячковской нужды включительно <...> Дома он был только так, временным гостем, как всякий из нас». МаминуСибиряку удается распознать в «ветхозаветном дьячке» не только поэтическую натуру, но и философски мыслящую личность. Современники Мамина воспринимали очерковый цикл «Из далекого прошлого» как произведение историческое. Отдаленность во времени передается через подробности быта, не путем объяснений, но «просто изображением», как отзывался о маминской манере письма Павел Петрович Бажов. Приведем миниатюрный эпизод на пристани Межевая Утка. Действующие лица: Наркис Матвеевич с сыном Николаем и его товарищем, которого все зовут Николаем Тимофеичем. Отец везет их в Пермь, в духовную семинарию; проверяет, приготовлены ли черпаки для воды, беспокойно вглядывается в хмурое осеннее небо, и все трое усаживаются в «шитик» — средней величины лодку, «сшитую» из досок. Наркис Матвеевич занимает место на корме, пятнадцатилетние подростки садятся на весла. С Богом! — говорят провожающие. Впереди больше трехсот верст: сначала по Чусовой, затем по Каме. «Конечно, был расчет на быстроту течения горной реки, но все-таки в виду предстояло ехать больше недели». То, что в наши дни отошло в область водного туризма и спорта, полтора века назад, до открытия Горнозаводской железной дороги, считалось привычным и скорым способом передвижения. Действительно скорым, ведь через несколько дней четырнадцатилетний Митя 20 отправится из Висима в Екатеринбург, и его путь длиною около двухсот верст займет почти три недели (!). Эту дорожную «одиссею» Мамин-Сибиряк опишет со всеми подробностями. От Висима до Тагила вместе с заводским служащим Терентием Никитичем проехали быстро, а в Тагиле подростку надо было искать обратную подводу. «Я с утра отправлялся на обход постоялых дворов и мучных лавок, но ничего подходящего не находилось. Были и ямщики, и обозы, но ничего подходящего для меня: одни отправлялись по Гороблагодатскому тракту в Пермь, а другие шли в Екатеринбург, но с какой-нибудь кладью, так что мне места не находилось. — Куда ты на возу-то поедешь? — объясняли загорелые, бородатые ямщики, говорившие со мной, как с большим человеком. — Задремлешь ночью и как раз с возу скатишься где-нибудь в нырке. Дорога-то теперь — не дай бог!.. За тебя же отвечай... — Ужо из города подвезут хлеба, ну, обратно пустые поедут, — вот это тебе в самый раз. Лежи себе в телеге, как колобок...» Дней через пять подвода все-таки нашлась, но погода испортилась. Зарядило тяжелое осеннее ненастье, и «кутейник» (поповский сын) до нитки вымок в открытой телеге за те два дня, что тащились по размытой дождями дороге до Невьянска. Наконец «наши телеги точно были поглощены деревянными воротами постоялого двора, запруженного обозными телегами, лошадьми и отчаянно галдевшею ямщиной. На мне, как говорится, не было сухой нитки, и я едва мог вылезти из телеги: больно было пошевелиться. Изба, конечно, была битком набита народом. Ямщики тоже были мокрые, и на них рубахи дымились от пара. Меня больше всего беспокоила мысль о моем мешке, который мог исчезнуть в этой суматохе совершенно незаметно. Меня выручила артельная стряпуха. — Полезай на печь, там и высохнешь, — научила она, помогая мне втащить мешок на печь. – Ну, и ненастье ударило. Все мокрешеньки, точно из болота вылезли...» Та же стряпуха едва разбудила «кутейника» к раннему ямщицкому обеду. «— Вставай, милый, мужики уж за стол садятся. А то тебе ничего не достанется. Ели все медленно, солидно, как едят только в артели. Ямщичий 21 аппетит славится своими колоссальными размерами, и больше ямщиков обозных едят только пильщики. На постоялых дворах везде кормят ямщину на убой, и на стол подается иногда до десяти перемен: тут и щи, и похлебка, и пироги, и каша, и жареное мясо. В середине такого богатырского обеда кругом стола начинает ходить громадный деревянный жбан с квасом, в котором по очереди исчезают ямщичьи головы». В этих картинках много быта, но при всем том Мамина-Сибиряка не назовешь ни натуралистом-этнографом, ни бытописателем. Подробности из века минувшего не теснят главного: автор знакомит с рассудительными обозниками, с братьями-«огуречниками» из села Аятского, с сердечной артельной стряпухой; рассказывает об удивительно легкой на ходу сибирской телеге, во много раз превосходящей телегу «расейскую», а еще раньше — о нравах старой духовной школы, о воспитании в семье, о шестидесятниках, священнослужителях и о многом другом. Воспоминания писателя о детстве и юности, согретые то лирическим чувством, то добродушной иронией, открывают читателю Средний Урал, каким он был в середине позапрошлого столетия; воссоздают образ жизни и нравы людей, его населяющих. Вместе с тем, так или иначе, отступает неполный, сконструированный по советским меркам образ писателя Мамина-Сибиряка. Обозначаются связи между произведениями разных лет, приоткрывается прихотливо-непредсказуемая логика писательского мышления от 1880–1890-х к 900-м годам. Становится очевидным несостоятельность тех обобщенно-авторитарных суждений об основных мотивах творчества Мамина, которые, по сути дела, подменяли конкретный анализ. Один из примеров: «Особенным вниманием писателя пользуются женщины, хранительницы семейного уклада, выносящие на своих плечах все беды и несчастья, которые выпадают на долю близких». В общем всё верно: Мамин-Сибиряк действительно уважал сильную и твердую русскую женщину, которая, по его убеждению, «незримо и безыменно творила всю русскую историю». Однако сколько же в его произведениях самых настоящих жертв того же семейного уклада! Кажется, никем из русских писателей не сказано столько горьких 22 и сердечных слов о своих современницах: о деревенской красавице («кормилке»), ограбленной своими алчными сожителями и через два десятка лет превратившейся в «корявую старушонку» («И тому подобная баба»); о бездомной Аннушке, прибившейся было к компании питерских бедняков, но тут же отравленной из ложной ревности (рассказ «Пустынька»); о немолодой актрисе эстрадного жанра, которая, несмотря на постоянный успех у зрителей, так и не смогла устроить свою личную жизнь (рассказ «Ответа не будет»). Мамин-Сибиряк не исключает из числа нравственных понятий ни жалости, ни сострадания и, вероятно, никому из своих персонажей не мог бы передоверить пафосный, однако ницшеанский по своей природе монолог Сатина из горьковской пьесы «На дне»: «Чело-век! Это великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... Уважать надо!» Непридуманные женские истории поражают современного читателя: неужели так могло быть? Неужели не в средние века, а всего лишь сто лет назад церковный обряд и обычное право отдавали безответную женщину в беспредельную власть озверевшему мужу? Как раз об этом написан мало кому известный сегодня рассказ под названием «Я... я... я» (1904). Такое уж неудачное замужество выдалось Фимушке. «Муж беспощадно истязал и бил Фимушку все время, бил артистически, пока она не теряла сознания. Происходила самая обыкновенная деревенская история, и ни одна живая душа не заступилась за несчастную бабу, не желая нарушать священного права всякого мужа “учить жену”... все благочестиво отворачивались. — Не наше дело... Промежду мужем и женой один Бог судья». Историю Фимушки лишь с натяжкой можно было бы причислить к произведениям о пробуждении личности, хотя в конце концов на бабу «накатил стих», и она точно озверела, «так что даже кровопивец муж испугался. Фимушка с сумасшедшим хохотом бросалась на мужа с ножом, грозилась обварить его кипятком, отравить, зарубить сонного... У несчастного мужа наконец опустились руки, и он запил горькую, как истинно огорченный русский человек». После скоропостижной смерти мужа Фимушка поселяется в Девьей обители, где скоро получает известность юродивой и прозорливицы. Типично 23 русский сюжет «от греховности к святости» трансформируется Маминым: «блаженненькая» Фимушка не только не обретает христианской кротости, но свою ненависть к извергу мужу переносит «на весь мужеска пол». «Все баба как баба, а как увидела мужика — и остервенилась. Эти минуты озлобления достигали своего апогея в праздники, когда в обитель, вместе с бабами, приходили и мужики. Тут никому спуску не было, особенно старикам, которых Фимушка поголовно крестила снохачами». Если это протест, то самый дикий, неуравновешенный, хотя и не переходящий в преступление, о котором Мамин писал в рассказе «Отрава» (1887). Как истинный реалист, художник широкого гуманистического миропонимания, Мамин-Сибиряк не приукрашивает народную среду и в тех случаях, когда пишет о «первонасельниках» Урало-Сибирского региона: татарах, завоеванных Ермаком, башкирах, вогулах (манси). Остается «на почве реальности», сохраняя уважительное отношение к национальной истории и национальной культуре малых народностей. Правда, меняется стилистика. Величаво-эпические ритмы «Сказания о сибирском хане, старом Кучуме» (1892), лирико-философский настрой башкирской легенды «Ак-Бозат» (1895) уступают место подчеркнуто реалистическим краскам в рассказе о последнем из вогулов, живущем первобытной жизнью в чердынской парме, — «Старый шайтан» (1903). «Это был невысокий, сгорбленный старик, одетый в лохмотья, и даже не в лохмотья, а во что-то такое, чего разобрать было нельзя. Вернее сказать, этот костюм состоял из всевозможных заплат, причем куски материи мешались с вытертыми, изношенными кусками собачьего и оленьего меха. Он был без шапки и босой». Из старинной малопульной винтовки с самодельной ложей «колдун», как зовут его местные жители, ухитряется убивать куниц и белок. Птицу он душит силками, а рыбу удит перстом: «опустит руки в воду, оттопырит один палец, ну, рыба к нему бежит». Он из рыбы кожу умеет делать, — поясняет проводник. «— Ну-ка, шайтан, покажи господам свою рубаху. Рубаха оказалась верхом вогульского искусства. Она была действительно сделана из выделанной рыбьей кожи и сшита беличьими жилами». 24 Однако «настоящий пещерный человек», «этнографический экземпляр» именует себя князем и единственным хозяином этих мест. Когда вогулы ушли за Урал, «я остался здесь, — рассказывает “старый шайтан”. — Все мое здесь, каждое дерево... — Это казенная дача. — Я не отдавал ее никому... Я ее берегу... каждое дерево берегу... — А когда ты умрешь, тогда что будет? “Старый шайтан” посмотрел на Костылева своими глазками и засмеялся, как смеются над наивным ребенком. — Тогда все вогулы вернутся сюда и прогонят всех русских, — уверенно проговорил он. – О, вогулов много, как листьев на дереве!.. Вогулы самый сильный народ <...> И я буду управлять своим народом, а ты будешь мне кланяться... Все вогулы будут есть каждый день, и все будут счастливы...»1 Монолог “старого шайтана” можно было бы принять за бред одичавшего в лесу человека — Мамин-Сибиряк услышал в нем мечту о светлом вогульском будущем и отголоски той далекой истории, когда вогулы были сильным, воинственным народом и храбро отстаивали свои земли на территории Перми Великой от новгородской и московской колонизации. «Старый шайтан» — далеко не единственный непрочитанный текст позднего Мамина-Сибиряка. Детально прорисованный литературный портрет писателя — дело будущего. Появятся новые методологии и приемы взамен того социально-иллюстрационного подхода, который благодаря своей вариативности еще держится в литературе о Мамине-Сибиряке. 2009 1 Мамин-Сибиряк Д.Н. Сибирские рассказы. Т. 1. Свердловск, 1991. С. 350. 25 Мамин и Горький Творческие связи и расхождения О босяках Младший современник Мамина-Сибиряка Горький приходит в литературу в 1890-е годы, когда у Мамина было чему поучиться. Горького не смущало, что в столичных кругах Мамин считался провинциальным автором. Близкий друг писателя критик С.Я. Елпатьевский писал вскоре после смерти Мамина: «Никогда не создавалось шума около него, яростных споров, – шума, может быть, бестолкового, но неизбежно сопровождающего всякий успех. Да, в провинции любили, знали и читали, и чтили его, там спорили и обсуждали, но этот провинциальный шум не доходил до Петербурга и Москвы и не сказывался в столичных толках»1. Надо полагать, Горький не принадлежал к числу рядовых читателей. В произведениях писателя-уральца его привлекала устоявшаяся реалистическая манера письма, глубокое понимание народного характера и того особого слоя русских людей, которых он обозначил словами «босяк», «босяки», «бывшие люди». Сохранилось достаточно много прямых свидетельств уважительного отношения Горького к творчеству Мамина-Сибиряка. К 1900 году относится его высказывание о рассказе «Башка» как «об одном из лучших рассказов Мамина»2. В 1902 году Горький пишет издателю К.П. Пятницкому: «Мамина – прочитал почти всего. Хороший, интересный писатель. Его необходимо издать дешево, хотя он, Господь с ним, совсем не 1 2 26 Елпатьевский С. Я. Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. С. 128. Нижнегородский листок. 1900. 14 окт. общественный человек»1. Подробнее в другом письме: «Читая Мамина и удивляясь его таланту, – пришел к мысли, совершенно правильной, кажется: Мамин для публики – старый знакомый, определенная – по ее мнению – физиономия, приятный писатель, который пишет ярко и лишен сознательного намерения сердить мещан. <…> “Знание” может ограничивать и усекать Елеонского, Серафимовича, Телешова, даже Андреева, если сей перепрыгивает через шлагбаум разума, оно может поставить известные требования Чирикову, но – едва ли это удобно по отношению к Мамину. По сей причине – в переговорах с ним об издании, хотя и следует посоветовать ему некоторых вещей не печатать, – однако настаивать невозможно. <…> В книгах, присланных Вами, не хватает: “Черты из жизни Пепко”, “Приваловские миллионы”. <…> Очень хороши его сибирские и уральские вещи, но плохи “Падающие звезды” и др. Если у Вас имеется время, начните переговоры с Дмитр[ием] Наркисовичем. Издание должно быть скромно и, по возможности, дешево. Можно ли продавать отдельными томами – как Вы полагаете?»2. К сожалению, не удается обнаружить какого-либо сборника Мамина-Сибиряка, изданного горьковским «Знанием». Имеются ли таковые? В 1912 году Горький направляет приветственную телеграмму в честь 60-летия Мамина, заканчивая ее самыми сердечными словами: «Земле родной есть за что благодарить Вас, друг и учитель наш». В 1917 году пишется рассказ «Страсти-Мордасти», типологически близкий рассказу Мамина «Господин Скороходов» (1894). В очерке «Чужие люди», написанном в Берлине в 1923 году, Горький вспоминает о встрече с Маминым, состоявшейся в 1900-м в Ялте. Со своей стороны, в письме Н.К. Михайловскому Мамин тепло отзывается о Горьком: «Сейчас в Ялте собралось много писателей: Чехов, Горький, Станюкович, Бунин. Все чемнибудь больны, и все чем-то озлоблены, за исключением Горько1 Горький А.М. Письмо К.П. Пятницкому от 24 октября (6 ноября), 1902 г. // Собр. соч. в 30 т. Т. 28. М., 1954. С. 274. Здесь и далее все цитаты из произведений А.М. Горького приводятся по этому изданию с указанием тома и страниц в примечаниях. 2 Горький А.М. Письмо к К.П. Пятницкому между 18–21 октября (31 октября – 3 ноября), 1902 г. Т. 27. С. 272–273. 27 го»1. В письме к матери от 5 апреля 1903 года Мамин признается, что не понимает, в чем причина успеха Горького, однако сохраняет о нем то же благоприятное впечатление: «очень хороший человек, крайне добрый, простой и сердечный»2. Как писателей их разделяет многое, в первую очередь разное отношение к босякам. Мамин не принимает философствующих горьковских босяков. Подтверждением может послужить, к примеру, ироническое замечание о «проникновенной босяцкой философии» (в рассказе «Мумма», 1907). Негодование в отношении к прототипам философов-босяков передает сам Горький, вспоминая некоего опустившегося доктора Рюменского, которого встречает в Ялте на квартире у Мамина: «…Свирепо вращая глазами, он (Мамин. – Л. С.) стал издеваться надо мною: – Этот ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники – лгуны. Пессимизм – ложь, потому что пессимизм – философия неудачников…»3. Мамин-Сибиряк не был одинок в критическом восприятии босяков раннего Горького4. По свидетельству Ф.Ф. Фидлера, поэт, пере1 Цит. по: Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1981. С. 299. 2 Там же. С. 300. 3 Горький А.М. Чужие люди. Очерк. Т. 15. С. 179. 4 Позднее, в 1914 г., появится литературная пародия на босяков Горького: «Море смеялось тысячами серебряных улыбок. В небе реяли чайки. Облака сложились словно ребра какого-то огромного животного. «Пуд 10 фунтов», как его звали в ночлежках, лежал на песчаной отмели, молодой, здоровый, пахнувший луком и свежеразрезанным швейцарским сыром. Сквозь рваную рубаху, как опара, лезло наружу бронзовое загорелое тело. Провалившийся нос чернел двумя точками. Ванда лежала с ним рядом, теплая, круглая, вся потная и соблазнительная. Она была красива, если бы ее не портил селедочный запах и лицо цвета сырого мяса. Их обоих только что выплюнула ночлежка на углу квартала, откуда сейчас на берег донеслось раскатистое «расшибу!..» <…> – Гляжу я в жизнь и вижу – нет в ей справедливости, – угрюмо ответил Пуд. – Плюнь на воспоминания! – уронила Ванда. – Взять хоть бы того же Алексея Максимыча Горького, – продолжал Пуд с резкой энергией. – Мы, босяки, вознесли его на верх славы. А очистилось ли нам с него за это хоть бы по стакашку? Эх, вы, – «Десять фунтов», не стесняясь присутствия дамы, загнул крепкое слово, – гниды интеллигентные! Что дали вы жизни? Я выше вас уже просто потому, что не знаю ни одной книжной истины!.. Кажись, идет кто-то в котелке? Надо быть, интеллигент. Пусти, я ему три с половиной ребра вышибу! 28 водчик, профессиональный революционер Петр Якубович был уверен, что уже к концу века Горький «исписался и способен создавать лишь вариации своих босяков; собственно, он не создает босяков, а лишь наделяет их своим собственным романтическим духом; каждый из них – сам Горький»1. Дореволюционная критика закрепила за Маминым роль предшественника Горького, до которого при его (Мамина) безусловных достоинствах чего-то «чуть-чуть недостает». С наибольшей прямотой выразил эту точку зрения известный в конце XIX – начале ХХ века критик Ф.Д. Батюшков: «Есть у Мамина талантливые и вдумчивые очерки о босяках и сбившихся с кругу людях, но когда стали появляться яркие, выпуклые, красочные рассказы Горького, предшественники героев Горького были как бы забыты, и ему вменили честь открытия целого мира босяков и “бывших людей”. И самый этот термин “бывших людей” не принадлежит Мамину, который добросовестно выписывал и разные названия оборванцев, а Горький остановился на одном обозначении, и термин “босяк” облетел всю Россию. Есть у Мамина и вполне чеховские настроения и мотивы, но “певцом тоски по идеалу” провозглашен был Чехов, а Мамин не создал своей полосы творчества в соответствии с целым периодом жизни русского общества. <…>. И вопрос не в меньшем таланте Мамина, а в том, что, верно схватив и описав сюжет, он, как пионер и инициатор, еще не достиг нужной выразительности, вполне за– Оставь! – удержала его женщина. – Говорю, плюнь да разотри. Двигайся, анафема идолова, ближе…<…> – Дотла нас ограбила жизнь, – отрезал «Пуд десять фунтов». – Человек – звучит гордо, но только до тех пор, пока у него не провалился нос. Никто не знает своего настоящего места в жизни… Какое мое настоящее место? – Отхожее! – сказала Ванда и смех ее вдребезги рассыпался в воздухе. Море засмеялось. Улыбнувшись, взлетели чайки. Волны тихо шлепнулись о песок. Из ночлежки донеслось снова отдаленное «расшибу!» – и в воздухе, напитанном острым запахом моря, этот человеческий крик прозвучал гордо и дерзновенно». (Цит. по: Измайлов А.А. Из дружеских пародий. М Горький // Веселые страницы. Юмористическая хрестоматия. Избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград, 1914. С. 82–83.) 1 Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: характеры и суждения. М., 2008. С. 311–312. 29 конченного образа: чего-то чуть-чуть не хватает, так, чтобы нельзя было ничего ни прибавить, ни убавить…»1 В сопоставлении по принципу «лучше – хуже» практически утрачивается предмет разговора, то есть сам Мамин. При всем том этот подход сохраняется, принимая в условиях социалистического реализма самые примитивные формы. «Мамин-Сибиряк не увидел в рабочем классе России ту мощную силу, которая способна добиться счастья для всего народа. – Горький же еще в самом начале своей творческой деятельности осознал неоценимое историческое значение борьбы пролетариата со своими угнетателями»2. Вместе с тем в советском маминоведении возникает желание как-то подтянуть Мамина к «буревестнику революции». «Рассказ Мамина-Сибиряка “Башка” – один из первых горьковских до появления самого Горького»3. От внимания исследователя ускользает существенное различие между «психически тонко» разработанными фигурами завсегдатаев екатеринбургского кабака Ваньки Каина (Башки, Медальона, Фигуры) и сконструированными босяками Горького, которые «заряжены» ницшеанской в своей основе идеей свободного человека, по Ницше – «сверхчеловека». По сути, это разные художественные структуры, за каждой из которых стоит особая система нравственноидеологических ценностей. Высокая горьковская оценка «Башки» – не что иное, как характерная для раннего творчества этого писателя романтизация людей дна. «Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блестеть алмазами духовной красоты»4. Такие же слова произносит любовница Фомы Стеша в романе Горького «Фома Гордеев». Между тем необъяснимое благородство Башки по отношению к заболевшей Фигуре еще не дает оснований судить, что после ее выздоровления он сам и его образ жизни изменятся к лучшему; Башка исчезает из города неизвестно куда. А поведение бывшей актрисы, 1 Батюшков Ф.Д. Д.Н. Мамин-Сибиряк // Воспоминания о Д.Н. МаминеСибиряке. С. 140. 2 Панов П. Мамин-Сибиряк и Горький (К проблеме народного характера) // Уральский современник. 1952. С. 232–233. 3 Дергачев И.А. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. С. 156. 4 Горький А.М. // Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 50–51. 30 которая глумится перед кабацкой публикой над чистосердечным подарком Башки, меньше всего говорит об «алмазах духовной красоты». Скорей всего, речь идет об окончательном нравственном падении героини. При всем том в начале ХХ века, когда Россия жила напряженным ожиданием неизбежных социальных перемен, не реалистически выписанные маминские представители «бывших людей», но условные босяки Горького становятся литературным и общественным явлением. В принципе, между такими персонажами-идеями, как Челкаш и Сатин, и аллегорическими образами Сокола и Буревестника нет существенной разницы. Те и другие несли в себе мощную социальнопротестующую энергию. В изображении людей, выбивающихся из «нормального» течения жизни, Мамин неоднозначен. С одной стороны, это драма нереализованных возможностей: одаренного семинариста Башки, сильных, однако непутевых мужиков, таких, как Спирька в рассказе «Озорник» (1896), либо конный пастух Макарка, который бросился обгонять обезумевший от медвежьего рева табун, а лошади «ураганом» пронеслись по нему (рассказ «Макарка», 1904); с другой – бродяги, неудачники, «несчастненькие», а если грамотные, то по народному разговорному языку «химики» и «физики». Согласно народной этике, их полагается накормить и «отпустить с богом». Мамин не доверяет им философских сентенций, ограничиваясь незлобивой иронией. В рамках эпического текста возникают живописные эпизоды-сценки, в которых не находится места для какой-либо философии. В очерке «На чужой стороне» (1899) артельная стряпуха Спиридоновна усаживает за общий стол знакомого «физика» и недавно прибившегося к артели «химика». Подрядчик Иван Семенов появляется в казарме неожиданно. «Физик вовремя заметил это и юркнул под стол. Один химик ничего не видел и не слышал, потому что всецело занят был едой. Иван Семенов чутьем слышал присутствие чужого человека в казарме, поэтому прямо подошел к оторопевшему химику, положил ему руку на плечо и проговорил: – Это еще что за образ? Химик совершенно растерялся. Он стоял перед подрядчиком потный и красный, с отдувшейся щекой, за которой застрял кусок под- 31 рядчиковой убоины. Рабочие все притихли. Молодые парни сдерживали смех, чтобы не выдать лежавшего под столом физика. Кое-где мелькнувшие улыбки взбесили Ивана Семенова, и он сначала обругал всех, а потом накинулся на Спиридоновну. – Ты это что же смотришь, кувалда? Вот им смешно, как ты хозяйское добро травишь всяким прощелыгам… обязан разве я всю свалку кормить? Один такой образ сколько сожрет. Спиридоновна сначала чувствовала себя виноватой и даже хотела пустить слезу, а потом, когда Иван Семенов очень уж насел на нее, в свою очередь рассердилась. – Да ты что на меня накинулся, Иван Семенов? Кому письмы-то писал цельное утро вот этот самый образ?!.. Небось, все молчат и уши прижали… А мне что, невелика корысть, что голодного человека покормила. Вся тут – нечего с меня взять!.. – Да ты что подворотню-то растворила?!.. – заорал Иван Семенов, топая ногами. – Да я тебя сейчас, как кошку, – за хвост да об стену! – Меня?!.. Руки коротки… – Сняв передник и бросив им в хозяина, Спиридоновна проговорила: – Вот тебе хомут и дуга, а я тебе не слуга…»1 К трезвой оценке русского босячества Горький приходит в 20-е годы. В цикле «Заметки из дневника. Воспоминания» (1923– 1924) слово дается самим босякам, с которыми в разные годы жизнь сводила писателя: в очерке «Чужие люди» – образованному босяку Аркадию Рюменскому, который хулит всю русскую литературу, уподобляя ее ядовитому грибку, разрушающему здоровое дерево. «Есть такой грибок, по-латыни его зовут: мерулиус лакриманс, – плачущий, он обладает изумительной способностью втягивать влагу из воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтобы одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и – весь дом начинает гнить <…> Так вот: русская литература – нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает здоровое тело, когда оно соприкасается с 1 Мамин-Сибиряк Д.Н. На чужой стороне. Очерк // Мамин-Сибиряк Д.Н. Поздняя проза. Екатеринбург, 2008. С. 109. 32 нею»1. Горький разделяет настроение Мамина, разгневанного рассуждениями опустившегося доктора. «Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с веселой яростью гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник»2. Другой представитель «бывших людей», в прошлом предводитель дворянства, а теперь староста рабочей артели, морочит головы мужикам собственной классификацией чертей, «приставленных к человеку». В ответ на возражения Проходящего уверенно обещает: «– Завтра вздуют тебя! Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И, когда горбун отправился в барак, спать, – я ушел по дороге во Владикавказ»3. Своего рода итог образам босяков подводит нижегородский миллионщик Бугров: «Босяк наш – осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо – лист осенний удобряет землю…»4. В противовес интеллигентным босякам Горьким создается колоритный образ народного философа – знахарки из мордовской деревни: я, пишет он, «увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с Богом, может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне. – Э, Христос…»5. Мотив сострадания Очевидно, сострадание было естественным проявлением натуры Мамина и вместе с тем результатом воспитания в благочестивой православной семье. Процитируем из очерков «Из далекого прошлого». «Как священник, отец, конечно, знал свой приход как пять пальцев, особенно горе и бедность своей паствы. В нашем доме, как в центре, сосредоточивались все беды, напасти и страдания, с какими Горький А.М. Чужие люди. Очерк. Т. 15. С. 178. Там же. С. 182. 3 Там же. С. 192. 4 Горький А.М. Н.А. Бугров. Очерк. Т. 15. С. 217. 5 Горький А.М. Знахарка. Т. 15. С. 203. 1 2 33 приходится иметь постоянно дело истинному пастырю. Эти постоянные разговоры о страданиях придавали общему складу нашей жизни немного печальный характер, а наша скромная обстановка казалась какой-то роскошью. Да, там, за стенами нашего дома, были и голодные сироты, и больные, и обиженные, и пьяные, и глубоко несчастные… Мысль о них отравляла то относительное довольство, каким пользовалась наша семья»1. Мамин-художник безупречен в своем ощущении той грани, которая отделяет истинное сострадание от унижающей человека жалости. В этом смысле он близок к тем могутным обозным ямщикам, которые с «необидной мужицкой жалостью» относятся к бурсакам, оказавшимся одинокими в большом губернском городе (рассказ «Старая реформа», 1902). В 1890-е годы в духе истинного милосердия пишутся рассказы «Зимовье на Студеной», «Господин Скороходов» и «Аннушка», почти не известная читателю со времен полного собрания сочинений Мамина в издательстве А.Ф. Маркса (1915–1917 гг.), и другие. Трагедийные по содержанию, разные по творческому материалу рассказы объединяет «гуманизм сострадания» – будь это хрестоматийное «Зимовье на Студеной», которое, однако, воспринимается по-разному: на уровне детского прочтения – как рассказ о «верном друге», отчего весь рассказ завершается для детей со смертью Музгарки; в то же время взрослый читатель услышит в горестной истории Елески Шишмаря общечеловеческую трагедию старости и одиночества. «Изящный», по отзывам критиков, рассказ «Аннушка» отличается особой мягкостью тона и деликатностью самой героини. Беззащитная Авдотья Семеновна без ропота несет свою незавидную судьбу. Ей достает рассудительности, чтобы не принять завидное на первый взгляд предложение швейцара Андрея Ивановича. «Она долго стояла у ворот, провожая его глазами. Ей и жаль было его, и обидно, что все так вышло. Прожила бы и она за таким мужем не хуже других… Посовестилась она чужой век заесть: теперь одно говорит, а одумается, так и другое найдет. Девичью вину мужья-то не умеют забывать… А главное, девочку жаль: теперь у нее хоть мать есть, а тогда хуже чужой будет. Братья да сестры потом выкорят нехорошим словом… 1 34 Мамин-Сибиряк Д.Н. Из далекого прошлого. Свердловск, 1951. С. 18. Смахнула Авдотья Семеновна дешевую бабью слезу и ушла в свою избушку»1. Неоднозначен у Мамина образ кормилицы в богатом доме. Оскорбителен шутовской маскарад, когда молодую женщину обряжают в «мамошный» сарафан, надевают кокошник и стеклянные бусы, вывозят на прогулку в коляске; забывается, что за каждой такой «кормилкой» стоит тень брошенного на произвол судьбы ребенка (по рассказам из цикла «Детские тени», 1894). Что это? Досадное «мелкотемье» или одна из социальных проблем большого города, подмеченная Маминым-Сибиряком? Биографический опыт Горького был другим. В повести «Мои университеты» (1923), вспоминая казанский период своей жизни, Горький формулирует один из главных уроков, которые давала ему жизнь. «Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни – тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде»2. «Волевое упрямство» как принцип личного поведения сближает молодого Горького с идеями популярного в России философа Фридриха Ницше и в какой-то мере приглушает способность к состраданию. В 1906 году А.В. Луначарский писал: «В критической литературе уже указывали, что как горьковская жестокость, его крепкое и свежее, как горный воздух, правдолюбие, так и та проповедь утешительной лжи, в которую он ударился в своем “дне”, – имеет своим прототипом (вряд ли источником) некоторые идеи жестокого философа с молотом – Фридриха Ницше. В самом деле, Ницше требовал от человека гордости, требовал от него мужества смотреть правде в глаза и искать правды, хотя бы она несла с собою и страдание. Преодолеть свой страх перед страданием, тот страх, который заставляет человека зажмуривать глаза, жаждать могучей и прочной культуры, основанной на граните истины, а не на хрупких подпорках измышлений, – вот в чем, по Ницше, должна заключаться гордость человека. И в этом мы с ним совершенно согласны. Но такое воззрение на задачи человека не1 2 Мамин-Сибиряк Д.Н. Аннушка // Полн. собр. соч. Т. 3. Пг., 1915. С. 326. Горький А.М. Мои университеты Т. 13. С. 516. 35 минуемо приводит к презрительной жестокости по отношению к тем коротконогим и малодушным людям, которые, не надеясь на свои силы и ужасаясь открывающихся перед ними бесконечных и темных перспектив, готовых, как они думают, поглотить их, – кутаются в ветхие лохмотья утешительной лжи или в непрочную паутину новых самообманов»1. На правах современника Луначарский свидетельствует: даже представители передовой интеллигенции «были шокированы одной чертой мещан, сказывающейся особенно в характерах Тетерева и Нила, – холодной жестокостью к слабым и стонущим. Против Нила положительно протестовали, находя его недостаточно деликатным и мягким»2. Наблюдения Луначарского за отдельными исключениями подтверждаются контрастными сопоставлениями Сокола и Ужа, гордого Буревестника и глупого Пингвина, пролетарского интеллигента Нила, уверенного в своем праве на жизнь, и «бесполезного» мещанина Бессеменова. Однако, казалось бы, абсолютная «жестокость Горького» ставится под сомнение неоднозначным образом Луки (пьеса «На дне»), в котором есть и ложное утешительство, и уклончивость, и вместе с тем доброта и неподдельное сострадание к умирающей Анне. Неслучайно позднее Горький заметит, что «из утешений хитрого Луки Сатин сделает свой вывод о ценности каждого человека»3. Как всякий большой художник, Горький неоднозначен и динамичен. Во втором десятилетии XX века писатель, как говорится, тот, да не тот. Накладывают свой отпечаток изменившиеся условия российской действительности, длительное пребывание за границей (1908–1917), упорное самообразование. В рассказах, объединенных в цикл «По Руси», исчезают, с одной стороны, лозунговая стилистика («Хозяин жизни тот, кто трудится!»; «Человек выше жалости»; «Все в человеке, все для человека!» и т. п.), с другой – контрастные противопоставления. При всем том Горький – все тот же гуманист и неисправимый романтик, склонный к идеализации окружающих, хотя Луначарский А.В. «Дачники» // Отклики жизни. СПб, 1906. С. 4–5. Там же. С. 3. 3 Горький А.М. Письмо курским красноармейцам. Т. 14. 1953. С. 358. 1 2 36 нередко жизнь грубо срывает с его души «светлые покровы юношеского романтизма. Знаю, что в этих мелких брызгах грязи немало смешного, но я и по сей день люблю одеть человека более празднично, чем он одет!»1 – признает он. В рассказах 1910–1917 годов Горький аналитичен, внимателен и снисходителен к русскому человеку. Напомним известное: «Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении перед красотою! Ну, да – порой бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью и тоска жадно сосет кровь сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а – не удались людишки… Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше – переделать заново»2. В цикле «По Руси» находится место для уроков Мамина-Сибиряка. Без особенного труда улавливается типологическая близость рассказа «Страсти-Мордасти» к рассказу Мамина «Господин Скороходов» (1894)3. Правда, Горький беспощаднее в бытовых деталях, сопутствующих существованию обезножевшего мальчика в нищенском подвале, особенно в изображении Ленькиной матери, однако столь же глубок в чисто человеческом сострадании. Жизненную безысходность судьбы Леньки в полной мере осознает Проходящий, в котором, по законам автобиографической прозы, сходятся ранний и зрелый Горький. «Я вышел во двор и в раздумье остановился – из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова: Придут Страсти-Мордасти, Приведут с собой Напасти, Приведут они Напасти. Изорвут сердце на части! Горький А.М. Герой. Рассказ. Т. 11. С. 315. Горький А.М. Рождение человека. Рассказ. Т. 11. С. 315. 3 Подмечено Е.Н. Евстафьевой. Комментарии // Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1999. С. 413. 1 2 37 Ой беда, ой беда! Куда спрячемся, куда? Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь»1. Тезис о «борьбе Горького с гуманизмом сострадания в искусстве прошлого», обошедший все «Истории русской советской литературы», утрачивает свою аксиоматичность перед содержанием самого текста. Трудно сказать, чей рассказ трагичнее, хотя у Мамина трагическая ирония содержится уже в прозвище «Господин Скороходов», которым здоровые дети награждают больного ребенка. Сын рано умершего типографского рабочего и петербургской швейки для Мамина – жертва социальных условий и вместе с тем – дитя столичных дворов-колодцев, где не растет ни единого деревца, ни единого кустика. Сапожника Гаврилыча поражает необыкновенный ум ребенка, и он приходит в квартиру Скороходовых почти каждый вечер. Вместе с безногим мальчиком он «переплывал через море-окиян, путешествовал в тропических лесах, сгорал от жажды в Сахаре, замерзал в полярных льдах при освещении северным сиянием, спускался в глубины земных недр, поднимался на воздушном шаре, сражался при Фермопилах, защищал свободную Грецию от персидских полчищ, открывал Америку вместе с Колумбом, изобретал паровую машину и даже заглядывал в то далекое будущее, когда пароходы, железные дороги и телеграфы покажутся жалкими игрушками. Слабая детская рука вела этого большого и сильного человека от одного чуда к другому, из одной страны в другую, и Гаврилыч чувствовал только одно, что самое главное чудо – вот этот больной ребенок с его девичьим голосом и печальными глазами. Старый солдат привязался к нему всей душой и был счастлив, когда это детское личико озарялось улыбкой»1. Так проходит «ненастоящая» петербургская зима, а первый выезд Господина Скороходова за пределы каменного города, на настоящую природу, стоил ему жизни. Мамин-Сибиряк вместе с Чеховым, Буниным, Куприным, Короленко удерживают тот высокий уровень реализма, который был 1 2 38 Горький А.М. Страсти-Мордасти. Рассказ // Т. 11. С. 384. Мамин-Сибиряк Д.Н. Господин Скороходов. Рассказ // Т. 1. С. 281. достигнут русской литературой к концу XIX – началу XX века. Что касается Горького, то он оказывается великодушнее тех своих исследователей, которые озабочены в первую очередь проведением резкой разграничительной черты между представителями исторически сменяющих друг друга литературных направлений. Авторы очерка «Певец Урала» рассказывают о встречах в Ялте в 1900 году писателей Чехова, Горького, Мамина, Телешова и Бунина, чтобы прийти к обоснованному выводу: «Встречи в Ялте приобрели в известной степени символическое значение альянса нескольких поколений. О них остались воспоминания, существенно важные для истории нашей литературы»1. 2010 1 Удинцев Б.Д., Боголюбов К.В. Певец Урала. Свердловск, 1969. С. 93. 39 Певцы Урала (Д.Н. Мамин-Сибиряк — П.П. Бажов) Чем больше занимаешься творчеством Бажова, тем сильнее убеждаешься, насколько глубокой была связь автора знаменитых сказов с его родным краем. Будучи человеком своего времени, он жил настоящим и прошлым Урала, его историей и культурой, держал в памяти сотни конкретных лиц и фактов. Слушателей, собравшихся на первую научную конференцию по истории Екатеринбурга – Свердловска (12 апреля 1947 г.), поражало, с какой свободой и знанием дела Бажов называл имена строителей Каменского и Невьянского заводов и имена мастеровых, выпустивших в самом начале XVIII века первое уральское железо. Для многих в этом докладе впервые прозвучало имя демидовского плотинного мастера Левонтия Злобина, спроектировавшего обе плотины в нашем городе: верх-исетскую и екатеринбургскую. Причем Бажов убежден, что «такое строительство на сравнительно большой реке было для того времени сооружением выдающимся, и мастер, который все это рассчитал и осуществил, должен быть поставлен в ряду не ниже Геннина и Татищева»1. Сегодня особенно ценны «голоса из прошлого», в особенности если они принадлежат людям, которые постоянно общались с Бажовым. Вот как писали о нем товарищи по литературному труду — прозаик Иосиф Ликстанов и очеркист Юрий Хазанович: «Как никто, любил он и знал Урал. Если бы по какой-либо случайности исчезли все уральские словари, все краеведческие записи, мы смогли бы восстановить большую часть потерянного, обратившись к богатой памяти 1 Выступление на Первой научной конференции по истории Екатеринбурга–Свердловска // Бажов П.П. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск, 1955. С. 72. 40 Бажова. Он знает все — где и что добывают люди, знает тайны многих ремесел, знает судьбы многих людей и городов, по одному словечку может разгадать, откуда родом его собеседник. И с кем бы он ни повстречался, — с человеком любого мастерства, — находит он общий язык, в каждом ремесле живо чувствует поэзию творчества»1. Неотъемлемой частью сравнительно недавней, но богатой истории Урала было для него творчество Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. «Я изучал Урал его времени по Мамину», — отвечал Бажов на вопрос критика М. Батина об отношении к Мамину-Сибиряку. Да только ли изучал? Создается впечатление, что Мамин был постоянным спутником, почти собеседником Бажова на протяжении всей жизни. Он учился у него, продолжал начатое, с чем-то не соглашался, а в случае необходимости защищал от неумелой и тенденциозной критики. Связи Бажова с Маминым многообразны и постоянны. Примем сопоставление не для того, чтобы показать неизбежность различий между художниками, жившими в разное время и в разных общественных условиях, но для того, чтобы лучше узнать того и другого. Разу­ меется, не во всем объеме их творчества, но в тех областях, где они ближе всего друг к другу: в произведениях для детей и в исторической теме, в частности, в изображении дубинщины и пугачевщины. Для самых маленьких В декабре 1912 года учитель словесности Павел Бажов читает свой доклад на литературном вечере, посвященном памяти недавно скончавшегося уральского писателя. Это происходило в Екатеринбургском епархиальном женском училище, а в мае 1913 года доклад (статья) под названием «Д.Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей» был опубликован в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях». Так состоялось первое печатное выступление Бажова. Статья не была достаточно строго организована, она фрагментарна и содержит размышления о некоторых общих вопросах детской литературы. Ликстанов И.И., Хазанович Ю.Я. П.П. Бажов: Кандидат в депутаты // Уральский рабочий. 1946. 18 янв. 1 41 Почти все они интересны в перспективе последующего творческого развития Бажова. Педагога-словесника из епархиального училища интересуют вопросы, которые и в наши дни ставят перед собой авторы произведений для детей: каким должно быть соотношение между светлыми и темными сторонами жизни в литературе, адресованной читателю-ребенку? Допустимы ли здесь мрачные краски? Не натолкнут ли они «юную душу на безотрадные мысли»? Автор статьи убежден, что все решает талант и присущее писателю чувство меры и что необходимым эстетическим чутьем в высшей степени был наделен Мамин-Сибиряк. Поэтому, какие бы темные стороны жизни ни воспроизводил Мамин (рассказы «Вертел», «Кормилец»), в его произведениях «всегда чуется яркое солнце, вольная ширь, радость бытия, вера в человека и его будущее». В «Аленушкиных сказках» Бажов подмечает «очаровательную простоту», «редкую изобразительность», «богатейший лексикон народного языка, полный метких слов», наконец, — «удивительно легкий блестящий диалог»1. Четверть века спустя литературные уроки Мамина без каких-либо следов литературного ученичества отзовутся в бажовских сказах «детского тона»: «Серебряном копытце», «Огневушке-Поскакушке» и примыкающем к ним «Синюшкином колодце». Произведения, имитирующие по форме повествования непринужденный устный рассказ и допускающие элементы фантастики, сохраняют ту же диалектику темных и светлых сторон и так же несут в себе ощущение простора и полноты жизни. Возможно, Мамин подсказал автору детских сказов трогательный союз детства и старости, обозначающий единство начала и конца человеческой жизни. Напомним содержание одного из самых поэтичных произведений Мамина — рассказа «Емеля-охотник»: заболевший Гришутка просит деда «добыть» в лесу олененка — обязательно, чтоб «желтенького». Долго бродят старик и его собака в поисках матки с теленком, а когда наконец встречают, залюбовался старый охотник красотой дикого зверя и поразился благородной самоотверженности матери. Не удалась Емеле 1 Бажов П.П. Д.Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей. Публикация // Урал. 1987. № 12. С. 171. 42 охота. «Матку пожалел, — оправдывается он перед Гришуткой. — Как свистну, так он, теленок-то, как стреканет в чащу, только его и видел. Убежал, пострел». Оказалось, однако, что и Гришутка доволен случившимся. Засыпая под дедов рассказ, «он несколько раз спрашивал старика: — Так он убежал, теленок-то? — Убежал, Гришутка. — Желтенький? — Весь желтенький, только мордочка черная да копытца. — Мальчик так и уснул, и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне». Рассказ настолько поэтичен, что его огрубили бы любые литературоведческие рассуждения о просветляющем воздействии природы на человеческую душу, о том, что чувство это передается от поколения к поколению, о философско-пантеистической концепции Мамина и т.п. Тут ни убавить, ни прибавить — лучше всего оставаться на уровне эмоционального восприятия. В некоторых пояснениях нуждается, пожалуй, мотив сиротства, развитый Бажовым вслед за Маминым. Причем у того и другого отсутствует широко распространенный в начале прошлого столетия сентиментальный привкус, присущий «святочным рассказам». Ничего святочно-сентиментального нет в образах охотников Емели и Коковани, старателя дедки Ефима и бабки Лукерьи. Эти «добрые люди» из глухой деревушки или уральского заводского поселка понастоящему заботятся об осиротевших детях, передают им свой опыт. В относительно благополучных судьбах «сироток» есть нечто от сказочного вознаграждения за трудолюбие и доброту. Но это лишь фольклорный отблеск. Судьба Гришутки, оставшегося без отца и без матери, реалистически прорисована, подобно судьбе Даренки, Федюньки и «возрастного парня» Ильи, который вовсе бобылем остался: «всю родню схоронил». Бажов верит в нравственное здоровье народа, когда на каждого «сиротку» находит своего «доброго человека». Вероятно, поэтому он избегает впечатляющих картин «детской каторги», которым не доверяет даже в рассказах Чехова. Бажов убедителен в своих эпизодах «встречи с прекрасным» — с козликом Серебряное копытце, с веселой плясуньей ОгневушкойПоскакушкой, с молоденькой девчонкой в синем платьице и синих бареточках. Бажов достигает впечатления той же абсолютной про- 43 стоты, которая восхищала его в «Аленушкиных сказках». Он хорошо знает, что дети любят движение, развитие самого действия, а потому в этой группе сказов сознательно избегает «отходов в сторону», то есть побочных эпизодов и описаний. Стремительный ход событий с тройным повторением главного мотива завершается яркой кульминацией с элементами фантастики. Развязка во всех сказах сопровождается вознаграждением. Однако, в отличие от сказочного финала, размеры обретенного богатства невелики и во всем соответствуют реальным потребностям жителя уральского заводского поселка: корову или лошадь завести, «избушечку справную» поставить, а то и просто «пожить годков пяток безбедно», пока Даренка или Федюнька «в полную силу не взойдут». Поэтика бажовских сказов «детского тона» отлична от поэтики детских рассказов и «Аленушкиных сказок» Мамина, однако произведениям для детей в творчестве того и другого автора суждена завидная «долговекость». Летописцы родного края Между Маминым и Бажовым было больше общего, чем принято думать. Оба входили в круг немногочисленной в конце XIX – начале ХХ века разночинно-демократической интеллигенции на Урале. Один был сыном священника из поселка Висим, другой родился в семье квалифицированного фабричного рабочего в Сысерти. Оба учились в одних и тех же образовательных учреждениях: в Екатеринбургском духовном училище и в Пермской духовной семинарии. Наконец, оба поднялись в лучших своих произведениях к вершинам русского словесного искусства. Многое сближало, но одновременно и разделяло Мамина-Сибиряка и Бажова в художественной интерпретации истории Урала. Оба с величайшим уважением относились к «первонасельникам» края — манси, марийцам, башкирам, обитавшим на Среднем и Южном Урале с древнейших времен, задолго до появления русских. История, быт и фольклор башкир и сибирских татар — потомков хана Кучума дали Мамину материал для рассказов «Ак-Бозат» и «Клад Кучума». 44 Бажов проявляет завидную эрудицию, когда рассказывает о «чуди» (манси, марийцах) в очерке 1925 года «Старинные жители Урала» и в середине 30-х в первом из своих сказов — «Дорогое имячко». Красочные эпические сказания башкир о богатырях и красавицах составили основу чудесного бажовского сказа о всепобеждающей силе любви — «Золотой Волос». Мамин-Сибиряк и Бажов умело и тактично используют лексические тюркизмы для передачи неповторимого местного колорита. Певцы Урала, они обращались к одним и тем же «судьбоносным» событиям в истории края: это сибирский поход под предводительством отважного атамана Ермака, строительство и развитие Екатеринбурга, массовые народные волнения во второй половине XVIII века, введение крестьянской реформы на уральских заводах. Обо всем не расскажешь, а потому возьмем лишь те направления, в которых творческая личность того и другого художника запечатлелась с особой отчетливостью. Не исключено, что в работе над сказом «Ермаковы лебеди» Бажов мог обратиться к очерку Мамина-Сибиряка «Покорение Сибири». Разумеется, как к одному из источников наряду с фольклорными произведениями, урало-сибирскими летописями и собственно историческими трудами, вплоть до «Истории государства Российского» Н. Карамзина. Чем же близок Бажову Мамин? Скорее всего, тем, что автор очерка «Покорение Сибири» видел в историческом Ермаке личность эпическую: «Народ не забыл своих любимых богатырей… он соединил всех этих неутомимых бойцов (в былинах они часто называются казаками) в одну семью, и последним членом этой богатырской семьи является Ермак Тимофеевич». Подобно Мамину, Бажов использует былинную стилистику в обрисовке Ермака-атамана. Расходятся же они по вопросу о происхождении Ермака. Принимая уральскую версию, Мамин не испытывает сомнений: «Ермак родился и вырос на Урале в вотчинах Аники Строганова. Это произошло таким образом: дед Ермака был посадский человек из города Суздаля; его звали Афанасием Григорьевым, по прозвищу Алениным…» Мамин не задерживается долее на происхождении атамана — его привлекают события самого похода и полководческий талант его предводителя. А сказ «Ермаковы лебеди» строится 45 как своего рода дискуссия о донском или уральском происхождении Ермака. Бажовский рассказчик, надо полагать из чувства «местного патриотизма», очень хотел бы видеть покорителя хана Кучума своим земляком. Однако сказовое слово — это двойное слово и само по себе еще не дает оснований для уподобления позиции рассказчика точке зрения самого автора. Бажов оставляет вопрос открытым, будучи осведомленным в длительном и неразрешимом споре историков о родословии отважного атамана. Не все знают, что публикация сказа «Ермаковы лебеди», кстати, высоко оцененного историками, имела для Бажова некоторые последствия. Дочь писателя А.П. Бажова-Гайдар, сообщает о предложении, полученном Павлом Петровичем от редакторов Большой Советской Энциклопедии — изложить свою версию об уральском происхождении Ермака. «Помню, отец был польщен и взволнован. Несколько наших семейных вечеров были посвящены обсуждению вопроса о происхождении Ермака… Однако отец отказался, написал вежливое письмо: польщен… не считаю вправе… это лишь досужие предположения»1. Бажов постоянно заботился о сохранении памяти Мамина-Сибиряка, а также об издании его произведений. По его инициативе в Свердловском отделении Гослестехиздата в 1934 году выходят четыре книжки Мамина-Сибиряка: очерк «Бойцы» (под редакцией и с предисловием свердловского журналиста Петра Велина), романы «Три конца», «Горное гнездо» и повесть «Охонины брови». Последние три редактирует сам Бажов, а роман «Три конца» сопровождает обстоятельным лингвистическим комментарием. Бажов радуется, когда выходит первое на Урале собрание сочинений Мамина-Сибиряка (в 5 томах; под редакцией А. Ладейщикова; Свердловск, 1935–1936), а в 1949–1950 годах появляется 12-томное собрание сочинений Мамина под редакцией пермского профессора Е.А. Боголюбова. Разрозненные тома из первого и второго свердловских изданий Мамина и другие его книги хранятся в личной библиотеке Бажова. Случалось, однако, что Бажов бывал несправедлив к Мамину-Сибиряку. Трудно согласиться с его категоричностью в том, что Мамин 1 46 Бажова-Гайдар А.П. Глазами дочери. М., 1978. С. 131. «плохо знал рабочего человека». Вот как это зафиксировано в воспоминаниях писателя и критика Константина Боголюбова: Бажов любил Мамина-Сибиряка «за то, что он нарисовал правдивую картину пореформенного Урала, за его искренний демократизм, за его чуткость к общественным проблемам. Однако неизменно добавлял: — А рабочего-то он знал плохо. И вот здесь он обычно приводил в качестве наиболее яркого примера творчество А.П. Бондина»1. Эти же слова Бажов повторяет в беседах с М. Батиным и в своем выступлении на Первой научной конференции по истории Екатеринбурга – Свердловска (1947), где упрекает Мамина и вместе с ним уральских историков Н. Попова и Н. Чупина в «одностороннем освещении» истории Екатеринбурга и всего горного дела на Урале. Как это все объяснить? По какой логике возникает фигура писателя из рабочей среды, противостоящая Мамину? При всем уважении к творчеству писателя-рабочего А.П. Бондина эти художники несопоставимы. Не сказалась ли в несправедливых упреках к Мамину и историкам прошлого особенная приверженность автора «Малахитовой шкатулки» к одному из основных советских идеологических положений? Речь идет о манипуляциях вокруг такого понятия, как народ: лишь те люди, которые занимаются физическим трудом, являются народом, то есть создателями всех, не только материальных, но и духовных ценностей. Скорее всего, предпочтение, оказываемое Бондину, продиктовано главным большевистским мифом. Легко понять увлеченность Бажова, когда он напоминает слушателям о выдающемся плотинном мастере Левонтии Злобине, о горщике Даниле Звереве и старателе Ерофее Маркове, когда пишет о сталеплавильщике Швецове и скульпторе-самоучке Василии Торокине, но есть ли в том основание, чтобы несколько потеснить высокообразованную русскую техническую интеллигенцию в лице таких ее представителей, как П.М. Карпинский и П.П. Аносов? Можно отыскать факты, свидетельствующие о том, как высоко ставил Бажов этих людей, но в сказах «Чугунная бабушка» и «Коренная тайность» они все-таки потесняются. Как потесняются, впрочем, фигуры «генералов-строителей» 1 Боголюбов К.В. Наш Бажов // Южный Урал. 1951. № 5. С. 64. 47 Вильгельма Геннина и Василия Татищева, о которых с нескрываемой иронией Бажов отзывается в том же выступлении, прозвучавшем на конференции по истории Екатеринбурга–Свердловска: «Тот и другой склонны были своим “я”, своими приказами, инструкциями и распоряжениями затемнять все остальное. У того и другого одинаково нельзя найти сведений о тех рабочих и мастерах, которые внесли свой вклад в заводское дело на Урале». Здесь Бажов типичен в своих крайностях, характерных для эпохи 1940-х годов. Бажов испытывал на себе воздействие также некоторых других советских идеологических мифов, в том числе представления о Пугачеве как о далеком провозвестнике Октябрьской Социалистической революции. Разумеется, не он был автором этой идеи, но он верил ей, поддерживал ее и образно воплотил в знаменательной концовке своего заглавного сказа — «Дорогое имячко». Пожалуй, здесь-то и кроется то самое сложное, чего мы как-то не договариваем в наших сегодняшних размышлениях о Бажове, боимся, что ли, признать, что, как всякий большой художник, Бажов был сложен, неоднозначен и противоречив. По-видимому, таким он был в любую пору своего творчества: в 20-е, 30-е, а не только в 40-е годы. Но ведь этим-то он и интересен ничуть не менее, чем любое его произведение. Столь же загадочен, как Александр Твардовский, публикующий на рубеже 1950–1960-х годов прокоммунистическую поэму «За далью — даль» — и, по всей видимости, в это же время обдумывающий исповедально покаянные стихи из поэмы «По праву памяти». Бажов сложен, но это всегда один и тот же Бажов. Другого не дано: прирожденный демократ-просветитель и советский писатель, разделяющий принципы партийности и классовости. В одном и том же 1939 году пишется асоциальный сказ о любви «Золотой Волос» и сказ «Кошачьи уши», выдержанный в духе большевистской догматики; Бажов восхищается свободой и раскованностью Мамина-художника и обдумывает план историко-революционной повести о сподвижнике Пугачева — крепостном интеллигенте Андрее Плотникове. Бажов уступает Мамину в изображении пугачевского движения в силу своей вынужденной приверженности к ряду официальных догм, хотя в самом восприятии Пугачева между ними есть нечто общее. Тот и другой принимают не «исторического», а «фольклорного» Пу- 48 гачева, то есть образ, опоэтизированный народным сознанием. Ни в бажовских сказах, ни в повести «Охонины брови» нет прямого изображения Пугачева — есть некий могущественный «освободитель», «заступник», «батюшка Омельян Иваныч», «великий государь Петр Федорович». В русской литературе, может быть, только Пушкину довелось совместить в одном лице «народного» Пугачева и того кровавого бунтаря, о котором писали старые историки. Не случайно Бажов называл непревзойденным образ Пугачева, созданный на страницах «Капитанской дочки». Насколько же убедительно явление «фольклорного» Пугачева в сказе Бажова и в повести Мамина? Ответ, как нам представляется, однозначен: обобщенный образ, он же знак социального освобождения, задан у Бажова и логичен у Мамина. Народно-утопическая легенда об «избавителе», смыкаясь с коммунистическим мифом об одном из первых русских революционеров, разумеется, поддерживала этот миф, сообщая ему качества глубокой «народности», но вместе с тем до крайности упрощала картины прошлого. В самом деле, в сказе «Кошачьи уши» вроде бы та же Полевая в пору «старого барина» (первого Турчанинова) и в то же время совсем другая, социально особенно напряженная. Те же самые рудокопы, камнерезы, старатели, однако они перестают страдать от неразрешимого противоречия между чувством любви и долга, не устремляются к вершинам искусства, не отстаивают доступными им средствами свое человеческое достоинство перед лицом золота, денег, богатства. Теперь они испытывают жгучую ненависть к сбежавшему барину и приказчику, наконец, многие из них добровольно избирают непрерывную классовую борьбу в качестве постоянного образа жизни: после того как восстание на заводе подавлено, значительная часть молодых рабочих уходит «в леса». Слыхали полевчане, что поздней осенью сысертские мужики на щелкунской дороге «канавы глубоченные копают да рвы насыпают», но, очевидно, не придали этому никакого значения. А между тем как раз эти «рвы» и «канавы» не позволили пугачевской коннице продвинуться по челябинскому тракту дальше Щелкуна: восставшие были остановлены зимой 1773/74 годов силами рабочих екатеринбургских и сысертских заводов еще до подхода регулярного правительственного войска. 49 Сочувствие пугачевскому восстанию обеспечено образом отважной «птахи-Дуняхи». Да это и впрямь отважная девушка: в одиночку проходит она 40 верст (!) по предзимнему лесу от Сысерти до Полевой. Не мудрено, что «заплуталась маленько» да и припозднилась. А тут – волки неотступно следом идут. Топор в руках надежен, да что одна-то сделаешь? «Видит Дуняха – плохо дело… Бежать – сразу налетят, в клочья разорвут, на сосну залезть – все едино дождутся, пока не свалишься». Выручают бездымные языки пламени, похожие на кошачьи уши. Тут уж ни Дуняхе, ни читателю некогда разбирать: сернистый ли это газ, который в такой форме держится над рудными месторождениями, или огромная кошка «под землей ходит». Побежала Дуняха на эти огни, а волки-то и поотстали. Так и добежала до Чусовой. А дальше все идет по соцреалистическому сценарию: Дуняха, которая приносит вести о Пугачеве, поднимает восстание в своем заводе; восстание подавлено, а несмирившаяся молодежь продолжает борьбу. С молодыми бунтарями и «птаха-Дуняха» в леса «улетела». Бажова не смущает даже удручающий эпизод «про Дуняхину плетку», появившийся в момент подготовки третьего издания книги «Малахитовая шкатулка» (Свердловск, 1944): «После того, как Омельяна Иваныча бары сбили и казнить увезли», объявилась Дуняха «в здешних местах» на быстроногом коньке да с «башкирской камчой» в руках. «Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет ее… Глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь руднишного начальника уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может. Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно». Кстати сказать, герои повести «Охонины брови» да и сам Мамин ужасаются, когда встречаются с аналогичными проявлениями беспощадного русского бунта. Бажов отличал «Охонины брови» (1892) от других произведений Мамина; восхищался романтической стилистикой повести, считал, что она «так и просится на театральный язык, на язык оперы» (из воспоминаний И.А. Дергачева). Несмотря на «композиционную незаконченность, несмотря на неясность и незаконченность образов 50 Белоуса и Охони, это сильно действующее произведение. Оно помогает нам восстановить для читателя сегодняшнего дня один из ярких кусков жизни прошлого», — говорил Бажов на Первой научной конференции, посвященной Д.Н. Мамину-Сибиряку, в феврале 1941 года. Автор знаменитых сказов не был литературоведом и не слишком жаловал людей этой профессии. Он не объяснял, что же имеет в виду под «кусками жизни», однако по отношению к Мамину употреблял эти слова особенно часто. А что же Мамин? Как будто он и не озабочен никаким «социальным анализом». Не выясняет причин громадного крестьянского восстания, обозначенного словом «дубинщина» и потрясавшего целый Исетский край (район нынешнего Шадринска) ровно за десять лет до пугачевщины. У Мамина нет анализа «сильных и слабых сторон» народных движений прошлого, он не вскрывает «идейную незрелость и противоречивость» вожаков крестьянского восстания – всего того, чего не обошел бы своим вниманием советский писатель. Мамин говорит о самой дубинщине и последующей пугачевщине как-то между строк, почти мимоходом. Ему важно, что «союзные брови» смелой степной красавицы Охони в самое сердце поразили «беломестного» казака Белоуса, сидящего вместе с тремя другими узниками в «нижней клети усторожской судной избы». Оказывается, усторожский (шадринский) воевода творит «нещадный суд» над крестьянами и казаками, замешанными в одном деле. А дело было «совсем не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины». Пока этого достаточно – остальное столь же кратко доскажется позднее. Мамину опять-таки важно, что Охонины брови поразили не одного Белоуса. Потерял покой воевода Полуэкт Степаныч с той самой поры, как увидел у окошечка судной избы «отецкую дочь» Охоню. Да ведь не просто потерял покой, а совсем сдурел воевода Чушкин. Нейдет Охоня из головы. Прибил ни за что свою растолстевшую воеводшу, а делу не помогло. Одно остается: ехать к игумену Моисею на покаяние в Прокопьевский (Далматовский) монастырь. Наложил игумен строжайшую епитимью. Подметает воевода Чушкин обширный монастырский двор, себе на позор стоит у въездных ворот, а кончилось все же тем, что выкрал воевода 51 Охоню из Дивьей обители и заперся с нею в своем воеводском доме. Да и с Охоней что-то случилось: позабыла она «молодецкие глаза» Белоуса, польстилась на наряды да на сладкое житье. Комедийный вариант «страстей человеческих» тянет за собой значительную часть событий пугачевщины. Напуганный бунтовщиками «лютый» игумен Моисей бежит из осажденного монастыря и «ухраняется» в воеводском доме. А похотливый старик, униженно выпрашивающий любви Охони, теперь предает ее под давлением игумена Моисея. Логика характеров безупречно выдерживается Маминым, включая трагикомический финал воеводы Чушкина: когда уже пронеслась над Исетским краем социальная гроза, когда погибла Охоня от руки Белоуса, «под Усторожьем появилась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус <…> Воевода вострепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуэкта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуэкта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой…» Не теряя из виду социальной обусловленности, Мамин неотрывно следует за характерами и судьбами своих персонажей. Самый яркий «маминский тип» (термин Бажова) – это дьячок Арефа. Может показаться, что подобный образ уже был, что чем-то напоминает он «очарованного странника» у Лескова. Спору нет, литературные типы из одной и той же социальной среды всегда чем-то похожи друг на друга, но этот дьячок чисто маминский: с виду-то прост, а на самом деле куда как не прост. Он бывает смешон со своей тонкой шеей и тоненькими желтыми косичками, в синем подряснике из домашнего холста; наивен и трогателен в своей твердой вере в заступничество «преподобного Прокопия». Кто знает, может, этот «случайный» бунтарь несет в себе какую-то память о тех священниках Маминых, которые в конце XVIII столетия в тех же самых местах оказались причастными к пугачевскому восстанию. 52 А пока дьячок Арефа помогает писателю завязывать и развязывать самые важные сюжетные линии. «Зазнамый волхит», он умеет и кровь заговаривать, и травы всякие знает, и с порчеными людьми отваживается. Уж не он ли своими советами подтолкнул стареющего воеводу к Охоне? Сгорбленный и худой Арефа год просидел в усторожской тюрьме, а силы не потерял. Казался бессильным и жалким, а «в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одной рукой семь пудов». И уж совсем не подозревает Арефа, что как раз он вводит в текст события пугачевщины. Вызволенный Охоней из тюрьмы, Арефа бежит на Баламутский (Каменский) завод к Гарусову, а попадает, как говорится, из огня да в полымя. Гарусов угостил его для начала «шелепами» (плетьми), а после поставил на «огненную» работу, где Арефа, однако, скоро освоился. Двое подмастерьев показали ему, «как сажать двухпудовую крицу в печь, как накаливать ее добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту». Только вот «раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпалась искра и вообще доставалось трудно». Даже Медная гора не показалась дьячку каторжной, хотя это совсем не та гора, где распоряжается справедливая Хозяйка и наказывает свирепого приказчика. «Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться», — размышляет Арефа. – Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтари. — Последнее наше дело. Живым отсюда не выпускают. – Вы-то не уйдете, а я уйду. – Не захваливайся. – От орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду…» И все же не выбраться бы Арефе из подземной каторги, если бы бунтовщики не захватили завод Гарусова. Пугачев как заступник и освободитель диктуется самим ходом событий. Сбываются надежды «шахтарей» на «батюшку», который вот-вот на выручку подойдет. Сбываются и угрозы в адрес заводчика, которые еще раньше дьячок услыхал от беглого мастерового, пожизненно прикованного к тюремной стене: «Погоди, отольются медведю коровьи слезы! Будет ему кровь нашу пить, по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика, да орда со степей подвалит, по камушку все заводы разнесут… 53 Тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам заводчина пристанет, и наши крестьяне… Огонь… дым…» Собственно, это и есть пугачевщина на Урале. Других картин от Мамина-художника не требуется. «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» опять-таки полнее всего раскрывается при участии дьячка Арефы. Орда действительно «подвалила» и дико бесчинствовала в русских деревнях. Взрослое население поголовно уничтожалось, в степь увозили лишь девочек-подростков. «Пленных было так много, что “орде” наскучило вешать и резать их отдельно, а потому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. “Орда” разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что головы у всех очутились по другую сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздиравшие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипенье. “Орда” выла от радости… Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он остался в живых благодаря своей тонкой шее». С той же беспощадной правдивостью рассказывает Мамин и о другой стороне дела. «Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще большие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть…» Мамин не решает, на чьей стороне правда. Ясно одно: бунтовать нельзя, но и не бунтовать тоже нельзя. Ни при каких обстоятельствах Мамин не забывает о своем дьячке. Хозяйственность Арефы подчас контрастирует с обстановкой. «– А кобыла? – восклицает дьячок, едва выбравшись за пределы завода Гарусова. – Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело – как я дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на 54 кобыле, а приду пехом…» Даже в плену он заботится о кобыле: «валялся в ногах у немилостивой “орды”, слезно плакал и, наконец, добился своего. – Ну, потом съедим твою кобылу, – в виде особенной милости согласился главный вожак, также лечившийся у Арефы». Из персонажей второго плана колоритен первопромышленник Гарусов. Жестокостью он превосходит даже «лютого» Моисея, но, в отличие от трусливого игумена, это на удивление крепкий человек. В «орде» он выдерживает «поджаривание», испытание ледяной водой и даже удушение, когда его на аркане волокут по степи. «Орда» так и не дозналась, что этот старик с потемневшим лицом и есть главный заводчик. В шубейке с чужого плеча, пригретый в доме воеводы, Гарусов ни с кем не ведет разговоров, а думает о своем деле. «Что-то там творится? Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Разорят вконец, ежели казачишки захватят все обзаведенье. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться...» Однако такой, как Гарусов, сумеет отстроиться заново в любых обстоятельствах. Тем более досадно, что психологических красок и страстей не хватило на Белоуса и Охоню. Бажов был прав, когда называл этих героев «неясными» и «незаконченными». Впрочем, та же участь постигла инока Гермогена, способного по логике сюжета достойно завершить традиционный треугольник. Оказывается, что он, молодой пономарь, принимает постриг из-за неудачной любви к Охоне. Он становится серьезным соперником Белоуса в воинском деле: пугачевский атаман осаждает Прокопьевкий монастырь, а инок Гермоген толково руководит его обороной. Ему, Гермогену, бросает Белоус отрезанную Охонину косу, а молодой монах любовно гладит, целует и бережно хоронит ее. Как бы то ни было, романтическая любовная «линия» остается в повести «Охонины брови» незавершенной, в отличие от «линии» социальной. В защиту художника Бажов внимательно следил за изучением творчества Мамина-Сибиряка. Что-то все-таки постоянно тревожило его и в народнической, 55 и в марксистской критике. Он не соглашался с мнением известного русского критика М. Неведомского, который видел в Мамине законченного пессимиста. Писатель, который так любил жизнь, детей, свои «милые зеленые горы», блестяще владел искусством комического, не заслуживал определения «неиспользованная сила», которым награждал его Неведомский. Бажов понимал, что труднее преодолеть другую опасность, грозящую со стороны современной критики: чрезмерное социологизирование Мамина, который, конечно же, будучи историком, социологом, бытописателем, прежде всего был художником. Еще раз сошлемся на воспоминания Константина Боголюбова о встрече с Бажовым в Свердловском издательстве в 1936 году: «Павел Петрович крепко тогда пожурил меня и Ладейщикова за неудачные статьи о МаминеСибиряке. ”Вы все на социологию напираете — народник или не народник. А ведь Мамин-то художник, да еще какой… Вот о художникето и надо говорить…” На вопрос, над чем вы работаете, отвечал: ”Над словом работаю… Работа у меня ювелирная…”»1 Суждения самого Бажова о критике, посвященной Мамину-Сибиряку, большей частью отрывочны и кратки; они резко ироничны, когда автор «Малахитовой шкатулки» встречается с изучением Мамина «как раз наоборот». Он высмеивает грубые литературоведческие заключения вроде: «Бойцы» и в скобках — «раскрестьянивание деревни», «Приваловские миллионы» и в скобках — «крах народнических иллюзий». Бажов не уставал повторять: Мамин — «яркий, талантливый художник, чувствовавший прекрасно жизнь, вбиравший ее в себя». Надо полагать, что Бажов указывал тем самым главное направление в изучении богатейшего творческого наследия одного из самых крупных русских писателей конца XIX – начала ХХ века. 2002 1 56 Боголюбов К.В. Наш Бажов. С. 55. «Малахитовая шкатулка» Бажова вчера и сегодня За свою долгую жизнь книга сказов Бажова испытала многое. Напомним, что родилась она в 1939 году и в дни праздновании 125-летия писателя могла бы отметить свое 65-летие. Была издана в Свердловске в составе четырнадцати сказов. В военном 1942-м переиздавалась в Москве с добавлением новых пяти сказов; в марте 1943-го отмечена Государственной (Сталинской) премией, а ее автор в 1944м, в связи с 65-летием и за заслуги в области советской литературы, был награжден орденом Ленина. Первый и единственный из числа уральских писателей. Прижизненное юбилейное издание «Малахитовой шкатулки» (1949) включает сорок три сказа. Исследователи творчества Бажова насчитали пятьдесят два, хотя при этом они присоединяют к ним произведения, написанные в несколько иных жанрах: рассказ в рассказе и очерк. Читатели тотчас же оценили систему сказовых образов — реалистических, фантастических и полуфантастических, а критики долго спорили: фольклор это или литература? Казалось невероятным, что традиционный русский сказ, зазвучавший совершенно по-новому, мог принадлежать автору, имя которого не выходило за пределы узкого круга свердловских литераторов и журналистов. Возникало предположение: уж не тот ли это фольклор, который на недавнем съезде писателей так возвеличил Горький? «Малахитовая шкатулка» казалась нерукотворным чудом, сокровищем, порожденным самой уральской землей, или же творением безымянного народного гения. Московский критик Виктор Перцов познакомился с рукописью «Малахитовой шкатулки» весной 1938 года, когда ездил по Уралу с лекциями по литературе. Потрясенный красотой сказов, но еще не встречавшийся с Бажовым, он помещает в «Литературной газете» 57 (1938, 10 мая) сокращенный вариант «Каменного цветка» и сопровождающую статью «Сказки старого Урала». Перцов согласен признать существование уральского Олимпа с главными божествами в образах Хозяйки Медной горы и Великого Полоза: «Поразительно прекрасны эти мифы уральских горнозаводских рабочих. Они овеяны суровым колоритом горной страны на границе между Европой и Азией, страны-шкатулки несметных рудных богатств». Об Урале до войны знали меньше, чем сегодня. Он казался экзотическим краем, где возможна собственная мифология. Такая мифология действительно существовала — только принадлежала она не русским переселенцам, появившимся на Урале в сравнительно позднее историческое время, но «первонасельникам» края — ханты, манси, марийцам и другим народностям, населявшим Урал с древних времен. В эту мифологию корнями уходят, кстати сказать, отдельные черты образа Хозяйки Медной горы, хотя в целом Малахитница создана щедрой творческой фантазией автора. Бажов не любил раскрывать свои творческие секреты. На постоянные вопросы о природе сказов отделывался общими ссылками на рабочий фольклор. В 1943 году известный публицист Д. Заславский писал: «Литературная критика ходит и будет вот так вопросительно ходить вокруг бажовского ларчика с сокровищами художественного слова и будет пытаться раскрыть его: что же это – фольклор, обработанный замечательным мастером, или самостоятельное художественное творчество, для которого подлинные народные сказки – лишь сырой материал?.. Какая доля приходится на драгоценное сырье фольклора и какая – на художественный вымысел? Сам Бажов только улыбается: “Догадайся, мол, сама!”»1 С той поры исследователи «догадались» о многом. Раньше всего они решили вопрос «фольклор или литература?», разумеется, в пользу творческой самобытности автора. Но вначале другое: о «Малахитовой шкатулке» долгое время писали «высоким штилем», не задумываясь над тайнами словесного искусства. Повод давала «тема труда», которая интерпретировалась согласно одному из главных коммунистических мифов о ведущей роли рабочего класса. В прославлении героя1 58 Заславский Д.И. Сказочник Урала // Огонек. 1943. № 14. С. 13. труженика у Бажова критики и писатели словно стремились превзойти друг друга. Людмила Скорино, автор первого критико-биографического очерка о Бажове (1947): «Центральной темой творчества уральского сказочника является тема труда. Сказы Бажова воспевают не труд вообще, а труд творческий… Подлинный мастер – беспокойный новатор, он непрерывно растет, ищет и находит новые пути к овладению тайнами природы, ищет новые пути в самом труде»1. Борис Полевой в содокладе на Втором всесоюзном съезде писателей (1954): «Малахитовая шкатулка» – это «настоящее литературное сокровище, впервые в мире прославившее в сказочной форме труд промышленного рабочего. За всю историю человечества творческий гений народов создал всего семь или восемь законченных сказочных циклов. Бажов обогатил их еще одним, не повторяющимся даже в мотивах»2. В юбилейном слове поэта Сергея Наровчатова глубокие суждения о творчестве Бажова чередуются с идеологическими реверансами: «Слава писателя продолжала и продолжает расти после его ухода из жизни. По мотивам сказов созданы кинофильм «Каменный цветок», балет А. Прокофьева «Сказ о каменном цветке», опера К. Молчанова, многие произведения скульптуры, музыки, живописи. Творчество Бажова вызвало встречную волну вдохновения, проявившегося в самых разных и прекрасных формах». Там же: «Поэтизация труда неотделима от поэтизации рабочего класса. Не только в отечественной, но и в мировой словесности мы не найдем сходного примера. Уральский рабочий, воплощающий в себе российский пролетариат, в сказах и былях Бажова встает во весь свой исполинский рост. Он могуч, талантлив, творчески одарен. Ему присуще чувство собственного достоинства…»3. По части патетики, пожалуй, превосходит других Евгений Пермяк: «И где-то, в каких-то абзацах сказов проступает протестующий, подымающий голову и руки на своих угнетателей, осознающий себя главной силой родоначальный герой, творец, мастер, труженик – рабочий. Соль земли. Рушащая, карающая и созидающая сила»4. Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. М., 1947. С. 116, 117. Второй всесоюзный съезд писателей: стенографический отчет. М., 1956. С. 52. 3 Наровчатов С.С. Память сердца и души… (Павел Петрович Бажов) // Вопросы литературы. 1979. № 4. С. 42, 44. 4 Пермяк Е.А. Долговекий мастер. М., 1978. С. 12. 1 2 59 Законно спросить: откуда столько патетики? В самих сказах ее нет. Очевидно, это не что иное, как тот самый «фундаментальный лексикон» социалистического реализма, который захлестнул не только искусство, но и литературную критику. Ложно-патетические интонации не столь безобидны, как может показаться с первого взгляда. Они устойчивы, от многократного повторения прочно закрепляются в читательском сознании, в конце концов, способны подменить истинно человеческое содержание сказов. В лучших сказах Бажов не «прославляет» и не «воспевает» рабочего человека. И далеко не каждый замысел оказывается по плечу даже талантливому мастеру. Внимательный читатель «Каменного цветка» хорошо знает, что не удается камнерезу Даниле задуманная им чаша «по дурман-цветку». То ли таланта не хватило, то ли профессиональной выучки, то ли непосильным оказалось соревнование с живой природой, только разбивает Данила свое неудавшееся творение. Драматическую линию мастера Бажов ведет не по «восходящей», но по «нисходящей». Не помогает Даниле долгое пребывание в горных владениях Хозяйки, где он мог видеть таинственный каменный цветок, олицетворяющий красоту и совершенство искусства. Не остается в мертвом царстве, тянется к жизни, к людям, к верной невесте Кате. Возвращается на землю, выслушав предостережение Хозяйки: «Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла». Становится добрым семьянином, «горным мастером, против которого никто не мог сделать», но утрачивает творческое вдохновение и духовный полет. Однако именно Данила и никто другой, более удачливый из бажовских героев, становится персональным обозначением творческого вдохновения. Ему посвящаются десятки, а то и сотни страниц в литературно-критических исследованиях о Бажове; его «натуру» выбирают скульпторы и художники для выражения темы труда-творчества в изобразительных видах искусства. Впрочем, самостоятельная жизнь художественного образа, уже отделившегося от своего создателя, составляет совсем другую историю. Литературная патетика давно утратила свою притягательность. Не увлекался ею и Бажов. В широко известном сказе «Живинка в 60 деле», где стремление к труду-творчеству утверждается как природное свойство человеческой натуры, не столько пафоса, сколько добродушной иронии. Богатырь Тимоха Малоручко, решивший своей рукой «опробовать» все ремесла, существовавшие в округе, неожиданно «застревает» на «черном» ремесле углежога: «— Никак, — говорит, — не могу в своем деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы. А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был». Там, где другой сорвался бы в голую социологию и грубую лесть по адресу гегемона, Бажов уверенно идет по острию классового и общечеловеческого. Имеет значение сфера эмоций, которую нельзя было бы игнорировать, когда речь идет о художнике. На конференции по истории Екатеринбурга – Свердловска (1947) Бажов с горячностью и, в общем-то, несправедливо упрекал «генералов-строителей» Геннина и Татищева, историка Н.К. Чупина и писателя Д.Н. МаминаСибиряка за то, что в своих трудах они забывали о вкладе мастеровых в развитие горнозаводского Урала. Однако в сказах и личном поведении писателя тезис о ведущей роли рабочего класса утрачивает пропагандистский характер. Истинный демократизм и врожденная интеллигентность защищают Бажова от высокомерия, с одной стороны, и от заискивания перед рабочим человеком — с другой. Сохранилось немало рассказов-воспоминаний о том, как сердечно и просто разговаривал Бажов с полевскими старателями, ревдинскими металлистами, дегтярскими горняками. Из очерка писательницы Анны Караваевой: «Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года. Это был один из многочисленных в то время литературных вечеров… Мы побывали в некоторых цехах, поговорили с рабочими, инженерами, а в одном из цехов нас пригласили побеседовать с ревдинскими стахановцами во время перерыва ночной смены. Одним из последних стал рассказывать старый рабочий, уже далеко за шестьдесят, и, как тут же выяснилось, персональный пенсионер. “Сердце не выдержало в грозный час дома сидеть”, — и он вернулся в свой горячий цех. Павел Петрович смотрел на старого металлиста, особенно уважительно и ласково расспрашивал его, и тот отвечал ему 61 с таким же уважением и любовью. Наконец Павел Петрович мягко, наклонившись к рассказчику, спросил: — А вот скажите… просто как старик старику… теперь, когда вы вернулись на завод, о чем вы чаще всего думаете? Старый металлист помолчал, улыбнулся. — Чаще всего я думаю: а хорошо, что я детей своих переспорил. Дети у меня хорошие, работящие, два сына и две дочери, но рассуждали они обо мне, прямо сказать, неправильно. И старик рассказал, как дети настойчиво внушали своему отцупенсионеру, что “отныне жить ему на покое”, ни о чем не заботиться… — Теперь каждый человек, кто честно и горячо работает, от самого молоденького ремесленника до старого кадровика, вот как я, все решают дело победы, Павел Петрович! — Именно так… решают! Весь советский народ, от ремесленника до академика, единодушно решает… Этакую силу не сломишь! И Павел Петрович, поглаживая бороду, оглядел собеседников медленным и просветленным взором…»1. Советская эпоха порождала множество мифов. Одним Бажов доверял до конца, другим не придавал никакого значения. Разделял представление об Октябрьской Социалистической революции, осуществившей, как тогда говорилось, вековые мечты и чаяния трудящихся. Демократ-разночинец и просветитель по рождению и воспитанию, он принимает Октябрьскую революцию. Это был его выбор, который он делает в начале 1918 года. С его решением нельзя не считаться, каким бы неожиданным ни казался переход от «тихой» учительской работы в духовных заведениях Екатеринбурга и Камышлова к активной общественной деятельности, а затем к непосредственному участию в Гражданской войне на стороне «красных». Очевидно, учитель, а к тому времени уже коллежский асессор Павел Бажов был человеком определенных и смелых решений. Семидесятилетний партийно-бюрократический опыт советской системы приглушил для нас изначальное очарование и силу социалистической идеи. Умозрительные, с нашей точки зрения, мечты о 1 Караваева А.А. Странички воспоминаний // Мастер, мудрец, сказочник: воспоминания о П.П. Бажове. М., 1978. С. 229. 62 мировой революции и светлом будущем для всего человечества завораживали, казались людям тех лет легко осуществимыми. В статье «На пути к народному образованию» Бажов намечает перспективы развития уральской деревни, совсем как в утопических снах героини романа Н. Чернышевского «Что делать?»: «Революция развернула перед каждым трудящимся широкие горизонты личной инициативы, предприимчивости и движения к прогрессу, и перед тем, у кого есть сила в руках, лежит много благодарной работы… После революции люди должны построить себе просторные, светлые дома, осушить болота, среди которых умирали от чахотки их предки, разбить фруктовые сады, завести молочное хозяйство»1. Бажова увлекает работа в области народного образования: строительство школ и библиотек, устройство народных домов. Как уездный комиссар просвещения, Бажов пропагандирует декреты советской власти о народном образовании, в том числе Декрет СНК об отделении церкви от государства и школы от церкви. Он убежден, что образование в России должно иметь светский характер. Стало ли это отказом от духовности в прежнем ее понимании? В течение двадцати семи лет жизнь и деятельность Бажова была неразрывно связана с религией и церковью. Упрек возможен, но едва ли справедлив. Революция, как представлялось, открывала новую сферу духовности, более широкую и значительную, нежели прежняя. Однако от члена РКП(б), редактора камышловской газеты «Красный путь», а по возвращении в Екатеринбург (1923) сотрудника областной «Уральской крестьянской газеты» требовалось активное участие в атеистической пропаганде. Журналистская продукция Бажова, связанная с обличением религии, разнообразна по жанрам. Бажовские фельетоны, рассказы, очерки, корреспонденции с мест фиксируют случаи мракобесия и религиозной нетерпимости. Нельзя было бы утверждать, что в уральской деревне 20-х годов ничего этого не было. В фельетоне «Кереметь — калым — канун — комсомол» (Крестьянская газета. 1926. 26 апр.) Бажов приводит селькоровскую заметку из Ачитского завода о диком побоище за невесту между комсомольцем и родственниками 1 Известия Камышловского уездного Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 1918. 31 мая. 63 невесты — старообрядцами. «Победили на этот раз канунники, сгубили девицу», — невесело завершает селькор. Священник остается отрицательной фигурой в сказах 30-х годов. В «Сочневых камешках» заводской поп ставится в один ряд с заурядной колдуньей бабкой Колесишкой. Спору нет, встречались и такие священники, но достаточно ли в том оснований, чтобы игнорировать религию как завершенную систему философских и нравственных принципов или же приравнивать ее к поповщине и обрядности? Трудный вопрос, в особенности если мы имеем дело с человеком, получившим духовное образование. Правда, без личных пристрастий здесь не обходится. В последние годы жизни Бажов не раз одобрительно высказывается о старообрядчестве. В хранителях старой веры он ценит трудолюбие, честность, трезвость, организованность. Отмечает заслуги Расторгуевых, Харитоновых, Рязановых, Баландиных и других представителей екатеринбургского старообрядчества в развитии русской золотопромышленности и в экономике города. Бажов разделяет распространенное в советской историографии представление о «загнивающем» капитализме. Прежние владельцы уральских заводов в его произведениях — никчемные, праздные или же корыстные и жестокие люди. Откровенно шаржирован последний владелец Сысертского горного округа Д.П. Соломирский, известный орнитолог, коллекционер и меценат (в очерках «Уральские были», 1924). С беспощадной иронией обрисован первый из совладельцев — П.Д. Соломирский в сказе «Травяная западенка». Между тем при П.Д. Соломирском в 1849 году в девяти верстах к юго-востоку от Сысерти был построен переделочный цех, названный «ВерхСысертским». Здесь на семи кричных горнах стали выделывать полосовое железо. Не вызывает уважения основатель династии Турчаниновых, «этот хитрый, ловкий и жестокий старик», действующий в сказах гумешевского цикла под именем «старого барина». Современное, более полное знание прошлого не подтверждает односторонне негативного отношения к этим и другим «фундаторам» уральской промышленности. Исключение Бажов делает для «тагильских» Демидовых, которых считает надежными сподвижниками Петра в развитии металлургической промышленности в России. Восторженную оценку деятельности 64 Никиты и Акинфия содержит его письмо поэту Алексею Суркову, датированное 1945 годом (опубликовано в 1955-м). Собирается даже писать роман о Демидовых, своеобразным конспектом которого и является упомянутое письмо. Замысел, однако, остается неосуществленным. Бажов-художник неповторим и непредсказуем. Он не принимает тему «детской каторги», популярную в русской демократической литературе конца XIX — начала ХХ века. Не доверяет рассказам позднего Чехова «Ванька Жуков» и «Спать хочется», отступает от концепции детства, развитой Горьким в повестях «Детство» и «В людях». Известно, что эти произведения оказали решающее воздействие на советскую автобиографическую прозу 30–40-х годов, в том числе на повесть нижнетагильского писателя Алексея Бондина «Моя школа». Бажов опирается на собственный опыт и знание уральского заводского поселка; отказывается «типизировать» свое детство ради общепринятого, пишет поэтическую повесть «Зеленая кобылка» (1939) о сысертских подростках из рабочих семей, сказы «Серебряное копытце» и «Огневушка-Поскакушка» с относительно благополучными судьбами маленьких сироток. «Отец любил вспоминать свое детство», — свидетельствует А.П. Бажова-Гайдар1. Вспоминались не «свинцовые мерзости русской жизни», не факты семейного деспотизма, не перегруженность подростка непосильной работой, но доброта отца, матери, бабушки, друзья-«заединщики», первый школьный учитель Александр Осипович, который открыл перед будущим писателем мир пушкинской поэзии. Детские годы и творчество Пушкина дали Бажову запас оптимизма на всю жизнь. Отказ от литературно-критических штампов высвобождает богатейшее нравственно-гуманистическое содержание «Малахитовой шкатулки». Открываются темы материнства и отцовства, детства и старости, любви и долга, любви и смерти. Многие сказы прочитываются по-новому и, надо полагать, адекватнее авторскому замыслу. Совсем еще недавно в сказе «Медной горы Хозяйка» улавливались по преимуществу социально-обличительные мотивы. Логика 1 Бажова-Гайдар А.П. Глазами дочери. С. 31 65 рассуждений предельно проста: способен ли человек выдержать каторжные условия труда в сыром и темном забое, если он прикован к скале на длинную цепь, так чтобы только работать можно было? Отрицательный ответ очевиден. Не замечается лишь, что речь идет не столько об исторической, сколько о художественной реальности, где главным хозяином выступает сам автор. Бажов волен «организовать» помощь герою со стороны могущественной Хозяйки. Она подбрасывает в заброшенный забой добрый малахит («королек с витком попадать стали»), приказывает слугамящеркам «наломать» за Степана «урок вдвое» и ведет его смотреть ее приданое. В конечном итоге Хозяйка изменяет направление самой темы. С помощью Хозяйки Степан на волю вышел и невесту свою Настеньку «от барина откупил». Женился он, семью завел, дом обустроил, «все как следует», а «счастья в жизни не поимел. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял». Умирает Степан не от каторжных условий труда и не от жесточайшего наказания, а от любви, от разлуки, как поется о том в народной лирической песне. Не выдержал он третьего испытания Хозяйки («обо мне, чур, потом не вспоминай»), не мог забыть ее красоты и теплоты дрожащей руки на прощанье, как не мог изменить слову, данному Настеньке. Был верен семье, но свято хранил «Хозяйкины слезы», превратившиеся в драгоценные медные изумруды. «Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял». Справедливо сказано: «чувство оказалось непобедимым, а носитель его побежденным». Классический конфликт любви и долга Бажов переносит в горняцкую среду с той же непринужденностью, с какой в «Тихом Доне» общечеловеческая тема любви-страсти раскрывается во взаимоотношениях двух представителей донского казачества: Григория Мелехова и Аксиньи Астаховой. Тем самым книга уральских сказов и четырехчастный роман Михаила Шолохова выходят за рамки официально поощряемой тематики соцреализма, но очевидно истинный талант всегда выше рассудочных соображений. Возрождение нравственных критериев в оценке исторических событий заметно снижает авторитет таких сказов, как «Кошачьи уши», «Демидовские кафтаны», «Чугунная бабушка». Когда-то они цени- 66 лись за остроту социальных конфликтов, за крайнюю жестокость народных мстителей по отношению к угнетателям. Зато восстанавливается достоинство «Золотого Волоса» — чудесного сказа о любви, расцвеченного волшебными красками башкирского и русского фольклора. О критических злоключениях «Золотого Волоса» знают немногие. В 1940-е годы сказ воспринимался на уровне «условных» эпических сказаний о богатырях (Л. Скорино)1. В 1950-е подвергался вульгарно-социологическому истолкованию: оказывается, что богатырь Айлып «стремится отнять собственность у ее владельца» (Р. Гельгардт)2; всерьез критиковался за отсутствие социальной проблематики (М. Батин). Упускалась из виду неоднозначность образной структуры «Золотого Волоса». По традиционному сюжету, влюбленные благополучно уходят от Великого Полоза. Однако свободное пространство, которое открывается под озером Иткуль, — не что иное, как авторский вариант языческого «третьего мира», или царства мертвых, куда люди попадают после своей физической смерти и остаются в нем навсегда. Не случайно красавица Золотой Волос лишь изредка покидает подвод­ное убежище и, сидя на камне, расчесывает свою золотую косу. «Ну, я не видал. Не случалось. Лгать не стану», — чистосердечно признается рассказчик. Получается, что за любовь, свободную от власти золота, денег, богатства, собственнических отношений вообще, герои расплачиваются самой дорогой ценой – уходом из жизни. По сути, это бажовская версия мирового литературного сюжета «любовь сильнее смерти». Более полувека назад уральцы получили эстетическое наследие, полное красоты и тайны, но еще не вполне освоились в нем. Далеко не все творческие секреты разгаданы. Как удается Бажову создавать объемные реалистические характеры, если он пользуется скупыми изобразительными средствами малого литературного жанра? Живой диалог, удачно найденная ситуация, предельно краткие характеристики – и образ готов. Взять заводских стариков, без которых картина старого Урала была бы неполной. Оговоримся: это не те «носители трудового и 1 2 Скорино Л.И. Павел Петрович Бажов. С. 112. Гельгардт Р.Р. Стиль сказов Бажова. Пермь, 1958. С. 154. 67 нравственного опыта поколений», которых преподносила читателю советская производственная проза 1940–1950-х годов. Основательно подзабылся «в коммунизм идущий дед» (А. Твардовский), а бажовские старики помнятся. Они входят в нашу жизнь как добрые знакомые: добросердечный охотник Кокованя, взявший на воспитание осиротевшую девочку; «простота» дедко Ефим – лучший друг восьмилетнего Федюньки; рассудительный старик Семеныч, наставляющий малолетных ребятишек «изробленного» старателя Левонтия; «поперешный» дедушко Бушуев, который не отдает Иванку в обучение немецкому мастеру, но передает ему свое искусство нанесения узоров на булатную сталь; лукавый и мудрый дедушко Нефед, до тонкости изучивший «хитрое» ремесло углежжения; невьянские старики-староверы, способные разрешить дерзкий уговор Артюхи с приезжим Двоефедей; совсем уж эпизодический «ветхий старичоночко», обучавший еще Прокопьича и других полевских мастеров по малахитному делу, а теперь поддерживающий Данилушку в его стремлении увидеть каменный цветок; неподкупный Евлаха Железко, который не соглашается продать иноземному мастеру секрет изготовления малахитовых «покрышек». Наконец, бабка Анисья и бабка Лукерья, которым доверяются афористические суждения о «долговекой» работе и секретах спокойной и «ровной» жизни. Кажется, что Бажов и не трудился ни над одним из этих образов, просто взял и написал, «как было». А «дедушки Бушуева», к примеру, не было вовсе. Знаменитый златоустовский гравер Иван Бушуев с ранних лет обучался у своего отца – профессионального художника Николая Ивановича Бушуева. Сохранились единичные следы писательской работы над образами заводских стариков. Бажов не дозволял им увлекаться нравоучительными поучениями. Если же таковые случались, без сожаления сокращал фрагменты «стариковского говорения». Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить первоначальные публикации сказов «Серебряное копытце» и «Иванко Крылатко» с их окончательными редакциями. Старики подаются как вполне сложившиеся характеры. Вместе с тем Бажов владеет искусством создания образа в длительном развитии, от детства до старости, как образ Данилы-мастера. В этом случае бесхитростная с виду манера повествования от первого лица обога- 68 щается приемами психологического анализа, а сказ с успехом сближается с реалистической повестью. Бывает и так, что завершенный характер вырастает из трех-четырех реплик-высказываний, произнесенных в удачно найденной ситуации. Уникальна речевая характеристика вдовы Настасьи в сказе «Малахитовая шкатулка». Стоит прислушаться к ее языку, чтобы понять умную от природы, «самостоятельную», как говорят на Урале, женщину. Отвечает ли она женихам, объявившимся после ранней смерти Степана: «Хоть золотой второй, а все робятам вотчим»; разговаривает со странницей, явившейся в дом, чтобы учить Танюшку редкостному шитью: «Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо». Ставит условие барыне, когда окончательно срядились в цене за малахитовую шкатулку: «У нас, – говорит, – такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги – шкатулка твоя». А в разговоре с заводскими женщинами раскрывается настоящая драма матери, не нашедшей общего языка со взрослой, старательной, но холодноватой по натуре дочерью. В простоте душевной Настасья не замечает, что соседки упрекают ее за то, от чего она сама больше всего страдает: «– Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у нее нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, аль в христовы невесты ладится? Настасья на эти покоры только вздыхает: – Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она скажет: “Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого 69 сделала?” Вот и ответь ей!» В самом тексте ситуация еще сложнее: в отличие от Настасьи, читатель догадывается, что Татьяна принадлежит нездешнему миру. Возможно, это двойник Хозяйки, а возможно, и сама Малахитница, если исчезает в малахитовой колонне Зимнего дворца. Бажов сохраняет за читателем право на двойное прочтение. Безупречное соединение реального с фантастическим, пожалуй, одна из самых сложных творческих загадок Бажова. Иллюзия достоверности такова, что не только ребенок, но искушенный взрослый читатель не испытывает сомнений, когда живая подвижная девушка «с сиза-черной косой» на глазах изумленных собеседников превращается в ящерицу с человеческой головой: «на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног лапы у нее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья». Самые «настоящие» чудеса из гумешевских сказов памятны с детства: немолодой, грузный мужчина превращается в «преогромного змея», голова которого «поднялась выше леса»; рудничная девчонка – в Змеевку, а устрашающая Синюшка – то в девицу, «по-царски наряженную», то в «купеческую дочь», то в мраморскую девчонку «годов так восемнадцати». Бажов ориентируется не на литературную фантастику, но на глубинную метафоричность народной сказки. Он избегает психологических мотивировок, которых придерживаются классики, в том числе Пушкин. В «Пиковой даме» появление призрака графини в казарме Гермaнна возможно объяснить нервическим состоянием героя, сосредоточенного на тайне трех карт; в «Медном всаднике» скачущая по улицам Петербурга статуя – душевной потрясенностью «бедного Евгения», потерявшего Парашу. В сказах Бажова чудеса совершаются «вдруг», непредвиденно и неожиданно. Писатель выигрывает рискованную игру: ему удается преодолеть «тканевую несовместимость» исторического в основе сказа и волшебной сказки. Могут сказать: талант, вдохновение. Но достаточно ли такого объяснения, если сам по себе талант есть нечто необъяснимое, почти мистическое? Бажова привлекают те произведения русских классиков, в которых он находит «ту высокую степень искусства, когда оно становится незаметным для читателя, зрителя, 70 слушателя»1. Причисляет к ним «Повести Белкина», «Капитанскую дочку» Пушкина и ранние рассказы Чехова. Не находит объяснений этому чуду искусства, но в лучших своих творениях достигает того же уровня. Существует еще один неразгаданный феномен: это язык сказов Бажова, который называют простым, разговорным, уральским. Часто добавляют, что таким языком разговаривал дед Слышко. Однако двуединая природа сказа обманчива: повествование от лица демократического рассказчика в действительности выстраивается профессиональным литератором. Да и сам дед Слышко – авторское творение, художественный образ, вобравший в себя отдельные черты из жизни полевского жителя конца XIX столетия Василия Алексеевича Хмелинина. Ни условный, ни реально существовавший дед Слышко, разумеется, не смог бы согласовать столь разнородные ресурсы литературного языка. Целесообразность и меру в их употреблении незаметным для читателя образом определяет сам Бажов. В языковой лаборатории писателя выделим простейшее: лексические категории. Назовем отдельные функции русского глагола, который служит у Бажова средством для передачи изменчивого психологического состояния героя. При неожиданной встрече с парнишкой, в котором «жадности не видно», удачливый старатель Никита Жабрей в сказе «Жабреев ходок» «бросает» Дениску целую горсть конфет, а затем «несколько серебряных рублевиков»; «удивился», когда Дениско не поднял ни того, ни другого; «разгорячился», «заревел на других ребятишек»; «выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском»; «от таких слов себя потерял: стоит – уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, – фунтов, сказывают, на пять, – и хвать эту самородку под ноги Дениску»; «опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку»; Никите обидно, что парнишко его «укорил, а смолчал»; наконец, «говорит ему потихоньку, чтоб другие не слышали»; «поговорили так и разошлись…». В экспрессивной форме близкий к вульгаризмам глагол несет сатирическую функцию: толстый барин «пропикнул, видно, денежки в 1 Бажов П.П. Через всю жизнь. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск, 1955. С. 103. 71 Сам-Петербурхе»; немецкий мастер по украшенному оружию «шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал». «Относительно устаревшие» слова, которые Бажов тщательно подбирал, создают впечатление временной отдаленности: «раз к ней и забрался хитник»; «ты уж понастуй сам, Семеныч»; «из сумы хлебушка мягонького достал, ломоточками порушал»; в «Ермаковых лебедях», где действие относится к концу XVI столетия, считает уместными слова, обозначающие отошедшие в прошлое предметы и занятия: «струги», «кольчатая рубаха», «царевы бронники», «копейщик» (воин, вооруженный копьем). Вместе с тем решительно не принимает глаголов «рискнем» и «поднажмем», предложенных авторами сценария к фильму «Ермаковы лебеди». Единичные лексические диалектизмы закономерны в речи уральского старожила: «здоровьем хезнул»; «на голбчике у печки девчоночка сидит»; «надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул». В языке, максимально приближенном к разговорной народной речи, естественны устойчивые фольклорно-поэтические словосочетания: «и белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует». В перечислении «наследства», доставшегося Илье, легко различимы ритмы раёшника – русского говорного стиха: «от отца – руки да плечи, от матери зубы да речи, от деда Игната – кайла да лопата, от бабки Лукерьи особый поминок». Бажов свободен в обращении с производственной лексикой. Названия минералов, орудий труда, обозначения производственных процессов не загоняются в подстрочник, но поясняют характеры и судьбы персонажей: у Данилушки на все вопросы приказчика «ответ готов: как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как колер навести, как на медь присадить, как на дерево»; «потом взял балодку, да как ахнет по дурман-цветку, – только схрупало». Сохраняя точную бытовую и производственную деталь, Бажов сопровождает «Малахитовую шкатулку» подробнейшим «Объяснением отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах». Но, чего греха таить, в авторский комментарий, кроме специалистовлингвистов, историков, фольклористов, исследователей народной культуры, мало кто заглядывает. Для читателя все поясняется самим контекстом. 72 Бажов – «краткослов», как писали о нем еще в 1920-е годы, ценил полноту и естественность русской речи. Не признавал очищенного литературного языка, но остерегался неоправданных неологизмов, которые не одобрял даже у Лескова; изгонял канцеляризм, от которого отвратили его еще селькоровские письма в «Крестьянскую газету»; не допускал лексических повторений, искал нестандартное слово в живом диалоге, в словарях, в книгах. Это была поистине ювелирная работа, но почти не исследованная стилистами и лексикологами. Остается добавить, что язык сказов Бажова – непаханое поле, где каждый, кому дорога богатейшая русская речь, может найти свой уголок. «Малахитовая шкатулка» – живое, неоднозначное литературное явление. В ней что-то устаревает, зато другое обретает новое звучание. Не одно поколение читателей вознаграждено приобщением к высоким духовным ценностям бытия: к любви и верности, к трудутворчеству и мучительно счастливым поискам в области искусства. «Малахитовая шкатулка» постоянно переиздается, заново комментируется и иллюстрируется. В красочном, подарочном исполнении ее хотят иметь в каждой читающей уральской семье. Она давно стала дорогим подарком для многочисленных гостей нашего города. Сама же книга нуждается в непредвзятом профессиональном прочтении, свободном от десятилетних критических наслоений. «Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет». 2004 73 В годы войны Интеллигенция на то и создана, чтобы поддерживать огонек. П.П. Бажов Из выступления на собрании Свердловской писательской организации. Октябрь 1942 г. Литература Урала периода 1941–1945 годов не столь уж богата художественными открытиями, даже с учетом того, что работали не только местные, но и московские, ленинградские, украинские писатели. Особое место принадлежит П.П. Бажову как автору сказов «Иванко Крылатко», «Хрустальный лак», «Живинка в деле». Однако эти сказы создавались еще до войны по той причине, что требовали эстетического переосмысления большого исторического материала. В беседе с редактором «Уральского рабочего» Евгением Багреевым Бажов признавался, что «Живинку» он держал «в голове» и перенес на бумагу в начале осени 1943 года. При сопоставлении окончательного текста с черновым вариантом обнаруживается, что изменено лишь имя углежога Тимохи Малоручко, который первоначально носил имя Тереха. Время обернулось таким образом, что спорными оказались многие произведения, составившие сборник «Сказы о немцах» (1943) и те из последующих, где присутствуют сатирические образы немецких начальников на уральских заводах («Алмазная спичка», «Чугунная бабушка», «Тараканье мыло»). Вместе с тем безусловна роль Бажова как руководителя Свердловской писательской организации, которая в 1941–1943 годах насчитывала до 50–60 человек. В 1943 году и в начале 1944-го эвакуированные литераторы возвращаются в свои города. 74 Какова роль приезжих? Оказывается, что неодинакова. Не все из тех, кто уже вошел в число «классиков», сумели сказать что-либо равное уже сделанному ими. Автор знаменитого «Цемента» Федор Гладков, по сути, не написал в годы эвакуации ничего стоящего. Его рассказ «Малкино счастье» надуман, хотя по тематике связан с уральским заводом. Значительно меньше условности в рассказе Нины Поповой «Сила женщины» о мужестве матери и невестки, с которым они встречают известие о гибели родного человека (сборник «Говорит Урал»). С началом Отечественной войны условия литературной жизни в тылу становятся совсем иными. От писателей требовалась не только творческая, но и чисто практическая работа. Постоянными были посещения госпиталей, где иной писатель проводил долгие часы, переходил из одной палаты в другую, беседуя с ранеными. Частые по тому времени встречи с читателями устраивались не только в красных уголках, но непосредственно в цехах в короткие перерывы. Писательского слова ждали, ему доверяли. Известная поэтесса Агния Барто, занятая устройством эвакуированных «блокадных» ленинградских детей, в Свердловске написала сравнительно мало. Тем значительнее творческие удачи одного из старейших русских поэтов-символистов Юрия Никандровича Верховского. Интересно его стихотворение «Мастер-художник» (1942), в котором труд литейщика уподобляется творчеству профессионального скульптора: Что делали из алюминия, То он отлил из чугуна, Порой единственная линия Руке художника дана – Такая, что по ней, единственной, Мгновенно узнают его, А в наше время клич воинственный Венчает это торжество. Ведь лишь громадами чугунными, – Бросая их в смертельный бой, В борьбе с воинственными гуннами Мы одолеем их разбой. Поэт стихи из алюминия Гранил в любые времена; Сейчас – прославленная линия Сквозь полог северного инея Блеснет на слитке чугуна. 75 Тема труда – вторая по значимости в литературе времен Великой Отечественной войны – не была дежурной, предписанной методом соцреализма. Пожалуй, никогда русская литература еще не стояла так близко к производству, к заводу, к личности человека, изготовлявшего оружие для фронта. Каждому было ясно, что от числа орудий, танков, снарядов и другого вооружения зависели успехи на фронте, судьба России и судьба каждого человека. Акцент ставился не вообще на труде, но на мастерстве, смекалке, умении, опыте человека в своем деле. Ничто другое, но именно уважение к мастерству по-человечески сближало таких разных писателей, как потомственный петербургский интеллигент, последний русский символист Юрий Верховский и советский писатель Павел Бажов. По воспоминаниям Людмилы Скорино, их часто можно было видеть мирно беседующими в комнатах газеты «Уральский рабочий». «К Юрию Никандровичу Верховскому, по моим наблюдениям, Бажов относился с каким-то доброжелательным интересом, понимая и принимая поэта во всем его своеобразии, в той его внутренней ясности и даже детскости, которая порой проступала в облике этого большого задумчивого человека». Со своей стороны, Юрий Верховский выделял главное достоинство сказов Бажова: это «магия превращения простой бытовой речи уральского рабочего в высокое искусство. А музыка слова? Ведь фраза у Бажова поет…»1 Становится понятным, что знаменитая бажовская «Живинка в деле» (опубликована в октябре 1943-го) – это явление, востребованное самим временем. Особое значение среди литературных жанров военных лет принадлежит производственному очерку, в котором заглавной фигурой становится сталевар, литейщик, кузнец, станочник. Без преувеличений можно было бы утверждать, что развернутый очерк Анны Караваевой «Богатыри уральской стали» (1942) – о соревновании уралмашевского сталевара Дмитрия Сидоровского и верх-исетского Ибрагима Валеева – завораживал читателей ничуть не меньше, чем иной роман. За автором – детальное знание труда, по тем временам во многом ручного, немеханизированного, требующего от человека физиче1 407. 76 Скорино Л. На Урале, в дни войны //Мастер, мудрец, сказочник. С. 402, ской силы, но еще и умения, смекалки, дерзости, самой настоящей молодецкой удали. Неслучайно в названии слово «богатыри». Они, эти сталевары, и были настоящими русскими богатырями. Впрочем, как и кузнец с украинской фамилией Сакуленко, труд которого описан в рассказе-очерке А. Караваевой «Кругооборот хороший» Название этого рассказа явно неуклюжее, но главная сцена – работа кузнеца – написана превосходна. Помимо кузнеца Сакуленко в рассказе-очерке присутствуют безымянные молотобоец и подручные, которые трехметровыми клещами ворочают раскаленную глыбу металла на наковальне. Сам кузнец похож на дирижера этого слаженного коллектива. Его работа самая главная: безупречно точным движением обозначить топориком то самое место, где молот разрежет раскаленную болванку на нужные части. «…Кран подъехал, неся рыже-золотую болванку. Еле успел он остановиться против молота, как болванку, словно объезженного дикого коня, уже подтащили к молоту. Рассыпая искры, болванка покорно вползла на неостывшее ложе наковальни. Сакуленко кивнул – и две пары клещей впились в ее раскаленные бока. Сакуленко шагнул к прозрачному пламенеющему слитку и скупым, словно отточенным, движением опустил на него свой черный топорик, властно крикнув: – Мо-лот! Молот ухнул и упал, вогнав топорик в металл, словно в огненную глину. – Клещи! – скомандовал Сакуленко, и двое других подручных, уже ожидавших этой команды, повернули болванку на ребро. Так он командовал несколько раз, и подручные, сменяя друг друга, быстро и точно поворачивали слиток. – Уго-ол! Уго-ол! – протяжно пропел Сакуленко, и болванка с зияющей на ней глубокой зарубкой легла теперь под углом. Черное плоское тело топорика нависло над ней, как короткий кинжал над обреченной плотью. Оживленный говорок вспыхнул над толпой: – Здорово придумано! Прежде надвое болванки разрезали, а потом уже угол высекали. – А этот сразу на одной угол высечет, а другая тут же заодно отделится от первой половинки. – Простое же дело, ребята! 77 – Только попробуй высечь сразу, да и верно! <...> По полукругу, где стоял со своим топориком Сакуленко, как будто кипел горячий поток дружных, ритмичных, как подъем и откат волны, движений. Они сменялись одно другим, с веселой яростью, безошибочные, как выстрел в цель. Когда болванку, перерезанную наискось, Сакуленко разъял надвое своим топориком, мягко и глубоко, словно толщу воспламененной глины, наблюдатели все, как один, восторженно ахнули: – Ловко!.. Рассеченная болванка, гремя, скатилась на железные плиты пола, – и только тут Сакуленко откинулся назад, разминая плечи, вынул из кармана красный с горошинами платок и вытер потное лицо. Потом Сакуленко чуть задержался взглядом на двух укороченных слитках металла, которые в его руках получили форму и назначение… Подручные уже тащили две новые детали к крану. Он подхватил их, и они поднялись вверх, как две покоренные огненные птицы со связанными крыльями и хвостами. Словно луч бурной, багрово-золотой зари, они осветили обращенные к ним человеческие лица – и полетели дальше в глубину высокого закопченного цеха. – Ну! – зычно крикнул Сакуленко и хлопнул себя по животу, обтянутому кожаным фартуком. – Обедать пора, хлопцы, а то суп остынет!»1 Собственно, это и есть та «поэзия творческого труда», которую утверждал соцреализм, которая в наши дни вызывает лишь снисходительно-ироническое к себе отношение. Не приходит в головы современным эрудитам от литературы простой вопрос: как победили бы фашизм, если бы не трудились так легендарные кузнецы на Уралмаше, на Магнитке, на Нижне-Тагильском металлургическом комбинате и на других больших и малых уральских заводах? К сожалению, об этом слабо знает современная молодежь, однако прекрасно представляли себе труд уральских рабочих свердловский поэт Михаил Пилипенко и композитор Евгений Родыгин – авторы широко известной «Уральской рябинушки» (появилась в 1953–1954 гг.). Возможно, 1 108. 78 Говорит Урал: Литературно-художественный сб. Свердловск. 1942. С. 107– героиня отдаст предпочтение кузнецу, хотя и «токарь» тоже неплох: «Оба парня смелые, оба хороши…» Главное все-таки в другом: тема творческого труда, казалось бы заданная официальной идеологией, без усилий входила в 40-е годы и в начале 50-х в лучшие литературные произведения тех лет: в виртуозно выстроенное стихотворение Верховского «Мастер-кузнец», в бажовский сказ-притчу «Живинка в деле», в производственные очерки Анны Караваевой и Мариэтты Шагинян «Люди Урала», в повесть И. Ликстанова «Малышок», в «Уральскую рябинушку», ставшую подлинно народной песней. Выходит, что уральской литературе тех давних и трудных лет есть чем гордиться. Жалко, что тема труда почти совсем исчезла в современной литературе. Как будто люди вообще перестали трудиться, а заняты лишь торговлей, сексом да еще поиском моющих и косметических средств (если довериться назойливой рекламе). Отдельно о роли Павла Петровича Бажова в литературной жизни Свердловска периода Отечественной войны. Авторитет Бажова как личности и как писателя не был надуманным. Можно сказать так: столичные писатели (да и то далеко не все) смутно представляли его по «Малахитовой шкатулке» кем-то вроде деда Слышко и были, без преувеличения, очарованы его умом, широчайшей образованностью, деловитостью. И не только потому, что как руководитель писательской организации Бажов помогал приезжим литераторам обживаться в новых условиях: доставал хлебные карточки, валенки, полушубки, телогрейки и шапки. «Он был из тех людей, которые искренне радуются чужой радости и глубоко страдают, если рядом у людей чего-нибудь не так»1. Бажов помогал людям, иной раз терявшимся в сложной обстановке, обрести себя творчески. По свидетельству Л. Скорино, «Павел Петрович вместе с Анной Караваевой упорно сплачивал писательский коллектив, не давал людям разбредаться по углам, оставаться наедине со своими личными бедами и горестями. Оттого-то их, эти беды, легче было претерпевать, что жила свердловская организация в трудном военном 1942 году активной общественной жизнью. 1 Шарц А.К. Встречи с П.П. Бажовым // Мастер, мудрец, сказочник. С. 102. 79 Писатели разъезжали с агитационными выступлениями по всему заводскому Уралу, шефствовали над госпиталями, ремесленными училищами, работали в местных газетах и в центральной прессе, принимали участие в уборочной и посевной кампаниях. И каждый чувствовал: нет, течение жизни не прервалось, в суровых условиях военного времени продолжалось ее молчаливое, глубинное развитие»1. О роли Павла Петровича в творческой деятельности свердловских писателей рассказывает Мариэтта Сергеевна Шагинян. Самые добрые воспоминания о Бажове она сохранила до конца своей жизни. Из беседы с журналистом Геннадием Шеваровым в конце 1970х годов: «Бажов был любимцем нашей писательской группы. Он отличался какой-то особой мудростью. Не навязчивый, не самоуверенный. Он не вещал никогда. Он бросал блестки своего ума, своих образов, своего великолепного лексикона, писательского, неподражаемого, бросал их как бы на ходу. И мы у него учились внутренней дисциплине, понимаете? Он ничего нам строго не предписывал, не говорил о каких-то кампаниях, которые надо провести обязательно. Он всегда был рядом с нами, как наш товарищ. Но, несмотря на это, мы все время чувствовали его авторитет. Я, например, привыкла, возвращаясь из своих поездок по заводам, всегда рассказывать ему о впечатлениях. А потом с тревогой спрашивать: «Ну как? Правильно я поступила?» Это было просто потребностью, потому что он как-то уравновешивал то внутреннее беспокойство и тревогу, какая живет в каждом агитационном работнике в такое ответственное время, как война… Он учил нас особому пониманию народного искусства. Он все время был с нами, сближал нас всех в Свердловске»2. Событием общесоюзного характера явилась межобластная литературная конференция «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе», которая состоялась в Перми 13–19 июня 1943 года. Об этой конференции с удивлением заговорили за рубежом как о политическом событии: значит, какая уверенность в победе, если русские собирают в тылу научную конференцию! Скорино Л.И. На Урале в дни войны. С. 371. Шеваров Г.Н. Чудесный сплав: Мариэтта Шагинян на Урале // Урал. 1985. № 10. С. 167. 1 2 80 Конференция в Перми была самой представительной в стране за два года, прошедшие с начала войны. В ней принимали участие писатели Перми, Свердловска, Челябинска, а также московские и ленинградские писатели, критики, литературоведы, эвакуированные на Урал. Свердловская делегация не была многочисленной, ибо значительная часть писателей находилась в действующей армии. А.П. Бондина уже не было в живых. П.П. Бажов, без преувеличения, был центральной фигурой на этой конференции. И то сказать: в 1943 году (начало февраля) ему присуждается Государственная (тогда Сталинская) премия за «Малахитовую шкатулка», вышедшую в объеме 19 сказов (против четырнадцати в издании 1939 г.) в Москве, в издательстве «Советский писатель»; в сборнике «Ключ-камень» (Свердловск, 1942) печатается «Иванко Крылатко»; в еженедельной газете «Литературная Пермь», которая выходит к началу конференции, помещается сказ-новелла «Хрустальный лак». Все это добрые, веселые сказы, в которых «во весь рост» встает уральский мастер-творец и художник. В условиях Отечественной войны такой образ поднимал настроение, внушал уверенность в победе. 2007 81 Сказ или сказка? Создается впечатление, что Бажов не придавал значения категории жанра, оставляя решение вопроса исследователям своего творчества. Первое издание книги сказов, вышедшее в 1939 году, сопровождалось поэтическим подзаголовком: «Сказы старого Урала»; одно из последних прижизненных, приуроченное к 70-летию автора, обозначалось проще: «Уральские сказы». За десятилетие между этими двумя книгами Бажов обращался к другим жанровым определениям: «тайный сказ» – в первоначальной публикации «Медной горы Хозяйки» (сборники «Урал медный», 1936; «Дореволюционный фольклор на Урале», 1936); «сказка» – «Серебряное копытце» (Уральский современник. 1938. № 2); «старинная уральская сказка» – «Золотой Волос» («Золотые зерна»: альманах для детей и юношества. Свердловск, 1939); «горные сказки» (сборник «Ключ-камень», Свердловск, 1942); «старый уральский сказ» – «Огневушка-Поскакушка» (газета «Всходы коммуны», Свердловск. 1940. 5–10 марта), «Ключ земли» (Уральский рабочий. 1940. 1 янв.). Для самого автора предпочтительнее оказывался термин «сказ», однако в повседневном читательском обиходе все произведения из главной книги Бажова называются сказками. Скажут: не все ли равно, сказ или сказка? Однако рождение нового либо модификация традиционного литературного жанра – явление редкое, если не сказать редчайшее, а потому заслуживающее внимания. Нет ничего удивительного, что бажовский сказ, далеко не во всем совпадающий с традиционной в русской классике сказовой манерой (стилем, формой повествования), не был сразу замечен критиками. Редактор Свердловского издательства К.В. Рождественская вклю- 82 чает «Серебряное копытце» и «Огневушку-Поскакушку» в подготовленный ею сборник для детей «Морозко» (1940) с обозначением: «сказка». Очевидно термин показался не совсем точным И.И. Халтурину, редактору издательства «Детская литература». Из письма Халтурина составителю сборника: «“Морозко” – любитель устраивать сюрпризы. Таким его новогодним подарком явились для нас две сказки П.П. Бажова: “Огневушка-Поскакушка” и “Серебряное копытце”. Это удивительные сказки, не имеющие предшественниц в русской литературе (курсив наш. – Л. С.). Люди, с которыми в этих сказках происходят удивительные вещи, трезвые, реальные люди. Мы ощущаем их так хорошо, что завтра можем с ними встретиться, попить чайку и нисколько не удивимся. И в то же время мы верим тому чудесному, что случается с ними»1. Термином «сказка» поддерживалась версия о бажовских сказах как о записях произведений народного творчества, которой в конце 30-х – начале 40-х годов доверяли многие. В памяти Людмилы Скорино, биографа Бажова и автора первого критико-биографического очерка «Павел Петрович Бажов» (М.: Сов. писатель, 1947), сохранилось выступление Бажова на межобластной литературной конференции «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе». «После выступления самого Павла Петровича – он говорил о важности собирания уральского рабочего фольклора, – наградив его дружными, горячими аплодисментами, наступила какая-то пауза, недолгая тишина, зал вдруг зашумел, заволновался. Кто-то что-то выкрикнул, кто-то встал и спросил… Наступило какое-то смятение в президиуме, там о чем-то быстро переговаривались. А зал уже скандировал: “Ба-жо-ва! Ба-жо-ва!” И вот на подмостках перед столом президиума снова появляется Бажов, он молча, серьезно смотрит в зал. Ему что-то говорят устроители… За столом президиума подымается Стефан Стефанович Мокульский. Он известный театровед, знаток западноевропейской драматургии и театра… Мокульский кому-то делает знак, и в глубине зала встает человек. Все замолкают. Голосом этого человека зал спрашивает Бажова: 1 Рождественская К.В. Воспоминания о Бажове // П.П. Бажов : Сб. статей и воспоминаний. Пермь, 1955. С. 186. 83 – Ответьте нам прямо: вы – фольклор или литература? <…> Пространство уже как-то начинает наполняться людьми, они с боков просачиваются все ближе, чтобы услышать, что скажет Бажов. Он стоит на авансцене, серьезный, молчаливый, в темной гимнастерке, подпоясанной кожаным ремнем, спокойно смотрит в зал и размышляет, взвешивает… Воцаряется тишина, все ждут. – Литература, – говорит Бажов. Зал взрывается веселыми восклицаниями, все окружают Бажова, говорят, спрашивают…»1. В наше время острота вопроса исчезла. «Малахитовая шкатулка» давно признана выдающимся произведением русской литературы, однако в читательском обиходе сказы все так же называются «сказками», а их автор – «уральским сказочником». В заблуждение вводят в совершенстве освоенные Бажовым приемы фольклорной поэтики. Спору нет, связи бажовских сказов с фольклором глубоки и многообразны. Подтверждением тому служат постоянные в гумешевском цикле зооморфные и антропоморфные превращения (человека в животное, и наоборот); ничем не мотивированные «чудеса», как это бывает в народной сказке: «Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький, а в руке платочек, тоже сголуба»; «И вот видят ребята – человека того уж нет. Которое место до пояса – все это голова стала, а от пояса шея»; «Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица…». Бажов не дает психологических мотивировок, принятых русскими классиками в изображении фантастического. В гоголевской «Шинели» умерший чиновник, преследующий «значительное лицо», порожден угрызениями совести последнего. Примеры можно продолжать, вплоть до «Черной курицы» В. Одоевского. Бажов сохраняет немотивированные чудеса как структурный элемент сказки. В «Золотом Волосе»: «В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит…» В «Сказке об Иване-царевиче, жар-птице и 1 84 Скорино Л.И. На Урале в дни войны. С. 426–428. о сером волке»: «Вдруг серый волк ударился о сыру землю – и стал конем златогривым». Бажову хорошо знакомы неприметные для читателя законы волшебной сказки. Сошлемся на авторитетного исследователя поэтики сказов: к волшебной сказке восходит тот эпизод из «Золотого Волоса», когда влюбленные спасаются от преследования на дереве. «Или, например, вряд ли рядовой читатель может осмыслить, почему дочь Великого Полоза и Хозяйка Медной горы сами предлагают себя героям в жены… в данном случае Бажов следовал сказочному канону. По сказочной традиции женщины – волшебные персонажи – всегда сами делают предложение вступить с ними в брак»1. В несколько трансформированном виде эта фольклорная традиция сохраняется в пушкинской «Сказке о царе Салтане»: Князь пред нею стал божиться, Что пора ему жениться, Что об этом обо всем Передумал он путем; Что готов душою страстной За царевною прекрасной Он пешком идти отсель Хоть за тридевять земель. Лебедь тут, вздохнув глубоко, Молвила: «Зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, Ведь царевна эта – я». Тут она, взмахнув крылами, Полетела над волнами И на берег с высоты Опустилася в кусты, Встрепенулась, отряхнулась И царевной обернулась… Есть в этих фольклорных героинях некоторые другие свойства, известные Бажову. Например, владычицы природных стихий не допускают нарушения их воли. Хозяйка горы не любит, когда в шахте «над человеком измываются». Она заковывает приказчика Северьяна в малахитовую глыбу как раз за то, что тот не посчитался с ее 1 Гельгардт Р.Р. Стиль сказов Бажова. С. 400. 85 правилом: в шахте людей не наказывают. Волшебницы нетерпимы к тем, кто выражает намерение занять их место. Стоило заграничной барыне сказать: «Хочу, чтобы это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!», как «из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась… Жива осталась, только с той поры все дураков рожала. Не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь». Выходит, что Бажов более суров по отношению к своей «взбалмошной барыне», нежели Пушкин, оставивший при том же разбитом корыте старуху, которой захотелось стать «владычицей морскою», да чтоб золотая рыбка «сама ей служила и была б у нее на посылках». По необъяснимой логике читательского восприятия в сказах «Малахитовой шкатулки» не замечаются существенные расхождения с народной сказкой: Бажов не принимает прежде всего традиционных сказочных формул времени и пространства. Та и другая категории в народной сказке не имеют сколько-нибудь четких исторических и географических границ: «Ни в каком царстве, ни в каком государстве жил-был царь с царицей и была у них одна дочь, Марья-царевна» («Буренушка»); «В некотором царстве, далеком государстве жил-был царь с царицей, у них был сын Иван-царевич, с роду немой» («Ведьма и Солнцева сестра»); «Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки. На море, на океане, на острове Буяне стоит бык печеный, возле него лук толченый» («Иван Сученко и Белый Полянин»)1. В бажовских текстах пространство и время максимально конкретизируются: «Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя» («Серебряное копытце»); «В Косом-то Броду, на котором месте школа стоит, пустырь был» («Жабреев ходок»); «Нашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была» («Две ящерки»). В «Золотом Волосе», который больше других сказов гумешевской группы наследует структуру волшебной сказки, называются реальные места расселения башкир по Южному Уралу. «Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах (вблизи Полевского 1 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : В 3 т. Т.1. М., 1978. С. 152, 136, 262. 86 завода. – Л. С.) и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, вишь, для скота приволье требуется, где еланки да степочки. На Нязях там, по Ураиму, а тут где же? Теперь лес – в небо дыра, а в ту пору – и вовсе ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял». Очевидны различия в концовках. Типичная формула сказочного финала: веселый свадебный пир с участием рассказчика, по отношению к которому допускается легкая ирония: «У царей ни пиво варить, ни вино курить – всего много; в тот же день веселым пирком да за свадебку. Обвенчали Ивана-царевича с Ненаглядной Красотою и выставили по всем улицам большие чаны с разными напитками; всякий приходи и пей, сколько душа запросит! И я тут был, мед-вино пил, по усам текло, во рту не было»1. Финалы бажовских сказов деловиты и обстоятельны. Рассказчик посвящает читателя в будничные заботы уральского заводского поселка. В «Приказчиковых подошвах»: барин велел похоронить, как человека, ту «пустую породу», в которую Хозяйка превратила «лютого» приказчика Северьяна. А мастер Костоусов, которому пришлось добывать эту породу из цельной малахитовой глыбы, жалел: «Кабы знатьё, – говорит, – так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него вишь, что осталось! Одни подошвы». В «Травяной западенке»: «А по всему видать, есть она – травяная западенка. Берут из нее люди по малости. Берут. Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше к Карасьей горе клонят. У этой горы да у Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как по-вашему?» В «Золотом Волосе» упоминается о каслинских заводчиках, которые «на моих памятях» вели долгие тяжбы с башкирами за золотые россыпи на «заплесках» реального, а не сказочного озера Иткуль. «И все, слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему, золоту, тут быть? Вот и сказывают, что из золотой косы Полозовой дочки натянуло. И много ведь золота». 1 Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 3 т. Т.1. С. 169. 87 В сознании деда Слышко реальное и сказочное неразложимы. Реалистических деталей в его рассказе может встретиться совсем немного, однако их вполне достаточно, чтобы повествование выводилось из неподвижного эпического времени сказки в сферу исторической реальности. Таким путем создается «ощущение изменяемости мира, ощущение времени», которое отсутствует в волшебной сказке как древнейшем фольклорном жанре, уходящем корнями в доисторическую эпоху. Согласно исследованиям Д.С. Лихачева, «ощущение времени» является «завоеванием многовекового развития литературы»1. Условное пространство и время наследует от народной сказки литературная сказка: «Конек-Горбунок», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Волшебник Изумрудного города», «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Три толстяка» и другие. Писательская сказка привлекательна глубиной нравственно-философского содержания, но в сравнении с бажовским сказом – это другая художественная структура, исключающая историзм как один из главных принципов реалистического искусства. Между тем принцип историзма по-своему формулирует дед Слышко уже в первоначальном предисловии к сказам («У караулки на Думной горе»): если попросит кто сказку, то старик «всегда поправит: “Сказка – это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот про курочку-рябушку да золото яичко, про лису с петухом и протча старухи маленьким сказывают. Ты, поди, опоздал такие слушать, да и не умею я. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье – это вот помню. Много такого от своих стариков перенял да и потом слыхал… Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются…”» В 1950 году в беседе с критиком М.А. Батиным Павел Петрович обращает внимание на те «элементы действительной жизни, истории», которые присутствуют в сказе, однако не характерны для сказки: «К тому, что рассказывает сказка, относились заранее как к вещи, которая занимает, развлекает, поучает младших. А к сказу относились по-другому, в сказе есть элементы действительной жизни, истории. Сказка тоже может быть исторической, но история там далека и не воспринимается как история, а в сказе она сравнительно близка; несмотря на фантастику 1 88 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 219. отдельных образов, люди чувствуют, что это недавний рассказ, о недавних людях нашего класса, группы. В основе лежит истинное происшествие, и эта близость истине и отличает сказ от того, что в народном понимании является сказкой»1. Между тем до сего времени говорят: не все ли равно, сказ или сказка. Разумеется, основные читатели «Малахитовой шкатулки» – это дети, которые не всегда обращают внимание на жанровые и структурные различия между сказом и сказкой. Однако если бы мы приняли определение «сказка», мы должны были бы исключить историческое содержание «Малахитовой шкатулки». В гумешевском цикле Бажов знакомит читателя с историей Сысертского горного округа XVIII– XIX веков; рассказывает о строительстве Полевского завода, о производстве меди и добыче малахита, о развитии камнерезного и ювелирного искусства, о добыче золота и самоцветов. При очевидной разновеликости жанров (объемный роман и малый сказ) гумешевские (хмелининские) сказы сопоставимы с произведениями исторической прозы 1930–940-х годов: с романами А. Толстого, В. Яна, О. Форш, С. Бородина, В. Шишкова. Только Бажов расцвечивает добротное историческое повествование ярчайшими красками фольклорной поэтики. Косвенным доказательством может послужить диалог, состоявшийся между Бажовым и писателем Александром Серафимовичем, который приезжал в Свердловск в начале 1941 года. Из воспоминаний Виктора Старикова: «В номер гостиницы был подан завтрак. Как полагается, мы выпили за приезд. Потом за здоровье Павла Петровича. Серафимович произнес маленький тост. – Книжица ваша весьма основательная, Павел Петрович, – говорил он. – И судьба у нее будет самая добрая. Уж поверьте старому писателю и читателю. От истоков русского языка, русской народности идете. Глубокие у вас корни, на хорошей почве укоренились. Надо было видеть, с какой предупредительностью Серафимович относился к Бажову, ухаживая за ним на правах старшего. Павел Петрович улыбчиво похмыкивал, все поглаживая бороду, проводя рукой снизу до шеи. 1 Бажов П.П. Некоторые вопросы литературного творчества (беседы с М. Батиным) // Бажов П.П. Публицистика. Письма. Дневники. С. 120. 89 – Не перехвалите, Александр Серафимович. Все-таки это ведь всего-то сказочки. – Ан нет, дорогуша. Такие сказочки романа стоят!»1 С давних учительских лет Бажов изучал историю Урала. Без­ условный интерес представляют его выступления на двух конференциях по истории Екатеринбурга – Свердловска, которые проводились в Уральском государственном университете в 1947 и 1948 годах. «История всегда была главным интересом в жизни отца, – читаем в воспоминаниях А.П. Бажовой-Гайдар. – История и Слово. Слово и История, и еще Урал»2. Но откуда же расхождения Бажова с современными историками в оценке ряда известных деятелей прошлого? Очевидно, Бажов был человеком своего времени. Он разделял марксистский тезис о народе – творце истории и скептически относился к «хозяевам жизни» прошлого. Неправильно было бы исключить личные антипатии и симпатии. Бажов с восторгом писал о первых Демидовых, рассматривая Никиту и Акинфия как надежных помощников Петра (письмо поэту Алексею Суркову, датированное 1945 годом) и с неизменной иронией отзывался о первом Турчанинове, хотя исторически эти фигуры сопоставимы. Разумеется, вопрос о расхождении с историками не имеет прямого отношения к жанру, однако не мог бы возникнуть, если бы Бажов писал сказки. Пишутся сказы, в которых воссоздается авторская картина уральской «горнозаводской цивилизации» (термин писателя Алексея Иванова); пишутся с любовью и вдохновением и, как всякая форма искусства, не означают повторения действительности. Не зря Бажов называл себя «ненастоящим историком» или «работающим рядом с историей». Первым, кто обратил внимание на специфику бажовского жанра, был Михаил Адрианович Батин, известный исследователь творчества Бажова с начала 50-х до начала 80-х годов минувшего столетия. В статье «Создатель нового жанра» (Вечерний Свердловск. 1969. 27 янв.) дается следующее определение: «Сказ является прозаическим произведением малого жанра, по объему и по некоторым другим при1 247. 2 90 Стариков В.А. Встречи сквозь годы // Мастер, мудрец, сказочник. С. 246– Бажова-Гайдар А.П. Глазами дочери. С. 124. знакам он приближается к рассказу, к новелле. Но в нем обязателен вымышленный рассказчик, человек физического труда, который может быть и героем произведения. Он и ведет рассказ…» М.А. Батину принадлежит разграничение двух понятий, вкладываемых в одно и то же слово: «сказ как стилевое явление в литературе (сказовая форма, сказовая манера повествования) и сказ – литературный жанр. Это условный литературный прием, сущность которого состоит в том, что автор как бы передает свои писательские полномочия другому человеку, от имени которого ведется рассказ»1. Сказ как способ повествования широко известен в русской классике. К сказу обращается Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и в «Повести о капитане Копейкине». Лесков, Мамин-Сибиряк, Мельников-Печерский включают сказовые фрагменты в свои повести, рассказы и очерки. В 20-х годах ХХ столетия сказовую манеру талантливо осваивает Михаил Зощенко в сатирическом цикле «Рассказы господина Синебрюхова». Как стилевое явление сказ получил большую теоретическую литературу в трудах В. Виноградова, Б. Эйхенбаума, М. Бахтина. Сравнительно легкая и увлекательная задача – отграничение сказа от сказки, народной и литературной. Сложнее распознать сказ и сказовую манеру (форму) по той причине, что сказ так же имитирует «устность» (иллюзию непосредственного разговора со слушателем) и так же опирается на стихию социально окрашенной народной речи: у Лескова на язык духовного лица; у Мельникова-Печерского – представителя провинциальной обывательской среды, у Мамина-Сибиряка – сплавщика, охотника, старателя, у Зощенко – представителя полупролетарской среды из большого города. Бажов непредсказуем не только тем, что выбирает на роль рассказчика уральского рабочего конца XIX столетия. Сказы «Малахитовой шкатулки» по структуре своей значительно ближе к «реалистическому рассказу в его сказовой разновидности» (определение М.А. Батина), нежели сказовая форма (манера) повествования у русских классиков. Бажов свободнее в выборе тех приемов психологического анализа, которые по природе своей органичны не для рас1 Батин М.А. Павел Бажов. М., 1976. С. 136. 91 сказчика из народа, но для писателя реалистического направления. В «Золотом Волосе» реалист и психолог Бажов незаметным образом заменяет собой деда Слышко, когда передает изменчивое состояние Айлыпа в долгой разлуке с невестой. Напоследок все же дает знать о себе оскорбленное мужское достоинство: «Только вот когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка, из себя чернявенькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчоночка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он: “Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает: засмеяли бы! Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то еще выйдет либо нет, а тут калым заплатил и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет”. Подумает так, потом опять свою невесту Золотой Волос вспомнит. Только уж не по-старому, не столь ее жалко, сколь обидно – из рук вырвали. Нельзя тому попускаться!» Неслучайно психологические абзацы появляются не сразу, но лишь в окончательной редакции «Золотого Волоса». В первоначальной публикации (альманах «Золотые зерна». Свердловск, 1939) удалой богатырь не испытывает никаких душевных колебаний. В том же психологическом направлении дорабатывается первоначальный текст «Серебряного копытца». Те бесконечные вопросы, которыми пятилетняя Даренка донимает охотника Кокованю и которые характерны как раз для детей Даренкиного возраста, отсутствуют в публикациях 30-х годов (Уральский современник. 1938. № 2; сборник для детей «Морозко», 1940). Бажов вносит их в процессе работы над книжкой «Ключ-камень», вышедшей в Свердловске в 1942 году. …Рассказал Кокованя о необыкновенном козлике с серебряным копытцем, «да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле. – Дедо, а он большой? Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая. 92 А Даренка опять спрашивает: – Дедо, а рожки у него есть? – Рожки-то, – отвечает, – у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у этого на пять веток. – Дедо, а он кого ест? – Никого, – отвечает, – не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает. – Дедо, а шерстка у него какая? – Летом, – отвечает, – буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая. – Дедо, а он душной? Кокованя даже рассердился: – Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел – он лесом и пахнет». Принципиальное отклонение Бажова от сказовой манеры (и соответственно приближение к реалистическому рассказу) заключается в разрушении монологичности. По сложившейся традиции русский сказ «поглощает диалог, во всяком случае, борется с ним»1. Сказовая форма допускает «стертый», «косвенный» диалог. Это означает, что речь другого лица подается в пересказе повествователя. В произведениях сказовой формы – от «Повести о капитане Копейкине» Гоголя до «Аристократки» Зощенко – возможны лишь редуцированные реплики других персонажей. Например, героиня Зощенко, принадлежащая к совсем иной социальной среде, нежели та, которую представляет рассказчик – слесарь-водопроводчик Григорий Иванович, разговаривает языком последнего. «– Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр»; «мы привыкшие, – отвечает «аристократка» на осторожное замечание Григория Ивановича о третьем пирожном; наконец, прощание: «Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег – не ездют с дамами»2 (выделено нами. – Л. С.). 1 Виноградов В.В. Проблема сказа в стилистике // Избр. труды. О языке художественной прозы. М., 1980. С. 52. 2 Зощенко М.М. Голубая книга: Рассказы. М., 1989. С. 361, 363. 93 В противовес сказовой стилистике Бажов использует нередуцированные реплики, на основе которых возникают миниатюрные диалоги-сценки, характеризующие героев без участия рассказчика и вместе с тем продвигающие действие. Эти диалоги легко запоминаются, они сценичны и выразительны: «Медной горы Хозяйка и Степан»; «Данилушка – приказчик – Прокопьич»; «Катерина и Малахитница»; «Никита Жабрей и Дениско Сирота»; «Настасья и странница»; «Илья и Синюшка»; «дедко Ефим и Федюнька»; «дед Кокованя и сиротка Даренка» и другие. Развитый диалог – как раз тот случай, когда автор выстраивает повествование помимо рассказчика Слышко. Бажов создает подвижную жанровую форму, свободно контактирующую с другими эпическими жанрами. В составе гумешевской группы создаются малые циклы: своего рода две сказовые дилогии: «Медной горы Хозяйка» – «Малахитовая шкатулка»; «Про Великого Полоза» – «Змеиный след»; и трилогия «Каменный цветок» – «Горный мастер» – «Хрупкая веточка». В каждом из циклов прослеживается история одной рабочей семьи. Уникальны внутрижанровые разновидности «Малахитовой шкатулки»: сказы-легенды («Дорогое имячко», «Богатырева рукавица»); сказ-сказка («Золотой Волос»); сказ-новелла с острой интригой и неожиданной развязкой («Хрустальный лак»); сказ – исторический рассказ о реальном событии или реальной личности («Демидовские кафтаны», «Ермаковы лебеди», «Иванко Крылатко», «Коренная тайность», «Чугунная бабушка»). К концу творчества Бажова число сказовых разновидностей уменьшается. Основным остается сказ, тяготеющий к историческому рассказу с типизированными персонажами: «Широкое плечо», «Круговой фонарь», «Золотые дайки», «Аметистовое дело», «Не та цапля», «Золотоцветень горы», «Живой огонек» и другие. Бажовский сказ – своего рода синтез структурных элементов реалистического рассказа и устного повествования фольклорного типа. До появления «Малахитовой шкатулки» произведения, создававшиеся в сказовой манере, стояли как бы на обочине большой литературы. Павел Бажов создает сказ – жанр, который при всей своей неповторимости – и даже единичности! – обогащает систему жанров русской прозы. В стилистической и жанровой форме, максимально 94 приближенной к народному мировосприятию, Бажов утверждает фундаментальные духовные ценности народной жизни. Нельзя было бы не признать, что нравственно-этическая «программа» Павла Бажова, сориентированная на поведение человека в сфере труда и быта, не устаревает за те десятилетия, которые прошли с момента появления книги сказов «Малахитовая шкатулка». 2009 95 II. Уральские писатели второй половины ХХ века Виктор Астафьев на Урале Всякое таинство, тем более таинство творца, достойно уважения хотя бы потому, что пока оно нам неподвластно и недоступно, а значит, глубже и сложнее нашего незрелого, но чрезвычайно самонадеянного времени… Виктор Астафьев. Посох памяти Виктор Астафьев после окончания Отечественной войны прожил на Западном Урале, вначале в Чусовом, затем в Перми, без малого четверть века. Здесь и начался его долгий литературный путь – от первых публикаций в газете «Чусовской рабочий», романа «Тают снега» (1955–1957), небольших сборников рассказов («До будущей весны», 1953; «След человека», 1962; «Весенний остров», 1964) до повестей «Стародуб» и «Перевал», печатавшихся в альманахе «Прикамье» и в журнале «Урал». Здесь были написаны также повести «Звездопад» и «Кража». А в 1968 году в Перми выходит «Последний поклон», ставший одним из самых примечательных явлений в «деревенской прозе» 1960-х годов. Повесть эта будет переиздаваться множество раз, но ее первое, пермское издание особенное по причине художественного оформления. Талантливая работа пермских художников В. и А. Мотовиловых делает книгу редким подарком для библиофилов и наверняка ждет своих исследователей-искусствоведов. Сам Виктор Астафьев хранил добрую память о рано ушедшем из жизни пермском художнике Алексее Мотовилове. За Астафьевым – самое строгое отношение к литературной учебе. После первых же публикаций приходит отчетливое осознание того, что «в литературе русской не должно быть никакого баловства, никакой самодеятельности. Что у нас нет на это права. За нашей спиной 96 стоит такая блистательная литература, возвышаются горами такие титаны, что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя хотя бы на день или час, обязан крепко подумать над тем, какие у него есть на это основания <…> В 1959 году поступил я на Высшие литературные курсы, и хотя пришел туда уже с заметным печатным багажом, всетаки почти заново начал общаться с литературным миром, соскребать с себя толстый слой провинциальной штукатурки. Раздвинулись рамки окружающей среды. Москва с театрами, концертными залами, выставками, несколько первоклассных преподавателей и друзей, прекрасно знающих литературу, много испытавших и повидавших в жизни, – сделали за два года ту работу, которую в одиночку я одолевал бы лет двадцать»1. Жил на Урале, однако полагал, что «суровый и угрюмый» с виду край с его «великой и загадочной стариной» может быть «услышан сердцем и увиден глазами человека, рожденного этой землей». Ценил «кудесника Бажова», разгадавшего «уклад жизни староуральцев с их самобытным языком, обрядами, песнями, рукомеслом, знанием характеров древних доменок-кормилиц, земных недр и таежных троп». Удивлялся способности Бажова «воссоединять день вчерашний с сегодняшним, не подделываясь “под народ”, а живя им, этим народом, его помыслами, трудами и заботами, с детства впитавши те самые соки, без которых любое дерево, в особенности литературное, чахло и безлисто»2. В этой же статье Астафьев признавался: «Может, приблизительното и написал бы, наверное, даже бойчее, чем тот же Филиппович, рука, как говорится, набита, но получилось бы все равно неорганично, немо, ибо тот “звук”, то есть мое виденье и слышанье жизни, мое мировосприятие, сформировано Сибирью, ее языком, песнями, природой и потому требует иного строя речи, иного дыхания. Мои попытки работать на «уральском материале» закончились тем, что требовательнейший мой друг и читатель — ныне покойный Борис Никандрович Назаровский, во времена моей литературной молодоАстафьев В.П. Сопричастный всему живому // Наш современник. 1973. № 8. С. 174. 2 Астафьев В.П. С надеждой и верой // Астафьев В. Посох памяти. М., 1980. С. 331. 1 97 сти работавший главным редактором Пермского книжного издательства, сказал мне как-то тет-а-тет: “Не мудри-ка, Виктор Петрович, не майся, не приспосабливай себя и не насилуй – все твои “уральцы” все равно говорят и думают по-сибирски. Пой-ка уж свою родную Сибирь»1. Об Урале не писал, но связей с уральцами не терял. Внимательно следил за творчеством Николая Никонова, которого неизменно выделял среди писателей-свердловчан. Большие надежды связывал с Александром Филипповичем – «талантливейшим и умнейшим», однако «невезучим парнем». Поддерживал дружеские связи с Виктором Потаниным из Кургана, Михаилом Голубковым из Перми, Василием Юровских из Шадринска. Неоценима его поддержка Андрея Ромашова в пору публикации «Диофантовых уравнений» (1981). Вряд ли эта повесть эпохи застоя увидела бы свет без его нарочито обтекаемой и доброжелательной внутренней рецензии, которая отчасти успокаивала бдительную цензуру, хотя впервые за несколько десятилетий советской литературы именно в «Диофантовых уравнениях» было заявлено об относительности марксистско-ленинского учения. Не претендуя на строгую научность, выделим «уральский период» творчества Виктора Астафьева, в отличие от последующих – «вологодского» и «сибирского». К концу 1960-х – началу 1970-х Виктор Астафьев – широко известный русский писатель. Его издают в Перми, Свердловске, Москве, Вологде и других городах страны. О нем охотно пишут известные литературные критики той поры. Подмечают сложившуюся манеру астафьевского письма: «Вся его проза круто замешана на материальной, бытовой основе жизни, не становясь при этом ни натуралистической, ни бездуховной»2. Несколько иначе ту же манеру поясняет маститый Александр Макаров на примере повести «Стародуб» (1962), со страниц которой веет не только «неутолимой любовью к родной природе и любовью к герою, но и вот этим русским духом. И от характеристических фигур, изображенных в ней, и образной ткани, вытканной словами живой речи – то грубоватоАстафьев В.П. С надеждой и верой. С. 332–333. Михайлов А.Н. Стихия народной жизни // Астафьев В.П. Ясным ли днем: повести и рассказы. Вологда, 1972. С. 9. 1 2 98 резкой, то поэтически-напевной. Пожалуй, в этой повести впервые прорезалась астафьевская манера письма: его умение делать фразу то жилисто-суровой – “голод давил людей, как тараканов, оставляя на земле черные пятна могил”, то нежно-напевной: “каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том крае, который его родил”»1. «Страстно, живописно, на взлете поэтического чувства» Астафьев будет писать до конца 1970-х, после чего появятся по преимуществу натуралистические, сурово-мрачные краски («Прокляты и убиты», «Веселый солдат» и др.). Кое в чем помогает исследователям сам автор. В одной из ранних своих статей «Нет, алмазы на дороге не валяются» он полемически отстаивает право художника на реалистическую деталь, почти исчезнувшую из произведений позднего соцреализма. «И что это за такое сакраментальное слово – натурализм! – с которым тебя, злосчастного автора, так и караулят, так и караулят, и до того докараулили, до того этим словом запугали, что его стали бояться, и герои иных книг перестали не только до ветру ходить, чихать, сморкаться, кашлять, мыться в бане без трусов, но даже есть перестали»2. В новелле «Бабушкин праздник» Астафьев подмечает сентиментальность как отличительную черту в характерах своих земляков: «Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке». А чуть позднее признается: «Некий налет сентиментальности просочился и в мой характер – и оказался непобедимым. По причине этой странности, вовсе вроде бы уж не типичной для «мужественных и суровых сибиряков», я рано и навсегда полюбил дивную нашу природу…»3. Особенную чувствительность, а скорее, обостренное восприятие прекрасного Астафьев передает автобиографическим персонажам — Толе Мазову из повести «Кража» и Витьке Потылицыну из «Последнего поклона». В самом художественном тексте избыточность Макаров А.Н. Во глубине России // Астафьев В.П. Идущим во след. М., 1969. С. 717. 2 Астафьев В.П. Нет, алмазы на дороге не валяются // Урал. 2004. № 5. С. 23. 3 Астафьев В.П. Сопричастность всему живому. С. 167. 1 99 бытовой детали и чрезмерную эмоциональную размягченность легко снимает сам повествователь, который снисходительно прощает своим героям их человеческие слабости. Другое дело, когда добродушная ирония пропадает и ее место тотчас же занимает некая умилительность. Стилистическая одноплановость не так уж часто встречается в прозе Астафьева, хотя определенно обнаруживает себя в рассказе «Ясным ли днем», где образ старого фронтовика Сергея Митрофановича, наделенного от природы исключительной артистичностью, выглядит все-таки приглаженным. В мире природы В конце 1950-х – начале 1960-х Виктор Астафьев активно печатается и уже не считается начинающим. Но все-таки это ранний Астафьев, романтически приподнятый, склонный к характерам крупным и резко очерченным, к ситуациям исключительным. Писатель молод, удачлив, полон творческих планов и замыслов. Перед ним еще не открываются чудовищные перекосы советской системы: «оттепель» внушала определенные надежды на «социализм с человеческим лицом». Неудивительно, что повести «Перевал» (1959), «Кража» (1962–1965) да и рассказы 60-х годов несут в себе отзвуки социальной утопии. Всего больше тревожит писателя судьба нашей природы. В предисловии к книжке рассказов «След человека» (Свердловск, 1962) находим прямое заявление: «Хочу сделать этой книжкой простую работу и попросить, а кое у кого и потребовать очень немного — уважения к матери-природе. К той самой матери, без которой ничего не было бы на земле, даже нас»1. Между человеком и природой, по мысли автора, складываются прямые родственные отношения. Природа – мать и кормилица, человек – сын природы; он знает ее характер, ее законы и считается с ними. В рассказах 60-х годов зачастую все достаточно просто. Двенадцатилетний Захарка во время весеннего птичьего прилета настрелял 1 100 Астафьев В.П. След человека. Свердловск, 1962. С. 9. для оставшейся без кормильца семьи столько гусей и уток, что хватило на целый месяц. Захарка – не браконьер и не хищник, однако не пассивный «жалетель». К охоте, как и его не вернувшийся с войны отец, относится со «спокойной серьезностью – она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь» (рассказ «Захарка»). Заблудился в тайге Васютка, потерял затеси, когда погнался за подстреленным глухарем. Пятеро суток блуждал по тайге, но не погиб и не умер от голода. Чуть заметные приметы, подсказанные когда-то отцом и дедушкой, привели его вначале к протоке, а затем и к речке, впадающей в Енисей. Выжил Васютка да еще нашел для рыболовецкой бригады своего отца богатейшее рыбное озеро (рассказ «Васюткино озеро»). Кое-что в этих рассказах идет от послевоенной подростковой литературы, где рано повзрослевшие дети выполняли работу взрослых мужчин и наставляли нерадивых дяденек, как следует вести себя в мире природы (рассказ «Запах тальника»). Даже самая «психологическая» из ранних повестей – «Перевал» – менее чем через десять лет окажется пройденным этапом, хотя здесь есть безусловные художественные удачи: образ молоденькой взбалмошной мачехи, оказавшейся в такой непростой житейской ситуации; расставание Ильки с маленьким Митькой, описание голодной и холодной зимы, которую мачеха и пасынок прожили на удивление дружно. Впервые появится у Астафьева мотив «робинзонады». Правда, одинокая Илькина жизнь на берегу скоро закончится вполне благополучно. В 1970-е годы тот же мотив значительно усложнится. В новеллах «Бойе» и «Сон о белых горах» (повествование в рассказах «Царь-рыба», 1972–1975) герои пройдут через труднейшие испытания тайгой и тундрой. В «Перевале» робинзонаду сменяет тема воспитания подростка в трудовом коллективе: Илька ни в чем не уступает своим деловым сверстникам из рассказов «Захарка» и «Васюткино озеро». Он и хариусов сумеет наловить, чтобы сварить уху для целой бригады сплавщиков, и в бараке порядок навести, и спасти бригадира Трифона Летягу во время перехода через Ознобихинский перевал. В деревню к бабушке и дедушке возвращается уже «не тот опасный для “обчества” малец, у которого слезы готовы брызнуть от первой обиды и особенно от ласки», но почти «рабочий человек», который и первую зарплату получил, и в ведомости расписался. Словом, все в повести, 101 «как положено», однако проницательный и неизменно доброжелательный к Виктору Астафьеву Сергей Залыгин почувствует в «Перевале» (в отличие от «Последнего поклона») чуть заметный оттенок литературности: «если Илька еще несет в себе наивное желание понравиться читателю, если в ней сами имена действующих лиц выдают некую нарочитость – Иисусик, Летяга, Дерикруп, дядя Роман Красное Солнышко, собачонка с прозвищем Архимандрит, то герои «Последнего поклона» совершенно лишены этой нарочитости»1. При всем том романтические краски раннего Астафьева живописны и притягательны. Кажется, в такую давнюю литературную традицию, связанную с именами Мамина-Сибиряка, Короленко и Горького, уходит сюжет борьбы человека с разбушевавшейся рекой, а рассказ о том, как преодолевают сплавщики Ознобихинский перевал, несет в себе момент эстетической истины: «Ознобихинский перевал вздымается разом, без обычных мелких каменных быков, без скалистых обнажений, завешанных космами мха и затянутых кустарником. Вот он встал, горбом подпер облака, непоколебимый, великий, и вся округа с лесами, зелеными седловинами робко приникла к его подножью и несмело выкидывает полоски зелени на траурно мертвый камешник»2. Безжизненные скалы, уходящие вершинами под облака, бездонные ущелья, губительные стремнины, ревущие пороги — на фоне столь возвышенного пейзажа обыкновенные сплавщики выглядят былинными богатырями. Они работают так, что «дрогнула ночь», «дрожали горы», «зашумела еще сильнее и злее прорвавшаяся река, рявкнул сбросивший со своей спины тяжкий груз порог Ревун», «жутко закричал вспугнутый канюк и ринулся в темноту…». Читатель волен принимать или не принимать чисто романтические краски. В наш практичный век они не пользуются популярностью, однако же, рожденные по велению таланта и сердца, не нуждаются ни в извинениях, ни в мотивировках. Не станем проводить прямых параллелей между известными романтическими произведениями из классики и почти неизвестным «безлюдным» рассказом Астафьева «На далекой северной вершине». И все-таки нельзя не отметить, что 1 Залыгин С.П. Повести Виктора Астафьева // Астафьев В.П. Повести. М., 1977. С. 4. 2 Астафьев В.П. Перевал // Повести. М., 1964. С. 166. 102 дикий северный олень, явившийся из бескрайних тундровых просторов, внутренне близок и лермонтовскому «Парусу», и горьковскому «Соколу», хотя и не повторяет их. Ему тоже предстоит испытать себя на пределе сил – сразиться с соперником и отстоять свое право на «губительную всепобеждающую любовь» или умереть. Его безрассудство и дерзость резко контрастируют с невозмутимой уравновешенностью вожака двухтысячного оленьего стада, и этот умный, по-хозяйски «добропорядочный» вожак – надежный помощник пастухов – определенно уступает дикарю-пришельцу. Это один из тех рассказов Виктора Астафьева, в которых, по словам Александра Михайлова, природа живет «своей жизнью, отдельно от человека, в которых автор целиком погрузится в эту жизнь, наблюдая в ней смутные отголоски трагедий, порывов и страстей, потрясающих человеческое общество. Самый блистательный из этих рассказов – “На далекой северной вершине”. Какая романтическая страсть, бесстрашие, природная краса и притягательная сила заключены в образе дикого молодого оленя! Слепой и яростный от губительно-сладкой звериной страсти, он рвется в бой и гибнет на рогах матерого и опытного вожака оленьего стада»1. Какой же необычный мир, поразимся мы, создает иной раз творческая фантазия художника! Правда, за рассказом «На далекой северной вершине» угадывается далеко не рядовой эпизод биографии писателя. Летом 1963 года Виктор Астафьев и свердловский очеркист Леонид Фомин отправляются с группой школьников из Верх-Яйвинского района Пермской области в пеший двухсоткилометровый (!) поход к одной из самых мощных вершин Приполярного Урала – Кваркушу. Подростки в сопровождении двух учителей перегоняют более сотни колхозных телят на альпийские луга по юго-западному склону Кваркуша. У Фомина этот поход даст материал для обстоятельной очерковой повести «Мы идем на Кваркуш» (1964), у Астафьева – для романтического рассказа. Интересны, впрочем, оба произведения. Не менее экзотична ранняя повесть Астафьева «Стародуб», порожденная рассказами и преданиями о старообрядческих поселениях, запрятавшихся по таежным углам Урала и Сибири. Социально1 Михайлов А.Н. Стихия народной жизни. С. 12. 103 историческая значимость условного сюжета невелика. Но в «Стародубе» сохраняется очарование самой легенды, где всегда есть место реальному и фантастическому, а добро и зло обретают завершенные и особенно красочные формы. Автор не без основания полагает, что нравственные законы меняются куда медленнее, нежели образ жизни людей и способы их хозяйствования. Вполне возможно принять те нормы в отношениях с природой, которых держатся «благородный» охотник Феофан и его приемный сын Култыш, отстранившиеся от злобного мира Вырубов. Они почитают тайгу (природу) как великую мать-сотворительницу, как некую высшую, почти божественную силу. Охотник Култыш формулирует мудрые законы тайги почти с афористической краткостью: «Ослабелого зверя не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил». По мнению жадного Амоса, все это блажь, которую отец вогнал в голову приемного сына, а сам Култыш – «простофиля и дурак». Тайга всех рассудила по совести. Погубила Амоса, подстрелившего на чужих солонцах маралуху с теленком, закружила его, не дала добраться до дому. Умирающий от алчности и хвори Амос чувствует над собой разгневанную тайгу. «И думалось ему, что это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до Спасителя. Это она душила его, забрасывала колючими, холодными лапами, и слой этих лап делался все тяжелее и толще, и втискивал он его в землю, давил грудь, что каменная плита»1. Она же, тайга, сохранила нетронутым тело Култыша до глубокой зимы. Когда Клавдия уже по санному пути приехала в избушку Култыша, он «лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток перешибал запах тления. В руке Култыша вместо свечи цветок стародуба». Верные, ни в чем не согрешившие перед тайгой сыновья возвращаются в ее царство, обретая бессмертие в извечном круговороте природы. На угоре, где похоронен Феофан, раньше всего весной из земли «вылупляются» стародубы. А кедренок с тремя пышными лапками, который Клавдия посадила на могиле Култыша, «оказался живуч и настырен», «пошел в рост», и в тот год, когда Клавдия «определила сынов своих на работу в город, а сама, будто исполнив 1 104 Астафьев В.П. Повести о моем современнике. М., 1972. С. 61. все, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой Култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть одиноким»1. С движением времени в произведениях Астафьева потускнеют романтические краски – останется «модель» взаимоотношений человека и природы. Не по той ли схеме выстроится противопоставление городского интеллигента Гоги Герцева и сибирского рыбака и охотника Акима в новелле «Сон о белых горах» («Царь-рыба»)? По-видимому, Астафьев дорожил повестью «Стародуб», если первой ставил ее почти во всех своих сборниках. По сравнению с «Перевалом» здесь найдено принципиально новое изображение природы: не борьба и не преодоление, но «коленопреклонение» перед природой, в свое время осужденное Горьким, однако сохранившееся в творчестве таких художников, как Леонид Леонов и Михаил Пришвин. Следовательно, нет случайности в том, что «Стародуб» печатается с посвящением Леониду Леонову. Чувства добрые За несколько десятилетий своей счастливой литературной судьбы повесть «Последний поклон» почти истерзана (другого слова не подобрать) критикой и литературоведением. Истерзана до такой степени, что порой возникают «ножницы» между непосредственным читательским и научным восприятием одного и того же текста. Там, где рядовой читатель порадуется человеческой доброте и заботе о ближнем, исследователь найдет «сочетание архетипических характеров мудрой бабушки-крестьянки Катерины Петровны и ее внука Вити Потылицына», а всю повесть прочтет как «весьма распространенную в мировой литературе архетипическую историю утраты» и, наконец, давно найденное автобиографической прозой взаимодействие сознаний юного героя и повзрослевшего повествователя истолкует как «пространственно-временное наложение, когда сквозь приметы современности проступает лик патриархально-аграрной России» (Русские писатели ХХ века: биографический словарь. М., 2000). 1 Астафьев В.П. Повести о моем современнике. С. 71–72. 105 К слову сказать, проявления патриархального крестьянского уклада в первой книге «Последнего поклона» – предмет для историков и социологов, хотя в самом тексте они вряд ли обнаружат в интересующем их плане нечто существенное. Разве что совместную рубку капусты в новелле «Осенние грусти и радости», где деревенские женщины превращают эту трудоемкую и необходимую работу в настоящий «бабий праздник». Да еще упоминание о «дедушкиной заимке», где дед Илья пашет свою землю, а порой уединяется – когда бабушка Катерина Петровна в своих наставлениях не замечает, что переходит ту границу, через которую «переходить нельзя» (новеллы «Монах в новых штанах», «Бабушкин праздник»). Память писателя наверняка хранила большее число примет, характеризующих социальный уклад доколхозной сибирской деревни, а отбираются сюжеты, казалось бы, и вовсе незначительные: гуси, чуть было не погибшие в полынье, походы за земляникой, пряничный «конь с розовой гривой», привезенный из города бабушкой, приезд в гости дяди Филиппа, судового механика, отчаянная рыбалка ребятишек с острова в пору весеннего половодья, когда Енисей не на шутку разбушевался… Можно напомнить все другие сюжетные ситуации, но так и не обнаружить в них «ничего такого», то есть социально значимого: бабушкины именины, поездка за сеном, фотография, на которой не оказалось героя, щенок по кличке Шарик, подобранный бабушкой в самом голодном тридцать третьем году, печальный образ одинокого скрипача Васи-поляка… Так о чем же написан «Последний поклон»? Почему тридцать с лишним лет назад эта книга принималась восторженно, да и сегодня притягивает к себе? В двух словах не ответишь. Воспользуемся суждением Александра Макарова, приметившего Виктора Астафьева еще в ту пору, когда «Последний поклон» целиком не сложился, а рассказы, его составляющие, появлялись по отдельности: «Астафьева не назовешь ни бытописателем, ни пусть даже вдохновенным певцом природы, по натуре своей он моралист и относится к тому роду художников, которые пишут о душе – предмете необъяснимом и как бы иллюзорном, однако всем понятном…»1 1 106 Макаров А.Н. Во глубине России. С. 706. «Последний поклон» – светлая и добрая книга, рожденная талантом, памятью и фантазией художника. Не забудем – человека, сравнительно недавно вернувшегося с войны («Страницы детства» пишутся с середины 1950-х). Он, этот человек, еще воспринимает доставшуюся ему жизнь как неожиданный подарок судьбы, чаще чем когда-либо вспоминает о невернувшихся фронтовых друзьях, испытывая перед ними необъяснимое чувство виновности, и радуется жизни как она есть. Лет через двадцать, уже во второй книге «Последнего поклона», Астафьев расскажет о настроении, с которым встречал весну 45-го: «И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, главной отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность – мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше не осталось» (глава «Пир после победы»). Собирался писать «обыденно об обыденной жизни», – вспоминает Астафьев. А получилось лирично и задушевно, легко и празднично. Даже самая тяжелая новелла, «Ангел-хранитель», начавшаяся рассказом о том, как в 33-м году «наше село придавило голодом», завершается описанием «войны» между бабушкой и «веселой, глупой и преданной» собакой по кличке Шарик. Печаль здесь светла, по-пушкински «легка», потому что сопутствует высокому строю авторских размышлений: о вечности человеческой доброты, виновности и запоздалом раскаянии перед бабушкой, которую герою так и не удалось проводить в последний путь, о неистребимой любви к родине. В 1960-е годы в русской прозе зазвучала тема «малой родины», на которую писатель откликнулся новеллой «Далекая и близкая сказка», едва ли не лучшей во всей этой книге. Здесь Астафьев в первую очередь психолог. Он постигает истоки чувств и переживаний, рождающих привязанность к родным местам: притихшее ночное село, таинственно меняющийся в лунном свете привычный пейзаж, могила матери на кладбище, тут же, за селом, неугомонный Енисей, сторожка Васи-поляка, так похожая на сказочную избушку, незнакомая, волнующая мелодия скрипки и слова человека, который всю жизнь тосковал по своей родине, хотя никогда не видел ее: «Если у человека 107 нет матери, нет отца, но есть родина, – он еще не сирота. Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине…». Что-то изменилось и сдвинулось в душе мальчика в эту ночь. «Не знаю, сколько я просидел на крутом яру Енисея… Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собою и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон. Но эта ее неспокойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня, как успокаивает человека шум ручья на перекатах либо говор ключика. Наверное, потому что была осень, была луна над рекой, сталистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, а скорее на какие-то расчудесные растения, и еще, наверное, потому, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин над дальним перевалом, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени и крапиве, словно бы он один во всем мире, трава, как бы отлитая из металла, – это и была моя родина, близкая и тревожная». Зло в этом мире, разумеется, существует, но проходит оно вторым планом, своего рода аккомпанементом, оттеняющим силу добра. В дружной застольной песне в честь бабушки «на высшем дребезге и слезе пел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим Пашкой Грязинским». Выдюжит горемычная Августа и девчонок своих сохранит, несмотря на то, что муж ее Тимофей Шамов «подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее». Никакое предательство, никакая подлость, по убеждению автора, не остаются безнаказанными. «Рок то или не рок, судьба или не судьба, но через несколько лет после войны Шамов погиб – упал лесопогрузочный кран и задавил его». А неотразимый дядя Филипп, судовой механик, который будет убит в 42-м году под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников, оставит по себе добрую память. Добро человеческое, как поучает бабушка, «никогда не пропадает. И человека, и животину жалеть надо, потому как у животной тоже душа есть». Никакой другой философии в «Последнем поклоне» нет, кроме утверждения деятельного добра и убежденности в неизбежной наказуемости зла. Однако этого оказалось достаточно, чтобы книга обрела «долговекость». До 108 какого же нравственного оскудения надо было дойти в рамках «производственной» и «колхозной» тематики, чтобы природная человеческая доброта, милосердие и сострадание воспринимались как художественное открытие! Давно отшумели страсти по «деревенской» прозе, отпали и опасения: не подорвет ли литература о доколхозной (сибирской, уральской, поволжской, вологодской) деревне основы самого колхозного строя? Пристрастному обсуждению подвергались повести Сергея Залыгина «На Иртыше», Николая Никонова «Старикова гора», романы Бориса Можаева «Мужики и бабы», Василия Белова «Кануны», Ивана Акулова «Касьян Остудный». «Последний поклон» в этом ряду не упоминался, и все-таки Астафьев обеспокоился. В интервью с критиком Ал. Михайловым в год своего пятидесятилетия (1974) признавался: «Что-то уж больно благополучно там у меня в “Последнем поклоне” все получается, пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа просила выплеснуть, поделиться поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно рассказывать. Ан в книге, собранной вместе, получился прогиб». Чтобы снять «прогиб», пишутся более жесткие, порой трагические главы о бесприютном игаркском отрочестве героя. Получились в итоге две разные по настроению книги «Последнего поклона» – первая и вторая. Поэтическому миру, создававшемуся в 1960-е годы, не дано повториться. Меняется время, меняется сам художник. В том и другом произведении есть своя логика, исключающая сомнения относительно первой: а так ли все было на самом деле? Не отступил ли писатель от исторической правды? Ведь не мог же он не знать, что крестьянский труд в пору единоличности был намного тяжелее, а уклад в целом сложнее, чем он выглядит у Астафьева. Ответ мог бы получиться примерно таким: да, отступил, приукрасил, придумал. Только не забыть, что этот благополучный мир, где все идет «по закону давно сотворенной жизни», лишь отчасти историчен, ибо принадлежит самому автору. Другого мира в искусстве не бывает. Это мечта, своего рода социальная утопия, на которую имеет право художник. В данном случае – вне утверждения советской идеологии. Вместе с произведениями многих шестидесятников эта самая личная книга Астафьева 109 разрушала устойчивый синдром классовости, исподволь поворачивала общественное сознание к гуманистическим ценностям. Доверие к социалистическим идеалам больше сказалось в повести «Кража» (Сибирские огни. 1966. № 8). Главный герой Толя Мазов, которому многое перешло от Витьки Потылицына, больших раздумий не вызывает. Выдержал парнишка испытание в неравной драке с Деменковым и его командой и дальше будет жить «по совести». Возможно, станет одним из строителей Краесветска (Игарки). Возможно, соединит свою жизнь с Зиной Кондаковой, так много перестрадавшей за свою еще короткую жизнь. История с кражей денег, осиротевшие дети, неожиданная смерть Гошки Воробьева – все это и еще многое легко укладывается в школьную характеристику «образа». Не укладываются два других персонажа: старый Мазов и заведующий детским домом Репнин. Оба они, как говорится, еще не прописаны автором в художественной системе повести, однако же неотразимы. Кто такой прадед Яков Мазов – мощный крестьянский корень, безжалостно вырванный из родного гнезда, «административно высланный», умирающий в чужом краю? Тот ли это труженик от земли, который совместно с такими же кряжами держал на своих плечах огромную империю? Или же порождение жестокого собственнического уклада, с которым необходимо покончить? Коммунист Ступинский так и полагает: со смертью старого Мазова «ушла в прошлое целая эпоха». Если это окончательное решение, вряд ли понадобился бы Астафьеву романтический образ горящего осокоря, по преданию — «рай-дерева», которое горит и горит, несмотря на то, что его корни ушли глубоко в воду. «Выпала судьба этому дереву расти в раздолье и одиночестве. И умереть одиноко. Нет горше такой вот смерти, медленной и никому не нужной. Горело нутро могучего дерева, исходило пламенем и дымом, а дышать было трудно старику Мазову. И чудилось – не дерево это, сердце его истлевало бесшумно. К ногам подкатывала холодная вешняя вода, леденила их, отделяя корни от догорающей вершины, на которой беспомощно бьют крылышками листья и угорело хрипят меж ними голобрюхие галчата в гнезде». 110 Загадочен, исполнен противоречий бывший белый офицер и колчаковец Репнин, пробуждающий размышления о той части русской дворянской интеллигенции, которая так или иначе пришла к сотрудничанью с советской властью. Чудом избежавший расстрела Репнин собирался уехать из России, а не уехал; никогда не думал, что станет работать с подростками, а вот заведует детским домом. Оказалось, что здесь как нигде более потребовались его дворянская культура, воспитанность и такт. Не рассчитывал сотрудничать с коммунистами, а ради обездоленных детей постоянно обращается к коменданту города коммунисту Ступинскому. Образы, еще не разработанные литературой, слабо контактирующие с историей кражи, воспринимаются как «заготовки» – к каким-то творческим планам Астафьева. О войне Человеку, не прошедшему через прямой огонь войны, затруднительно оценивать произведения, написанные о войне. Возникает опасение чего-либо не понять или не заметить. К счастью, за критикой, которая считается неоплатным должником литературы, сохраняется неотъемлемое и чуть ли не единственное право — судить художественный текст по законам словесного искусства. Последние все-таки существуют, хотя у каждого критика свой арсенал подходов и аргументов. Кое-что дают, на наш взгляд, сопоставления внутри самого литературного ряда. Опытный фронтовик, Виктор Астафьев не сразу решается на изображение военных событий. Удерживает боязнь неосторожным, неточным словом оскорбить людей, рядом с которыми воевал, и тех, кого «приходилось хоронить вдоль долгих дорог войны». В первой «военной» повести «Звездопад» фронтовых событий нет. Война еще не окончилась, но уже отступила от того города, где лечится в госпитале солдат-сибиряк Мишка Ерофеев, и постоянно напоминает о себе. Неунывающий лейтенант Рюрик Ветров, у которого ран на теле столько же, сколько ему лет, — девятнадцать, по ночам продолжает командовать своей минометной батареей. По самому непредвиденному случаю бушует палата контуженных, которых в госпитале зовут 111 всех одинаково — Иванами, потому что никто из них не помнит своего имени. «Ни одного ранения нет на теле контуженного, ни одной дырки, а он все равно что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную — разве это человек? Все выбито, истреблено». История любви и расставания Мишки и Лиды также порождена войной. Какое будущее у парня, который воевал и еще не успел обзавестись ни образованием, ни профессией? Неизвестно, останется он живым или вернется с ранением. Мишке приходится согласиться с трезвым житейским расчетом Лидиной матери, хотя разрыв мучителен для влюбленных. Сохраняется лишь воспоминание о первой любви: «тому, кто любил и был любим, счастьем есть сама память о любви, тоска по ней и раздумья о том, что где-то есть человек, тоже о тебе думающий, и, может, в жизни этой суетной и трудной ему становится легче средь серых будней, когда он вспомнит молодость свою, — ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал “горьким”. Нет-нет, счастье не бывает горьким — неправда это! Горьким бывает только несчастье». В рассказе «Ясным ли днем» (1967) Астафьев «обошел» войну, сохранив ее в памяти старого фронтовика Сергея Митрофановича, а центр тяжести перенес на характерную для 1960-х годов проблему взаимоотношения поколений. В повести «Где-то гремит война» (1967) писатель подходит к изображению войны с глубокого тыла. В первую же военную зиму сибиряки проходят испытание «на излом» и выдерживают его. Добрался-таки семнадцатилетний фезеошник, обутый в «казенные» ботинки, до родного села, чтобы помочь тетке Августе, позвавшей его своим письмом. Тетка уже и веревку приготовила на чердаке, чтобы «удавиться» от свалившихся на нее несчастий. Общая беда не разъединяла, а сближала людей, — скажет этой историей Виктор Астафьев. Кроме встречи с Августой в повести есть «драма на охоте», которую герой переживает, когда ему приходится стрелять в диких коз, поедающих сено из зарода. Колдовская новогодняя ночь, заснеженно-сонное царство лесов за «дальними, волшебно светящимися пе- 112 ревалами» — ничто не располагало к убийству. Да и вожак оказался на удивление красив. «Рога у него набраны из толстых, к остриям утончающихся колец — это различимо на тени, красавец был вожак. Тонконог, грудаст. И ночь красива и тиха была. Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, и я должен подчиниться ему. Я должен стрелять! Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хоттабыча, в эту новогоднюю зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку!» По внутренней тематике повесть «Где-то гремит война» перекликается с небольшой по объему, но масштабной по замыслу повестью «Пастух и пастушка» (в издании 1976 г. помечена датами 1967–1971–1974). Война как разрушение самой жизни, занятие противоестественное и противопоказанное природе человека, предполагает более укрупненные изобразительные средства в дополнение к тем, которыми располагала «окопная» проза. В «Пастухе и пастушке» есть те и другие. Впечатляет здесь образ растревоженной, израненной, избитой земли, с трудом залечивающей свои раны «солнцем, талой водой», затягивающей рубцы и пробоины «ворсом зеленой травы». Библейские ассоциации улавливаются в картине ночного боя под Корсунь-Шевченковским, когда немецкая группировка предпринимает отчаянную попытку прорваться из окружения. Черное небо с огненными всполохами ракет, оглушающий грохот артиллерийских орудий разных калибров, танки, вылезающие из темноты, как доисторические чудовища, — поистине столпотворение, кромешный ад, где разгулялась нечистая сила. «Сыпались люди с разваленными черепами, слышались вопли. Казалось, что пророк небесный с карающим копьем низвергся на землю, чтобы наказать за варварство людей, образумить их». Уместен в атмосфере ада «тот, горящий, с ломом», явившийся почти из пещерного века. «Он дико выл, оскаливая зубы, хрипел в удушье, и чудились на нем густые волосы, и лом в его лапах был уже не ломом, а выдранным в темном лесу дубьем. Руки его длинные, с когтями, ноздри зверино вывернуты, и уши, как у нетопыря, — лопухами. Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого дву- 113 ногого существа, а полыхающий за спиною факел — будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло этакое чудище, поднялось с четверенек и дошло до нашего времени с обликом пещерного обывателя». Писатель надеется, что читающий разгадает метафорический смысл фантастического образа: немецкий солдат, на котором вспыхнула плащ-палатка, являет страшную суть войны — расчеловечивание людей, низведение их до уровня нападения и самозащиты. На следующий день самый грамотный во взводе солдат Корней Аркадьевич Ланцов прокомментирует ночное сражение так, как это сделал бы, вероятно, сам автор: «Неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, коптить небо…» По-другому, уже без оттенка дидактики отреагирует на те же несколько дней сражения лейтенант Борис Костяев. В изображении страшного быта войны Астафьев максимально конкретен. Он не щадит читателя. Его герой слишком много увидел и пережил. Видел тело связиста, раздавленного гусеницами танка; убитых снарядами сельских пастухов — старика и старуху; поле сражения, где «в ложках, в воронках и особенно густо возле изувеченных деревцев лежали убитые, изрубленные, подавленные немцы. Попадались еще живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по утоптанному снегу, запятнанному комками земли и крови, взывали о помощи. Обороняясь от жалости и жути, Борис зажмурил глаза: «Зачем пришли сюда?.. Зачем?.. Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?..» Доведется Борису увидеть похороны застрелившегося немецкого генерала, который, в отличие от штабных, не прорывался в одиночку и не оставил своих солдат, будучи окруженным. Подивится Борис собранности, «жестокому и верному расчету» старшины Мохнакова, когда тот, обвешанный гранатами, идет на смерть, бросаясь под гусеницы вражеского танка. Испытает не «упоение в бою», а нечеловеческое напряжение, «мстительное желание рубануть гранатами танк, рубануть, и все — за этим и до этого ничего не было — ни жизни, ни смерти, ни боли, ни мира, ни людей, остались только он да машина, и миг для схватки с нею, который надлежало уловить лейтенанту». Острой болью отзовется в его душе смерть 114 одного из самых надежных бойцов — алтайца Карышева и, наконец, случайная гибель подорвавшегося на мине молоденького ординарца Шкалика, в которой считает повинным самого себя. Картины сражения, правдиво выписанные Астафьевым, — откровение для тех, кто знает войну по книгам и кинофильмам. А вот нужна ли здесь буколическая пастораль? Убитые пастух и пастушка — эпизод в ряду других, не менее страшных, и по сути не несет в себе достаточных оснований, чтобы стать организующим центром всего произведения. Нуждается ли текст, в котором создается такая картина сражения, в каких-либо литературных подпорках? Будь то контрастная аналогия с буколической пасторалью о мирных овечках на зеленой лужайке или серия эпиграфов к разным частям, подобранным из Ярослава Смелякова, Теофила Готье, лирики вагантов, Петрарки. Следы литературной образованности автора утяжеляют текст, лишают его той непринужденности и стремительности, которые присущи «Последнему поклону» при всей разновеликости частей, его составляющих, — от миниатюрного рассказа для самых маленьких — до «повести в повести». Астафьев-критик распознает «литературщину» даже в повестях близкого ему Константина Воробьева, которого, кстати сказать, опекал и поддерживал. И совсем уж непредвиденно литературность прорывается там, где все сказано самим изображением. Пастораль — слишком слабый противовес страшному лику войны. Да и сцены свидания и прощания, несколько неловкие и растянутые, тоже мельчат творческий замысел. «Пастух и пастушка» — не повторение повести о войне и влюбленных, которые навсегда потеряли друг друга. Об этом был написан «Звездопад». Здесь — иное: высокая трагедия человека, который одновременно постигает мировое зло и ощущает полную перед ним беспомощность. Считается, что неожиданная смерть Бориса Костяева, погибающего от сравнительно легкого ранения («Такое легкое ранение, а он умер!» — сокрушается санитарка Арина), — результат душевной усталости человека, который одного за другим теряет всех своих бойцов и полюбившуюся ему женщину. Но и в этом распространенном суждении нет полного объяснения. Герой Астафьева несет в себе мотив вселенской скорби, трагедию че- 115 ловека, столкнувшегося с абсолютным злом (войной) и осознавшего свою полную перед ним беспомощность. Не в силах одного человека прекратить ежедневное и ежечасное убийство. Мотив человеческой незащищенности перед лицом страшного молоха войны звучит в мучительном крике обожженного эресовца, в поведении командующего, когда тот появляется на похоронах застрелившегося немецкого генерала: «что-то бесконечно скорбное было в узкой, совсем не воинственной спине командующего», когда он, уезжая, устраивался в санях, «а в том, как он смаргивал мокро с изветренных глаз и вытирал однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, угадывалась человеческая незащищенность». В санитарном поезде, который везет Бориса в тыл, казалось бы, к жизни, к выздоровлению, он с каждым днем все больше отдаляется от людей, замыкается в себе, сосредоточивается на мысли о смерти. По убеждению Астафьева, неразрешимое мирным путем противоречие времени способен понять лишь человек высокого духовного уровня. Потому-то Борис Костяев заслуживает не простой смерти, но «успения». Заслуживает горестного причета-плача, безупречно выдержанного Астафьевым в духе лирической народной поэзии, и погребения – не на заброшенном полустанке, но на необозримых просторах России. «А он, или то, что было им когда-то, остался в безмолвной земле, опутанной корнями трав и цветов, утихших до весны. Остался один – посереди России». Таким путем писатель Виктор Астафьев поднимается над близкой ему «окопной правдой», достигая общечеловеческого уровня в изображении Второй мировой войны. Тревожные вопросы, которыми задаются герои Астафьева более тридцати лет назад, не утратили своего значения для сегодняшнего дня. Повестью «Пастух и пастушка» достойно завершается так называемый уральский период творчества Виктора Астафьева (до 1969 г.), в котором изображению Великой Отечественной войны принадлежит одно из главных мест. 2004 116 Письмо Л.М. Слобожаниновой Поводом к письму явилась статья «Эстетические функции пейзажа в прозе В. Астафьева» (Проблемы стиля и жанра в советской литературе. Сб. 8. Свердловск: УрГУ, 1976). Сборник был подарен Астафьеву на конференции «Проблемы жанров в русской литературе», состоявшейся в Вологодском университете в мае 1976 года. В ряду других заслушивались доклады «Горьковские традиции в творчестве Астафьева» и «Жанр повести в творчестве Астафьева». В выступлении самого Виктора Петровича шла речь о современной «военной» прозе, о собственной творческой позиции, а также об отношении к критике. 6 октября (1976), деревня Сибла Дорогая Лидия Михайловна! Наконец-то я на несколько дней попал к себе в деревню и могу сесть за стол, а то ведь, грешно сказать, писать-то писателю недосуг, а читать и подавно. Я иногда, ошарашенный, останавливаюсь среди суеты, подожду, как голова перестанет кружиться и начнёт соображать: куда бежим-то? Кто гонит? По какому такому кругу? И мне сдаётся, что ритм этот, всеобщая беготня и суета существуют не просто, а чем-то или кем-то заданы и созданы, чтоб человеку некогда было остановиться, задуматься, иначе он сойдёт с ума или будет пытаться постичь истину, а это, наверное, никому не нужно и вредно, как ему, отдельно взятому человеку, так и всему обществу. В деревне, на досуге я и прочёл Вашу статью, и она мне, несмотря на некоторую конспективность, понравилась. Конечно же, никакой я системы не создавал, двигала мной интуиция, стихия, а вот когда 117 Вы выстроили систему, то вроде бы и любопытно, доказательно получилось. Как это я управлялся с пейзажем? В общем-то крепла рука, серьёзнее делались замыслы, а главное их исполнение — «Пастушку» я задумал в 1954 году, а начал писать в 67-м, ибо понимал — не справиться мне с этой серьёзной вещью, потому и дорабатывал её четырежды после публикаций. Сейчас я вплотную подступаю к заключительным главам «Последнего поклона» — и уже вижу, что новые главы заставляют меня перелопачивать все главы прежние, как-то «подтягивать» их к нынешнему исполнению, не руша прежней светлой интонации и наивности в восприятии героем мира Божьего… А вообще-то в литературе наступают глухие времена, те самые, о которых Некрасов почти в эти же годы прошлого столетия сказал: «бывали времена страшней, но не было подлее…» Утешает лишь одна мысль, что жить и маяться в этой таратуре, как её называл Самед Вургун, остаётся не так уж много… Желаю Вам здоровья и всего самого хорошего. Пишите ко мне, когда будет охота — с поклоном — В. Астафьев. 118 Феномен Андрея Ромашова Самобытное творчество пермско-екатеринбургского прозаика Андрея Ромашова (1926–1995) отчасти восходит к истокам финно-угорской культуры. Произведение, с которого ведется отсчет его творческого пути, – это повесть «Лесные всадники» (1959), рожденная не столько требованием изображения действительности в ее революционном развитии, сколько теплым сыновним чувством к своим далеким мансийским предкам. Отец писателя принадлежал к роду русских крестьян Ромашовых. В исторических документах из архива бывшей Строгановской вотчины крестьяне с фамилией Ромашовы постоянно упоминаются как опытные строители, сплавщики, лесообъездчики. Бабушка Акулина (по матери) была мансийкой. Из рассказа вдовы писателя Любови Израйлевны Басиной-Ромашовой: эта женщина прожила долгую жизнь. На усадьбе, доставшейся ей от мужа-лесообъездчика, самостоятельно вела настоящее натуральное хозяйство, решительно отказывалась вступать в колхоз, а когда уже в 1960-е годы ее навещал единственный внук, спрашивала его: «А что это, Андрюша, про царя, царя-то давно не слышно?» Ранний Ромашов следует принципу: если о далеком прошлом вогулов (манси) так мало достоверных сведений, то лучше всего дать читателю романтический миф, красивую легенду об этом прошлом. Автор «Лесных всадников» исключает те натуралистические подробности из быта манси, которые еще в начале ХХ века воспроизводил уральский писатель-путешественник Константин Носилов (очерки «У вогулов», 1904). Взять описание жертвенного обряда. У Носилова участники ритуального танца, напившиеся крови жертвенных лошадей, вымазанные жиром, близко напоминают дикарей – у Ро- 119 машова те же вогулы исполняют торжественное первобытно-магическое заклинание. «Суровые воины прощались с родичами, надевали кожаные шлемы, брали клееные луки и уходили к костру на жертвенный обряд… Напившись горячей крови, воины качались и прыгали перед огнем, потрясая оружием. Они призывали богов своих быть милостивыми к их племени: Добрый отец Огонь! /Ты на небе и на земле, /Ты веселый и сильный, /Ты ненасытный и злой, /Порази врагов в сердце, /Порази врагов в голову, /Сожги одежду и тело /Врагов твоего народа» (с. 113– 114)1. Песни певца Оскора стилизованы автором в духе русского перевода карело-финского эпоса «Калевала» (М.: Гослитиздат, 1956. Перевод А. Бельского), которым, по воспоминаниям вдовы, в ту пору интересовался писатель. Андрей Ромашов передает мировосприятие людей доисторической эпохи. Его далекие предки не отделяют себя от природы, доверяют старым богам, убеждены, что добрые и злые духи сопровождают человека в его удачах и неудачах. Древние манси свято чтут закон дружбы – «великий закон предков»! Гонимые воинственными степными пришельцами – булгарами, они бросают обжитые места и находят новую родину на берегах Великой Голубой реки (Камы) – там живут коми – их «братья по крови». Романтические краски держатся совсем недолго. Они стираются в творчестве Ромашова уже в начале 60-х, как исчезает обманчивосветлая хрущевская оттепель. Однако обрусевшие вогулы сохраняются в зрелом творчестве писателя. Более того, за ними закрепляются роли главных героев в повести «Одолень-трава» (1974) и в романе «Осташа-скоморох» (1993). При всем том, что лесник Никифор и «скоморох» Осташа привносят в текст совсем другое образно-эстетическое содержание. В 1960–1970-е годы молодой пермский писатель стремительно растет как реалист и психолог, философ и социолог. Хотя, в отличие 1 Здесь и далее цит. по: Ромашов А.П. Диофантовы уравнения: исторические повести. Екатеринбург, 2004, с указанием страницы в круглых скобках после цитаты. 120 от Виктора Астафьева, начинавшего в те же годы и в той же Перми, он не приобретает широкой известности. Переходными становятся повести «Земля для всех» (1963) и «Первый снег» (1965). Зато «Одолень-трава» заставила призадуматься руководителей Пермской писательской организации – нет ли здесь скрытой «антисоветчины»? Повесть проходит в печать не без помощи уже известного в ту пору Виктора Астафьева. К тому времени Андрей Ромашов отрабатывает собственную писательскую манеру, которую вполне возможно назвать драматизированной прозой. Он не работает в сказовом жанре, но профессионально присматривается к «непрямому слову» автора «Малахитовой шкатулки». Андрей Ромашов по-бажовски дорожит словом. Это значит, что до минимума сокращает разного рода описания: бытовые, портретные, психологические; полностью исключает публицистические и лирические отступления, к которым явно неравнодушны его уральские собратья по перу Виктор Астафьев и Николай Никонов; отдает предпочтение действию, диалогу, речевым характеристикам и взаимооценкам. В результате романное содержание укладывается в рамки небольшой повести («Одолень-трава») и максимально сжатого романа («Осташа-скоморох»). В пору застоя литературная Пермь вопреки всему живет интересно и плодотворно. Печатаются Алексей Домнин, Лев Давыдычев, поэт Владимир Радкевич, литературовед и критик Римма Васильевна Комина, удивляет и восхищает появившийся из Березников Алексей Решетов. В образовавшемся литературном сообществе у Ромашова своя линия. Он работает много и напряженно, однако живет несуетно. Не соблазняется литературной известностью, не занимает руководящих должностей в местном отделении Союза писателей, не добивается столичных изданий, публикуя свои произведения в Перми (до середины 70-х) и в Свердловске – Екатеринбурге в последние два десятилетия жизни. Воссоздает в своих произведениях несколько исторических эпох – от первобытной древности (посмертно опуб­ ликованный философский этюд «Ярость») и поздней античности (повесть «Диофантовы уравнения») до жизни прикамской деревни в 10-е годы ХХ века (роман «Осташа-скоморох») и эпохи Гражданской войны. Понадобилась для этого колоссальная, почти энциклопедиче- 121 ская осведомленность в истории, культуре, фольклоре, литературе, археологии, философии, религии и системе общественных отношений разных народов мира. Не ослабляется вместе с тем интерес к актуальным мировоззренческим вопросам современности, в особенности к тем, которые в 1960-е и 1970-е годы еще не становятся предметом широкого обсуждения. В том числе что такое революционный гуманизм? Благо или бедствие? Социальная справедливость или жестокость, порожденная большевистским экстремизмом? Как раз этому посвящена повесть «Первый снег», близкая по своему содержанию повестям Павла Нилина «Жестокость» и Сергея Залыгина «На Иртыше». «Первый снег» не становится сколько-нибудь заметным литературным событием, однако для самого Ромашова оказывается как бы мостиком для «Одолень-травы». Если первая повесть снимает авторитет революционного гуманизма, не имеющего отношения к гуманизму вообще, то «Одолень-трава» утверждает достоинство гуманизма абстрактного, порицаемого сторонниками революции с момента самой Октябрьской революции. Ромашов пересматривает «узаконенный» советской литературой мотив «разлома» между кровно близкими людьми, оказавшимися в Гражданскую войну на противоположных политических позициях… В тесной избушке лесника Никифора находят приют двое: раненый красноармеец Семен, приемный сын хозяина, и дворянин-лесничий Юлий Васильевич, его настоящий отец. Спорят они громко, «сами себя не слышат», «правдой друг друга колют, как вилами». С точки зрения Никифора, правды нет ни у «белых», ни у «красных». Спорщикам не хватает обыкновенной человеческой доброты, сострадания, милосердия. Сам автор как бы устраняется от оценки, перепоручая ее добросердечному «язычнику». «Бог с ними, с вождями угорелыми, – думал Никифор, ухаживая за раненым, – ты бы, Сенюшка, на лавку присел, лишний раз тятей меня назвал, не зря ведь люди говорят, что правда без доброты сердечной, как земля сухая, – сколько ни сей, всходов не будет» (с. 416). С другой стороны, лесник Никифор не понаслышке может судить о непоследовательности «господина лесничего». Припоминается ему, как еще до войны Юлий Васильевич кушал на берегу харюзо- 122 вую уху: «Спасибо скажет с улыбкой, сначала уху похвалит, потом русский народ и разговорится – все люди, дескать, одинаковые, и мужики, и бабы, неравенство сословий в наше время дикость и его надо сокрушать» (с. 355). Помнит Никифор и то, как отказался «господин лесничий» от влюбленной в него крестьянской девушки Александры, испугался, что захочет «стать барыней, иметь прислугу, бездельничать», а получилось, что предал, погубил ее. Однако однозначных характеров у Ромашова нет. Тот же лесничий отчетливо понимает абстрактность революционных лозунгов и братоубийственную сущность гражданской войны: «пролетарии и мировая революция – слова без плоти, чужие они русской душе <…> но самое главное не в этом… Нет… Погибнут лучшие люди в гражданской войне. Несправедливо все это…» (с. 370). Напомним, что слова героя прозвучали спустя всего несколько лет после того, как страна торжественно отметила 100-летие вождя революции и мало кто помышлял о смене идеологических приоритетов. Романный сюжет с протяженностью событий не менее двух десятилетий, с трагедией Александры, любовью Никифора и сиротством Семена имеет внутренний, мировоззренческий план. Ромашов ведет повествование на уровне быта и одновременно на уровне «правды», словно бы подтверждая суждение многоопытного Варлама Шаламова: «на свете тысяча правд, а в искусстве одна правда – эта правда – талант»1. Правда таланта предполагает внимание к каждому, если даже чью-то позицию автор не разделяет полностью. Ромашов подмечает догматизм как одну из отличительных черт русского характера, доверяя ее определение сельскому торговцу Сафрону Пантеле­евичу, далеко не самому привлекательному из героев повести: «Все так считают – дескать, моя правда истинная, а у прочих других, со мной не согласных, блажь в голове и умственное расстройство» (с. 412). Андрей Ромашов предлагает самому читателю принять ту или иную правду. За собой сохраняет лишь мотивировку событий и пластическое их изображение. Многозначен трагедийный финал «Одоленьтравы». Охота на лося буранным декабрьским днем мотивируется разумными соображениями Никифора: «Мужикам без мяса нельзя. 1 Шаламов В.Т. Новая проза // Новый мир. 1989. № 12. С. 60. 123 Дрябнут они, сок в теле не копится» (с. 401). В погоне за зверем, утопая в глубоком снегу, Никифор теряет лыжню и охотничий оберег – пучок одолень-травы. Погибает недалеко от своей избушки, занесенный снегом, «оплаканный» тоскливым воем прирученного им волка. Вместе с Никифором уходит человеческая доброта, не разумная и не рассуждающая, необходимая людям, однако не востребованная революцией. Исчезновение Никифора оборачивается безумием Юлия Васильевича, потерявшего своего защитника, и, надо думать, повзрослением и прозрением враз «постаревшего» Семена. Повесть «Одолень-трава» с ее вторым мировоззренческим планом предваряет «Диофантовы уравнения» – главную книгу писателя и вместе с тем очевидное достижение философско-эстетической мысли не только в масштабах уральской, но, пожалуй, и всей русской прозы последней четверти ХХ столетия. Уникальна для отечественной литературы той поры избранная прозаиком сфера исторической действительности: кому из писателей доводилось с такой пластичностью воссоздавать духовную жизнь и быт египетской Александрии, ставшей в V веке центром позднеантичной учености? По отзывам знатоков античного мира, Андрей Ромашов до скрупулезности точен в описаниях социального уклада, системы образования, культуры и быта в эпоху появления первых христианских общин. Вместе с тем художник свободен в плане пересоздания исторической реальности. Это относится прежде всего к характеристике христианства. Каждый, кто хотя бы бегло знаком с историей христианства на Руси, не сможет не обратить внимания, что у Ромашова совсем не то христианство, с которым в конце Х века в Древнюю Русь приходят европейские контакты и связи, письменность и начало летописания. Не то, что сменило языческие жертвоприношения цивилизованными формами поклонения божеству и открывало пути к развитию церковной архитектуры, живописи и музыки. Первые христиане в «Диофантовых уравнениях» воинственны и агрессивны. Они убивают языческих жрецов, громят храм Сераписа, «славу, красоту и гордость Александрии», жгут библиотеки и музеи. Разрушительные действия христианских общин близко напоминают сравнительно недавние революционные события в России. Христианство Андрея Ромашова условно. Скорей всего, это модель любой 124 тоталитарной системы, которая опирается на маргинальную массу и развращает эту массу несбыточными посулами всеобщего братства и равенства. В этом смысле античное христианство в «Диофантовых уравнениях» напрямую смыкается с русским большевизмом. Христиане – ремесленники, плотники, городские люмпены – уничтожают высокую культуру, претендуя при этом на ореол святости. Их воинственный гимн – утрированный авторский аналог массовой песни времен революции: «Кичливых, умных, грамотных / Побьем во славу господа. / На суд предстанем чистыми. / Тебе во всем послушные, / Мы убивали веруя. / За кровь твоих хулителей / Ты отвечаешь, Господи, / На нас ответа нет» (с. 64). А проповедь епископа Кирилла, возглавившего александрийскую «чернь», совсем близко напоминает «пламенные» речи большевиков, призывавших к свержению старого мира, раздувавших классовую рознь до размеров неслыханной по кровопролитию гражданской войны: «С каждым часом становилась шире и шире бездонная пропасть, отделяющая несметные богатства от жалкой нищеты… Взамен тысячелетней ночи преступлений… грядет новое тысячелетие, возвещенное пророками. Вам не остановить время, и колесо истории не подвластно вам! Блага, созданные руками бедных, не ваши. Кто не трудится, тот не ест – завещал нам Христос. Кровь замученных, стоны униженных услышаны Господом! Грядет тысячелетнее царство справедливости, в нем не будет мирского тщеславия, гнусной жажды к золоту, страсти к славе и могуществу – но только святая жизнь в Господе!» (с. 39). Переклички с эпохой революции были узнаваемы до прозрачности и не могли не вызывать возражений со стороны убежденных сторонников коммунистической идеологии – обстоятельство, которое задерживало появление в печати «Диофантовых уравнений», завершенных автором к концу 70-х годов. Повесть была опубликована журналом «Урал» (1981, № 4) лишь после смены редакторов и благодаря стараниям нового «главного» – В.П. Лукьянина. В 1960–1990-е годы читателя трудно было удивить философичностью проблематики. Романы и повести «с философским уклоном» писали многие – достаточно вспомнить журнальные публикации Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Маканина, В. Распутина, 125 С. Залыгина, В. Астафьева, Ю. Трифонова. Каждый из них в меру отпущенного природой таланта постигает «законы вечности», осваивает нечто из широчайшего круга онтологических проблем: добро и зло, бесконечность Вселенной и конечность индивидуального существования, природа как основа земного бытия, как вечный источник красоты и вдохновения, любовь и ненависть, старость и одиночество, художник и власть и т.п. Однако впечатляющая по своим формам и краскам «философская проза» 1960–1980-х годов не знала столь прямых контактов с правозащитным движением, которые обозначаются в произведении провинциального автора. Андрей Ромашов поддерживает диссидентство в главном его содержании – в утверждении свободы человеческой мысли и неприятии идейной тирании. Ибо русское диссидентство, по характеристике одного из главных его представителей, – не что иное, как «интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление… сопротивление чему? Не просто ведь советскому строю вообще, но сопротивление унификации мысли, ее омертвлению в советских условиях»1. Проблематика «Диофантовых уравнений» достаточно свободно укладывается в четкую логизированную форму – это полемический диалог между бесконечно развивающейся человеческой мыслью, с одной стороны, и законсервированным ее состоянием – с другой. Как нельзя более уместны в этом случае афористические суждения главной героини – женщины-философа Гипатии (историческое имя – Ипатия). Ее первоначальный тезис в утверждении относительности человеческого знания: «Конечные результаты – не истина, но наши суждения о ней». Следующий этап: нерешаемые диофантовы уравнения. Загадочная математическая формула, не имеющая окончательного решения, предполагающая множественность вариантов, переосмысляется Ромашовым в применении к социальным учениям. Особенно показательна в этом плане «лекция», которую Гипатия читает своим ученикам («эфебам»): «Вы думаете, что существует нечто неизменное в мире, всегда истинное, ко всему приложимое, все объясняющее. Диофантовы уравнения свидетельствуют о другом. Наше бытие – это вечный поиск, бесконечные пробы или, как говорит Ди1 126 Синявский А.Д. Диссидентство как личный опыт // Лит. газета. 1997. 5 мар. офант, бесчисленные подстановки к неизвестному. Политики, древние и новые философы, пифагорейцы, иудеи и христиане – все хотят найти нечто единственное, ко всему приложимое и все объясняющее. Христианство, друзья мои, только одна из множества проб. Называйте эти пробы, или подстановки к неизвестному, новым бытием или новым веком, но поклоняйтесь разуму и добру как животворящей истине» (с. 33). Если припомнить, что христианские заповеди в интерпретации Андрея Ромашова напрямую перекликаются с большевизмом, то эффект этой повести в самом начале 80-х годов мог оказаться ошеломляющим. Затруднительно было бы нанести столь основательный удар и в столь корректной форме по всей советской идеологии. Ведь марксизм-ленинизм, которому в стране поклонялись десятилетиями, претендовал на абсолютное решение всех вопросов в области философии и истории, этики и эстетики и в других областях, у Ромашова объявляется всего лишь одной из «проб» или бесчисленных «подстановок к неизвестному». Небольшая повесть провинциального автора, оцененная самыми вдумчивыми читателями, однако не замеченная столичной критикой, обозначала уже наметившиеся сдвиги в общественном сознании. Это было преддверие перестройки и вместе с тем конец непрерывному цитатничанью классиков марксизма-ленинизма, которое сковывало живую мысль. Пожалуй, возможно и такое сопоставление: в самом начале 60-х «Новый мир» Твардовского рассказом «Один день Ивана Денисовича» открывает имя писателяпублициста Александра Солженицына, а двадцать лет спустя «Урал» дарит большой русской литературе «Диофантовы уравнения» Андрея Ромашова, означавшие начало конца тирании – не лагерной, но той, которую называют тиранией идей, тиранией духа (А. Синявский). Андрей Ромашов оказался бы философом, историком, социологом, но не художником слова, если бы изображаемая им эпоха не переводилась в план человеческой судьбы и характера. «Диофантовы уравнения» – компактная и слаженная психологическая повесть. По форме повествования – это воспоминания одинокого человека, у которого все в прошлом: здоровье, обеспеченная юность, учеба в одном из прославленных «мусейонов» Александрии – учебном заведении, где одновременно располагалась огромная библиотека, шко- 127 ла, музей и помещения, где жили ученые. Память Олимпия Плотника хранит очарование «божественной» Гипатии и события, связанные с варварскими нашествиями христиан. По структуре «Диофантовы уравнения» приближаются к симфоническому сочинению, где одна музыкальная тема следует за другой, либо они звучат одновременно в сложном соединении. На склоне лет Олимпия все больше мучает стыд за приспособленчество и собственную трусость: предал «божественную», остался в стороне, когда толпа разъяренных фанатиков терзала Гипатию, а он убежал, оставив мучителям плащ и пояс с деньгами. «Целый день я бродил по городу, а вечером пробрался на двор епископа и встал в очередь за бесплатной похлебкой». Память горька, но суд совести беспощаден. После трагической смерти Гипатии уделом Олимпия становится двойственность поведения и сознания, что также выражается формулой: «Не я один в те годы молился Христу, не веря в него». В этом своем содержании судьба античного героя напоминает о перерождении той части русской интеллигенции, которая под давлением обстоятельств оказалась в услужении у тоталитарной системы, утратив при этом независимость и свободу мышления. Те критики, что в первых откликах высоко оценили «Диофантовы уравнения», акцентировали в проблематике повести вопросы ответственности и свободы выбора. Спору нет, суждения Гипатии об ответственности человека за свои поступки производят впечатление непреложного нравственного закона. «Люди свободны в выборе добра и зла»; «Человек ответственен, ничто не может заставить его поступиться совестью: ни боги, ни люди»; «Все люди ответственны за зло в мире, ибо ответственность человека рождается вместе с ним» и т.п. «Да, ответственен!» – в этом не было сомнений у философа Всеволода Колосницына, предпославшего восторженное предуведомление к журнальной публикации «Диофантовых уравнений». И все-таки сам автор куда менее категоричен в таких вопросах, как «человек и время», «человек и обстоятельства». Бывает, что условия подавляют волю самой личности. Этот элегический мотив выражен в финальном диалоге Олимпия и Гипатии: « – Человек ответственен, Олимпий. 128 – Но разве мы люди, великая? Мы пыль на горячем ветру пустыни…» (с. 80). «Диофантовы уравнения» – произведение философского плана, рассчитанное на читателя, чья мысль проходит длительный путь от древности до современности, обогащаясь накопленным историческим опытом. Нам не дано проверить, в какой мере ответственность за разрушение античной культуры в действительности волновала ученый мир египетской Александрии, – да надо ли это знать? Куда важнее внутренние ассоциации сюжета с современностью. Повесть побуждает думать о тех шестидесятниках, для которых личная ответственность за злодеяния тоталитарной системы становилась сильнейшим стимулом к творчеству. Правда, были и такие, что уходили от воспоминаний из практических соображений: стоит ли тревожиться, если все уже в прошлом. Однако память – это совесть. И в наших воспоминаниях непременно присутствуют нравственные оценки прошлого. Потому-то до конца своих дней Александр Твардовский мучился душевной болью за судьбу своих близких и неправедно репрессированных тысяч крестьянских семей. Вина и долг, ответственность и совесть постоянны в лирических раздумьях Булата Окуджавы: «Я знаю этот мир не понаслышке. / Я из него пророс. / Но за его утраты и излишки / С меня сегодня спрос». «Не с меня нынешнего, – комментировал он эти свои стихи, – но с меня, жившего жизнью своей страны, когда я верил в мифы, поддавался на коммунистические лозунги»1. Со всей строгостью судит свою прежнюю жизнь герой повести Юрия Трифонова «Старик». В этом «бесполезном» старике «происходит тяжкая работа памяти и совести, самосуд, самоказнь, мучительное и отрадное возвращение в прошлое. Это та работа памяти, о которой говорят – очистительная»2. Суждение, принадлежащее известному советскому критику, с полным на то основанием применимо к герою Андрея Ромашова Олимпию Плотнику. И не вина провинциального автора, что его произведение, отразившее существенные сдвиги в общественном сознании, не было в свое время замечено столичной критикой. 1 2 Из беседы с Ириной Ришиной // Лит. газета. 1995. 29 мар. Дедков И.А. Вертикали Юрия Трифонова // Новый мир. 1985. № 8. С. 221. 129 Последнее крупное произведение Андрея Ромашова – роман «Осташа-скоморох» (1993) – вызывает недоумение самим названием: почему скоморох? откуда скоморох? Отчего не бедняк, не кулак, не середняк, а сельский балагур, песенник, свадебщик, сказочник, вообще носитель богатейшего фольклорного репертуара? Спору нет – скажет рассудительный читатель, – без такой колоритной фигуры не стояла и не стоит русская деревня, как не стоит она, по Солженицыну, без праведника. Но ведь надо же знать меру. Было бы удивительным, если бы Михаил Шолохов вынес в название своего романа о социалистическом преобразовании казачьей станицы имя деда Щукаря. Получается, что Ромашов поступает как бы вопреки здравому смыслу. Справедливости ради, в романе «Осташа-скоморох» находится место для всех обозначенных типов старой русской деревни. В прикамской Косорыловке процветают энергичные братья Атамановские, в хозяйстве которых ежегодно работает не один десяток батраков; живут справные мужики, как Осташин сосед Егор Афанасьевич, в соседней деревне Гулиной – кум Матвей, у которого мужики и бабы чаще всего собираются в праздничные дни, а по живописным притокам Камы живут скитники-староверы. В целом образное содержание романа настолько значительно, что требует отдельного рассмотрения. 2009 130 Роман о русской духовности «Осташа-скоморох» Памяти Любови Израйлевны Басиной-Ромашовой Сегодня затруднительно восстановить общий замысел того объемного произведения, первой частью которого должен был стать вполне законченный роман «Осташа-скоморох». Авторских признаний в этом случае чрезвычайно мало. По разрозненным черновым наброскам и тем немногим сведениям, которые в доверительных беседах писатель сообщал Валентину Петровичу Лукьянину в редакции «Урала», задумывалось многочастное эпическое повествование, действие которого происходило бы в дореволюционной и советской России, переносилось с Запада на Восток, в частности в Тибет — «в страну тысячелетиями накапливавшейся мудрости». Одним из центральных персонажей (возможно, что и главным) должен был стать принц Сиддтхарха Гаутама, вошедший в историческую память человечества под именем Будда (что значит «просветленный»). Возвращалось бы к образам прикамских крестьян и русских интеллигентов и завершалось изображением событий коллективизации. Предположительно (!) должен был появиться роман о духовности — в самом широком, общечеловеческом истолковании этого понятия, — замысел вполне реальный в диапазоне творческих возможностей Андрея Ромашова. В те годы писатель не пользовался распространенным в наши дни термином «толерантности», при всем том, что широта миропонимания изначально была ему свойственна. Он не делил людей по их национальной принадлежности и не судил о религиях разных нардов по принципу «лучше — хуже». Язычество и христианство, иудаизм, индуизм, буддизм и другие религии народов мира — в его представлении — это национально-исторические фор- 131 мы и стадии общечеловеческой духовной культуры. В первой «мансийской» повести «Лесные всадники» (1959) не содержится обличения идолопоклонников — древних вогулов, нашедших новую родину на берегах Великой Голубой реки (Камы). Герой повести «Земля для всех» (1963) — новгородский крестьянин Кондратий Рус – наставляет своих сыновей, пришедших с ним на землю Перми Великой: «Нам с соседями нечего делить. Они люди, и мы люди. Боги у нас разные, а жизнь одна. Станем друг другу пакостить — не выживем! Лес задавит, голод убьет...» (с. 177–178). Веротерпимость, взаимопонимание и взаимоуважение проявляются в поведении персонажей и самого автора естественно и непринужденно. Не случайно язычнице Гипатии доверяется формулировка законов, руководствуясь которыми человечество идет к постижению истины. В судьбе человека из первобытного общества писатель усмат­ривает трагедию художника, не понятого и отторгнутого обществом (философский этюд «Ярость»). В ряду произведений, создававшихся Ромашовым в разные периоды творчества, «Осташа-скоморох» смотрится как роман о русской духовности — в тех ее формах, которые к началу ХХ столетия с исключительной целостностью донесла крестьянская культура. Надо полагать, что соответственно общему замыслу выбирается главный герой — «скоморох» Осташа. Кто же он? Вроде бы просто балагур, песенник, сказочник, без которого не обходятся жители его родной Косорыловки, но вместе с тем мудрый советчик, миротворец, истинный праведник. «Не стоит село без праведника», — сказано Солженицыным. Согласно старорусской традиции нищие и убогие, калики и юродивые почитались как носители истинной святости в противовес благополучным и богатым, которые и есть нищие духом. Андрей Ромашов достаточно осведомлен в этой области и по своей деревенской юности, и со времен студенчества на историко-филологическом факультете Пермского университета. «Осташа-скоморох» прочитывается как роман исторический и социально-бытовой. Здесь есть где развернуться литературоведу и фольклористу, историку и политологу, социологу, исследователю народных обычаев, обрядов и праздников. Производит впечатление сам по себе перечень общественно значимых проблем, нашедших свое 132 отражение в характерах и судьбах персонажей, главных и второстепенных: кризисное состояние сельской общины и фактический ее распад; утверждение в отдельных хозяйствах прямых товарно-денежных связей с городом; добровольный или вынужденный уход молодежи из деревни; скептическое и даже враждебное отношение крестьян к пропагандистам разных политических ориентаций, в особенности к тем, которые призывают народ на «борьбу с угнетателями»; погромные настроения и совершенно утопические представления мужиков о достижении «светлого будущего» и т. д. и т. п. Как же вся эта проблематика умещается на страницах небольшого, в общем-то, произведения? Не засушивается ли текст языком политологии и социологии? Собственно, настоящая статья пишется ради того, чтобы отвести от писателя опасения подобного рода, а заодно «подсмотреть», как работает Андрей Ромашов. По воспоминаниям немногих людей, близких к семье Ромашовых, Андрей Павлович трудился много и напряженно. Результаты оказались настолько значительными, что стоит со всем вниманием присмотреться к творческому опыту пермско-екатеринбургского мастера, хотя он не помышлял кого-то наставлять или поучать. Тем не менее имеются к тому совершенно объективные причины. Далеко не секрет, что безудержный поток бесцензурной и безредакторской продукции порождает преобладание внеобразного слова. Из текста исчезают глубинные связи и ассоциации, утрачиваются дополнительные смысловые значения и оттенки. Возникает реальная угроза самому существованию литературы как искусства слова. Не поможет ли Андрей Ромашов кому-либо из новых пишущих по-настоящему обрести себя в литературе? Как знать, как знать... Непрямое слово в романе Андрей Ромашов по-бажовски скуп на авторские описания и характеристики. Он не работает в сказовом жанре, но профессионально воспринимает стилистику Бажова, дружески общаясь с Романом Робертовичем Гельгардтом, выпустившим в Перми основательную монографию «Стиль сказов Бажова» (1958). Ему близка стихия раз- 133 говорного народного языка в произведениях собратьев по перу — Виктора Астафьева и Николая Никонова, однако совсем не привлекает лирическая публицистика, столь характерная, скажем, для «Царь-рыбы», «Следа рыси», «Стариковой горы». От произведения к произведению Ромашов отрабатывает свою манеру, которую возможно назвать драматизированной прозой, где широчайшим образом используются реплики, диалоги, «устные» рассказы, несобственнопрямая речь, взаимооценки и взаимохарактеристики персонажей, а «всезнающий» автор вроде как изгоняется. За автором остается рассказ о самом событии, косвенно передающий состояние персонажа. Эта стилистическая манера с наибольшей полнотой проявляется в романе «Осташа-скоморох», оправдывая себя в большом и малом. Взять ли устойчивые в крестьянском быту рассказы о женщинахведьмах. С малых лет Осташу притягивает озорная, веселая баба Лукерья, которую считают ведьмой. Как же не ведьма? — убеждает он жену Параню: «Парень из Шаштил в нетопленой бане угорел. На нее показывали, на Лукерью. А скольких мужиков она испортила! Днем мужик как мужик, степенный хозяин, а ночью на ворота в исподнем лезет, луна, говорит, зовет, никакой мочи нет, отбиться не могу...» В «доказательствах» Осташи не больше логики, чем в утверждении гоголевских дам, что Чичиков намеревается увезти губернаторскую дочку. В том и другом случае — пустой разговор, но при всем том далеко не простой способ речевой характеристики персонажей. Выдумщик Осташа верит и не верит тому, о чем говорит. Последующий рассказ-воспоминание Осташи о том, как «ведьма» Лукерья запросто общается с чертями, интересен редкой пластичностью изображения — как говорят кинематографисты, отчетливой «зрелищностью». «...Лет восемь мне было... Может, и больше. Давние времена... Лукерья за рыжиками собралась с двумя ведрами на коромысле. Я за ней увязался. Иду, хоронюсь. Не велик я был ростом, на дороге еще мал человек, а в траве куропатка. Лукерья не торопясь идет, задним телом играет. Нашла в лесу место глухое, ровное, ведра на землю поставила, сама под елку легла. Я поближе подполз, узнать — уснула ли? Хотел ведра спрятать. Напугать бабу. Да сам испугался: чертей увидел!.. Толкутся они, вижу, у ведер, ушки торчком, мохнатенькие, вроде котят. Отполз я саженей несколько, в папоротнике затаился. 134 Мохнатенькие шуршат, туда-сюда бегают, рыжики в ведра ей носят. Управились скоро и защебетали по-птичьи, разбудили Лукерью. Поднялась она, потянулась сладко, засмеялась весело и завертелась на чертовой полянке. Мохнатенькие в ладошки бьют, вместе с ней скачут и частушки срамные поют... — Разве черти могут такое — частушки петь? — Сказано, пели! Ты чертям не указщица... Лукерью я у ворот в поле дождался. Плывет, вижу, гладкая, глаза щурит, а ведра полные рыжиков, и все рыжики ровные, один к одному. — Места она знает, Осташушка... — Не перебивай, сказано...» (с. 263). Было или не было? Не в том главное. Осташин рассказ без особых усилий переводится в план живописи либо мультипликации. Причем не в одном, а в двух вариантах. Первый: зеленая полянка в глухом еловом лесу. Под большим деревом спящая молодая женщина. На поляне фигурки чертей. Маленькие, мохнатые, шустрые, они наперегонки таскают в ведра грибы. Испуганный деревенский подросток, выглядывающий из листьев папоротника. Второй: та же полянка. Ведра, доверху наполненные отборными рыжиками. Молодая женщина и вертлявые чертики весело отплясывают вокруг ведер. Тот же подросток, испуганно убегающий прочь. Все делается как бы без участия автора, которому остается дополнить «нарисованное» двумя-тремя последующими встречами Осташи с Лукерьей, чтобы состоялся тип женщины, до преклонных лет сохранившей свой притягательно-озорной нрав. В народном сознании это и есть ведьма, которая может «присушить», «приворожить», «околдовать». Других слов для обозначения сердечной привязанности человека в народном лексиконе нет. В свое время эти особенности крестьянской психологии убедительно подметил Д.Н. Мамин-Сибиряк в рассказе «Озорник» (цикл «Уральские рассказы»). В обрисовке «былинной» женщины-богатырки по прозвищу Большая Уля авторское сообщение о поведении этой героини дополняется рассказом другого героя. На деревенские посиделки Большая Уля приходит вместе со своим братом. Веська Мухомор — мужик вздорный, «мелкий, худой». Прощаясь с хозяевами, Большая Уля «сама поклонилась и его пригнула — за хлеб-соль благодарствуем, 135 сказала, не обессудьте... Подняла брата с пола, на весу подержала и им двери открыла в сени. — Вот ето баба! — рассмеялся Матвей, когда дверь закрылась за ними. — Не верил я, Остафий. Думал, врут люди. А может, и было такое... Будто пять пристанских зимогоров хотели нашей Улей попользоваться. Двоих она изувечила, трое спаслись, полицейский урядник отбил, поспел вовремя» (с. 312). Большая Уля в романе больше не появится, однако запомнится. В обрисовке Анюты гулинской Андрей Ромашов использует иные приемы и средства, в которых нет и следа добродушной иронии. Плясунья по деревне первая, мужняя жена честная, натура тонкая, поэтическая, но при всем том горькая у Анюты судьба. Не тот человек оказался спутником ее жизни: по уличному прозвищу Кум Матвея, а по характеристике Осташи — «непутевый мужик, хвастун горластый». На тихом празднике в день Благовещенья «руками замахал, жену Анюту из-за стола вытолкнул, сам вышел за ней, посреди избы встал и заорал по-дикому: — Распахнись! Разойдись! Али мы не крещены и Благовещенье не престол!.. Хозяин его уговаривал, чтоб не орал попусту, себя помнил и не ломал праздник» (с. 220). Образ Анюты словно бы лепится из отдельных деталей. Поведение, реплики, реакция окружающих — все подгоняется одно к одному, как в детской мозаике. Чаще других об Анюте размышляет Осташа — постоянный ее партнер в импровизированных деревенских концертах. «Плясать она начала бойко, как молодая девка, а потом вроде бы сконфузилась, загрустила и поплыла по избе неторопливо, низко всем кланяясь. Казалось, милости Анюта у людей просит, чтобы не судили строго, не бесчестили... Так Осташа думал, глядя на нее» (с. 221). А хозяин избы похвалил Анюту: «дескать, пляшет она, как песню поет задушевную». Когда же отъезжал Осташа от гостеприимного дома Матвея гулинского, Анюту увидел. Под «озябшей черемухой» она его ждала: «…Прими Христа ради, сказала, на продажу масло готовила, хотела в село сбегать, да весна больно скорая, все дороги раскисли. Принял он туесок с маслом, спасибо сказал попросту, сердцем чувствовал, что нехорошо живет баба, извелась вся» 136 (с. 224). Настоящая женская драма открывается в ее признаниях Паране: «Нелюб вонючий, а уйти боюсь. Муж ведь законный. Да и некуда идти-то... Помилуй меня, грешную, Господи! Оборони тело мое... Столкнула с себя вчерась — расшумелся: с другим, шипит, сука подворотная, схлестнулась. Креста, говорю, на тебе нет, в церкви ведь венчаны. Как можно!» (с. 256). Волнуется, печалится, веселится, надеется на лучшее многоликое бабье царство, возникшее на страницах романа как бы независимо от своего создателя-автора. Неотъемлемой его частью является традиционная знахарка («колдунья») Параня. Она живет постоянными заботами о косорыловцах. Лечит от болезней травяными настоями, а больше заговорами — от болезней, от «уроков да призоров», «на отсуху» и «на присуху». Незаметными на первый взгляд штрихами создается представление о движении самой жизни. В той же Косорыловке встречаются девушки, каких не могло быть в уральской деревне времен Решетникова и Мамина-Сибиряка: «грамотейка» Настенька спрашивает «дядю Осташу» о песнях про Ивана Грозного, а решительная Ульяна в город направилась. «Не хочу, говорит, взамуж идти, с пьяного мужа сапоги снимать, он-де норовит в брюхо ткнуть... В прислугах, говорит, буду жить, в белом фартуке, пустая голова... Помоги, Паранюшка, полечи девку»,— просит сосед Егор Афанасьевич (с. 305). Как художник Андрей Ромашов свободен в обрисовке характеров и выборе ситуаций. Вне привычных решений создаются образы преуспевающих братьев Атамановских, в хозяйстве которых работают десятки батраков. По всем статьям, они должны быть угнетателями, хищниками и мироедами. Однако писателю удается передать совмещение действительного и воображаемого в самом крестьянском сознании. При этом автор отделяет себя от героя с помощью чуть заметной иронии. ...За неделю до Покрова собрался Осташа к Атамановским: «…Не допущу, шумел, не позволю за счет трудящегося мерина капиталы наживать... Проснулся не поздно, не рано — в бусое время. Параню разбудил, отругал и выматькал — спишь-де, худая солома, а хозяин не пивши не евши войну воевать с “угнетателями” собрался... — Мерина за ворота вывел, опять выругался — растакую-де мать, бедному человеку и поспать некогда. Еще бы ругался, богатых клял, да мерина застыдился. Испугался громкой ругани мерин, хри- 137 петь перестал, опустил голову, как виноватый. — Не тоскуй, не куксись, — сказал Осташа ему. — По природе своей живи, но шагай по-солдатски» (с. 293). Вопреки ожиданиям, но благодаря тому же мерину «борьба» оборачивается настоящим комическим действом, которое настолько развеселило хозяина, что тот добавляет мерину «пуд овса за прыть». «Угнетатели» превращаются в «благодетелей». Параня разве что не поет: «Радуюсь я, Осташушка! Ох, радуюсь... С хлебом никакая зима не страшна» (с. 294). Если сознание самого Осташи лишь слегка затронуто пропагандистской лексикой о классовой борьбе, то для какой-то части деревни эта теория становится прямым руководством к действию. История временного союза между Осташей и Худым Иваном — не что иное, как пародия на большевистскую программу экспроприации. «Ограбить бы кого, Остафий, Богородица дева радуйся!.. — признается озверевший от собственной бестолковости Худой Иван. — Да богатых близко нету... Нынче, Остафий, мода пошла: чуть што не поглянулось, не устроилось — не в лес мужики уходят на вольное житье, а в город — богатых и чиновных бить, грабить. А я так скажу: бить бей, но и с бедным поделись» (с. 283). Богатых-то нету, а пасека, оставшаяся без хозяина, тут она, рядом. Однако на этот раз наступление на богатых заканчивается для Осташи полным конфузом. Ивану-то ничего, а его пчелы искусали до беспамятства. В последующем рассказе также все «видно». «Сначала боли не чувствовал, только слышал — с налету жалили, будто клевали. В лог скатился, упал на колени в осоку перед ручьем. Сунул голову в воду и уперся носом в песок. Мелок был чертов ручей! Вскочил на ноги, заревел от боли нестерпимой и бросился вниз по логу заросшему, по кустам густым, спасительным. К Косорыловке — речке родной выбежал. Брод искать не стал, по глубокому месту речку перешел. На ходу лицо и шею обмывал. В гору взбирался, тоненько выл, мокрый и отупевший от боли. Где бегом, где ползком, а к огородам все-таки вышел. И, ослепший почти, до крыльца своего добрался. Параню позвать громко, своим голосом, сил уже не было. Упал на ступени гнилые и заскулил по-щенячьи... Теряя сознание, услышал причитания Парани и сиплый голос соседа: 138 — Эк его, растудыт твою мать, разделали...» (с. 285). Жизнь, как большая, полноводная река, неостановимо и неспешно обновляет себя, не требуя ни революционных теорий, ни какоголибо вмешательства извне. Такова по сути философия Андрея Ромашова, близкая той «концепции жизни», которую разделяет герой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В 1990-е годы идея самодвижения жизни уже не вызывала столь яростного идеологического сопротивления, которое когда-то в считанные годы погубило Пастернака, однако и не привлекало особенного внимания со стороны критиков. Между тем заслуживает внимания искусство Ромашова-художника. Историческая динамика передается иной раз посредством «говорящей» бытовой детали. Так, соседская девчушка Татьянка, забежавшая навестить больного «дядю Осташу», сообщает последнюю новость: «вятские-де школу достраивают на земские деньги, на кормах деревенских», а ее мамка «вятским щи мясные варила» (с. 287). Можно пройти мимо этих подробностей, но лучше «прочитать», как это делается, скажем, в реалистической живописи. Правда, в этом случае обнаружится, что у многих историческая память очень коротка. Далеко не всем известно, что в Татьянкиной новости не случайны ни «земские деньги», ни «вятские» строители, ни «корма деревенские». А ведь еще наши деды и прадеды были живыми свидетелями того, что с конца XIX столетия по глухим деревням обширной Пермской губернии, где и церкви-то не было, возводились энергичными «земцами» начальные, так называемые однокомплектные школы. Кое-где эти здания стоят и поныне, удивляя крепостью и целесообразностью постройки. Для этого необходимы были артели опытных вятских каменщиков и плотников, которые в поисках работы доходили до Камы и Чусовой. Впрочем, как и артели бурлаков и сплавщиков, в чем убеждает Д.Н. Мамин-Сибиряк очерком «Бойцы». Что же касается «кормов деревенских», то они идут по части общинных порядков. «Корма» поставлялись справными хозяйствами, которые выбирались по решению сельского схода. Вдовые и обедневшие семьи, по решению тех же общинников, от повинностей такого рода освобождались. Следует и продолжение. На ближайшую Масленицу спустился Осташа к «недостроенной школе, слепой еще, с заколоченными ок- 139 нами. Постоял, за ребят косорыловских порадовался, что не придется им больше за шесть верст в школу бегать. Себя вспомнил, маленького, конопатого, и учительницу красивую. Глаза у сельской учительницы были Настины, серые...» (с. 333–334). Эрудированный историк Андрей Ромашов не пользуется наукообразным языком, когда ведет речь о таком необратимом процессе, как «раскрестьянивание деревни». Он «держит в уме» стадию его интеллектуального осмысления, последовательно изгоняет прямое сообщение, предпочитая изображение и действие. Обеспокоен Осташа тем, что произошло с косорыловским озорником Яшкой тотчас же после Масленицы. Подпасок Петруха делится услышанным: «А Яшку седни стегать будут обществом по обычаю, по закону мочеными вицами». Осташа не поверил: «Накалил на солнце башку и плетешь невесть что!... Нету такова закона, Петруха! И обычай такой был да сплыл». Сообщение подпаска оказалось правдой. Но так ли велика вина Яшки? Как всегда, автор «уклоняется» от собственного объяснения. «Што рассказывать, Осташушка! Што рассказывать...— сокрушается сердобольная Параня. — Ошибился Яша очень уж... Думал, девки в бане моются. Привалил, балуясь, бревнышко к дверям, и такая беда случилась, прости Господи!» Беда и вправду немалая: умерла от угара старая Микитишна. На сходе больше всех шумели Каины, отец и сын. «— Микитишна наша, — орал отец и ногой топал, грязь разбрызгивая, — убиенная Яшкой, не зря ешо хлебушко ела, по силе робила... — У вас, Каинов, даром хлеба не поешь...» — раздается из толпы (с. 342). Так или иначе, посчитались «сердитые мужики» не только с непутевым парнем, но со всей Яшкиной семьей, нарушающей общинные порядки. Конфликт поясняется диалогом «Яшка — Параня — Осташа», в котором «скомороху» отводится роль «исследователя» крестьянской общины. «Меченый теперя я, тетка Параня! — жаловался ей Яшка, но травяной настой пил. — А Каинов порешу, перво дьявола бородатого, потом сынка-губошлепа и девок. Замотаю косы на руку... Пришлось Осташе голос с полатей подавать — девки, сказал он, тут ни при чем, на сходе их не было. 140 — Смеются небось, суки! Весело им... Говорил тятька, не серди мужиков, полегче балуй... — Молодой ты, Яша! Боевой, ярый! А Бог мужиков косорыловских лепил вместе с дьяволом. Поживешь, поймешь... Другое скажу: злы на вас хозяева, льном землю губите. — На своей земле лен сеем, мать их в тугой лапоть, как тятька говорит. Спустился Осташа с полатей, сел рядом с Яшкой и сказал, что земля не хозяйская, общинная, и скоро передел будет. — Беда, кому ваша земелька достанется! После льна хлеб не растет. Неужто не знал? — Ну, знал... Да выгоды нет рожь сеять. Маешься, маешься, а пуд зерна за сорок копеек отдашь перекупщикам ласковым, мать их в тугой лапоть! — Так оно... И деревню жечь невыгодно, своя изба тоже сгорит» (с. 344–345). От самого Ромашова не потребовалось социологического объяснения: нет для Яшки другого пути, как податься в Пермь на завод либо устроиться матросом на Камской пристани. А Яшкина семья все-таки будет сеять лен и продавать его перекупщикам за живые деньги, если это ей выгодно. Отмирание общины, связывающей инициативу крестьянина, происходит само по себе. Редкостная экономия авторских слов не обедняет образного содержания романа «Осташа-скоморох». Со временем о проблематике этого произведения появятся целые исследования. Особого внимания заслуживают элементы фольклорной поэтики. С устно-поэтическими и обрядовыми традициями напрямую связываются в романе проблемы русской духовности. Фольклорная стилизация Будущий автор «Осташи-скомороха» родился 20 августа 1926 года в д. Шляпино и был крещен в Слудке, расположенной в двадцати километрах от его родной деревни. Отец писателя был крестьянином, затем сплавщиком на Каме, а к концу жизни железнодорожным ра- 141 бочим. Сведения о семье и близких Андрея Павловича нуждаются в дополнительных разысканиях, хотя читателю важно иметь представление обо всем Ильинском районе Пермской области. Этот давний культурный центр Западного Урала был хорошо известен Д.Н. Мамину-Сибиряку: «На р. Обве стоит знаменитое село Ильинское — главная резиденция Строгановских нынешних имений, а в устье реки — богатое Слудское село, знаменитое своими сплавщиками, лоцманами», — писал он в очерке «Старая Пермь» (1889)1. Ильинский район богат культурными традициями. В 1923 году известный собиратель пермской деревянной скульптуры Н.Н. Серебренников находит на Ильинском погосте первый экспонат будущей уникальной галереи (Пермская деревянная скульптура) «Распятие Ильинское» с монголовидным лицом Христа2. Современные исследователи изучают историю этого уникального региона. «В конце XVIII века в Слудке, а затем вплоть до революции в Ильинском находилось главное управление Строгановских вотчин. Здесь был сосредоточен штат управляющих, а также кадры творческих специальностей: живописцы, резчики, позолотчики и др. <...> В этом культурном гнезде в конце XVIII в. была открыта школа, а в XIX в. — первый общественный театр и сельская библиотека... В отличие, скажем, от столичной интеллигенции, эти круги были более тесно связаны с традициями народного искусства»3. Регион «Ильинское — Слудка» издавна освоен фольклористами. Ларисой Степановной Соболевой обнаружен в Пермском государственном архиве рукописный сборник пословиц и поговорок, помеченный 1869 годом, принадлежавший строгановскому служащему, бывшему крепостному А.А. Пищалкину. Это прямое свидетельство, что в те далекие времена устное слово ценилось на родине писателя «как факт высокого искусства». Очевидно, с раннего возраста Ромашов знакомился в своей деревне и ее окрестностях с песнями, сказками, легендами, частушками, заговорами, которые восхищали иску1 Мамин-Сибиряк Д.Н. Старая Пермь: путевые очерки // Собр. соч. в 12 т. Т. 12. Свердловск, 1951. С. 300. 2 Любимов Л.Д. Пермские боги // Новый мир. 1965. № 9. С. 203. 3 Соболева Л.С. Фольклорные паремии и народная герменистика в рукописном сборнике строгановского служащего // Книга и литература : сб. науч. статей. Новосибирск, 1997. С. 173. 142 шенных знатоков народного творчества не меньше, чем уникальные «пермские боги». Многое могла передать своему внуку мансийская бабушка Акулина, по воспоминаниям близких писателю людей, женщина незаурядная, прожившая долгую жизнь, и его родной дядя — прототип главного героя, носивший то же имя — Остафий. Мастерски выполненная фольклорная стилизация, то есть упорядоченное и творчески переосмысленное произведение устно-поэтического творчества, делает литературный язык гибче, богаче, не побоимся сказать, красочнее, ибо стилизация сама по себе — писательское искусство, творимое по законам гармонии и красоты. Разу­ меется, речь идет о высоком уровне стилизованных фольклорных текстов и вместе с тем о чувстве меры и такта. В принципе, фольклора не может быть «слишком много» для воссоздания той среды, где не было ни газет, ни радио, ни кино, ни других средств информации, ставших привычными для более позднего времени. Устное творчество позволяло русскому крестьянину во времена столетней давности выразить те настроения, чувства и размышления, для которых ему недоставало слов, тем более отвлеченных понятий. Андрей Ромашов осваивает самые разные фольклорные жанры, в том числе те, которые у специалистов считаются второстепенными: рассказы о домовых, кикиморах, шуликунах, чертях болотных и др. По народным верованиям, эти «мелкие бесы» непременно стараются досадить человеку. В советской литературе побасенки про нечистую силу возникали в тех случаях, когда требовалось показать темноту и невежество жителей старой русской деревни. У Ромашова побасенка «про одну бабу», на ходу сочиненная Осташей, выполняет совсем другие функции: с одной стороны, характеризует сообразительного прикамского мужика, а главное, передает ироническое отношение крестьян к «народным заступникам». При всем том «скоморох» Осташа не выходит из границ урало-сибирского народного этикета по отношению к городскому «гостю». Он смотрит на пропагандиста как на бродягу, который нуждается в помощи. Тайной тропой он ведет гостя к Камской пристани, оберегает от опасности. На «тайной тропе» гость разговорился. Получается, однако, диалог двух глухих: ни Осташа не понимает гостя, ни этот последний не догадывается, что деревенский мужик откровенно дурачит его. «—Мы не рабы исто- 143 рии! Нет! — шумел гость. — Общественные процессы не детерминированы... Осташа его остановил — будь ласков, сказал, разговаривай тихо, нечистую силу не дразни, в этом месте бабу одну черти испортили. Молодая баба была. Заманили ее черти в болотину, тоже ведь и им поиграть охота. На третьи сутки домой баба пришла, вроде целая, никаких знаков на теле нет, а умом попортилась, ревела часто и за женские места все хваталась — тут ли?» (с. 248). Логичен финал: Осташа не огорчился, но порадовался, когда уже на мостках к пароходу появились два полицейских солдата и офицер. «Осташа понял — ждали гостя — и, пригнувшись, полез в гору напрямик, по густому ельнику. На горе, в безопасности, на спокойную Каму глядел, на строгий лес за рекой и сам себя успокаивал, что гость-де человек простой, к хитрой жизни не приспособленный. На воле пропадет, или мужики по глупости насмерть заколотят. А в тюрьме все-таки крыша есть и паек казенный...» (с. 253). Сон-сказка, в котором реальное не отслаивается от фантастического, но сливается с ним, передает политическую неразвитость крестьянского сознания в канун надвигающихся революционных перемен. Андрей Ромашов не считает возможным утверждать обратное. Представления мужиков о формах борьбы с угнетателями и о путях к «светлому будущему» расплывчаты и утопичны. ...Задремал Осташа после горячей харюзовой ухи тут же, на бережку, где рыбачил, и снится ему, что раздобыл он тот «боб заколдованный», что наподобие скатерти-самобранки. Горел тот боб «огнем золотым, неярким», и загадал Осташа: «Пусть окажется в суме его нищей каравай пшеничный. Так и случилось... только взял боб в правую руку, встали перед ним два брата Атамановские, поклонились низко — дескать, приказывай, твоя воля и власть... Потом уездный начальник из полицейских, рожа красная, упал перед ним на колени и молит: “Не погуби!” Обругал он матерно полицейского начальника и велел идти пешим ходом до Божьего града Ерусалима грехи замаливать... а угнетателей на Руси святой много. Разговаривать с каждым ни дня ни ночи не хватит. Решил Осташа вызвать их всех сразу. Встали они перед ним как овцы смирные и заревели в голос: “Убей нас, революционный человек, но не кон- 144 фузь!” Ожесточил сердце Осташа и всех оконфузил, чины и богатства отнял, на прощанье пригрозил: — Смотреть у меня! Нехристи сытые! Штобы без жалоб... С песней... Себя услышал, огляделся. Перед логом стоит крутым на старой заросшей тропе. Значит, ноги головы не дурнее — свернул с дороги вовремя» (с. 265). Состоялось пробуждение — революционный мираж окончился. Во что же по-настоящему верит прикамский мужик? Как во что? В счастливое Беловодье, что в Сирской (Сибирской) стороне находится; там живут «люди истинные» и никакого начальства не знают, и пшеница растет там «несеяная, и плод всякий зреет по воле Божьей»; в заступничество Богоматери, в помощь Николая Угодника, который и на воде спасет и «от рукоприкладства убережет»; в целительную силу матери-природы, в широкую, щедрую Масленицу. Патриархальность сознания неравнозначна духовной бедности. Повидимому, это и есть русское «двоеверие», которое вполне допускает Андрей Ромашов, не исключающий того, что самые поэтические черты крестьянского сознания имеют языческие корни. Отголоски древнейших верований в магическую силу дерева слышатся в стилизованных песнях девушек на Троицу. У народов Урала культовыми считались разные деревья: береза, лиственница, ель, пихта, можжевельник. К началу ХХ века языческие обряды трансформируются. Русские крестьяне воспринимают березу как символ чистоты и девичества. Не случайно троицкую березу «доверяли носить только девушкам. А девичество связывалось с юностью года, весенним цветением»1. И все же сохраняется отношение к дереву как к существу одушевленному: с березой ведут «диалог», с ней делятся тревогой за свое будущее, ее «одевают» и «раздевают». Возвращаясь с пристани, Осташа становится невольным зрителем обрядового действа: «по лугам девки каменские шли с троицкой березой. За ними малые ребята бежали. Чтобы девок не испугать и праздник им не испортить, Осташа за кусты спрятался. Недалеко от 1 Казанцева М.Г. Календарные праздники и обряды // Духовная культура Урала. Вып. 3. Екатеринбург, 1998. С. 72. 145 него девки остановились и стали “раздевать” троицкую березу, снимали с нее венки и ленты и пели жалобно: — Чем же я вам разглянулася? Разве я была не кудрявая? Разве я была не нарядная? А теперь стою оголенная — Все листочки мои да свернулися, Все наряды мои да в траве потерялися. Киньте-бросьте меня да в речку быструю И поплачьте надо мной над березонькой. Бросили девки троицкую березу в речку быструю и опять запели — прости-де нас, березонька кудрявая, нам самим гулять долго не велено... Набежит скоро осень мокрая, А за ней зима лютая, И нагрянут сваты льстивые, Сваты льстивые, вороги лютые, Упадут на пол косы девичьи... Пропели девки, что скоро с гульбой-волюшкой распрощаются, поклонились в пояс речке Каменке и пошли домой по лугам цветущим» (с. 253–254). Создается фрагмент многоступенчатого свадебного спектакля, предшествующий самой свадьбе, а песни девушек звучат близко к тем чердынским свадебным песням, которые в свое время восхищали Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Даже в чтении они производят сильное впечатление своей глубиной, выстраданной поэзией и сердечной женской правдой. Эти песни богаты такими оборотами, сравнениями и образами, что остается только удивляться создавшей их духовной мощи» (из очерка «Старая Пермь»)1. Ромашову они могли быть известны в живом исполнении или в записях одного из его друзей — пермского фольклориста Ивана Васильевича Зырянова2. Поэтичны народные заклинания-заговоры на урожай, на мороз, на изгнание «двенадцати дев, безумойниц, беззастебниц», насыла1 2 146 Мамин-Сибиряк Д.Н. Старая Пермь. С. 300. Черданская свадьба / Сост. И.В. Зырянов. Пермь, 1969. ющих на человека болезни. Судя по частому появлению в тексте этого малого фольклорного жанра, писатель испытывал к нему особое пристрастие. Он собирал, шлифовал и отделывал заговоры, сообщал им четкую ритмическую структуру. Ритмически упорядоченное слово, по народным поверьям, обладает повышенными магическими свойствами и укрепляет силу целебных трав. «Трава без слов тайных што сено, — поясняет Параня. — А с наговором хворь — боль сдувает в землю, в колоду, на ручей, на воду» (с. 292). Глубокая и неподдельная вера крестьян в Богородицу выливается в духовных стихах. Андрей Ромашов возрождает этот прочно забытый советской литературой жанр народной культуры. На день Благовещенья Осташа поет о хождении Богородицы по мукам — «для телесного отдыха и для спасения душ наших грешных». До косорыловских баб и мужиков легче доходит не проповедь, но песнопение — о том, как, посетив «злое мучалище», Богородица сказала Михаилу-архангелу: «Для тебя они великие грешники, / А для меня они люди нехитрые, / Нехитрые люди, несчастные — / Чисто дети человеческие...» Слушатели молчали, в пол глядели и горбились, как виноватые... Кланялись низко и уходили без крика, без ругани. Дверь за собой закрывали осторожно, чтобы не скрипела» (с. 222–223). По своей гуманистической сущности крестьянская Богородица у Ромашова близка той Богородице, о которой писал в эмиграции философ Георгий Федотов, изучавший русскую народную веру по духовным стихам: «…Вся тоска страдающего человечества, все умиление перед миром божественным, которые не смеют излиться перед Христом в силу религиозного страха, свободно и любовно истекают на Богоматерь. Вознесенная в мир божественный, до неразличимости с самим Богом, Она, с другой стороны, остается, в отличие от Христа, связанной с человечеством, страждущей матерью и заступницей»1. Как никто из современных ему русских писателей, Андрей Ромашов постигает широчайшие возможности устно-поэтического слова. Предчувствие надвигающихся исторических катастроф передается старообрядческой легендой о нижегородском попе Миниче — в монашестве Никоне — предтече антихриста. Собственно, столь заверФедотов Г.П. Стихи духовные (русская народная вера по духовным стихам). М., 1991. С. 49. 1 147 шенной сюжетной легенды в старообрядческом фольклоре нет. Писатель выстраивает ее из разрозненных антиниконовских преданий, сохраняя устойчивое народное представление о Никоне как антихристе. Ученые подсчитали, что «память о подлинном историческом событии живет в народе не более двух-трех столетий. Потом история становится преданием, превращается в сказку, а реальные люди — в образы добрых и злых персонажей»1. Исторического патриарха Никона постигла судьба последнего. Как бы в подтверждение тому — ромашовская легенда, которая производит впечатление даже в сокращенном изложении. «...Жил в Нижегородской земле поп Никита Минич. Дерзок был и умен, да в детях несчастлив. Похоронил троих детушек и возроптал на Бога, как Иов многострадальный, дескать, без вины умножает раны его... Оседлали бесы попа Минича и до Студеного моря гнали поверх леса стоячего... Волнуется вода серая ледяная, волны шипят, вздымаются. Качается на волнах тугих, как щепка в весенний разлив, баркас монастырский, монахи в белых брызгах пенистых сеть выбирают и святого Николая просят: Приди, приди, скорый на помощь, по морю хождаше яко посуху...» Прибился поп к монастырскому баркасу, помог монахам Никола Мокрый, и оказался поп Минич на острове, в Анзерском монастыре. «Через год, стало быть, поп Никита Минич монашеский сан принял и имя получил Никона. Работы никакой не боялся монах Никон, услужлив был. Ночами молился. Хвалили его монахи. Только игумен Елизар не верили ему. “Завидует, — шептались меж собой монахи, — соперника боится...” Пришло время и новому иноку всенощную служить в монастырской церкви. Встал он перед иконостасом, начал “единым сердцем имя Божье славить” и захрипел вдруг, заругался. Святой Елизар увидел, что вокруг шеи бывшего попа черный змий обвился и шептал черный большой змий попу слова окаянные. “Глядите, — закричал святой игумен, — враг Господа в церкви...”. И гром грянул, и ветром студеным подуло, и свечи потухли. Пали моОкорокова Н.Г. «Помяни чудского дедушку, чудскую бабушку…» // Духовная культура Урала. Вып. 3. Екатеринбург, 1998. С. 53. 1 148 нахи на пол каменный, молились и плакались Господу — пошто-де допустил такое в храме своем... Утром долго искали по всему острову попа бывшего, инока, и не нашли. Догадались монахи, что сам антихрист у них был, соблазнитель великий. С етим и к игумену пошли. “Знаю, зачем пришли, — сказал им святой Елизар, — но не антихрист есть бывший поп, Никоном названный, а предтеча антихриста. И будет их, детушки мои, множество на Руси, и станут они развращать народ посылами красными и ложь выдавать за правду. И поверит народ предтечам антихриста, и церкви Божьи разрушит, и святые иконы огнем спалит, и душу свою испоганит желаниями пакостными, и руки свои вымоет в крови невинных — и тогда придет настоящий антихрист, и народ его примет и скажет ликуя: — Нету Бога и не было, один ты на земле, солнце наше и утешение, и вся слава тебе!» (с. 291). Пророчество святого Елизара — это двойное слово, за которым угадывается сам автор, знающий о скором наступлении разрушительной революционной стихии и о культе Ленина — Сталина. Таким путем прокладываются прямые «мостики» к современности, каких не знала народная фантазия. Сами герои лишь смутно ощущают приближение чего-то неясного, неумолимого и грозного. «Последняя зима перед германской войной была тихой, безветренной. И морозы не донимали. Но Осташа ласковой зиме не верил. Солнце глядело на родную Косорыловку с прищуром недобрым, и снег под полозьями скрипел противно, поросячьим визгом. Бабы сны нехорошие видели. Мужики заговариваться начали». Писатель не упускает самой недоброй из народных примет — это заяц, которого на Мысу видели. «Матерый был заяц, не меньше овцы годовалой. Сидел столбиком, передними лапами сам себя по бокам колотил и смеялся не по-ребячьи, как зай­цам положено, а хохотал натружно, будто пристанский матрос, на камском ветру простуженный...» (с. 312). Одно миропонимание накладывается на другое, а сверх того — сохранившаяся в крестьянском сознании уверенность в незыблемости традиционного бытия. Как много столетий тому назад, эта вера подтверждается непреложным сельскохозяйственным циклом и соответствующими календарными праздниками, которые были столь же значимы в деревенском быту, как «выполнение земледельческих 149 работ, продолжение рода, почитание родителей и святых. В празднике, как и в приметах, поверьях, магических представлениях, воспроизводилась вторая действительность крестьянской жизни, творимая духовно»1. В ряду традиционных праздников особое место автор отводит языческой Масленице. Это семидневное празднество выписано Ромашовым как торжество жизни, стихийное проявление биологической радости от сознания своего земного бытия. По Ромашову, крестьяне предпочитают Масленицу Пасхе. Со своей стороны, строгий о. Савватий Масленицу праздником не считает. «Смирения-де нету никакова, разгул пьяный да драки. Ну и другое што по части грешных прижимок», — передает его слова Осташа. Сами косорыловцы считали Пасху «праздником казенным, поповским. Больше о пахоте и о севе думали, чем о вознесении Господнем. Однако пекли, и варили, и яйца красили» (с. 334). Совсем другое — Масленица, которая представляется в образе существа сказочного, космического. В канун праздника ходил Осташа по улицам среди мглы белой, как в неясном мире, и голоса слушал. «Неземными казались они, будто не косорыловцы переговаривались, грешные люди, а духи бесплотные или ангелы чистые. “Едет, едет наша Масленка, — пели ангелы косорыловские, – сама под пологом, голова у ней под полозом. Аль не жива?”» (с. 323–324). С Масленицей герои связывают свои надежды на урожай, на удачу и на здоровье. К ней готовятся загодя, продают на ярмарке свои припасы и там же покупают подарки. Ждут и ублажают, как дорогую гостью. «Не потешишь Масленку — в бедах жить, горе пригоршнями собирать весь год. — Верно. Шубу с себя сложить, а Масленку срядить» (с. 323). В разгульный четверг приходит крестница Настенька с подружками «крестного повеселить». Девушки «по избе малым кругом ходили мягко, неспешно, будто утушки, и пели протяжно: Масленицу девушки сустречают, Масленицу красные сустречают — “Погости недельку, — они просят, — Погости другую...”» (с. 329). 1 150 Казанцева М.Г. Календарные праздники и обряды. С. 54. Парни сокрушают злую силу «взятием зимнего городка», демонстрируют удаль и молодечество катанием с ледяных горок, залезают на столб, намазанный салом. Подобно своим далеким предкам, косорыловцы верят в очистительную силу огня. Подростки тащат в общий костер «старье всякое, жерди гнилые, сучья сухие». Старухи толкают в огонь «рубахи исподние, до дыр изношенные» и огню кланяются, чтобы «до серой золы сжег-спалил и хвори, и боли, и злые наговоры». «Пособь, помоги, мила Масленка, гостья белая, — причитали старухи, — лента алая, шубы синяя...» На тещин день хозяйки пекут блины, а малолетки кричат под окошками: «Прощай, зима сопливая, / Пришла весна счастливая!» В субботу сжигают соломенное чучело. Шумное веселье завершается тихим воскресным днем, когда косорыловцы прощенья друг у друга просят «за песни пересоленные, за слова обидные, в сердцах сказанные» (с. 337). От одного эпизода к другому проясняется авторский замысел: в первую очередь культура в ее разнообразных, в том числе чисто народных формах несет в себе прообраз тех общественных и человеческих отношений, которые практически вряд ли осуществимы, однако живут в народе как высокий идеал и благородная мечта. В совокупности народных обычаев, обрядов и праздников обнаруживаются те духовные скрепы, которые держали тысячелетнюю Россию как единую нацию. Скрупулезный биограф и исследователь творчества писателя Андрей Петрович Комлев не решается обозначить это произведение романом. Между тем многопроблемный и многогеройный «Осташа-скоморох» по сути своей — тип романа из народной жизни. На его страницах в миниатюре представлена ушедшая в прошлое Россия, богатая и нищая, трудолюбивая и бесхозяйственная, богохульная и благочестивая, вороватая и честная, талантливая и бестолковая, разбойная и смиренная, жестокая и жалостливая. Та самая крестьянская толща, о которой говорил писатель Леонид Леонов: «Крестьянство было органом нации, а не сословием. От крестьянства родились все — и интеллигенция, и рабочие, и правители»1. 1 Из беседы с научным сотрудником Института русской литературы Натальей Александровной Грозновой (1988, ноябрь): Роман Леонида Леонова «Пирамида»: Проблема миропонимания // Ин-т русской литературы. СПб, 2004. С. 10. 151 Нельзя не оговориться, что при всей пластичности образов персонажей и «зрелищности» картин народной жизни «Осташа-скоморох» предназначается не для беглого чтения. Это интеллектуальная проза второй половины ХХ столетия, в которой объективированные средства изображения преобладают над описательностью и совсем вытесняют прямые авторские суждения. К логическим выводам и заключениям читатель приходит самостоятельно. Другой вопрос, востребован ли вообще творческий опыт наших замечательных мастеров, если по прогнозам отдельных книжных обозревателей литература «уже не будет продолжена теми способами, которые в ней ХХ век продолжал XIX», и станет «маргинальным занятием»?1 Слишком мрачные прогнозы, как правило, рождают защитную реакцию. Не лучше ли надеяться, что Апокалипсис наступит не скоро? 1 152 Березин В. Первый ученик // Книжное обозрение. 2006. № 10–11. С. 25. «Война народная»: панорама по Кодочигову Есть писатели, которые напоминают мне старательного и умного пахаря, что без шума, гама, показной активности, молодеческой стати делает свою трудную работу. Виктор Астафьев. «Зрячий посох» Согласимся с Виктором Астафьевым, но бывает в литературной жизни и по-другому: пишущий маскируется. Иной маскируется всю жизнь. Под психологизм, под бытописательство, с непременной чуть заметной иронией, под фантастику, под вошедшую в моду поэтику абсурда и т.д. Печатается, слывет известным, награждается литературными премиями, но рано или поздно исчезает с читательского горизонта, не оставив в памяти никакого следа. Павел Кодочигов — из тех, что не маскируются и не подделываются ни подо что. Характер не тот, биография не та. Правда, и он пережил соблазн, когда хотелось писать «как все», во всяком случае, «не хуже других». Это чувствуется в его первой книжке «Я работаю в редакции», выпущенной Тюменским книжным издательством в 1960 году. Справедливости ради отметим: в сборнике попадаются и добрые рассказы. К тому времени за его плечами был опыт работы в газете «Тюменский комсомолец», из которой «продвинулся» в «Тюменскую правду», затем — повышение или понижение? — в число литературных редакторов на Тюменской телестудии. А раньше была война. Павел Кодочигов — из того поколения, которое подросло «точнехонько к роковым-сороковым годам двадцатого столетия». Об этом этапе жизни лучше всего расскажет он сам. «После окончания десятилетки многие друзья пошли в военные училища. Я мечтал поступить в Свердловский коммунистический инсти- 153 тут журналистики, до этого хотел отслужить два года рядовым, однако “случилась” война, и я без экзаменов и заявления стал курсантом эвакуированного в Новосибирск Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. Через полгода, всего раз постреляв из винтовки и ни разу из миномета, мы получили по два кубика в петлицы и направление на Волховский фронт. Я стал командиром взвода минометчиков 299-го полка 225-й Краснознаменной стрелковой дивизии, впоследствии получившей наименование Новгородской и удостоенной ордена Кутузова II степени. 18 января 1944 года был тяжело ранен восемнадцатью осколками мины. Левую ногу ампутировали выше колена. Врачи говорили, что я проваляюсь в госпиталях год, а то и все полтора, но я их “обхитрил” и в конце июля вернулся домой»1. К моменту возвращения Павлу Кодочигову исполнился 21 год. Начиналась другая жизнь, и в ней предстояло найти себя. Не умирала мечта стать журналистом, но надо было работать, учиться приходилось заочно. Выбрал Свердловский юридический, который окончил в 1952-м. Адвокатская практика давала много, но все больше тянуло к себе «слово». Умение писать приобреталось благодаря опыту и природным наклонностям. Писались очерки и рассказы на разные темы, но долго не находилось такого материала, где почувствовал бы себя полным хозяином, писал бы свободно, сообразуясь лишь с тем, в чем глубоко убежден, что видел и пережил сам. Надежды на литературное будущее внушал юмор, такой непринужденный и легкий, что, не зная автора лично, приходилось удивляться: откуда же он берется у человека, которого жизнь вроде совсем не баловала? Редкой и неожиданной удачей оказалась вторая книжка Павла Кодочигова — «Первый поцелуй» (Тюмень, 1962). Жаль, что с той поры она не переиздавалась. Не что иное, как юмор позволял угадывать в начинающем авторе и уже не молодом человеке незаурядную личность, какой-то нетронутый запас внутренних сил, которые непременно позволят ему подняться над своими первыми литературными опытами. А жизнь между тем шла своим чередом. Подходил 1965-й, когда 1 Кодочигов П.Е. Мне везло на хороших людей // Автограф: Писатели о себе. Екатеринбург, 2000. С. 158–159. 154 впервые после ликующего 1945-го страна широко отметила день Победы. «Со слезами на глазах» припоминала тех, кто не вернулся с вой­ны, с радостью и гордостью чествовала живых. Памятно это время толстыми книгами прославленных маршалов и полководцев, нахлынувшим потоком «окопных» повестей, которые враз оживили советскую «военную» прозу. Памятно оно величаво-трагедийными ямбами Твардовского, которые звучали по радио и с телевизионных экранов: В безгласный край, в глухой покой земли, Откуда нет пришедших из разведки, Вы часть меня с собою унесли С листа армейской маленькой газетки. Я ваш, друзья, — и я у вас в долгу, Как у живых, — я так же вам обязан... («В тот день, когда окончилась война…») Это глубокое и ранящее чувство хранили в своей душе многие. Как знать, может, в такие вот часы и минуты обнаруживается в русском человеке некая отчаянная решимость; он находит единственно верное для себя направление и словно отрешается от всех житейских расчетов и планов. Не потому ли отправляется Павел Кодочигов на Новгородчину, где воевал, был ранен, терял фронтовых друзей, где жили его однополчане. Об этом своем душевном порыве он не забудет. «Какая-то неодолимая сила влекла бывших воинов к своим окопам, землянкам, блиндажам, дзотам, и они вышагивали многие километры по памятным дорогам, находили места, где были ранены или контужены, подолгу стояли у могил боевых товарищей. Так было и со мной. Первый раз поехал на Новгородчину зимой 1961 года. Друзья отговаривали: “Нигде из-за снегов не побываешь, ничего не увидишь”. Тщетно! Взял внеочередной отпуск и поехал... Через два года — снова. В 1964-м “рванул” из-за Уральского хребта на машине»1. На этот раз он побывает в деревне Мясной Бор, «злом и памятном каждому волховчанину месте, где зимой сорок второго вела тяжелей1 Кодочигов П.Е. Марта Лаубе: документальная повесть. М., 1991. С. 3. 155 шие бои 2-я Ударная армия, а весной завязались новые сражения по спасению и выводу из окружения ее остатков». Припомнит, с какой горечью говорили фронтовики: «Точное название дали Мясному Бору. Словно знали, что будет здесь настоящая мясорубка!» Посетит село Теремец, откуда «начинался плацдарм, отвоеванный у фашистов зимой сорок второго. И здесь, на самом гиблом месте, противостояла врагу рота капитана Засухина... Мой минометный взвод прикрывал роту Засухина с восточного берега»1. Несколько опережая события, уточним: Павел Кодочигов не зай­ мется историей 2-й Ударной армии, хотя «окруженцы» не раз появятся в его «новгородских» повестях. Сами эти повести будут написаны позднее, в 1980-е годы, а с начала 70-х он станет собирать сведения об уральских девушках, которые добровольно уходили на фронт. Очерково-документальная книжка с неожиданным названием — «Как ты жива осталась, мама?» — выйдет в Свердловске в 1979 году. Как собирался «материал»? На этот раз пришлось поездить по всей Свердловской области. К счастью, живы были те девушки из Свердловска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Алапаевска, Асбеста, Артемовского, из Ирбита, поселка Ис, Малой Кушвы, села Покровского Егоршинского района (из этого села было трое), а также из других мест. Вчерашние фронтовички давно освоили мирные профессии, обзавелись семьями, однако боевое прошлое не потускнело в их памяти. И все же расспрашивать их приходилось осторожно. Немолодые женщины спустя двадцать–тридцать лет после памятных для них событий оставались такими же сильными и не нуждались в сочувствии и жалости. Разговор мог вестись только на равных. Очевидно, Павел Кодочигов не походил на суетливого корреспондента, который с блокнотиком в руках допрашивает своего «информанта» и чаще всего вызывает раздражение. Фронтовика на высоком протезе встречают с доверием. Он не «давит» авторитетом и не возвышается над собеседником как мыслящая личность. Ему рассказывают «обо всем», не опасаясь, что рассказанное получит превратное истолкование. Собранный материал поразил его. Казалось, что у Великой Оте­ чественной войны, как у всех войн, «мужское лицо», но факты говорили о другом: летом сорок второго из Свердловска было отправлено 1 156 Кодочигов П.Е. Марта Лаубе: документальная повесть. С. 4–5. несколько девичьих эшелонов! На «самый трудный и голодный фронт, главным образом, в части Краснознаменного Балтийского флота». «Наши сверстницы, — вспоминает автор, — воевали и гибли вместе с нами. Воевали иногда лучше нас». Терпеливые и выносливые «уралочки», с детских лет привыкшие к любой работе, не ослабленные блокадой и голодом, годились везде. Они были не только медсестрами, радистками и телефонистками, но водили машины с боеприпасами по улицам блокадного Ленинграда, служили в прожекторных и артиллерийских расчетах и даже в разведке. Условия войны сами по себе настолько тяжелы, что выявляли в поступках и действиях человеческий характер столь отчетливо, что оставалось только, казалось бы, сесть и писать, «как было», не заботясь ни об индивидуализации и типизации, ни о портретных, речевых и прочих характеристиках. Павел Кодочигов в основном так и поступает. Но легче ли работать в документальном жанре, не обманчиво ли впечатление, будто ни персонажи, ни события не проходили никакой авторской обработки? Опытные журналисты хорошо знают, как нелегко бывает отказаться от множества живых подробностей. Отказаться — значит, «засушить» текст, но вместе с тем рискованно и перегружать его, ибо пределы читательского восприятия не безграничны. Если переходить на высокий стиль, Павел Кодочигов благополучно проходит между Сциллой и Харибдой. Правда, иной раз заметно, что писатель в нем берет верх над журналистом: вводится развернутый диалог, в общемто не характерный для «чистого» журналистского очерка, намечается некоторое «развитие действия». Все-таки был к тому времени Кодочигов не только автором очерков и газетных корреспонденций, но и проявил себя уже как рассказчик, и примеры беллетризации в этой книжке то и дело дают о себе знать. Тем более что сам жизненный материал, идущий ему в руки, как бы требовал этого. Припомнится диспетчеру Первоуральского динасового завода Полине Михайловне Маклаковой — в войну просто Поле Маклаковой — такой, например, эпизод из прошлого. Вместе с другими «автобатовцами» привозила она в Ленинград грузы по Дороге жизни и однажды встретила на улице незнакомую женщину с грудным ребенком. «Остановилась, пораженная: всего 157 уже, кажется, навидалась в Ленинграде, но такого!.. Шла женщина медленно. — Здравствуйте, у вас ребенок?— спросила Поля и смутилась от ненужности вопроса... Женщина молча протянула Поле невесомый сверток, безучастно посмотрела, как неумело приняла его она, и прошептала: — Не выживет. Врачи говорят, не спасти... С этого дня, вот уже год с лишним, забегала краснофлотец Поля Маклакова к Александре Николаевне Маловой... Отдавала Шуре сто граммов шоколадных конфет, которые получала каждый месяц вместо махорки, — для Лариски, и кусочки хлеба — для самой Шуры». В 1947-м, в первый послевоенный приезд в Ленинград, Поля увидела подросшую Лариску. «В пятьдесят четвертом Полина Михайловна застала Лариску уже школьницей, а в семьдесят втором — закончившей институт». Взаимоотношения этих людей — не сочиненных, не выдуманных — позволили автору еще раз утвердиться в своей излюбленной мысли — о человеческом благородстве. Он уверен: война сплачивала людей не только на краткий миг Победы, как думают люди, которые хотят увидеть в советском прошлом одно плохое. Общая беда не разъединяла, но сближала людей, — скажет Виктор Астафьев в одной из своих повестей 60-х годов. Сближала не только на бытовом уровне. Однако об этом — чуть позже. Из области беллетристики приходит в очерк «На острове Н...» горячий монолог старшины разведчиков под выразительной (не вымышленной, а подлинной!) фамилией Плут. Монолог адресован двум настойчивым девушкам, которые приняли твердое решение пойти в разведчицы: если воевать, так уж на самом опасном и трудном месте! «— Давайте выясним, что вы умеете делать, — начал беседу со строптивыми старшина Плут. — Финкой владеете? И в руках не держали? А нам, между прочим, приходится иметь дело не только с немцами, но и с финнами, а они финку на пятьдесят метров точнехонько в глаз по самую рукоять всаживают. Самбо знаете? Не ведаете, с чем его едят? А разведчику, между прочим, довольно часто с глазу на глаз с противником приходится встречаться. Прыгнет фриц на спину, что будете делать? Карабин, винтовку, автомат знаете? От- 158 куда вам знать, а разведчик, между прочим, должен уметь разбирать и собирать оружие с завязанными глазами и в считанные секунды. Гранат вы, конечно, в глаза не видели, а у нас, между прочим, гранаты — заместо артиллерии. Без них нам труба. Вот так, а теперь подведем итог: данных, чтобы служить в разведке, у вас нет. Никаких. — Старшина Плут обвел растерянных девчат долгим взглядом, тяжело вздохнул: — Может, на телефонную станцию пойдете, а? Нет? Тогда учить буду. По-настоящему. Как говорят, между прочим, назвался груздем — полезай в кузов». Честно старался старшина Плут. Отговорить — не отговорил, а вот что такое фронтовой разведчик и, в первую очередь, он сам, «высветил» точно, без всяких дополнительных объяснений. А события, между прочим, развертываются в обстоятельствах, исключительных по своей сложности, на одном из островов Финского залива. Его гарнизон оттягивал на себя силы противника: ни один вражеский корабль не должен был прорваться к Кронштадту. «И совершится невозможное — горстка моряков два с лишним года продержится в глубоком тылу противника под ежедневными бомбежками, а затем и артиллерийскими обстрелами, под постоянной угрозой высадки десанта! Здесь, почти в полутораста километрах от Ленинграда, пройдет его западная блокадная линия!» Оказывается, и на островах служили вчерашние школьницы, у которых было право выбора: работать для фронта в тылу и «возможность умереть за свой народ» на войне. Они выбирали фронт. Как и чем измерить подвиги уральских девушек? Истинное авторское поклонение, рассказ об их военной страде — награда несоизмеримо малая. Годился бы памятник — лучше всего поставить его у Дворца культуры железнодорожников, — размышляет автор. «Здесь был сборный девичий пункт, отсюда строем уходили они на воинскую площадку, чтобы ехать на фронт. Пусть каждый, кто приезжает в Свердловск, видит и знает: Урал не только ковал оружие для победы и посылал на фронт добровольные танковые бригады, он отправлял на фронт и тысячи своих дочерей...» Дело за благодарными потомками. 159 Панорама «по Кодочигову» Еще раз отмечу, что, в силу своего журналистского опыта, Павел Кодочигов отдает предпочтение факту, событию, некогда пережитому человеком во всей его остроте. Похоже, он не очень-то дорожит беллетризованным сюжетом с четким разделением на главных и второстепенных персонажей, фиксированной развязкой и эффектной кульминацией. Но все же и это правило не обходится без исключений. Для иллюстрации можно представить два превосходных рассказа 1990 года — «Вот и вся война...» и «Тихая оборона», они по справедливости могли бы войти в антологию русского «военного» рассказа. Словом, правде жизни предпочтение отдается всегда. Так, автора нельзя было бы заподозрить в искусственности развязок. Выполнил герой боевое задание, продержался двое, даже трое суток без еды и воды, как лейтенант Шарапов в повести «Второй вариант» (издана в Свердловске в 1985 г.), дошел до Берлина — что может быть проще такого финала? Григорию Иванову (повесть «Так и было», Свердловск, 1990) крупно повезло в первый послевоенный день: уже в Германии при случайном обстреле его «не убило, а всего лишь контузило». Достоверность — главное для Павла Кодочигова и в обрисовке военных событий. В повестях «На той войне» и «Второй вариант» он не выходит за границы Волховского фронта, организованного тотчас же после битвы под Москвой в конце 41-го, однако успевает сказать многое. У читателя складывается представление о постоянном взаимодействии «верхов» и «низов», несмотря на то, что ни командующий генерал-лейтенант К.А. Мерецков, ни тем более Верховный не попадают в зону авторского внимания. В самом деле, ведь кем-то планировалось основное назначение Волховского фронта в 1942–1943 годах, если вплоть до середины января 44-го здесь не было «настоящего» наступления? Шла позиционная война, такая же жестокая и кровопролитная, как и на главных направлениях, однако необходимая для того, чтобы сорвать новое наступление немцев на Ленинград. «Для этого и ”показывали” дивизию фашистам в разных местах под Новгородом, ради этого и бросали в демонстрационное наступление <…> Ежедневные схватки шли не за населенные пункты и не за го- 160 сподствующие высоты, а за сотни и часто за десятки метров, казалось бы, никому не нужной, бросовой болотной земли... Но таяли и силы врага, он не мог начать новый штурм Ленинграда» («На той войне»). Негромкая по своему литературному резонансу проза Кодочигова обладает достоинствами первоисточника. В особенности перед лицом многочисленных комментариев и суперкомментариев к той эпохе. Оте­чественная война, самая продолжительная и кровопролитная в ХХ веке, не была сплошным хаосом, как иной раз представляется современным комментаторам. Знакомый писателю Волховский фронт — прямое свидетельство того, что существовал огромный управляемый механизм войны, в котором (за неизбежными нарушениями) оказывались согласованными действия армии и ставки, фронта и тыла. Люди, ощутившие это на себе, навсегда сохранили в душе неповторимое чувство общенационального единения. Пускай преходящего. Однако решающего по своему результату. В истории России такие моменты разделяются столетиями: год 1612-й, год 1812-й и 1941—1945 годы — это время, когда речь шла о сохранении нации и России, о ее культуре и будущем. Известно, что во времена исключительные люди меняются. Вот и в годы войны многие забывали о своих счетах с советской властью, если последние были, или оставляли их «на потом». Случалось, что не прощали обид и по разным причинам оказывались на стороне врага. Что же касается ветеранов, они, естественно, считают военные годы самой значимой частью собственной биографии: это осознанное или интуитивное приобщение к событиям эпического характера. Павел Кодочигов говорит об этом с полной откровенностью: «Может, кому-то покажется странным, но с удовольствием вспоминаю время, проведенное на фронте, — там впервые почувствовал себя человеком при настоящем деле». Это убеждение, отстоявшееся годами, и уж никак не результат «деформации души испытаниями войны». Этот хитроумный «закон» выводит Валентин Лукьянин («День первый — день последний» // Урал. 2006. № 5), хотя в просторечии «закон» звучит примерно так: прошлое кажется человеку несколько светлее и лучше, нежели было на самом деле, заволакивается как бы «розовой дымкой». «Деформация души» (может, личности?) под воздействием «самого сильного 161 и значимого испытания, выпавшего на долю человека». Не оскорбительно ли говорить об этом применительно к тем, кто воевал, — а о них-то и идет речь в упомянутой статье? Тем более неприложимо это утверждение по отношению к творческой личности. Писательская память свежа, остра, исключительна не только на подробности и детали, но и на воспроизведение глубинной сути отдаленных событий и, как всегда в искусстве, неотделима от авторских эмоций и размышлений. Бывает, подтверждает Павел Кодочигов, — нахлынут воспоминания о погибших, «вспомнишь одного, на память придет другой, третий, и надолго захватит стародавняя незаживающая боль. Будто наяву увидишь юные и прекрасные лица убитых на войне. Одному в таких случаях побыть надо, без свидетелей» («Как ты жива осталась, мама?»). Именно эта эмоциональная память делает убедительным повествование и позволяет Павлу Кодочигову проявить себя как мастера одного эпизода, диалога или монолога, существующего в рамках повести или рассказа, — бывают же артисты, восхищающие зрителя сценической миниатюрой. Из коротких историй и отдельных образов можно было бы сложить достаточно широкую «панораму по Кодочигову». Возможно, как во всякой панораме, герои ее выглядели бы несколько эскизно, но зато по части охвата претензий к автору не стали бы предъявлять. В самом центре ее свободно разместились бы разведчики лейтенанта Шарапова (повесть «Второй вариант») и примкнувший к ним красноречивый старшина Плут. Все это колоритные личности. Им всего-то по двадцать, иному чуть больше, а самому командиру и того меньше. Ночами они выходят «на задания», а в промежутках отрабатывают варианты очередного поиска. В свободные часы «травят» анекдоты, «подначивают» друг друга, меряются, кто сильнее. Слабосильных во взводе лейтенанта Шарапова не было. «На Скубу и Андрейчука стоило посмотреть, все легко играли двухпудовыми гирями, а Карянов даже поднимал гирю зубами и отбрасывал далеко в сторону, он же кулаком разбивал любую дощечку, что удавалось далеко не каждому». На учебных занятиях по «транспортировке пленного» разведчик двухметрового роста Миша Бербиц демонстрирует свое мастерство. 162 Он рывком поднимает с земли далеко не самого слабого во взводе Бахтина, «оборачивает его вокруг шеи, как горцы таскают овец», и спрашивает: «— Куда его, командир? Может, в Волхове искупать, чтоб не дрожал? Боится, что уроню его высочество. Ребята хохотнули. — На ту сторону поляны и обратно можешь? — Гы-ы, — засмеялся Бербиц и побежал. Вернулся свеженький, без бисеринки но лбу...» Этим молодым парням впору поозорничать. В канун нового, 1944 года разведчики лейтенанта Шарапова устраивают потеху на весь полк. Чтобы выполнить задание — выявить огневые точки противника, на четырех сшитых простынях колесной мазью и дегтем рисуют карикатуру на Гитлера. Сам взводный постарался, чтоб посмешнее: «фуражечку помятую с высокой тульей нарисовал, челочку из-под нее растрепанную выпустил, нос, глазки маленькие изобразил...» После жарких споров надпись сделали самую простую: «Не стрелять!» Когда огромное красное солнце приподнялось над землей и высветило полотно так, что рисунок стал виден и с обратной стороны, «ликующие возгласы понеслись по окопам, а на обороне противника первозданная тишина». Через сутки, очевидно, посовещавшись, немцы из противотанковой пушки разнесли карикатуру в клочья. Схему огня они не раскрыли, но «стрелять по Гитлеру им все-таки пришлось, и разведчики были довольны». Русскому человеку и на войне без юмора нельзя. При всем том лихие парни знают свое дело. Вовремя доставляют «языка», чего бы это ни стоило, и свято чтят неписаный закон: «Сколько человек ушло в разведку, столько и должно вернуться. Живыми или мертвыми». Павел Кодочигов не опасается рассказывать о героическом. Ему не приходится ни придумывать героев, ни разыскивать их в исторических сочинениях и воспоминаниях современников — они всегда с ним, в его душе и в его памяти. Без преувеличения, это «сильные духом» люди. Выполняющие то, чего не могут другие. Бывает, они совсем не воинственны, как дед Никифор в повести «Так и было». До войны его выбирали председателем колхоза, «под немцем» он оста- 163 ется тем же «спокойным и понимающим», единственным помощником оказавшихся без крова детей и женщин. В воображаемой панораме найдет свое место скромная женщинавоенврач по имени Берта. Она не боялась ни пуль, ни артиллерийских обстрелов — боялась одного: заблудиться в лесу и попасть в плен. Зато любо было посмотреть на эту совсем не военную женщину, когда она выхаживала «окруженцев», доведенных до крайнего истощения. «Возилась с ними, как с маленькими, поила с ложечки особыми, собственноручно приготовленными отварами» (повесть «На той вой­ не»). Картина войны непредставима без трагедии. У Кодочигова тяжелых эпизодов немало, а из головы нейдет «сценка» на поле сражения, где санбатовцы находят неподобранных бойцов. Маша Горшкова и Люба Филиппова взяли носилки с раненым, но не сделали и пяти шагов, как прогремел взрыв. «Носилки с раненым упали. Впереди них извивалась на земле Горшкова. Дотянулась до какого-то сапога и прижала его к груди. Леденящий холод пробежал по спине оглушенной взрывом Любы: Горшкова держала в руках оторванную ногу». Панорама по Кодочигову многолюдна. В нее попадают все те, кого закрепило в ней слово писателя. Вот неприметный с виду фельд­ шер Филя Овчинников, которому удалось остановить группу красноармейцев, охваченных паникой, — он пошел навстречу бегущим. «Один. Не торопясь. Что он может сделать? Собьют и не заметят, промчатся мимо. Но, видно, появляется в людях, решивших вступить в единоборство с потерявшими над собой власть, что-то такое, что и осознать нельзя, и переступить невозможно... Никто не скажет, что бы произошло, если бы Овчинников закричал, стал угрожать наганом, дал предупредительный выстрел в воздух. Он не сделал этого. Повернулся, показал на палатки: — Там ваши раненые товарищи. Их вывезут только вечером. Если вы сумеете пробежать мимо них, бегите, — негромко, но внятно сказал фельдшер. Толпа молчала и не двигалась. — Так что решайте, как вам поступить, — добавил Овчинников, повернулся и пошел к палаткам. 164 Уже осмысленными глазами красноармейцы проводили уверенную спину Овчинникова, поозирались и неохотно, небольшими группами стали возвращаться назад. Сначала шли медленно, потом начали ускорять шаг, и какое-то подобие строя оказалось на дороге» («На той войне»). Отдельные эпизоды вошли бы в «панораму» на правах миниатюрных сюжетных рассказов. Сошлемся на два таких эпизода, рискуя при этом заслужить упрек в постоянном цитировании. Но, с другой стороны, рассказы и повести Павла Кодочигова 1980-х годов не переиздавались (за малыми исключениями), так что большого греха не будет. Но самое главное: в обширной литературе об Отечественной войне не припоминается ситуации, аналогичной истории, изложенной автором в рассказе «Вот и вся война...». Алтаец Анатолий Аркадьевич Стрельников (лицо, между прочим, реальное, как почти все персонажи у Кодочигова) выходит из строя в октябре 41-го под Калугой, когда немцы рвались к Москве. Столица России казалась им почти взятой. Стрельникова с его оторванной рукой спасает пожилой человек, по всему видать, из московских ополченцев. Он отделяется от колонны русских, которых немцы гнали куда-то в свой тыл, «в черном пальто с маленьким каракулевым воротничком, в каракулевой же, пирожком, шапочке. Русоволосый, небритый, лицо белое и крупное, на носу пенсне, на боку сумка изпод противогаза. Я его хорошо запомнил и сейчас, как живого, вижу. Он присел на корточки, достал из сумки полотенце, поморщился. ”Грязное, но другого нет. Перевяжу им на всякий случай”. Разорвал полотенце вдоль, сначала туго перетянул обрубок, потом плечо и руку бинтовать начал. Все это делал на глазах у немцев, а они идут себе, смотрят и посмеиваются». Пожилой человек не теряет самообладания, когда в дом, куда он привел раненого, являются два солдата. Они «что-то гаркнули и уставились на мужчину. Он выдержал их взгляды спокойно. Солдаты махнули автоматами на дверь. Я бросился к ним: “Меня возьмите, меня. Он гражданский. Военный я, я!” Не обращая на меня внимания, солдаты подтолкнули мужчину к двери... Он взглянул на меня, сказал: ”Прощайте! Больше, к сожалению, я ничем не могу помочь вам”, провел рукой по лицу, будто умываясь, и вышел. Немцы после- 165 довали за ним... Я ждал автоматных очередей, но они не раздались, и всю жизнь тешу себя надеждой, что моего спасителя все-таки не расстреляли... До сих пор отчетливо помню его лицо, длинное зимнее пальто, маленький воротничок на нем, старые стоптанные ботинки. Довелось бы встретиться, узнал бы сразу, по одному голосу узнал — говорят, он не меняется». Сюжет второй: о тех, кого опять-таки нелегко отыскать в «большой литературе». Эти люди не ходили в атаку, ни в кого не стреляли и даже никого не лечили — они вытаскивали раненых с полей сражения. После боя для них наступал не отдых, как на известной картине Ю. Непринцева, но самая настоящая служба, не менее трудная и опасная, нежели все другие службы на той войне. Писатель-фронтовик позволяет читателю рассмотреть еще один фрагмент своей «панорамы». «Раненых, что были подальше от немецких позиций, начали вытаскивать еще засветло. Поползли за ними маленькие и юркие сыны полков с белыми же, под цвет снега, волокушами. Вдвоем взваливали на них тяжелых солдат, укрывали простынями, потом каждый подтягивал на какие-то сантиметры, тащил за собой, откуда и силенки брались. В таком же маскировочном облачении потянулись на поле носильщики санитарных рот. Когда хорошо стемнело, включились в работу проводники с собачьими упряжками, солдаты тыловых служб. Вытаскивали раненых до правого рукава Малого Волховца. Отсюда вывозили на санях. Небо высвечивали немецкие ракеты, носилась над полем свинцовая метель, рвались на нем снаряды и мины, но по-прежнему сквозь грохот разрывов и пулеметные очереди прорывались крики о помощи, и оставшиеся живыми не щадили себя. А впереди то и дело вспыхивали скоротечные перестрелки — отгоняли немецких разведчиков, шастающих тут и там в охоте за пленными». Картину «настоящего ада» завершают песни Шаляпина и Руслановой из мощного немецкого репродуктора и голос диктора, обещающий сладкую жизнь тем, кто сдастся в плен. Истинные герои войны у Кодочигова — не исключение. Иной раз им не дается имен, как тому пулеметчику, о котором рассказывали 166 жители села Ивановского на Новгородчине. Он долго не пропускал немцев в село: «Сунутся на мост, он и полоснет их из окна второго этажа стоящей на берегу чайной. Откатятся — молчит. Ступят на мост — снова откроет огонь. Когда автоматчики подожгли здание, пулеметчик перебежал в гумно и снова преградил им дорогу. Фашисты кричали, чтобы сдавался. Он отвечал короткими очередями... В гумне и погиб оставшийся неизвестным герой-пулеметчик» (повесть «Так и было»). Панорама Отечественной войны, всенародной, освободительной, не состоялась бы без особо яркой фигуры советского воина. Герои кодочиговской панорамы, несмотря на их эскизность, рельефны и остаются в памяти читателя. А иной может показаться сошедшим с монументальных полотен художников либо шагнувшим с пьедестала какого-нибудь памятника, но в любом случае за ним будет великая правда. В рассказе о сибиряке Стрельникове «он» появляется неожиданно и так же внезапно исчезает, как и выше упомянутый пожилой москвич, однако запоминается навсегда. «Высокий, чисто выбритый, в длинной артиллерийской шинели, с трофейным автоматом на груди. В жизни не видал таких по-настоящему красивых военных людей! Лицо крупное, волевое, голос — заслушаться можно, а не подчиниться — не выйдет. Артиллерийский капитан обложил нас трехэтажным матом, в считанные минуты восстановил дисциплину и кромкой леса повел к дороге, что шла из города» («Вот и вся война...»). Остается гадать, как в таком коротеньком абзаце оказалось возможным нарисовать образ, вызывающий в памяти блестящий ряд русских офицеров — от князя Андрея Болконского до Алексея Турбина, полковника Най-Турса, до опального комбрига Серпилина? К сожалению, в панораме по Кодочигову мало женских фигур. По сути, кроме первоуралки Поли Маклаковой и военврача Берты, в нее не вписывается никто. Не повезет в «новгородских» повестях ни Кате Мариничевой, ни Тане Дроздовой, ни Любе Филипповой, ни другим санинструкторам и медсестрам. Наивны их любовные страдания и переживания. Не вписывается в панораму и боевитая Тамара Антонова. В ее обрисовке автор не продвинется дальше общего контура, несмотря на то, что назовет ее самым храбрым воином в стрелковом полку. Похоже, что фронтовики-мужчины ему понятнее и ближе. 167 Следует заметить, что Павел Кодочигов не спешит с широкими обобщениями, но при всем том наводит на размышления. Такая уж у него проза. В осмыслении событий Отечественной войны он близок той эпохе, о которой пишет, и не считает, что чем больше бытовой грязи о советском прошлом он соберет в своем произведении, тем картина этого прошлого станет реалистичнее, а взгляд современнее. Уважение к героическому прошлому народа не делает позицию писателя более слабой. Исторически обусловленный «взгляд из 40–80-х годов» заслуживает внимания, как любая другая аргументированная точка зрения. Взять самый трудный вопрос о причинах горьких первоначальных поражений и завершающих блистательных побед Советской Армии. В этом случае Кодочигов солидарен с Константином Симоновым, которому принадлежит почти что афоризм «Солдатами не рождаются». Огромная мирная страна, несмотря на все приготовления к войне, не умела воевать и не была столь дисциплинированна, как милитаризованная Германия. Перестраивалась, отвыкала от мирных настроений, училась жить и работать по-военному. И все-таки на перестройку уходило какое-то время. «Разгон» дает свои результаты не сразу. В октябре 42-го, в разгар сражения под Сталинградом, когда еще не было завершено окружение группировки Паулюса, Мариэтта Шагинян писала в очерке «Танкисты»: «Мы только начинаем понастоящему руку заводить наотмашь, чтобы ударить немца с размаху, только сейчас разворачиваемся — до того необъятно чувство наших резервов и увлекательно ощущение растущей, совершенствующейся техники»1. «Четырежды энергичная» М. Шагинян – как о ней отзывались в то время – за неполных полтора года своего пребывания на Урале посетила более ста оборонных заводов, изучала производство, ездила в танке, знакомилась с руководителями и рабочими у станков, бывала в мартеновском цехе, в заводской столовой и т.д. и т.п. Война учила всех: от рядового до маршала и Верховного. Считать так будет точнее, чем скрупулезно подсчитывать ошибки и промахи Сталина, который, кстати, тоже учился. Далеко не лишней для 1 168 Шагинян М.С. Танкисты : очерк // Говорит Урал. Свердловск, 1942. С. 34. науки побеждать была подсказанная им публицистическая пьеса Александра Корнейчука «Фронт» (осень 1942-го), адресованная командующим фронтами и армиями: учитесь побеждать «не числом, а уменьем!». Овладевайте методами ведения современной войны! Эта пьеса обошла все театры страны, в том числе и Свердловский драматический, труппа которого тогда считалась одной из сильнейших. В том же рассказе «Вот и вся война...» герой вспоминает о первой наступательной операции за ельнинский выступ в августе-сентябре 41-го и опирается при этом на военные воспоминания Константина Симонова. «Дивизия наша в этом сражении отличилась, ей одной из первых было присвоено звание гвардейской. У Симонова же вычитал, что дивизия в боях за Ельню уничтожила двадцать восемь танков, кажется, шестьдесят пять орудий и около семисот пятидесяти солдат и офицеров противника. Сама потеряла четыре тысячи двести человек. За каждого убитого фашиста пять своих отдали — и воевать еще не научились, и оружие какое было! Винтовок и тех не хватало. Я сам гол как сокол был, пока не обзавелся карабином... В сорок пятом (дивизия. – Л. С.) брала Кенигсберг, наимощнейшую, с несколькими линиями круговой обороны, крепость со рвами, огневыми точками в броне и камне и потеряла... сто восемьдесят девять человек! Впечатляющие цифры, да? А узнал об этом тоже у Симонова: он нашу дивизию до самой Победы из виду не упускал». Фронтового опыта Павла Кодочигова достаточно, чтобы показать, чему и как учились рядовые. В «новгородских» повестях «учеба», «учения» образуют один из сквозных мотивов. Санбатовцы проводили занятия по эвакуации раненых. Разведчики, эти таинственные «лесные духи», учились с особой настойчивостью: тренировались резать колючую проволоку, обезвреживать мины, оказывать первую помощь раненому, быстро и бесшумно ползать, захватывать пленного, вести бой в окопах, метко стрелять и бросать гранаты на самые разные дистанции из самых неудобных положений. Танкисты анализировали свои неудачи. «Больше всего танков дивизия потеряла в первых боях, когда сходились лоб в лоб большими группами машин. Потом научились драться малыми силами, действовать из засад. В узкую щель на ходу немецким танкистам трудно разглядеть замаскированный танк, еще труднее уничтожить, если он стоит за бугром и 169 может быстро сменить позицию. Этим и пользовались, заставляли немцев идти осторожно, били по бортам и наносили большой урон противнику». Училась пехота. Всю осень 43-го «дивизию готовили к наступлению. Полки поочередно выводили в тыл на учения с боевыми стрельбами, с точным подсчетом пробитых мишеней, разбитых дзотов, разрушенных ходов сообщения, с преследованием ”отступающего противника”. Приучали пехоту ходить за огневым валом, и поняли солдаты, как надо наступать — безопаснее и надежнее». Шла планомерная подготовка к «настоящему наступленью», в котором примет участие Волховский фронт. В январе 44-го общее наступление завершается освобождением Новгорода и полным снятием ленинградской блокады. В единстве русской смекалки и разумного руководства заключался, по отзывам фронтовиков самого разного уровня, один из сильнейших факторов Победы, не зафиксированный, впрочем, ни официальной, ни какой другой историографией. В самые критические моменты Сталин «ослаблял вожжи» и доверялся народу. Не случайно в произведениях Кодочигова исподволь нарастает мотив народной силы. Он не поддерживает идею «загубленной нации», которая по необъяснимой логике возникает в творчестве Виктора Астафьева 1990-х годов: все лучшее в народе взяла война. То, что не уничтожил фашизм, добивает система. Если согласиться с автором романа «Прокляты и убиты» и повести «Веселый солдат», возникает определенная нестыковка: как могли вырасти поколения нынешних сорокалетних–шестидесятилетних — творческий и духовный потенциал современной России? Эти люди гордятся своими отцами и дедами. Пишут в автобиографиях: родился(лась) в семье фронтовика. С полным осознанием «настоящего дела», о котором хорошо помнит писатель, воевали и его тюменские сверстники. Жестокая война не опустошила их души, не погасила интереса к жизни, к труду, к доброму человеческому общению. На этих страницах, которые писатель посвятил своим землякам и сверстникам, хочется остановиться несколько поподробнее. Что же это за люди, сибиряки, тюменцы? Как они вписываются в кодочиговскую панораму? 170 Кто же они, сибиряки? По горячим следам войны народная молва нарекла сибиряков (и уральцев) людьми особенными, существами почти мифическими. Стерла личностные черты, обобщила до фигуры могучего воина в белом полушубке, обвешанного оружием. Кстати, о полушубке. В разговоре Павел Ефимович заметил, что белый полушубок оказывался не самой удобной одеждой для фронтовиков. Когда менялось к теплу, он становился легкой мишенью для немецкого снайпера. К тому же полушубок сложнее прожарить от разных окопных насекомых. Вот и получалось, что бывалые фронтовики предпочитали полушубку армейскую шинель. При всем том белый полушубок все равно остается деталью творимой легенды. С молвой не поспоришь — ей можно противопоставить только факты. С глубоко затаенным лирическим чувством пишутся Кодочиговым очерки о сибиряках-тюменцах. Автор жалеет, что написано мало: всего два небольших цикла: «Их помнят улицы Тюмени» и «Сверстники мои, тюменские мальчишки». Тот и другой цикл — о тех, кто в канун войны оканчивал родную для писателя среднюю школу № 2, босиком бегал по деревянным тротуарам Тюмени, которая до войны больше походила на большую деревню, нежели на современный город. «Были мы, по сути, уличными мальчишками, — вспоминает автор, — но был у нас негласный кодекс чести: лежачего не бьют и не пинают, пятеро на одного не нападают, если двое решили подраться, третьи не вмешиваются, а дерутся — до первой крови. К войне мы готовились как бы бессознательно, из чистого любопытства и потому охотно занимались в военных кружках»1. Тюменские мальчишки росли выносливыми и крепкими. Гоняли футбол в уличных командах, сражались в лапту, в волейбол. Летом плавали до посинения, зимой катались с немыслимых по крутизне ледяных гор. Были настойчивы и, если уж брались за какое-то дело, доводили его до конца. Среди тюменских парней не велось разговоров о любви к Родине, и едва ли кто-то из них мог толково объяснить этимологию слова «патриотизм», но как началась война, пошли защищать свою страну, 1 Кодочигов П.Е. Их помнят улицы Тюмени // Урал. 2000. № 5. С. 167–168. 171 опять-таки не рассуждая о «священном долге». Сожалений ни у кого не было, хотя «воевать, получать ранения и увечья нам пришлось совсем молодыми, в самую лучшую пору своей жизни». Через много лет после войны автор спросит одного из своих тюменских друзей, не жалеет ли он, что после тяжелого ранения, не долечившись, снова вернулся в действующую армию. В ответ услышал: «Нет. Что ты? Тогда надо было» (очерк «Как молоды мы были»). О сибиряках-товарищах пишет Кодочигов раскованно и свободно. Пишется без ёрничества, когда осмеиваются-пересмеиваются Сталин, Симонов и другие кумиры прошлого. Современным юмористам как-то невдомек, что с момента перестройки в искусстве создалось целое направление, паразитирующее на негативном изображении прошлого и не способное предложить ничего нового. Павел Кодочигов не считает возможным смеяться над тем, что для народа свято: над подвигом. Подвиг, он и есть подвиг. Как, например, вся военная биография тюменского аса Виктора Княжева, который в совершенстве овладевает искусством воздушного боя, виртуозно маневрирует, выполняет задания и выходит победителем из самых напряженных схваток. На счету Княжева более двухсот боевых вылетов, в которых он не потерял ни одного человека из своего экипажа и сохранил машину. Княжев бомбил скопления немецких танков на Курской дуге, участвовал в штурме Берлина с воздуха и, отлетав сорок лет, учил летному делу молодых, вырастил двух сыновей-полковников. В семьдесят с лишним боевой генерал Виктор Иванович Княжев, награжденный четырьмя орденами Красного Знамени, с увлечением занялся фермерством (очерк «Наш генерал»). Достойны уважения все, о ком автору удалось собрать материал. Когда-то они, выпускники военных училищ, попадали на фронт и за полгода-год становились «стариками». Не по возрасту, разумеется, но по накопленному опыту. Они особенно дороги писателю — к числу таких «стариков» в свои девятнадцать-двадцать принадлежал он сам. «Шестой комбат» помнится ему Женькой Герасимовым. «Шестым» его называли потому, что до него пятеро командиров из батареи «сорокапяток» вышли из строя, а сам Женька воевал долго. Скорей всего, срабатывала смекалка: он применил новый метод на- 172 ступательных боев, который стали применять многие. Из-под Ленинграда «шестой» дошел почти до Кенигсберга, «больше года находился в боевых порядках пехоты, сопровождая ее колесами своих пушек, вместе с нею брал десятки городов Белоруссии, Латвии и Германии и ни разу не был ранен». Неуязвимый комбат смешался, как школьник, всего один раз, уже в начале 90-х, когда с группой ветеранов из Тюмени приехал в Михайловское. Разговор шел о том, как освобождали Михайловское в марте 44-го. Герасимов вспомнил, что начальник артиллерии полка майор Филатов приказал разбить домик, из которого строчили пулеметы, препятствуя продвижению пехоты. «— И разбили? — вмешался в рассказ директор Пушкинского музея-заповедника Семен Степанович Гейченко. — Конечно... — А вы знали, по какому домику стреляли? — Да небольшой какой-то. — Подождите минутку. — Гейченко вскочил, куда-то сходил и сказал: — Это план освобождения Михайловского. Покажите, пожалуйста, где стояла ваша пушка и по какому домику вы стреляли. Герасимов показал. Гейченко тряхнул головой. — Так я и думал — вы расстреливали домик няни Пушкина. Тут уж вскочил Герасимов: — Но я же не знал... не знал... — Не сомневаюсь, но если б и знали, стрелять все равно пришлось бы — война все-таки. Пехотинцев надо было спасать. Не расстраивайтесь, пожалуйста, тут нет вины ни вашей, ни вашего начарта. — Он погиб. Пробирался к другой пушке и попал под минометный обстрел, — хмуро отозвался Герасимов» (очерк «Шестой комбат»). Очерки о воинах-тюменцах не выстраиваются по заранее заготовленной схеме — пишутся так, как подсказывают биографии этих людей. Неизменно в них одно — авторское внимание и уважение к героям. Внимание удваивается, если приходится восстанавливать добрые имена тех, кто по случайности или по чьей-то небрежности попал когда-то под рубрики: «Не вернулся с задания», «Пропал без вести». В таких случаях автор-документалист не жалеет ни сил, ни времени. Разыскиваются официальные документы, устраиваются встречи с родными и однополчанами, привлекаются письма. Автора поддержи- 173 вает не только вера в человека, которого знал еще в школе, но и его способность пережить судьбу другого как свою собственную. Именно поэтому «душевны» очерки о летчике Анатолии Бересневе, самолет которого упал в море («Подвиг летчика Береснева»), и о тюменце Викторе Анцыгине, воевавшем в партизанском отряде и погибшем на Брянщине («Дороги Виктора Анцыгина»). Павел Кодочигов независим в своих суждениях по вопросам, которые утратили былую актуальность и стали почти одиозными. Не пропагандистский лозунг «дружбы народов» и не «сложные межнациональные отношения» волнуют его, когда он повествует о людях разных национальностей. Так, отмечает он, глубокая сердечная теплота на долгие годы связала тюменца Володю Мошкина и литовца Антанаса Арбутавичуса. Дальние поездки не тяготят обоих друзей. «Когда смерть все время рядом и все перед ней равны, не “отношения” возникают, а самая дорогая и вечная дружба фронтовая». Настоящая боль появится, когда закроются границы того и другого государства. Лучшие повести, рассказы и очерки Павла Кодочигова нуждаются в переиздании как малая, однако необходимая часть огромной литературы о Великой Отечественной войне. Построенные на документальном материале, они несут в себе правду о людях, которые сокрушили фашизм – реальную угрозу всех европейских народов. Командир минометного взвода, журналист и писатель Павел Кодочигов много сделал, чтобы поколения, не прошедшие через «сороковые – роковые», лучше узнали прошлое своей страны. 174 Формула трудолюбия. Феликс Вибе глазами критика Теоретикам от искусства знакомо старое и простое определение стиля: стиль — это человек. В наше время к этой формуле мало кто обращается. Коллективными усилиями ученых проясняются многие аспекты сложной эстетической категории. Мы свободно оперируем такими понятиями, как «стиль и жанр», «индивидуальный стиль», «стиль направления», «стиль эпохи» и т. п. А все-таки старое забывается напрасно: слишком много в самом тексте идет от личности автора — от его темперамента, мировосприятия, сферы эмоций. Разу­меется, при условии, если авторская личность по-человечески состоялась. Не берусь судить обо всем, что написано Феликсом Вибе за более чем полвека. На мой взгляд, как писатель он определяется довольно поздно — с выходом «Повести о трудолюбивом Груме» (1986) и затем — сборников «Футбол в лесу» (1992) и «Здравствуйте, маэстро!» (1995). К «Повести» мы еще вернемся, а начну я с двух этих небольших книжечек. Именно в них отстоялся тот жизненный и журналистский опыт за три с лишним десятилетия, которого другому достало бы на целый роман да в придачу на несколько повестей. А тут всего-то около двух десятков небольших рассказов! Правда, в числе их найдутся такие, которые вполне могли бы украсить любую антологию русского рассказа последней четверти ХХ столетия, если бы таковая кем-то была составлена. Не гипербола ли? Нет, если иметь в виду рассказы «Подбросыш и песня», «Товарищ Назар» или «Здравствуйте, маэстро!». Привлекателен в первую очередь сам автор. В нем без труда узнается Феликс Иванович, слегка ироничный, общительный, увлекаю- 175 щийся, доброжелательный, внутренне на чем-то постоянно сосредоточенный. И все же, в отличие от себя самого, как автор он несколько иной: уважителен к языку, дорожит словом, легкими штрихами набрасывает портреты персонажей, так что они на глазах обретают глубину характеров-типов. Будь это скрипач, который приезжает в большой уральский город и вдохновенно исполняет чакону Баха не перед многочисленной аудиторией, а перед одним-единственным студентом консерватории; руководитель из номенклатурщиков, переброшенный партийными органами «на культуру» и ровно ничего в этой культуре не понимающий; наконец, один из последних представителей «ленинской гвардии» с партийной кличкой «товарищ Назар», который оказался не классово заряженным революционным экстремистом вроде шолоховского Нагульнова, но милейшим и обязательнейшим человеком, понастоящему культурным и демократичным. Феликс Вибе осваивает неоднозначную структуру той прозы, в которой одним из главных персонажей становится сам автор. Скорей всего, освоение происходит интуитивно, нежели с оглядкой на теорию литературы. Суть в том, что в самом тексте совмещаются две позиции, две точки зрения. Иначе сказать, автор, поднабравшийся опыта, корректирует себя самого, каким он был в пору своей журналистской молодости. Ибо теперь он действительно глубже понимает искусство скрипача, который доносит до людей величавую гармонию музыкального мира Иоганна Себастьяна Баха. «Да, жизнь бежит и давно для меня перевалила за половину, но когда речь заходит о настоящем искусстве и лучших музыкантах, которых я знал, передо мной в неизменной яркости всякий раз предстает скрипач во фраке и носках на паркете гостиничного номера, вдохновенно играющий чакону Баха и забывший все» (с. 44)1. В житейских историях из журналистской практики много бытовых подробностей, однако быт не помеха, чтобы вести разговор о самых серьезных вещах. Каких же? Скажем, о том, как трудно бывает найти оптимальное соотношение разных частей, которые должны составить художественное целое. С этой задачей наверняка сталкивается каждый, кто работает в искусстве или с искусством. Как радостно и легко, 1 Здесь и далее цит. по: Вибе Ф.И. Здравствуйте, маэстро! Екатеринбург, 1995, с указанием страницы в круглых скобках после цитаты. 176 когда мотивы и детали, наконец, «утрясаются» и возникает некое авторское единство, и как несправедливо, когда чья-то невежественная рука одним махом разрушает то, чему отдано столько сил. Об этом — рассказ «Подбросыш и песня». Написан он не с грустью и горечью, но с чувствами вины и раскаяния, которые не только не утихают в душе автора, но обостряются, при всем том, что времена партийного руководства процессами художественного творчества остались гдето далеко позади. «Нет, нельзя безнаказанно предавать искусство, даже в самой малости! Я должен был отстоять его перед худсоветом, перед всем миром, перед подбросышем Иваном Григорьевичем! Я не сделал этого, я позорно сложил оружие, я бежал, и нет мне и не будет оправдания!» (с. 93). О чем же речь? Казалось бы, о малом: в документальном фильме «Воскресный день в городке газовиков» по решению «подбросыша» Ивана Григорьевича лирическую песню заменили другой, более оптимистичной. Новая песня прозвучала фальшиво. Однако сфальшивить в малом означало предать тех самых «трассовиков», которые тянут первую нитку газопровода из тюменских болот на Урал и ради которых киногруппа Свердловского телевидения мыкается в вагончиках, трясется вместе с героями будущего фильма «по пням и наполненным жидкой глиной колдобинам, по разбитым бревенчатым лежневкам через болота» (с. 77). Основу рассказа «Товарищ Назар» образует взаимодействие двух позиций. С одной стороны, нетрудно представить журналиста 60-х годов, получившего задание снять телефильм о большевике Накорякове. Задание почетное. Шутка ли, делегат Стокгольмского (1906 год!) и Лондонского (1907 год!) съездов РСДРП, член Уральского комитета социал-демократов, активный участник революционных событий 1905 года в Екатеринбурге, Тюмени, Перми живет и здравствует в Москве! Стоило тотчас же лететь в столицу, а оттуда обратно в Пермь, где и должен сниматься фильм с участием соратника Ленина. Ну, а с другой стороны, в условиях постсоветского десятилетия тот же большевик-ленинец — фигура куда более одиозная, чем любой меньшевик, эсер, анархист и т. п. В лучшем случае он мог быть зачислен в когорту «стальных солдат», бездушных исполнителей разрушительной воли антихриста. Где же истина? 177 «Суди волка, суди и по волку», — припоминается русская пословица, которую часто повторяют персонажи произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. Оказывается, та же пословица неплохо звучит и сегодня: «твердокаменный большевик» тридцать лет был директором издательства «Художественная литература», близко знал Маяковского, Есенина, Фадеева и, судя по всему, «нашей литературе не навредил». В свои девяносто он завидно мобилен, по-человечески приветлив. «Здорово, ребята!» — обращается «товарищ Назар» к уголовникам, которые содержатся в той камере Пермской тюрьмы, где в 1908 году сидел он сам вместе с другими революционерами и изучал «Капитал» Маркса. Большевик Накоряков не укладывается в новые пропагандистскоидеологические стандарты, и автор, когда-то носивший гордое звание «подручного партии», получает, может быть, главный в своей жизни урок: за убеждения не судят, если убеждения продиктованы не карьеризмом, но чистой совестью. «Я думал о том, что все в жизни неоднозначно, что революция и революционеры — не ругательства, как у нас иной раз хотят это представить. И я опять любил заключенного Пермской губернской тюрьмы за его простоту и справедливость, за ясный ум, за тот “исторический оптимизм”, по которому выходило, что все идет непременно к лучшему, что все образуется в нашей многострадальной стране. Я учился у него этому оптимизму...» (с. 125– 126). Сожалеть ли о том, что фильм «Большевик Накоряков» так и не получился? Важнее оказался сам человек, известный, согласно партийной конспирации, под именем Товарищ Назар. Порой затруднительно бывает уловить логику писательского творчества. Лишь в какой-то момент становится ясно, что автором исчерпан определенный запас жизненных впечатлений, что появляется другой материал, а вместе с ним новые мотивы и образы. Для Феликса Вибе — это мир научных открытий, мир изобретателей, теоретиков и практиков. Далеко не последнюю роль тут сыграла биография автора. По-видимому, в свое время родители Феликса Ивановича огорчались, что их средний сын вырос не «двигателистом», но журналистом, киношником и, что уж совсем непредсказуемо, — автором-юмористом! Как было знать, что «блудный сын» когда-то возвратится в сферу науки литератором с солидным творческим багажом? 178 Для первой книги в новом направлении Феликсу Вибе понадобился не один год самой напряженной работы. Это было «вхождение» в историю русской металлургической промышленности конца XIX и первой четверти ХХ столетия, изучение доменного и мартеновского производства на многих заводах, в том числе на уральских: Нижне-Тагильском, Нижне-Салдинском и Алапаевском. Только так могла появиться «Повесть о трудолюбивом Груме», в которой шла речь о знаменитом металлурге Владимире Ефимовиче Грум-Гржимайло (1864–1928). У этой историко-документальной повести, можно считать, счастливая судьба. Будучи напечатана в журнале «Урал» в 1986 году, «Повесть» за последующие два десятилетия выдержала еще три книжных издания, хотя и не стала бестселлером, вызывающим читательский бум. Это книга для тех, кому дорога история страны, кто ценит точное знание. Для самого автора важен не художественный вымыселдомысел, но подлинный факт, документ, достоверное свидетельство близких и тех людей, которым довелось работать рядом с выдающимся инженером. Все это «строительный материал», на основе которого лепится цельный, крупный, недюжинный характер исторической личности. Автор не сглаживает острые углы в поведении этого человека, не навязывает несвойственное ему заигрывание с «меньшим братом», цитирует те места из обширных записок самого Грума, которые далеко не каждому могут понравиться. «Я всегда был грубияном, любил грубиянов и не сделал заводской карьеры. А все-таки я думаю, что я был насадителем в заводе истинной дисциплины знания, а не дисциплины палки» (с. 31)1; «Я систематически изучал прорехи завода и чинил, чинил, чинил. Неустанно и неусыпно учился сам, учил машинистов и слесарей и работал как каторжный, сколько было сил» (с. 25). «Трудолюбивый» Грум, влюбленный в заводское дело, наделенный от природы способностью понимать красоту хорошо налаженного заводского хозяйства, по сути всегда стоял вне политики: «Политикой я не занимаюсь...» Возможно ли, однако, сохранить аполитичную позицию в условиях обострившихся классовых отношений? Скажем, во времена «Алапаихи» — так называлась в историко-революционной публицистике 1 Здесь и далее цит. по: Вибе Ф.И. Повесть о трудолюбивом Груме. Екатеринбург, 2006, с указанием страницы в круглых скобках после цитаты. 179 1920–1970-х годов трехмесячная стачка рабочих Алапаевского завода весной 1905 года. В советской исторической науке поведение Грум-Гржимайло, в ту пору управляющего Алапаевским горным округом, трактовалось превратно, вплоть до суждений о пособничестве Грума хозяевам — «наследникам Яковлева». Феликс Вибе предлагает иную интерпретацию того же исторического сюжета: Грум-Гржимайло, как всегда, руководствуется интересами дела. «Он знал одну форму взаимоотношений с рабочими: полное понимание и уважение. Он считал, что стачка — это государственное преступление. Но не со стороны взбунтовавшихся людей, а со стороны тех, кто довел народ до крайности. Груму казалось, что ему просто приходится расплачиваться за дурное управление заводами и страной...» (с. 91). Но как убедить «наследников Яковлева», живших в Петербурге, пойти на уступки рабочим, если хозяева признавали только силу? Поведение Грума достойно уважения. «Главное его чувство в те дни было: если он испугается — ему несдобровать. Он считал своим долгом как можно чаще ходить и разъезжать по улицам, посещая покинутые заводы. Как будто ничего особенного не произошло. Охраны не признавал, оружия не носил. А ведь иные инженеры и до 1905 года появлялись среди рабочих не иначе как вооруженными. Наследники Яковлева в заботе об управляющем прислали Владимиру Ефимовичу стальной панцирь и щит, замаскированный под портфель. Как могли эти игрушки противостоять восставшему народу? Он немедленно отправил подарок обратно в Петербург...» (с. 91). Грум-Гржимайло — инженер-легенда, инженер-история. Уральская страница его биографии заканчивается конфликтом с хозяевами: Грум-управляющий решает в пользу рабочих давний на Урале спор о земельных наделах. Но наступило лето 1907 года. «Потрясения революции остались позади. Теперь можно было и “осмелеть”, то есть отменить все уступки, вырванные рабочими в стачечной борьбе» (с. 101). Грум-Гржимайло не принял этот диктат, не захотел стать безропотным исполнителем воли хозяев, отправив в Петербург телеграмму об отставке. Драматичны события недолгой по времени советской биографии Грум-Гржимайло. Подобно многим русским ученым, металлург с ми- 180 ровым именем принимает революцию из соображений патриотических, с надеждой, что народная власть остановит казнокрадство и паразитизм в его многообразных формах. Как всегда, он с полной самоотдачей работает над усовершенствованием российских заводов, но очень скоро сталкивается с тормозящей бюрократической системой управления. Грум убежден, что капиталистические формы хозяйствования исчерпаны не до конца, что «без умного, даже талантливого хозяина ни тогда, ни теперь промышленность вести нельзя. — Без капиталиста? — Не знаю. Но — хозяина» (с. 213). Грума оскорбляет Шахтинское дело, которое, по его убеждению, большевики раздули, сделали из него угрозу срыва всей промышленности, взяли под подозрение всю интеллигенцию, арестовали множество инженеров, возбудили множество дел. Автор драматизирует судьбу ученого-инженера в условиях крепнущего тоталитаризма, несмотря на то, что как раз с конца 1920-х годов черная металлургия становится приоритетным направлением всего хозяйства страны. Намечается противоречие: независимый Грум не мог и не хотел «вписываться» в систему, а система в свою очередь не желала считаться с такой крупной личностью. Автор приводит свидетельство этого конфликта: прошение Грум-Гржимайло о добровольном снятии с себя обязанностей председателя научно-технического совета по черной металлургии. Документ этот в свое время не был опубликован, но в копиях разошелся по столице. Выдающийся русский металлург Грум-Гржимайло — личность исключительная, однако не случайная ни для России, ни для литературы. Как тип и характер Грум противостоит расслабленным, рефлектирующим, мечтательным и разочарованным интеллигентам, которые по прихотливым законам литературы становились излюбленными персонажами произведений русских писателей. В искусстве они отодвигали образованную, трудолюбивую, дисциплинированную интеллигенцию, которая убежденно сидела по разным медвежьим углам и брала на свои плечи громадный объем практической работы. Получалось точь-в-точь как в чеховской «Попрыгунье»: талантливому доктору Дымову воздают должное тогда, когда его не стало. 181 Портрет ученого в полный рост не нарисовала и литература советского времени. Возможно, еще и потому, что ученый высокого уровня нередко засекречивался и не давал материала для изображения. Правда, иной раз он появлялся (чаще всего на сцене), но главным образом для того, чтобы выслушать наставления по поводу своего невмешательства в политику. Бодрячок-академик, который мелькал на страницах «производственной прозы», охотно посещал заводской цех и колхозную бригаду, восхищался народной смекалкой, после чего успешно разрешал сложнейшие научные проблемы, — однако художественной проблемы такой персонаж, разумеется, не решал. «Повесть о трудолюбивом Груме» Феликса Вибе в какой-то степени была небезуспешной попыткой заполнить эту литературную брешь. «Формула сгорания». 2002 В «Повести о трудолюбивом Груме» ловишь себя на мысли: это какой-то другой Феликс Вибе! Далеко не тот, каким был в своих прежних произведениях. До неузнаваемости корректен, сдержан, даже затянут в мундир. Очевидно, иначе нельзя: авторитет самого Грума к тому обязывает. В «Формуле сгорания» «доктор Вибе», как именовал молодого журналиста «товарищ Назар», возвращается к самому себе, к своей раскованной манере. Повесть об отце, профессоре Иване Ивановиче Вибе, напоминает отчасти семейную хронику, почти исчезнувшую из литературы со времен Сергея Аксакова. Излагая драматическую историю теоретического открытия, связанного с отечественным и европейским дизелестроением, Феликс Вибе убежден: открытие, рожденное в относительно изолированных лабораторных условиях, напрямую связано не только со своей эпохой, но с биографией, а еще глубже – с родословием ученого. Именно поэтому автор ведет повествование издалека: со времен возникновения секты протестантов-меннонитов в Голландии (XVI век). Ученики и последователи проповедника Менно Симонса, превыше всего ставившие одну из главных заповедей «Не убий!», самоотверженно служили идее миротворчества. «За нежела- 182 ние брать в руки оружие со времен первых проповедей Менно Симонса претерпели меннониты немыслимые гонения <…> Лишившись голландской родины, меннониты в большинстве своем бежали на север Польши, где, стиснув зубы, трудились на землях, отвоеванных у моря» (с. 16)1. Привлеченные указом Екатерины Второй об освобождении от воинской повинности, меннониты в конце XVIII века переселились в Россию, в Таврическую губернию, где «трава росла в рост человека», и разводили там овец и сеяли пшеницу. Этим благородным делом занимался прадедушка Вибе. «Сын этого единственного моего предка, до которого достигают мои знания, мой прекрасный дедушка Иван Генрихович Вибе стал первым интеллигентом в толще хлеборобов. Он учительствовал сначала в Бердянске, где познакомился и женился на своенравной красавице и моей бабушке Марии Ивановне Гизбрехт (тут уж фамилия безо всякой голландской мягкости)…» (с. 17). А в начале 1930-х годов его сын, тридцатилетний инженер Запорожского завода сельскохозяйственных машин Иван Иванович Вибе, был «мобилизован, а вернее, самомобилизован в науку» (с. 26). С момента зачисления в аспирантуру Ленинградского института инженеров гражданского воздушного флота отец отдает себя науке. Он имел за своей спиной главное, с точки зрения автора: «тысячелетний пример мужского трудолюбия – работы-хлеба и работы-достоинства, когда быть человеком – значит работать. И ни нотки жалобы! Только плотно стиснутые губы, суровая и постная внешность кальвиниста и сознание выполненного долга…» (с. 18). Эту характеристику Вибе-отец оправдает всей своей жизнью, о чем и написана книга. На правах близкого человека автор по-доброму снисходителен к своему герою. «Он, видите ли, хочет искать общие закономерности сгорания топлива. Его интересует теория!.. Всю жизнь отныне он будет думать об этом, всю жизнь служить одной идее, одному делу. <…> Отца на отдыхе я не помню. Бездарный он был отдыхающий, никакой не душа общества, никакой не весельчак и не умелец. Вроде выполнял повинность. И прочие относились к нему не то чтоЗдесь и далее цит по: Вибе Ф.И. Формула сгорания. Екатеринбург, 2002, с указанием страниц в круглых скобках после цитаты. 1 183 бы отчужденно, но как бы навсегда постановили: Ваня – человек уважаемый, но ждать от него на отдыхе чего-то особо интересного не следует, он как бы вообще не здесь. И они были правы» (с. 28, 40). Со стороны Иван Иванович Вибе мог показаться страдающим, однако «страдающая сторона не только не хотела замечать своих страданий, но наоборот, с некоторым сочувствием оглядывалась вокруг: чем живут и чему радуются люди, если они не исследователи двигателей?» (с. 47). Как же смотрится доцент, а затем профессор Вибе в истории страны? «Отец никогда не казался мне красивым, но теперь, разглядывая его фотографии тех лет, я вижу, что его отличал смелый, открытый взгляд, свойственный молодым людям нашей страны двадцатых– тридцатых годов ХХ века, убежденных, что они заняты важнейшим для всего мира делом в самой лучшей в мире стране» (с. 18). Однако тем неожиданнее и оскорбительнее ссылка «советского немца» Вибе сначала в Сталинград, а в августе 41-го – в Казахстан, согласно Указу Совета Народных Комиссаров о переселении «лиц немецкой национальности в глубь страны». На фоне событий 37-го года это была «малая», однако продолжительная репрессия, растянувшаяся на десятилетие – с 1938 по 1948-й год и чуть далее. «Бегство в науку», безупречная честность в любом порученном деле и природная твердость позволяют ученому выстоять. Все, что происходит с ним и его семьей, отец переносит в «стоическом молчании… У нас принята сдержанность. Меннониты верят в конечную победу справедливости» (с. 58). Главное, что «“Формула сгорания Вибе” в виде двух папок бумаг, испещренных цифрами и расчетами, едет с нами». Отец огорчен, что научная работа откладывается, но «сознание приобщенности к научной тайне (а он уверен, что вплотную подошел к ее разгадке), сознание своей избранности тоже придает ему спокойствия» (с. 58). Успех и признание все-таки приходят, однако и последующий путь профессора Вибе не был украшен одними розами. Необходимо оговориться: речь идет не только о теоретическом обосновании современного дизелестроения, но о художественном тексте. Важно другое: состоялся ли образ? Утвердительный ответ очевиден. Репрессии и война прерывают научное исследование, однако «эта пауза в несколько лет, по-видимому, только собрала 184 воедино его энергию, и с тем большей яростью продолжит он потом остановленное на половине исследование» (с. 62). За фигурой Вибе-отца угадываются судьбы академиков Королева, Лихачева, Раушенбаха да мало ли еще кого. В конечном итоге – эпоха, героическая и трагическая. А что же Вибе-младший? По сравнению с отцом он выглядит как человек из другого поколения. Внимание автора сосредоточено на отце, а сам он по большей части характеризуется лишь косвенным образом. В первую очередь в кропотливой поисковой работе по собиранию сведений о главном герое. И все же Феликс Вибе не из тех, кто прячет свое авторское лицо. После «Трудолюбивого Грума» он возвращается к самому себе, каким был в рассказах «Товарищ Назар», «Подбросыш и песня», «Здравствуйте, маэстро!»; он открыто публицистичен и временами лиричен. Подобно своим далеким голландским предкам – меннонитам, Феликс Вибе убежденный пацифист, не принимающий братоубийственную гражданскую войну. «Никто не скажет сегодня, сколько крови следует записать на эстрадного чтеца Махно и его головорезов, а сколько на красную кавалерию Семена Михайловича Буденного» (с. 8); договаривается до неслыханной во времена соцреализма защиты аполитичного обывателя. «Воздадим должное сидящему дома обывателю. Восхитимся им. Умное ли это дело, брать в руки винтовку и идти кого-то убивать только за то, что ему присвоили другую расцветку» (с. 10). Феликс Вибе произносит лирический монолог во славу матери-Украины, не принимая во внимание обиду современных «братов» («Зачем тысячу лет угнетали?»). «Всю жизнь мне теплее на этой земле оттого, что я родился в Хортице, где растет знаменитый 600-летний дуб, свидетель многих исторических деяний, где рядом – остров Хортица, пристанище знаменитой вольницы Запорожской Сечи и где так слышно бьется сердце красавицы Украины» (с. 23). В стилистику познавательной прозы автор привносит непривычную интонацию легкой иронии: «Не бойтесь дебрей науки и техники. Эти двигатели, эти металлические звери – домашние звери. Наподобие коров, лошадей, кошек или собак. Они рядом с нами, только не мычат, не мяукают, а тарахтят и гудят, как и положено металлическим» (с. 5). 185 Феликс Вибе восстанавливает историю своего рода, не забывает благодарно поклониться матери Серафиме Викторовне, которая не вникала в проблемы мужа, зато всех своих четверых детей одарила сердечной доброжелательностью. «Формула сгорания» — своего рода живой организм, в котором чувствуется пульс и душа самого автора. С самим автором можно поспорить и наверняка с чем-то не согласиться. В особенности с односторонней интерпретацией советской системы. Однако читать этого автора интересно. Возможно, в этом и заключается секрет «формулы Феликса Вибе». 2009 186 Владимир Блинов, истинный и нарочитый Имя Владимира Блинова, как говорится, на слуху в екатеринбургской литературной и культурной среде. Лауреат нескольких литературных премий, автор книг, появившихся в основном в течение минувшего десятилетия, прозаик и поэт, авторитетный профессор академии архитектуры, один из организаторов и руководителей Урало-Сибирской литературной ассоциации – вероятно, это далеко не полный перечень дел, которыми повседневно занят Владимир Александрович Блинов. Не дело критика отслеживать те пути-дороги, которые привели выпускника Уральского политехнического института начала 1960-х годов к искусству слова. Всего лучше довериться ему самому, точнее, автобиографической заметке в коллективном сборнике «Автограф»1. У критика другая задача: осмыслить результаты проделанной работы, уловить логику творчества, отделить истинное от ложного (в особом, эстетическом, смысле), аргументировать удавшееся и неудавшееся. Талант, если он есть, непременно обнаружит себя в своеобразии авторского подхода к материалу, в работе со словом, наконец, в способности отказаться от всего лишнего, противоречащего эстетической целостности произведения. Михаил Пришвин в одной из своих повестей заметил: бывает юность биографическая и бывает юность писательская, даже если возраст автора подходит к пятидесяти. Первые рассказы, написанные Владимиром Блиновым (середина 80-х годов), относятся как раз к тому возрасту, который приметил Пришвин. С молоду накапливался читательский опыт в области литературы, позднее – в архитектуБлинов В.А. Всю жизнь я влюблялся // Автограф: Екатеринбургские писатели о себе. Екатеринбург, 2000. С. 35–43. 1 187 ре и градостроительстве, в лекторской работе совершенствовалось чувство слова. Почему бы не попробовать себя в литературе? Скажем, написать повесть о талантливых крепостных мастерах одного из представителей династии заводчиков Демидовых или дополнить знаменитые «Аленушкины сказки» Мамина-Сибиряка еще одной, на этот раз «последней» сказкой? Литература казалась делом доступным и легким, как все другое, что до сего времени удавалось Блинову. На деле оказалось, что многому предстояло научиться. Для исторической повести недоставало в первую очередь языка. Начинающему автору представлялось примерно так: чем уродливее будут разговаривать его персонажи, тем их речь станет «народнее» и ближе к тому языку, которым пользовались наши уральские предки. Отсюда в повести «Любовь и маета Артамона Тагильского»: «рази», «высшие феории», «базлат», «в коий раз», «хватит блекотать-то, Макарей», «дитя еще, даром что лядвеи наела», «ампиратор», «уполковник», «надеючись и кобыла лягает» и т. п. Откуда что берется? Таким языком историческую прозу не писали уже в 30-е и 40-е годы. Мимо начинающего автора как-то проскользнул уникальный языковой опыт Бажова, ставший поистине национальным достоянием. В сказах с участием волшебносказочных персонажей едва ли наберется с десяток вышедших из употребления, но красивых русских глаголов и существительных. Большего Павлу Петровичу не потребовалось, чтобы обозначился языковой колорит XVI–XVIII веков. Настоящий конфуз получился с изображением представителя четвертого поколения заводчиков Демидовых – Николая Никитича Демидова (1773–1828). Повесть об Артамоне Тагильском (образ типизированный) писалась во второй половине 80-х, когда один за другим разрушались идеологические стандарты в оценке исторических деятелей прошлого. Николай Мезенин, эрудированный нижнетагильский краевед-историк, терпеливо разъясняет читателям «Уральского рабочего», за что в его городе в 1842 году был поставлен памятник Николаю Никитичу Демидову, внуку знаменитого Акинфия Демидова? (Бронзовый памятник отлит в Париже, снесен в 1918-м, возвращен городу в 2007 году). «В 1806 году Н.Н. Демидов сам приезжал в Нижнетагильск “для постановки правил правления заводами”. Желая подготовить опыт- 188 ных мастеров своего дела, хозяин отправил более ста человек крепостных в Англию, Швецию и Австрию для изучения специальных отраслей заводской техники. Нижнетагильский завод, на котором трудились многие замечательные мастера, считался в то время лучшим по всему хребту Уральских гор. Еще в 1804 году при Висимо-Уткинском заводе Демидова началось строительство церкви. Для росписи ее в целях экономии предполагалось нанять только одного живописца, с тем чтобы он на месте, в Тагиле, обучил своему искусству 4–6 мальчиков и с их помощью выполнил отделку здания. Так начиналась знаменитая тагильская школа живописи. Она обеспечивала новую лакировальную фабрику иконописцами и живописцами. …Последние годы Н.Н. Демидов проживал особенно роскошно, не жалея средств, покровительствовал ученым и художникам. Он пожертвовал дом в пользу Гатчинского сиротского приюта, в 1812 году собрал полк на собственные средства и сам его возглавил во время Бородинской битвы, подарил Московскому университету богатейшее собрание редкостей и тогда же построил в Петербурге четыре чугунных моста. Он же пожертвовал в 1819 году на инвалидов 100 000 руб­лей, в 1824 году по случаю наводнения в столице на раздачу беднейшим жителям – 50 000 рублей. Николай Никитич скончался в 1828 году, завещал похоронить себя в Тагиле. Сын его Павел Николаевич Демидов построил здесь Выйско-Никольскую церковь, ставшую усыпальницей рода Демидовых»1. У автора повести «Любовь и маета Артамона Тагильского» советская логика: не дал воли талантливым изобретателям, вот и получай! На представителя четвертого поколения рода Демидовых Владимир Блинов не жалеет самых черных красок: высокомерен, жесток, коварен до непредсказуемости, угодлив перед императором Александром Первым и его супругой… Владимиру Блинову, впервые взявшемуся за перо, определенно не хватает «своеглазного знания», как говорил о начинающих авторах 1 Мезенин Н.А. Хозяин механизмов Черепановых // Уральский рабочий.1991. 12 мар. 189 Павел Петрович Бажов. Однако стоило ли в 2003 году издавать повесть «Любовь и маета Артамона Тагильского»1 без каких-либо поправок и комментариев? «Своеглазного знания» не оказалось также в «Последней сказке для Аленушки» (помечена 1987 годом). Это еще один чужой материал. Чувствуется вторичное знание Мамина – после работ пермского Е.А. Боголюбова, И.А. Дергачева, В.А. Старикова, А.И. Груздева и других исследователей и биографов писателя. Оскорбительны для памяти большого художника горестные интонации по поводу его позднего творчества. Почему Мамин-Сибиряк столь жалок и одинок? «Память, память, давнее помню, сегодняшнее в тумане… Чувствую, Маруся, – обращается он к портрету преждевременно умершей любимой женщины, – заканчивается мой путь. И что я сейчас? Новое не пишется, не удается. Если бы ты была рядом, если бы ты! Все было бы по-другому». Отчего же «не пишется новое»? Новое пишется и в 1908–1909 годах, незадолго до того «удара», который оказался неизлечимым. Только не столь революционное, как того хотела бы по-партийному настроенная критика советских лет. Что касается самой «Сказки», то лучше бы Владимиру Блинову не брать на себя роль продолжателя цикла «Аленушкиных сказок». Бывают случаи, когда творческое соревнование с классиком исключается полностью. Тот же МаминСибиряк, а позднее Бажов не считали для себя возможным рисовать прямой портрет Пугачева из соображений весьма резонных: после «Капитанской дочки» Пушкина все равно проиграешь. Ко всему прочему, литературная сказка – лукавый жанр: кому-то удается, кому-то нет, и тут уж ничего не поделаешь. Нет необходимости объяснять, что говорящие звери и птицы – еще далеко не сказка. К тому же маминская сказка, подобно басне Крылова, внутренне всегда слегка иронична. Добродушная усмешка над хвастливым Зай­ цем, простоватым Мишей Короткий Хвост, плутоватым Воробьем Воробеичем, настырным Комаром Комаровичем создает условный второй план, который тотчас же переносится читателем в мир человеческих характеров и отношений. К сожалению, в «Сказке о Маль1 Блинов В.А. Любовь и маета Артамона Тагильского // Монастырская роща: Повести и рассказы. Екатеринбург, 2003. 190 чике Дятле и о подруге его Синичке» второго плана не возникает. Диалоги двух птичек звучат вполне серьезно, однако ни о чем сколько-нибудь любопытном не говорят читателю. Юмора здесь нет, хотя, если судить по позднейшим эссе из писательской жизни, Владимир Блинов не обделен талантом юмориста. Правда, могут и возразить: обязателен ли в сказке юмор? Существует давняя традиция литературной сказки, свободной от каких-либо элементов комического. Но, очевидно, в той, мировой сказке существуют свои неписаные законы, ориентированные одновременно на высокую драматургию и фольклорную поэтику, которые опять-таки не имеют отношения к сказке, предложенной Владимиром Блиновым. Справедливости ради надо сказать, что своя тема и свой материал у начинающего писателя Блинова все-таки были. С легкой руки раннего Николая Никонова обозначим эту тему: «Мельковка» – относительно обособленная часть старого Екатеринбурга–Свердловска, с кварталами частных деревянных и полукаменных домов, с усадьбами, голубятнями, огородами, банями, пустующими конюшнями и сеновалами. С 30-х годов многие из таких домов назывались коммунальными, где разного приволья было поменьше, но это не меняло их сути. «Мельковок» в городе было много. Взять хоть Загородные улицы (Первую, Вторую и Третью), которым в канун войны были присвоены имена героев Гражданской войны: Фурманова, Фрунзе и Щорса. «Мельковками» были обширный Пионерский поселок, многочисленные Опалихи в Верх-Исетском районе (их насчитывалось девятнадцать), где ныне располагается район Заречный, да мало ли еще где. Старый Екатеринбург – Свердловск стремительно меняет свой архитектурный облик с конца 50-х – начала 60-х годов, оставляя по себе легкую ностальгию в произведениях писателей, чье детство сов­ падает с довоенным десятилетием, Отечественной войной и послевоенным периодом. Однако состоялась ли «Мельковка» Владимира Блинова в том образном смысле, как в повести Никонова «Солнышко в березах»? Населена ли она характерами-типами, как у основателя этой литературной уральской традиции, а позднее – в талантливой повести Германа Дробиза «Мальчик»? Цикл рассказов под названием «Хлебная карточка», вышедший в Свердловском книжном издательстве в 1986 году (в книжку вошла также повесть Юрия Рязанова 191 «Ястребок героя»), – это еще не литература в собственном смысле. Скорей всего, дорогие сердцу воспоминания о трудном и все-таки светлом послевоенном детстве, о близких людях, о судьбах вчерашних фронтовиков, обо всем, чем жила улица Степана Разина вблизи трамвайного парка. К своей «Мельковке» Владимир Блинов еще вернется в 90-е годы, а потому и разговор о ней – впереди. По всей видимости, было необходимо пройти и через ученичество, и через литературную стилизацию, чтобы обрести себя, найти свою тему и свои подходы. То, и другое, и третье подсказывала Блинову его профессиональная педагогическая деятельность в архитектурной академии. Особенный интерес автора вызывает биография и творчество Эрьзи (Нефедова). На неполных три года (1918–1920) революция подарила столице Урала художника с европейской известностью. О пребывании Эрьзи в Екатеринбурге писали и будут еще писать. Разгадывать секреты его самобытного творчества, доискиваться до причин недолговекости его четырех екатеринбургских скульптур, вдумываться в неоднозначный стиль поведения скульптора, то деловитососредоточенный, отрешенный от всего мелочного, то взрывной, то чисто скоморошеский. «Его исчезнувшие без следа скульптуры превратились в миф, в легенду и присутствуют до сих пор, незримо, на площадях, где когда-то стояли. Его душа живет в городе. Она словно растворилась в мраморно-сером екатеринбургском небе»1. С энциклопедичностью профессора Владимир Блинов рассказывает обо всем, что связано с деятельностью и личностью скульптора: о его юности и учебе, о матери и рано ушедшем из жизни племяннике, об отношении к революции и Ленину, о нежной привязанности к жене-ученице, о конфликте с «леваками от искусства», выжившими его из Екатеринбурга, о последующей эмиграции и позднем возвращении на родину. Акцентируется главное в екатеринбургском периоде творчества Эрьзи: монументальные замыслы и творения скульптора, рожденные революцией. Автор убежден: нет ничего удивительного, что сын мордовской крестьянки, автор камерных «женских головок», восхищавших итальянских критиков – исследователей великой античной культуры, захвачен идеей о наступающем «царстве свободно1 192 Алексеев Е.П. Невидимый Эрьзя // Веси. 2008. № 8. го труда». Народ в России издавна живет мифами, легендами и, увлеченный очередным большевистским мифом, относится к собственному прошлому с не меньшей непримиримостью, чем это происходит сегодня. В «светлое будущее» верили свято, воспевали его не только из карьеристских соображений. Прочь с дороги, мир отживший, Сверху донизу прогнивший, Молодая Русь идет И, сплоченными рядами, Выступая в бой с врагами, Песни новые поет, – писал в годы революции пролетарский поэт Филипп Шкулев. Идеи революции скульптор Эрьзя воспринимает в масштабах общечеловеческой духовной культуры. Отсюда замысел: изваять из Александровской сопки под Златоустом голову «Мыслителя, Пророка, Освободителя. За тем и ехал на Урал: хотел из горы выявить Маркса, Ленина или обобщенный образ вождя за народное счастье. Затем еще ехал, что знал – с екатерининских времен славился уральский мрамор. И вправду, оказался не хуже каррарского». Это из очерка «Звезда Эрьзи»1. В повести «Это я – Эрьзя!», опубликованной чуть раньше, тот же скульптор настроен куда более революционно и классово. Так, автор текста не поправляет своего героя, полностью принявшего ленинский план монументальной пропаганды, в то время как по зрелому (позднейшему) размышлению, для чего понадобилось сносить в 1918 году памятник Александру Второму Освободителю, Кафедральный и все другие соборы в Екатеринбурге, так же как памятник Андрею Карамзину, сыну известного русского историка, поставленный в Нижнем Тагиле в 1855 году, и многое другое? Ни Эрьзя, ни автор не реагируют на расстрел царской семьи, хотя скульптор прибывает в село Мраморское под Екатеринбургом всего через несколько дней после свершившихся кровавых событий. 1 Блинов В.А. Звезда Эрьзи // Корепанов Н.С., Блинов В.А. Город посередине России. Екатеринбург, 2005. С. 148. Далее страницы указаны в круглых скобках после цитат. 193 Разумеется, замечания относятся не к скульптору Эрьзе, который мог думать как ему угодно, но к автору повести «Это я – Эрьзя!». К началу XXI века Владимир Блинов как-то подзадержался на тех давних, доперестроечных еще позициях. Из обветшалого арсенала соцреализма в повесть приходит «комиссар в кожаной куртке», который предлагает бойцам «сто сорок седьмого полка 28 дивизии товарища Азина» направить «нашему боевому вождю Владимиру Ильичу письменное приветствие» в этот радостный день освобождения столицы Урала от Колчака. На обломках низвергнутого памятника царю-освободителю скульптор примечает «конопатого» Федьку в «выгоревшей фуражке с красной звездочкой» и становится свидетелем, как неожиданно для всех молодого красноармейца убивает колчаковский снайпер. Но как раз Федька-то и подсказывает Эрьзе последние недостающие штрихи к монументу «Освобожденный человек». В очерке «Звезда Эрьзи» характеристика колчаковского воинства заметно смягчается, но это уже не меняет позиции автора. Фактов крайней жестокости «белых» и «красных» накопилось так много с той и другой стороны, что теперь, пожалуй, никто не ответит с полной определенностью, кто лучше для России: Колчак или Ленин. Можно было бы сделать замечание об упрощенности «комиссаров от искусства», прибывших из Москвы, о схематичности фигур Туржанского, Парамонова, Узких, скульптора Ильи Камбарова, да вот поди ж ты: образ-то Эрьзи создается! Вопреки «архитектурным излишествам» в самой композиции, непрописанности второстепенных фигур и очевидному влиянию соцреализма. Сильный и независимый характер заявлен в названии: «Это я – Эрьзя!» В первую очередь художник, который повинуется собственной интуиции и таланту и тем самым служит истине. Он живет в бесконечном мире духовной культуры, он свободен от власти сильных мира сего, непредсказуем в своих творческих замыслах и решениях. Эрьзя – сам по себе, это явление крупное, которое не нуждается ни в сопоставлениях, ни в противопоставлениях. Покажется удивительным, но в конечном итоге именно такое впечатление производит повествование об Эрьзе, переусложненное по своей структуре. Что же помогает? В первую очередь доверие к собственному профессиональному опыту в области изучения скуль- 194 птуры. В отличие от читателя, Блинов видит, как работает знаменитый скульптор, понимает его «почерк» и передает словом. Эти сведения всегда интересны, подаются ли они как дневниковые записки Елены Мроз или наблюдения академика Затонского, в юности паренька из старообрядческой семьи с заскорузлым имечком – Зосима Лохматкин. За тем и другим персонажем стоит сам профессор Блинов. «Как он умел работать на контрасте! Шелковистая поверхность лица и грубый, неотесанный камень платья-бюста» – это Затонский (с. 112). А это Елена Мроз: «Но как он работает! И на этот раз – едва сделал эскиз углем, тут же лист бросил под ноги и сразу – резцом по мрамору. Удар его точен. С оттяжкой особой. Когда большой скол нужен – звонкий, резкий, короткий. И частный, ритмичный – когда уточняет, шлифует, поклевывает. Кто еще из современников ваяет с такой точностью, дерзостью, чутьем? Паоло Трубецкой в Италии? Коненков? Голубкина? Кто? Волнухин? Волнухин осторожен, академичен. Их, этих только и признает учитель. Говорят, так работал великий Микеланджело Буонаротти» (с. 113). Фрагменты из академической лекции профессора Блинова можно цитировать, не опасаясь упреков в повторении текста. «В самых общих чертах представлял Эрьзя то, что выйдет из-под резца, хотя без замысла за работу не брался. Просто задуманное менялось, вернее, выявлялось в работе, как бы соподчиняясь глубокому рисунку камня, сине просвечивающим прожилкам и тем энергичным сколам, которые подсказывал каждый новый удар закольника. Бывало, материал сопротивлялся, казалось, что вот-вот запорет мастер глыбу, но всегда он выходил победителем, а то, что казалось недостатком, вдруг начинало играть, выявляться, оборачиваясь той необходимой гранью, плоскостью, объемом, что и делало работы самобытными, эрьзинскими» (с. 109–110); «Он как бы превращался в будущее изваяние, актерски проигрывал то, что воплощал в мраморе, – голову ли кричащего Спасителя, страстные извивы алчущего женского тела, достоинство ли и умудренность мордовской крестьянки, милую томность порочной кокетки. Главное – нет повторения, нет топтания на месте, есть движение» (с. 111). 195 При крайней ограниченности сведений о пребывании Эрьзи на Урале затруднительно нарисовать его объемный характер. Блинову помогает домысел, соответствующий непредсказуемой логике поведения скульптора. Удаются отдельные жанровые эпизоды. Один из них: представители колчаковского генерала Гайды приезжают в Мраморское с предложением изваять памятник павшему белому воинству. В ответ Эрьзя дурачит предельно вежливых колчаковцев, разговаривая на эрьзянском языке, в то время как свободно владеет и русским, и французским. Другой эпизод: скульптор увлеченно работает над бюстом молоденькой Софи в доме екатеринбургского банкира Ермолаева, но вдребезги разбивает почти законченную «женскую головку» после одного неосторожного слова, брошенного хозяином. «– Своенравен был, непокорен, капризен, мнил себя гением. – Он и был им…» (диалог автора с академиком Затонским; с. 185). Скульптор от Бога, человек не от мира сего, – говорит о своем учителе Елена Мроз, а в действительности как раз от того, небывалого в истории России мира, взвихренного и перевернутого революцией. Художник, вдохновленный идеей свободы. А кто же в России не мечтал о свободе? С детских лет закален трудом, неприхотлив в быту, равнодушен к жизненным благам, неистов в работе – это я, Эрьзя! Что ни говори, образ-характер удается Владимиру Блинову. При всей жанровой неопределенности его повествования, скорей всего похожего на развернутую академическую лекцию (даже несколько лекций) с документальными сведениями из газет и цитированием критических статей о творчестве Эрьзи-Нефедова. Самая острая боль автора – это «Освобожденный человек», «вызвавший восторги и непонимание, прославленный и низверженный». В многофигурной композиции «Свобода» именно «Человек» должен был олицетворять красоту и гармонию личности: «вверх, пирамидой. Через расстрелы, мучения, кровь, кандалы – выше и выше, к свету. И на самом верху – «Освобожденный», «Человек», стоящий над городом, над Россией, над речной Бездной и его незабытой Мордовией» (с. 158). Пафосная стилистика сближает «Освобожденного» с горьковским образом Человека: тот и другой несут в себе нечто высокое, неосуществленное, вдохновляющее. 196 Каждый из тех, кто так или иначе прикасается к екатеринбургскому периоду в творчестве скульптора, испытывает чувство боли за великого гуманиста Эрьзю: не сохранилось ни одной из его скульптур, стоявших на четырех площадях города. Вместе с тем каждый посвоему пытается понять и объяснить непоправимое. Все ли бесследно исчезает в мире духовной культуры? Ведь отрицательный результат – тоже результат. Менее чем через два десятилетия взметнется над Москвой двухфигурная композиция Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», по-своему продолжающая тему «Освобожденного человека». При этом серп и молот как символы эпохи социализма, высоко поднятые над головами мужчины и женщины, практически не замечаются. Зато неотразимо действует впечатление молодости, энергии, силы и красоты – залог достижимости высоких идеалов. К таким, возможно, дилетантским раздумьям приводит повествование Владимира Блинова об Эрьзе. Ранний цикл детских воспоминаний Владимира Блинова под названием «Хлебная карточка» продолжается в 90-е годы и в солидном сборнике «Монастырская роща» получает новое название: «Вот жизнь моя». О причинах, побудивших автора к продолжению цикла, рассказывает он сам: «Когда я писал «Хлебную карточку», то и дело вспоминал младшую сестру – русскую картошку. И неловко было, что не воздал ей должного». За чем же дело? Пишется повесть «Черный чугунок, картошка в мундире», а вслед за ней – изобретательная (отдадим автору должное!) полуюмористическая «Картофельная антология». И одновременно еще ряд рассказов: «Вождь и Красотка», «Синее небо, красный парашют», «Май сорок третьего», «Май сорок пятого», «Дуня», «Человек, который мастерил арбалеты» и другие. Все правдоподобное, гладкое, но удивительно знакомое, вторичное, кого-то или что-то напоминающее. К началу 80-х многое было наработано «деревенщиками» и представителями других литературных направлений. Были написаны «Рогулина жизнь» и «Привычное дело» Василия Белова, «Синее море, белый пароход» Чингиза Айтматова, «Дом на набережной» Юрия Трифонова, «Уроки французского» Валентина Распутина, «Пир после победы» Виктора Астафьева, педагогические повести Владимира Тендрякова. Богатая была проза, многому можно было 197 поучиться у писателей эпохи «застоя». По каким же законам развивается искусство? Не задалась Блинову своя «Мельковка», как вышло когда-то у Никонова. Не получилось объемных характеров, мелковатыми оказались конфликты. От безнадежного вывода предостерегают, однако, «Сухари для пленных немцев». В этом рассказе все вроде бы так, как и в остальных: нелегкий послевоенный быт, дружная компания подростков с улицы Степана Разина… Но вот глубокая траншея для прокладки электрокабеля по улицам Фурманова и Степана Разина, которую роют пленные немцы. Уличные подростки видят, как возвращается из магазина соседка Никитична: «несла в авоське полбуханки хлеба с довеском да кулек с конфетами-“подушечками”. Один из немцев выпрямился и, стоя по плечи в траншее, негромко попросил: – Бите, фрау, бите – хлеб, мале-мале дай хлеб, пожалуйста. Никитична на мгновение остановилась, поглядела на немца. И – плюнула себе под ноги. Звучно так плюнула: – Хлеба, говоришь? Ишь чего захотел? Может, ты и убил моегото под Харьковом? И пошла дальше, и открыла калитку, и скрылась в сенях». А из дома напротив выходит Надежда Николаевна Патрушева, потерявшая за войну мужа и сына. «Идет она вдоль траншеи… Разгибаются спины, просят пленные хлебушка. Всем не подашь. Смотрит ей в глаза юноша, почти подросток, смотрит, ничего не говорит, только слюну проглатывает… – Ну, что, сынок, наверно, тебя матушка в Германии дожидается, как я жду своего Петрушу <…> Ничего не понимает юноша, только кивает головой, чувствуя расположенность пожилой женщины, слыша ее мягкий, добрый голос. Надежда Николаевна не плачет, только закусила посильнее конец косынки, щелкает щеколдой, уходит в свой двор. Через пару минут воротца открываются, несет синий эмалированный тазик. Наполовину наполненный ржаными сухарями! А в другой руке – пучок сочно-зеленого лука! <…> Надежда Николаевна Патрушева наклоняется, окликая пленного, и протягивает ему милостыню, гостинцы ли… Юноша испуганно оглядывается <…> что-то лепечет на непонятном Надежде Николаевне языке, прижав руку к сердцу» (с. 444). 198 Рассказ «Сухари для пленных немцев» выходит за пределы любых жанровых форм. Повествование ведет автор, который ссылается на повесть Виктора Некрасова, наблюдавшего колонны пленных под Сталинградом; рассказывает о концлагере в Литве, подобном Освенциму и Маутхаузену, где умерли все (!) от голода, от простуд, жестокости и где поставлен единственный на территории бывшего СССР памятник военнопленным. Завершается рассказ на оптимистической ноте. Глазастые мальчишки примечают «роман» трамвайщицы Варьки с военнопленным, которого все зовут Гуго. Не испугалась Варька соседских пересудов и после отъезда пленных на родину родила «белобрысика» Гогу. А через двадцать лет, когда Гога вымахал в почти двухметрового парня и стал солистом в ансамбле УралВО, приходит вместе с сыном к автору с просьбой составить письмо в Германию. Пиши! – сказал автор: «Либер херр Рекслер…» «– Не так! – прохрипела Варвара и, дожевав маринованный огурец, всхлипнула. – Не так, сынок! Пиши просто: “Здравствуй, папа!”» (с. 452–453). На послевоенную улицу Степана Разина, где на зеленых газонах пасутся коровы и козы, как бы перемещается кусочек из будущего – из тех последующих десятилетий, когда отношения некогда враждовавших между собой России и Германии выстраиваются на принципиально иной основе – на обоюдном доверии и деловом сотрудничестве. Взаимодействие разных уровней художественного времени сообщает тексту глубину и объемность. Это искусство, которое дается автору опытом и творческой интуицией. Правда, в наше время – расхожий ретроспективный прием, хотя разница между ремеслом и искусством вполне ощутима. В рассказе «Сухари для пленных немцев» подкупает абсолютная непринужденность, в то время как в растянутой повести «Вождь и Красотка» постоянно дает о себе знать авторская преднамеренность. В «Сухарях» этого нет. Здесь и вправду «живым запахло». Все это у Блинова свое, незаемное. 20.04.2010 199 III. Николай Никонов Из поколения шестидесятых Памяти писателя1 Без малого полувековой творческий опыт безвременно ушедшего от нас Николая Никонова — явление историко-литературное. Не только в масштабах отдельно взятой региональной литературы, но и общероссийской, несмотря на то, что столичная критика, за весомыми исключениями (Александр Макаров, Евгений Сидоров), не особо жаловала вниманием этого провинциального автора. Между тем несколько десятков книг (около 70), издававшихся в Свердловске – Екатеринбурге и других городах, разошедшихся по всей стране, требуют своего осмысления. По праву памяти или по долгу совести, как сказал поэт. Принадлежал ли Никонов к шестидесятникам или восьмидесятникам — об этом можно спорить, доказывая то и другое. В разное время он был тем и другим, но всего менее нуждался в сопоставлениях с кем-то, даже очень талантливым и известным. Не соглашался, когда его повесть «Солнышко в березах» уподобляли «Последнему поклону» Виктора Астафьева по общему признаку «босоногого детства». «Солнышко» печатается одновременно со «Страницами детства» Астафьева, вошедшими несколькими годами позже в книгу новелл «Последний поклон», и все-таки детство у Никонова свое, неповторимое. Исходная точка последующих размышлений о творчестве Никонова — это талант художника, таинственное его зарождение и прихотливо-непредсказуемая логика развития. Двадцатипятилетний Никонов дебютирует достаточно скромно. Трогательная история о березовом листке, который погибал от прожорливых гусениц и был спасен прилетевшей из леса кукушкой, то1 200 Статья написана в год смерти Н.Г. Никонова (11 июня 2003 г.). ненькой книжицей была выпущена Свердловским издательством в 1955-м (первоначально публиковалась в альманахе «Уральский современник», 1955, № 1). Учитель истории одной из свердловских школ рабочей молодежи Николай Григорьевич Никонов был удивлен и обрадован. Правда, хорошо понимал, что «Березовый листок» еще не поставит его в ряд с общепризнанными певцами растительного и животного мира — Пришвиным, Паустовским, Бианки, и все-таки продолжал работать над познавательно-поучительными сказочками для детей. Появляются сказки «Гриб красивый да гриб некрасивый», «Острозубик и Длинноусик», «Кто помог дикой яблоне» и другие. Они составят отдельный цикл «Живая вода» в превосходно изданном сборнике «Листья» (1964), украшенном черно-белыми рисунками свердловского художника В. Бубенщикова. В книгу «Листья» входят произведения, уже отобранные автором, который в 1958 году принят в Союз писателей. Никонов не включает подростковые повести «Мальчишки» (1958) и «Голубая озимь» (1961), написанные на поощряемую в те годы тему «о трудовом воспитании». Несмотря на то, что сельские подростки у Никонова трудились здорово. Под руководством своего сверстника Женьки Вост­ рякова они успевали за лето построить школу и физкультурный зал, при этом непременно влюблялись, дружили и спорили. Очень уж они походили на тех школьников, которые не менее энергично работали в повести Ольги Марковой «Меж крутых бережков» (1956). Эти персонажи также выполняли работу за взрослых и подавали пример колхозникам слаженной и дружной пионерской бригадой. Повесть о «трудовом воспитании» определенно изживала себя, хотя на Урале в свое время была заявлена «Малышком» И. Ликстанова, выходившим в разных издательствах страны ни много ни мало, а пятьдесят (!) раз. А вот повести Евгении Долиновой «Девчонки» (1961, переиздана в 1968) уже совсем не верилось. Несмотря на то, что писательница знала в одном из пригородных колхозов звено девочек, которые создали целую ферму на несколько тысяч цыплят. Виноваты ли тема или метод? Ведь удается же начинающему Астафьеву его «Перевал» (1958) о мальчике по имени Илька, который бежит от взбалмошной мачехи и проходит настоящую трудовую школу в коллективе сплавщиков. До сего дня «Перевал» не теряет ни психоло- 201 гической убедительности, ни новизны и свежести. Но кому что дано: Никонову повесть о трудовом воспитании не удается. Припоминается, как рассказывала Ольга Ивановна Маркова: ранним утром встретила однажды на улице встрепанного Никонова, в одежде, усыпанной сухими листьями и разным другим сором. «Откуда ты, Коля?» — спросила она. «Ходил на Шарташ соловьев слушать», — ответил он. «И я простила ему, — добавила Ольга Ивановна, — все неровности его колючего характера». Соловьи и все другие певчие птицы Урала дают истинное направление таланту Николая Никонова. Запас наблюдений над природой, накопленный с детства, был огромен и требовал выхода в слове. В седьмой книжке только что организованного журнала «Урал» (1958) печатается рассказ «Соловьи». Через десять лет собирается целая книжка «Певчие птицы» (1968), а еще через пять лет она переиздается массовым тиражом и широко расходится по стране, вызывая самые теплые отклики любителей птичьего пения. Авторы писем, очевидно уставшие от однообразия «производственной» и «колхозной» прозы, безотчетно радуются возрождению старой русской традиции — бескровной охоте, о которой писали в свое время Аксаков и Тургенев, Чехов, Мамин-Сибиряк, Гаршин, Горький и Пришвин. Письма приходили из Москвы и Подмосковья, из Кишинева и Красноярска, из города Рыбинска Ярославской области. Литературно оформленные и совсем безыскусные, но одинаково искренние и сердечные. Приведу отрывки из одного-двух, переданных мне когда-то писателем для работы над книгой о его творчестве. Не только в доказательство обратной связи писатель — читатель, но как своего рода документы, передающие духовный настрой уже отдаленной эпохи. «В 1970 г. мне из Свердловска прислали вашу книгу “Певчие птицы” выпуска 1969 г., и с тех пор в Кишиневе живет человек, глубоко и преданно уважающий Вас, — Анатолий Александрович Столица, 40 лет, учитель истории в одной из школ города… Можете не сомневаться, что у вас есть много неизвестных Вам друзей, которые не отзовутся и не напишут, а просто знают, что в Свердловске живет Н.Г. Никонов — светлой души человек и отличный писатель. Я бы 202 тоже не написал, да и не писал ведь, но подвернулась оказия — сын летит в ваш город на зимние каникулы. Вот я и не устоял, решил написать. Не грех ведь человеку сказать “спасибо” за ту радость, которую получал годами от книги». А вот другое, не менее сердечное: «Здравствуйте, уважаемый Николай Григорьевич! Никогда не писал писателям да и книжки подобной не читал. Люблю охоту, природу, птичек. Унаследовал от отца. Два моих сына также все это любят. Старший заканчивает институт “Лесное хозяйство”. Работаю преподавателем физкультуры в школе, птичек держу с детства, но Вам в этом вопросе не гожусь в подметки… У вас прекрасный писательский талант, если бы я мог так писать. Я много видел войны, но бог не наградил талантом, пробовал, получается ерунда. Еще раз выражаю восторг Вами, и, если можете, скажите, где можно приобрести эту книжку, эту я брал почитать. С большим приветом, Виктор Александрович, 27/II 75 г., г. Боготол Красноярского края». «Птичьи портреты» у Никонова действительно обаятельны. Точные описания повадок, контура, оперения словно согреты лирическим чувством. Взять «портрет» соловья, которого вблизи увидишь лишь тогда, когда замаскируешься в прибрежной чаще — и добровольно отдашь себя на съедение комарам. «Птичка крупноватая, но поменьше певчего дрозда, глуповато-удивленная и очень изящная, как-то благородно-точеная, перебегает по земле, быстро ворошит клювом листья. Иногда она стремительно схватывает что-то. Останавливается, насторожив голову, красиво поворачивает хвост вверх, вбок и вниз. Она поглядывает на меня, точно прикидывает: опасно? Нет? Видимо, решив, что большой беды не случится, принимается за прерванные занятия» (с. 96–97)1. Повадки полевого жаворонка узнаются после долгой охоты за ним: прославленный певец — «не какой-нибудь чиж-простофиля, а птица умная и осмотрительная. Если он заметит подвох, в сеть вы его не загоните. Бывает, не одно утро пройдет, пока покроешь привередливую птицу» (с. 24). Характер бойкой синицы определяется 1 Здесь и далее цит. по кн. Никонов Н.Г. Певчие птицы: охота, содержание, разведение. Свердловск, 1968, с указанием страницы в круглых скобках после цитаты. 203 кратко: «Нет птички, которая так упорно сражалась бы за свою свободу» (с. 183). Для каждой группы пернатых певцов у Никонова есть доброе слово. Оказывается, среди певцов первого класса нет ни одной ярко раскрашенной птички. «И соловей, и жаворонок, и певчий дрозд отличаются скромной строгостью пера, подчеркнуто благородной изящ­ ностью всех линий контура. Несмотря на отсутствие ярких красок, наши лучшие певцы очень красивы. Это — элита птичьего мира» (с. 20). Зато очень скромные по качеству пения певцы пятого класса (чечетка, снегирь, вьюрок, дубонос, свиристель) отличаются цветистостью оперения. «Это птички декоративные — украшение наших лесов» (с. 19–20). Пуночка поет довольно бедно, но «как дорог один вид кроткой, женственной северянки, такой белой, чистой, принаряженной» (с. 69). Певчие птицы, пишет Никонов, «дали мне, видимо, первые уроки эстетики и красоты земного мира, если красота разлита повсюду, если красота высшее проявление прагматизма природы, если она присутствует в каждом творении Земли и Солнца, то, на мой взгляд, особенно сконцентрирована в птицах, в копытных и хищных среди млекопитающих, в грибах, орхидеях и кактусах среди растений, в раковинах моллюсков, скульптуре жуков, окраске бабочек, изяществе форм рыб, а в человеческом мире – в юной цветущей женской прелести»1. Нечто иное книга дает читателю: детальное представление о «птичьем царстве» Урала. Будто предвидел писатель то время, когда эти «птичьи портреты» составят самые увлекательные страницы его познавательной книжки. Потому как оскудеет это самое «царство», а цивилизованный горожанин, все больше отдаляющийся от живой природы, узнает о пернатых обитателях наших лесов, полей, пустошей, лесных опушек, болот, гарей и городских окраин лишь из энциклопедий и специальных справочников. Приходится пожалеть, что никоновская птичья энциклопедия с 1973 года не переиздавалась. С появлением «певчих птиц» обозначается то направление в творчестве Никонова, которое традиционно именуется научно-худо1 204 Никонов Н.Г. В поисках вечных истин // Урал. 1990. № 10. С. 40. жественным. Через несколько лет этот ряд пополнится «размышлением» о коллекциях и коллекционерах «Золотой дождь» (1977), книжкой «Созвездие кактусов» (1978), «героями» которой станут колючие дети пустыни — кактусы, а в 1990 году в трех номерах журнала «Уральский следопыт» печатается повесть под экзотическим названием «Орнитоптера Ротшильда», рассказывающая о тропических бабочках. Широкий круг внелитературных интересов Никонова — незатронутая еще страничка в его творческой биографии. Самый живой интерес вызвала в свое время книжка «Лесные дни» (1961), переизданная «Советским писателем» в 1965-м. В цикле небольших рассказов и этюдов о природе уральская критика уловила верные признаки таланта: богатство наблюдений, зоркость взгляда и безупречное чувство слова. Правда, озадачивал повествователь. Этот молодой человек всего менее был озабочен социальными либо производственными проблемами. Без видимой цели он бродил по ближним и дальним окрестностям большого уральского города, встречал раннюю весну — где бы вы думали? — на заброшенном пригородном торфянике, где раньше всего пригревает солнышко и на торфяных кочках пробуждается жизнь насекомых, земноводных и птиц; забирался в непроходимую глухомань, исследовал жутковатую Лешачью Гриву, в которой, по рассказам местных жителей, водится нечистая сила; плутал по зимнему лесу, если случалось ошибиться в дорожных приметах. В сыроватом апрельском лесу герой-повествователь не столько охотится, сколько вглядывается и вслушивается в потаенную лесную жизнь. Ему хочется войти в этот «простой и мудрый мир», знать, «о чем закричали нарядные белобрюхие гогли, с треском взлетевшие со снеговой мочажины, и что знают синие медуницы, там и сям цветущие над безжизненным дерном». Жарким летним днем герой познаёт не социальные, а чисто биологические истины: «очень хорошо, очень славно быть живым на этой тихой летней земле. Я не знаю, с чем сравнить простую радость бытия, доступную каждой клетке кожи, каждому волосочку, но я отлично понимал, о чем поют птицы, скрипят кузнечики, плещет рыба, говорят цветы»1. 1 Никонов Н.Г. Лесные дни: рассказы. М., 1965. С. 69. 205 Этому чудаку мила не только воспетая классиками золотая осень, но мокрая, дождливая, почти безжизненная предзимняя пора. В такие дни, блуждая по лесу, он разводит в укромном местечке «теплинку», чтобы согреть окоченевшие руки, и «от маленького огонька жизнь чудесно хороша своей суровой правдой, пролетающими снежинками, блеклым листом на лесной подстилке, озябшими темными елочками меж светлых берез»1. Совсем неяркие краски, и все-таки они видятся на полотне. Никонов умеет «живописать словом». Может, оттого, что с детства его притягивали к себе краски и кисти. Мечтал стать художником-живописцем. Помешал, как он не раз признавался, природный недостаток цветоощущения. В живописи словом препятствий не оказалось. Лирический герой раннего Никонова был симпатичен, привлекал поэтическим чувствованием природы. Однако его и самого автора хотелось подправить и подучить, внушить ему необходимость более активного отношения к жизни. Почему бы не сделать его сталеваром, шахтером, доменщиком, охотником, на худой конец работником лесного хозяйства? Он мог бы совмещать «прекрасное с полезным», находить «прекрасное рядом», как тогда говорилось. Пресловутая «критическая дубина» в ход уже не пускалась. Критика была деликатна и уважительна, однако настойчива. Со стороны автора это было освобождением, осознанным или интуитивным, от обязательной в условиях соцреализма партийно-государственной тематики. Сделано по-своему и вместе с тем на уровне корифеев шестидесятничества – поэтов Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, прозаика Василия Аксенова. Ранний Никонов так и не даст своему герою ни одной из рабочих профессий. Это он сделает позднее по велению сердца или по долгу одного из руководителей писательской организации, озабоченной преимущественным развитием рабочей темы «у нас, на Урале, в рабочем краю». Сделает нестандартно, по-своему, с незаурядным пониманием характеров и судеб молодых рабочих в повести «Мой рабочий одиннадцатый» (1979). 1 206 Никонов Н.Г. Лесные дни: рассказы. С. 193. В середине 60-х Никонов возвращает герою его довоенное детство, передает ему факты из собственной биографии, награждает трепетно-любовным отношением к земле, к деревьям, к жукам и птицам. «Я, сколько помню себя, любил живое болезненно-острой и солнечно-радостной любовью. Может быть, этим чувством была согрета и освещена вся моя жизнь»1. Повесть о довоенном детстве городского мальчика Коли Никитина пишется с полным доверием к окружающему. Через десять лет в заметке, предпосланной к сборнику «Повести» (1975), Никонов подтвердит свою тогдашнюю приверженность системе. «Мое рождение совпало с рождением титанического Уралмаша, детство — с первыми пятилетками, отрочество — с Отечественной войной. Пусть не осудят меня за высокие сопоставления, но я не могу обойтись без них, ибо вся моя сущность вплавлялась, вплеталась, неразделимо существовала сообщно с этими событиями, и снова не преувеличу, сказав, что перелеты Чкалова и Громова, дрейф челюскинцев, гибель Леваневского, 22 июня, Сталинград, Курская дуга, первые целинные борозды были и моими кровными частицами, пережитыми по-своему, не отторжимыми ничем»2. Тревоги и сомнения придут совсем скоро. Тогда стимулами к творчеству станут неразумное хозяйничанье человека в мире природы (публицистическая поэма «След рыси», 1977) или нелепая организация колхозного труда, отрывающая труженика-земледельца от самой земли («Старикова гора», 1983). Появятся новые эмоциональные краски: горечь, тревога, беспощадная ирония. Безысходна судьба беззащитного рыжего лисенка и всего лисьего семейства, поколениями обитавшего в укромной лесистой мшаре (повесть «Воротник»). Отчаянным криком в защиту последнего лесного кота и занесенной в Красную книгу тундровой краснозобой казарки прозвучит поэма «След рыси». Даже хищные волки покажутся автору чище, красивее и ра­ зумнее высокопоставленных «охотничков» с пьяницей-егерем во главе. Сердечная боль за единственного в деревне настоящего хозяина сделает еще более отвратительным образ социального паразита и демагога, названного «Диогеном». Но это будет уже другой Никонов. «Почему-то 1 2 Никонов Н.Г. Солнышко в березах. Свердловск, 1985. С. 140. Никонов Н.Г. Там же. С. 3. 207 замыслы моих книг словно сами собой замешивались на болевых ощущениях жизни и времени, и поэтому судьба их не была легкой»1. В «Солнышке» все по-другому. Детство мальчика из семьи «сов­ служащих» (слово из 30-х годов) течет спокойно и ровно. Его радуют первомайские и октябрьские праздники, колонны веселых демонстрантов, красные флаги на домах. Старое и новое для него вполне определены. Пережитки прошлого — это пьяницы и хулиганы Пашковы, ленивая дворничиха — мать Верки, которая бьет девочку чем попало, жадные собственники-домовладельцы Сычов и Борин; советская новь — гудки Уралмаша, субботники на строительстве завода-гиганта, куда каждое воскресенье отправляются отец и мать, пионерские отряды, шагающие под звуки горна и барабана. Мир полон неразгаданных тайн, как те книжки в комнате родителей, которые еще не разрешается брать. Маленький герой и повзрослевший автор не расходятся в отношении к советскому прошлому. Тому и другому принадлежит лирическое обращение к светлой поре детства. «Солнышко в березах! Оно вставало вместе со мной, вместе с воробьями на облупленной колокольне, вместе с гудками заводов на заречной стороне. Казалось, что и жизнь моя начиналась оттуда, от солнышка да от берез…»2 Изнанка эпохи 30-х годов приоткроется опять-таки много позднее, когда в кругу людей, знакомых с детства, появится зловещая фигура суетливого «дяди Васи» — любителя редкостных бабочек и гепеушника в повести «Орнитоптера Ротшильда». Повесть о детстве в свое время удивила читателей тонким психологизмом и фрагментами «романного содержания». В кругу персонажей уральской прозы закрепились фигурки мечтательного Коли Никитина и его подружки — рассудительной и смышленой девочки Верки; отца, матери, бабушки, соседей по Мельковке — старой слободке, точнее, однорядной улице вдоль городской речки Мельковки, как раз там, где будет выстроен киноконцертный дворец «Космос» (в повести слободка и речка названы Основинкой). По большому счету, жители Екатеринбурга обязаны Никонову живыми картинами из советской истории города, в «Солнышке» — это стремительно меняющийся довоенный Свердловск, в котором многое 1 2 208 Никонов Н.Г. В поисках вечных истин. Урал. 1990. № 10. С. 43. Никонов Н.Г. Солнышко в березах. С. 3. уцелело от старого Екатеринбурга: немощеные, ухабистые улицы, кварталы деревянных, полукаменных и каменных домов с городскими усадьбами: огородами, садиками, конюшнями, сеновалами, голубятнями; набережные Исети, еще не закованные в гранит, где каждое утро сидели удачливые рыбаки. В обширном саду «Харитоновского дома» можно было поймать чижа или чечетку, если пробраться через забор с громоздкой сетью; возводятся многоэтажные дома и целые «городки» внутри города; проходит первый трамвай, соединяющий Уралмаш с центром. Никонов памятлив и наблюдателен. Ему хорошо знакомы екатеринбургские типы: частники-кустари (сапожники, портные, столяры, камнерезы). С близкого расстояния увиден ювелир Федор Иванович Насонов, занимающий с женой Лизанькой подвальную часть бабушкиного дома. Он трудится от артели «Русские самоцветы», хотя самые тонкие работы выполняет на своем домашнем станке. Любовно выписан образ бабушки, за которой автор сохраняет имя родной бабушки по отцу — Ирины Карповны. Это бабушка с дореволюционной биографией, каких давно уже нет, а до войны и позже они растили своих внуков и делали много разной необходимой работы. С детства приученные к труду, они охотно вспоминали свое прошлое: девятилетней девочкой бабушку привезли в город, и она служила нянькой, кухаркой и горничной у известных екатеринбургских купцов Селивановых, у заводчика Ятеса, у председателя земской управы помещика Клепинина. На рубеже 80-х Никонов дополнит рассказ бабушки: «“У всех было, батюшко, хорошее житье… А уж Клепинин-то был и вовсе человек. Слова грубого никогда никто из прислуги от него не слыхивал, а прислуги-то было у него семь человек. Я, когда уж потом, взамужем жила, — дом мы строили и в деньгах зануждались, — надумала пойти я к барину, к Клепинину-то, попрошу, может, не откажет. Дак он, батюшко, не только денег мне дал без разговору, а и расписки не взял, процентов никаких. “Возьмите, Ира, пожалуйста. Я вас знаю”. А деньги немалые по тому времени были. Вот какой человек-то…” Воспитанный на рассказах и книгах о кровопийцах буржуях и помещиках, я затруднялся — верить ли бабушке?»1 Никонов Н.Г. Размышления на пороге: опыт автобиографии // Никонов Н.Г. Повести. Свердловск, 1985. С. 342. 1 209 Эту поправку Никонов не внесет в текст. Пропагандистское представление о «каторжном прошлом» в «Солнышке» сохранится. Очевидно, уровень сознания — тоже исторический факт, который нельзя было бы изменить по желанию. Вместе с тем шестидесятник Никонов убежден, что не столько среда сама по себе, сколько приобщение к прекрасному формирует гармоническую личность. Будь это красота глухого, «настоящего» леса («Маленькая повесть», 1966), красота юной девушки («Валя Медведева», 1970) или ясного звездного неба («Подснежники», 1972). Эти психологические повести давно не переиздаются, однако стоят того, чтобы о них вспомнили. Кажется, чего проще рассказа о том, как бабушка и Костик выезжают летом на дачу. Не на собственной машине, а поездом до станции, где ищут подводу, чтобы довезти узлы и чемоданы. Едут не в особняк, огражденный каменной стеной или чугунной решеткой, а в обыкновенный деревенский дом, где снимается комната и «дачники» живут зачастую одной жизнью с хозяевами. Но здесь-то и переживет девятилетний Костик то душевное потрясение, после которого незаметно для себя повзрослеет и переступит порог отрочества. Произойдет это после встречи с Валей Медведевой, обыкновенной деревенской девушкой. Мальчик ошеломлен ее совершенной красотой и спокойным достоинством. Переживает восторг и детскую влюбленность, мучается от снисходительного непонимания взрослых, решается из противоречия на безрассудный поступок, словом, проходит за лето целую школу «воспитания чувств». Будущее мальчика не прочерчивается, но читатель убежден, что взрослый Костик не станет человечком мелкой души. В «Подснежниках» за два дня охоты подросток испытывает охотничий азарт, нетерпение, огорчение, радость удачи и горькое сожаление при виде напрасно подстреленного рябчика. Охотничьи трофеи исчисляются не связками дичи, но постижением «нежданно-высокого», ощущением бесконечности жизни, прикосновением к великой тайне бытия. «Какая свежая черно-синяя ночь стояла над этой порубью! Точно серебристая мантия волшебника, светилось по зениту небо, и на этой жемчужной пороше еще ярче, торжественнее висели колдовские знаки созвездий. Небо было так близко, что казалось ощутимым, и сама тьма вокруг, мягкая и холодная, каза- 210 лась ощутимой. Мальчик смотрел, закинув голову, на бесчисленные звезды Млечного Пути и вдруг с неведомой пробуждающейся ясностью понял, что это живой мир, бесконечно трепетный, полный движения, жизни и какой-то расширяющейся, уходящей в пространство тайны»1. О встречах с прекрасным сегодня не пишут. Предпочитают усложненные бытовые, семейные и сексуальные отношения. Вероятно, в них есть своя правда, но разве от соприкосновения с бытом прекрасное перестало существовать? Оно лишь как-то отодвинулось, отступило, однако же не исчезло, сохранилось и в жизни, и в душах людей. «Искренний идеализм» сам Никонов, по его признанию, пронесет через всю жизнь. Веру в идеал он передает героям своих произведений об Отечественной войне («Когда начнешь вспоминать», «Глагол несовершенного вида», «Весталка»), и она поможет им отстоять себя нравственно в нелегких испытаниях времени. Поклонение красоте сохранится в «Чаше Афродиты» (1993), хотя примет порой несколько неожиданные для писателя натуралистические краски. Время высветляет в самом тексте подчас скрытый для современников художественный смысл. Сегодня даже в Павке Корчагине распознается не революционный фанатизм, но исконная русская жертвенность, которая, несмотря ни на что, духовно ставит его выше Тони Тумановой. А в фадеевском «Разгроме» — одном из краеугольных столпов соцреализма — неизгладимое впечатление оставляет не условный образ коммуниста Левинсона, а трагедийный финал: какой же ценой было заплачено за мечту о новом, прекрасном и сильном человеке! Ранний Никонов поясняет такое историческое явление, как шестидесятничество с его прорывами в сферу «вечных истин». Человек 60-х открывается «изнутри» и оказывается не столь обедненным духовно, каким полагалось быть представителю советской эпохи. В большинстве своем он не был диссидентом, любил свой край, ходил по «владимирским проселкам», записывал рассказы земляков, открывал красоты старинной иконы; бывал на «вологодских свадьбах» 1 Никонов Н.Г. Перед весной: повести и рассказы. Свердловск, 1977. С. 298–299. 211 и слушал причеты деревенских плакальщиц; ребенком впитывал в себя силу могучего Енисея, а пройдя через войну, отдавал «последний поклон» взрастившей его бабушке. Это был необходимый по тому времени «глоток свободы». Никонов 60-х — начала 70-х смотрится в одном ряду с В. Солоухиным, А. Яшиным, В. Астафьевым, хотя и не является собственно «деревенщиком». Держится достойно и независимо. 2003 212 Две повести: «Когда начнешь вспоминать», «Глагол несовершенного вида» Эти повести появились в ту пору, когда русская литература еще не тяготилась традиционно закрепленной за нею морально-этической функцией. Небрежение этой миссией появится лет на двадцать позже и примет подчас формы, близкие к эпатажу. Из диалога писателей Саши Соколова и Виктора Ерофеева: «С.С. Люблю язык. Литература для меня — игра, не в обыденном смысле, а в высоком и серьезном. Игра. Литература, можно и так, — искусство обращения со словом. Но я люблю не язык вообще, а именно русский язык. В.Е. А какой-то моральный пафос литература несет для тебя? С.С. Возможно. Хотя подобные категории на ум мне никогда не приходят. Я не стремлюсь кого-то в чем-то убедить, чему-то научить, настоять на своем прочтении мира. В двух интервью, данных в разное время одному американскому ученому, Бродский и я независимо друг от друга, но почти в одних и тех же выражениях высказали мысль, что литература — вообще не о жизни, следовательно, разговор о моральности или аморальности не уместен. В.Е. О чем же, если не о жизни? С.С. Литература о некоторых процессах, происходящих в душе художника, она — продукт его сознания и этим сознанием ограничивается, т.е. не выходит за его пределы»1. Русская советская проза 60–80-х годов, к которой принадлежит Николай Никонов, дает материал для других выводов: «Истинная ли1 Саша Соколов – Виктор Ерофеев. Время для частных бесед // Октябрь. 1989. № 5. С. 198. 213 тература укрепляет в нас самовзыскательность, помогая различать подлинное и мнимое, действительное и призрачное, реальное и иллюзорное; она как бы расставляет все по местам, обнаруживая горестные заблуждения одних, вздорные амбиции других, неопознанное достоинство третьих и много чего еще…»1. Николай Никонов ближе к последнему. Естественная для каждого пишущего увлеченность словом не переходит у него в «игры с реальностью», как это получается, кстати, у того же Саши Соколова в его «Школе для дураков», где реальная жизнь представляется в причудливо искаженных формах. Уральский автор «архаичен» во всем: в использовании реалистических способов изображения, в любви к природе, к Свердловску – Екатеринбургу — своей «малой родине», в пристальном внимании к детству, отрочеству и юности, иначе сказать, к истории своего современника – от 30-х до 80-х годов XX столетия. Крайние точки этой художественной истории — повесть «Солнышко в березах» (1965) и роман «Весталка» (1986). Между ними располагаются повести об отрочестве и юности — «Когда начнешь вспоминать» (1969) и «Глагол несовершенного вида» (1975). В 60–80-е годы творчество Никонова развивается в рамках советской культурной эпохи с ее приоритетами, идеалами и акцентами. Писатель вполне лоялен по отношению к советской системе; он разделяет принципы социалистического реализма и вместе с тем долговечен в лучших своих произведениях. Чем это объяснить? Тот же вопрос возникает, когда заходить речь об Астафьеве, Айтматове, Быкове, Шукшине, Распутине, Трифонове и других, «хороших и разных» соратниках Никонова по литературному труду. Речь не о безусловной индивидуальности каждого, но в целом о литературе эпохи «застоя». Эта литература живет и обогащает нас знанием жизни, народного характера, а главное, воспитывает нравственно. В силу каких причин возникает этот феномен? Сказать: вопреки обстоятельствам, значит, еще ничего не сказать. Существуют, по-видимому, некие общеисторические закономерности, вызывающие извечные колебания в этой специфической сфере человеческой деятельности, подъемы и спады, приливы и отливы. Предмет для философов, социологов, теоретиков 1 214 Дедков И.А. Наше живое время // Новый мир. 1985. № 3. С. 219. искусства, а для исследователей литературы — своего рода нечто безусловное: богатейшая по тематике, направлениям, стилям и жанрам литература последнего советского тридцатилетия (1960–1980-е годы) подтверждает неисчерпаемые возможности реализма в канун его предмодернистских и модернистских модификаций. По характеру жизненного материала повесть «Когда начнешь вспоминать» несколько неожиданна для горожанина Никонова. В самом деле, где «подсмотрел» писатель достоверные сцены крестьянского труда и быта? Откуда взял деревенские типы? От кого услышал задорные песенки-частушки, которыми «перебрасываются» девушки из двух соседних деревень, когда собираются на праздничный «круг»? Произошло ли это в Туринском районе, где часто бывал у родственников своей жены, либо на Кирпичном, где от начала до конца своими руками построил дом, — об этом Никонов говорил мало. Но так или иначе — подсмотрел, услышал, узнал и «уложил» все это в повесть о деревенской девушке Тане, которая вместе с родителями переживает войну, рано привыкает к труду, а после окончания школы решает учиться в городе. Повесть о юности оказалась написанной ранее, чем повесть об отрочестве. Порядок нарушен, но тут, как говорится, ничего не поделаешь. Сегодня повесть «Когда начнешь вспоминать» может быть воспринята по-разному. Читатели старшего возраста вместе с героиней припомнят свое «военное» прошлое; читатели помоложе узнают о недавней истории уральской деревни; скептически настроенный критик, знающий то и другое, заметит: мало ли в советском искусстве (в кино, литературе) произведений, в которых герои, а чаще героини выходили на «широкую дорогу жизни», обретали свой «светлый путь»? Чем отличается от них никоновская девушка Таня? Спору нет, автор не держит приоритета в этой области, и все же его «тихая» повесть, где «ничего особенного» не происходит, с каждой страницей притягивает все больше и больше. Вместе с тем утверждает, что ступень повзросления, о которой чаще всего говорится по отношению к персонажам, переступившим пороги детства и отрочества, применительна в первую очередь к самому писателю Никонову. Кажется, все в этой повести настолько просто, что проще и быть не может. Никонов имитирует форму «записок» девушки-студентки 215 и потому обращается к простейшим способам изображения: диалогу и описанию. Ведется неспешный рассказ о повседневной жизни: о доме, о семье, о матери, об отце. Детальным знанием деревенского быта, откуда бы ни пришло оно к Никонову, компенсируется известная ограниченность изобразительных средств и, может быть, самое главное, исключаются «обкатанные» мотивы и расхожие ситуации. Взять характерные для советской «колхозной» прозы эпизоды «у колодца». По традиции многоголосный диалог содержал в себе народный взгляд на события и на всех персонажей. Разумеется, взгляд справедливый. У Никонова такие беседы всего чаще ведутся на речке, где женщины полощут белье. Только «глас народный» — далеко не всегда «глас божий». Никоновские бабы завистливы и злоязычны. Не так уж редко объектом их пересудов становятся Танины родители, которых они с нескрываемым осуждением называют «богатыми». В рассказе о семье писатель опять-таки избегает стандарта: в войну она не лишилась кормильца. Отец дома, хотя он тяжело болен, подолгу лечится в больнице, с трудом встает на ноги благодаря травяным настоям соседа Александра Петровича, непрерывно, несуетно, но споро работает. Непривычен по тогдашним литературным меркам этот сосед Александр Петрович, которого бабы также не жалуют, называют «болтуном и сквалыгой». Лишь с началом войны он покончил со своей «единоличностью» и вступил в колхоз. Самый толковый в деревне хозяин, он знает землю, работает лучше других, больше всех вносит на танковую колонну — десять тысяч рублей, а со стороны женщин заслуживает лишь иронический комментарий — мог бы дать и больше! Александру Петровичу Никонов передает навыки старинной крестьянской работы — сеяние из лукошка, чего никто из баб делать не умеет. Когда остается два гектара за речкой, где идет «логовая и холмистая неудобь» и где застревает старенький «тракторишко», он приносит из дому «темное, заскорузлое лубяное лукошко вроде решета, только много больше. К лукошку был прикреплен треснувший старый ремень. — Ну-ко, бабы, волоки семена, — скомандовал Александр Петрович, усмехаясь в бороду. Он надел лукошко через правое плечо на левый бок, широко перекрестился двуперстным кержацким крестом — чем вызвал улыбки у многих баб, а Катерина нахмурилась. 216 Александр Петрович, прямой, торжественный, захватил горсть зерна, качнул рукой и, как бы плясать собираясь, широко повел рукой, пошел. В его движении по пашне было что-то старинное, красивое и щедрое. Он ушагивал в поле и все поводил, поводил, поводил длинной сухой рукой» (с. 69)1. От Александра Петровича многое перейдет к образу главного героя в повести «Старикова гора» (1983). Правда, там появятся иные акценты. Ощущение «доподлинной» жизни не уменьшается, но возрастает с появлением других типов, рожденных своим временем. Относительно небольшая повесть достаточно плотно заселена. Почтальонша Капа — худая, высокая женщина, которая ходила по деревне в мужицких сапогах. С ней мало общались, ее боялись, точно она сама творила смерть. Когда же Капа неожиданно для всех умерла и старухи стали обряжать покойницу, «под подушкой на койке нашли две изорванных похоронных — одна была на мужика из Осьмухиной Анатолия Глухова, другая на мужа Марфы Деминой. Плач Марфы, неутешный глухой вой, я не забуду никогда» (с. 133–134). Правильно или нет, но Капа помогала людям, как могла. Не забывается суровая с виду, неразговорчивая Катерина Воронова — одна из тех деревенских женщин, которые за войну вырастали в незаурядных руководителей и организаторов. Непонятен девушке ее внутренний мир. Своих чувств она никому не открывает, спрашивает только работу и сама живет работой. Есть ли у нее «личная жизнь»? Бабы много болтают об отношениях с председателем, живущим у нее на квартире, но сама Таня напишет тактичнее: «Я и до сих про не могу сказать, была ли Катерина в той степени близости к председателю, в какую их сводила бабья молва. Да и странны были эти люди. Грубый, с виду злой, черный молчаливый мужик, и она, некрасивая, худая, крутая на расправу и на резкое слово, однако заботливая и работящая, как ни одна баба в деревне» (с. 100–101). Как бы по контрасту появляются деревенские «Ромео и Джульетта». Алевтина Булатова умирает от горя, не дождавшись известий от Афанасия. Оставляет своих ребятишек, которых председатель опре1 Здесь и далее цит. по: Никонов Н.Г. Дальние берега: повести. Свердловск, 1980, с указанием страниц в круглых скобках после цитаты. 217 деляет в детский дом, перед тем как самому уйти на фронт. Историю женщины, не пережившей смерти мужа, Никонов развернет в романе «Весталка» в образе матери Лиды Одинцовой. В повести образ, пожалуй, лишь намечается. Зато вполне убедителен Афанасий Булатов, неожиданно для всех появившийся сразу после победы. Побывал на половине соседей, посидел за столом. «Откуда-то он уже знал, что Алевтина умерла, да и мать сейчас же ему все рассказала. Потом он отодвинул тарелку, сел на лавку у окна, стал закуривать — табак сыпался ему на колени. Наконец он свернул, раскурил, затянулся… вздохнул и покачал головой. — Эх Алка… Жалею ее — душа дрожит. Такую мне уж никогда не найти… Через нее ко всем бабам остыл. Что там… Война. Фронт… Со сколькими судьба сводила. На постое… В деревнях. Бабы голодные… А не могу. Так и стоит Алкино лицо. Я узнал обо всем только через год. Мужика из Осьмухиной встретил. С тех пор, Иван Емельянович, убивали меня не раз. В самое пекло лазал — живой остался… А ее вот нету… А? Судьба. Говорят, бабы крепче мужиков… Неправда это, видно. Сейчас еду в область. Ребятишек разыскивать буду. Жить здесь не останусь. Не хочу. Все тут мне ее напоминает. Ну, спасибо за хлеб, за соль…» (с. 154). Слишком много души и сердца вкладывается в этот короткий монолог, чтобы могли возникнуть сомнения в их эстетической подлинности. И все же искусство обрисовки объемного характера-типа полнее всего сказалось в образе матери девушки Тани. Правда, этот образ появляется не «вдруг», а как-то постепенно вырастает из поведения и поступков, так что не сразу осознаешь, что в послебажовской уральской прозе это самый цельный и крупный женский характер. Ей не дается портретной характеристики, почти не упоминается имя. Для автора «записок» — она просто «мать», не молодая, но еще далеко не старая женщина. Чаще всего она видится в повседневных трудах и заботах. Прежде чем уйти на колхозное поле, управляется с коровой и успевает накормить ораву своих ребятишек. На прополке, беременная на восьмом месяце («в деревне никто с этим не считается»), она работает ловко и споро, оставляя далеко позади себя могутную Марфу Демину. На общем собрании, где люди один за другим подходят к столу и кто сколько 218 может кладут на танковую колонну, она после недолгих раздумий находит решение: «— Что же, девки, мы-то как же?— беспокойно и беспомощно сказала мать и заоглядывалась на отца, на соседей, на меня… Она умолкла, словно задумалась с полуоткрытым ртом, и я увидела, как лицо матери хорошеет, точно наливается изнутри каким-то неярким светом. Мать сдернула с головы шаль, торопливо нащупала неловкими пальцами, стала отстегивать сперва одну, потом вторую серьгу — вот сняла, зажала в кулак, двумя свободными пальцами потянула с правой руки кольцо. Кольцо у матери было широкое, старинное, какого-то «червонного» золота. Мать никогда не снимала кольцо, и мне казалось, что снять его уже невозможно — так въелось, врезалось оно в основание безымянного пальца. К удивлению моему, кольцо снялось, и мать торопливо пошла к столу, где толпились спины сдающих…» (с. 119). В числе немногих колхозников мать не голосует за нового председателя — непонятного человека с бегающими глазами; оказывается тверже отца, когда не соглашается «убрать» корову; с лопатой в руке смело идет на пьяного председателя, приказавшего отвезти поставленный в огороде стожок на колхозный двор, и председатель трусливо бежит от нее на глазах у детей. Она же в одиночку переживает самое большое горе, до времени утаив от семьи «похоронную» на сына Алексея. Молоденькой Тане есть у кого поучиться. У таких, как Катерина Воронова, Александр Петрович, Алевтина и Афанасий Булатовы, мать и отец. Хотя доведется девушке пережить унижение от нелепой организации колхозного труда. «Мне как-то не по себе всегда, когда я тащу сено, от одного, что надо укрываться, прислушиваться, лезть ночью через заросли мокрой крапивы и колючего бурьяна, который растет по задам огородов, — хочется бросить все, сесть и заплакать. Я знала, что сено таскаем не одни мы, такие же робкие тени с мешками мелькают и возле Кукушкиных, и возле Каблуковых, и около огорода многодетной Анисьи Косых. Жить как-то надо…» (с. 140–141). Татьяна впитывает в себя жизненный опыт, но в душе ее растет нечто свое, отличающее ее от многих сверстниц: ощущение «высокого удела», ожидание настоящей любви и какой-то иной, радостной и 219 осмысленной жизни. Все это впереди, а пока девушка не соглашается на ухаживание «просто так», только по той причине, что «все так делают». Отвергает сватовство распущенного Васьки Голышева, несмотря на то, что, по мнению тех же «баб», поступает куда как неразумно, ибо женихов в деревне мало, а невест хоть отбавляй. Нет у нее душевной близости к однокласснику Мишке Торопову — слишком грубым он ей кажется. С нею остаются мечты — достояние юности — о «добром, сильном, единственном», с которым «мы пошли бы куда-нибудь на бугры, к речке, сели бы там смотреть зарю, и если бы стало холодно, он надел бы мне на плечи свой пиджак или просто, по-доброму обнял…» (с. 175). По сравнению с повестью «Солнышко в березах» растет мастерство Никонова-реалиста, психолога, бытописателя. Вместе с тем с появлением «тихой» повести «Когда начнешь вспоминать» отчетливее обозначается ведущий принцип всей творческой деятельности писателя: не повторение сделанного, но непрерывное обновление и укрепление проблематики, образной и жанровой системы, способов повествования. Так было в 60-е годы, когда от небольших рассказов, эссе, очерков о природе и птицах писатель переходил к повести «Солнышко в березах». Следующий рывок обозначается повестью о деревне и «Глаголом несовершенного вида», «блочной» повестью «Мой рабочий одиннадцатый» и публицистической поэмой «След рыси»; 80–90-е годы — период романов: «Весталка», «Чаша Афродиты», «Стальные солдаты». Параллельно пишутся художественнопознавательные книжки «Певчие птицы» (1968), «Золотой дождь» (1977), «Созвездие кактусов» (1978), «Орнитоптера Ротшильда» (1990), путевые очерки «Северный Запад» (1987), размышления о собственном творчестве и обо всей литературе — «В поисках вечных истин» (1990). В повести «Когда начнешь вспоминать» создается достаточно богатая галерея социальных портретов. В «Глаголе несовершенного вида» эпическое начало сохраняется: это живописные зарисовки из послевоенного городского и школьного быта, фигуры учителей и учеников, базарные торговцы и завсегдатаи птичьего рынка, но в целом здесь задача другая. «Глагол…» — повесть не столько социальная, сколько нравственная и психологическая. Ею завершается цикл 220 «маленьких», «любовно-бытовых» повестей 60-х — начала 70-х годов: «Маленькая повесть», «Кассиопея», «Валя Медведева», «Подснежники» и близкий к жанру повести рассказ «Юнона». В «Глаголе несовершенного вида» сошлось многое: девятнадцатилетний опыт учительской работы, приобретенное мастерство в обрисовке характеров и все более уверенное владение словом. В уральской прозе 70-х, озабоченной обновлением так называемой рабочей тематики, «Глагол несовершенного вида» смотрится несколько обособленно. Повесть о парнишке, которому до поры до времени удается сыграть придуманную для себя роль благополучного генеральского сына, «вписывается» в иной литературный круг. Это будут произведения тех российских писателей 70-х годов, которых привлекали сложные проблемы подросткового возраста: широко известных по тем временам Анатолия Алексина, Владимира Тендрякова, Фазиля Искандера, «нового» Валентина Катаева. Надо ли сомневаться, что писатель с Урала находит собственное решение «темы подростка». Николай Никонов всегда любил школу, хотя педагогическую деятельность пришлось оставить в 1969 году, когда было написано уже около двух десятков разных книжек. «В школу я не вернулся, но тяга к молодежи осталась», — вспоминал писатель. Отчетливо помнилась «мужская», послевоенная, в которой учился сам. В «Глаголе несовершенного вида» эта школа, задуманная «мудрыми академиками-педагогами» как новый широкий эксперимент, переживает свое второе, литературное, рождение — с ее порядками и неписаными законами, с нудной директоршей Мариамной Вениаминовной, бравым военруком-воспитателем, душной уборной-курилкой, с разительными контрастами между немногими «обеспеченными» учениками и большей частью «необеспеченных», наконец, с изобретательными прозвищами-кличками, которыми награждался каждый: Мышата, Тартын, Тихон, Кудесник, Гипотез, Клин-голова и другими. Как говорится, бытовые краски положены густо, но они-то и важны для понимания поступков восьмиклассника Толи Смирнова. Не так уж трудно понять желание подростка из обычной городской семьи, испытавшей все материальные тяготы военного лихолетья, «стать вдруг каким-то необыкновенным», чтоб на него «не взгля- 221 дывали как на пустое место», чтоб он «тоже что-то значил в этом наполненном звуками зале» (с. 229)1. Толя Смирнов вполне убедителен в момент своего «превращения» в благополучного генеральского сына. Молчаливо поддерживается кем-то брошенная фраза о папе-полковнике, а «я и не хотел очень-то разуверять. Полковник? Ну и пусть… Генерал? Еще лучше… Пусть… Я тотчас очень легко представил себя сыном полковника, даже по-новому как-то прошелся по коридору» (с. 225). Легкомыслие юности? Ложь? Безусловно. Хотя вроде бы и не совсем ложь, потому что идет от мечты, от самого возраста. «Вообще-то, — комментирует автор, — не слишком долги угрызения совести, когда тебе только пятнадцатый год, и хочется, очень хочется быть таким, чтоб тебя знали, на тебя смотрели и тебе завидовали» (с. 272). В лекции, прочитанной студентам-филологам УрГУ 28 декабря 1976 года, Никонов говорил о «Глаголе несовершенного вида»: это повесть «о героях, событиях, которых лично я не переживал»; «повесть не о герое, а о возрасте — от одиннадцати до шестнадцати. Возраст, трудный для всех, в том числе для милиции. Возраст мечется — не только герой совершает поступки, почти безумные. Дороги наивные, ложь ненужная, попытка утвердиться». Педагог и психолог Никонов знает не одну, а несколько причин, побудивших Толю Смирнова к нелогичным поступкам. Не последнюю роль играет зависть — чувство вроде бы недостойное, однако вполне реальное. Зависть к тем, кто имел солидных родителей, не голодал, не прикидывался обеспеченным и видел впереди такое же спокойное и солидное будущее. А главной причиной все-таки была девочка с шелковистыми косами. «Пожалуй, я и сам не отдавал себе в этом отчета, но где-то подспудно жило сознание, что звание полковничьего сына приблизит меня к ней. Было, конечно, и болезненное желание утвердить себя, сравняться с этими самоуверенными, доказать, что Толя Смирнов не хуже других — самолюбие вещь ядовитая, — но всетаки не будь ЕЕ, не живи я каждый день все более зреющей надеждой на встречу и дружбу с нею, я бы не двинулся, наверное, по скользкой дороге лжи» (с. 275). 1 Здесь и далее цит по: Никонов Н.Г. Дальние берега: повести. Свердловск, 1980, с указанием страниц в круглых скобках после цитаты. 222 Слегка иронизируя над собой, Толя Смирнов рассказывает, как все происходило. На деньги, отчасти заработанные, а отчасти добытые относительно честным путем (выиграл у базарного картежника), тайком от матери покупаются дорогой костюм и ботинки, а школьные курильщики каждый день угощаются теперь дорогими папиросами из пачки под названием «Казбек» — положение генеральского сына обязывает! Никонов точен как в психологических характеристиках, так и в деталях. Война наконец-то остановилась, хотя еще дает о себе знать безотцовщиной, голодухой, неотмененными карточками, чудовищно разросшимися «толкучками» — тем, что ежедневно испытывают на себе Толя и его мать. Исторически-бытовой фон вполне располагал к написанию повести о трудовом воспитании: о том, как подросток военных лет включается в трудовой коллектив, учится «жить не по лжи», а по совести, отличать подлинные ценности от мнимых и т.п. Но такое уже было в «Маленькой повести», где подросток рано занимается охотой, а затем идет на завод. Традиции молодежно-производственной повести на Урале оказались устойчивыми. Неслучайны заключительные страницы «Глагола несовершенного вида»: когда завершается маскарад и все становится на свои места, Толя Смирнов бросает школу, идет на завод электриком, а после, по совету вернувшегося отца, работает каменщиком; тренирует в себе силу и волю, поступает в вечернюю школу, старается забыть обо всем случившемся. Но это как бы довесок к основному содержанию, а скорее, заявка на новую повесть, которая и будет написана: «Мой рабочий одиннадцатый» (1977). «Глагол несовершенного вида» рассказывает все-таки о другом: о воспитании чувств, о преодолении ошибок и заблуждений ранней молодости. Автор приводит героя к тем же духовно-нравственным результатам, к которым приводила бы его чисто производственная повесть — только с большим вниманием к самому человеку и его внутреннему миру. Столь же достоверно, как вначале, когда писатель вводил героя в чуждую для него роль, он и возвращает его к себе истинному. Через «загадочный механизм совести», который неизвестно в силу каких причин пробуждается в человеке; через осознание своей нравственной запущенности. Поросший бурьяном пустырь, где Толя намеревался было наловить певчих птиц, наводит его на размышления: «На- 223 верное, я сам был похож на бурьян, так же цвел никем не замечаемыми цветами и так же был колюч, горек и бездомен, как все тут, цветущее и млеющее под солнцем» (с. 248). Зарабатывая продажей птиц, Толя обнаруживает познания завзятого птицелова: «Чижа на базаре считают за лучшую птицу, покупают взрослые и старики, цена на него всегда подходящая, только ловится он неровно…» (с. 281). Никонов дарит читателю поэтические страницы, когда отправляет героя на настоящую птичью охоту — в старинный городской парк (угадывается сад бывшего Харитоновского дома). Прежде чем преодолеть высокий забор, Толя прикидывает, как ловчее перебраться через него с громоздкой снастью. «С мешком у забора, ежащийся и втягивающий голову в плечи, в драной кепчонке с жеванным козырьком, я, наверное, похож на бывалого домушника. И мне почему-то нравится такое сходство. Может быть, я нарочно одеваюсь так, идя в парк». В безлюдно-таинственном парке Толе кажется, что здесь он давным-давно и живет «неспешной жизнью пустынника, забытого всеми, не понятого никем» (с. 280). «Домушник» и «пустынник» — это лишь мимолетные роли, а настоящий Толя Смирнов с удивительной тонкостью воспринимает красоту и поэзию медленно занимающегося сентябрьского утра: «Сыро шелестят, пересыпаются листья. Молчание в аллеях, только ветер наверху шумит: то слабеет, то занимается с буревым осенним гулом. Тогда листья стукают по кепке и в спину, шуршат, опадают под забор. В глубине парка глухо и жутко белеет туман, там озерко, небольшое, но глубокое, все кажется, ходит там кто-то, следит и передвигается. Хочется мне бросить мешок, перелезть на спокойную, пусть и безлюдную улицу, но я давлю в себе это желание, покрепче сжимаю палку тайника, иду дальше… Но вот снасть готова, сеть собрана, и я сажусь в шалаш со шнуром в руке, жду рассвета, когда начнется пролет. Пахнет в парке туманом, осыпавшимся листом, отсыревшей к рассвету землей, влажными ветками. Скупой свет зари гуляет вверху по стволам, высвечивает листья, выбирает их из осеннего неба, и они розовеют каким-то женским румянцем, и само небо — сплошь в тучах — тоже розовеет, краснеет, теплеет. Алые, багровые полосы вспыхивают на нем, теплый, оранжевый свет льется вниз в синеву, яснее чернеют липы, старые пни и кусты обозначаются, и ветер 224 теряет свою пугающую ночную таинственность. Светает, светлеет, обнимает душу пасмурное тихое утро, и вот уже слышится гомон чечеток…» (с. 281). К этому динамичному пейзажу необходим комментарий. Занимающееся утро наблюдает подросток, но без автора здесь не обойтись: он описывает его так, как будто это художник подбирает переливы света, теней и красок, чтобы перенести их на свое полотно. В лекции для студентов Никонов пояснял структуру «Глагола несовершенного вида»: исповедь, с одной стороны, повествование от автора — с другой. «Сплести эту ткань было труднее всего», — признавался писатель. Искусная ткань тем не менее сплетается. В тексте согласно звучат два голоса — персонажа и автора, — не сливаясь, но дополняя друг друга. Возможно, это и есть то «искусство обращения со словом», в котором один из участников «Диалога двух писателей» усматривает единственное назначение литературы. У Никонова тонкая работа со словом не противоречит ни воспитательной, ни познавательной направленности его творчества. В описаниях природы не возникает образа девочки, «сразившей сердце героя». Скорее всего, потому, что она равнодушна и к рассветам, и к закатам, и к тем улицам «за заводским прудом» (ныне перестроенные кварталы Екатеринбурга), которые всегда чем-то притягивали Толю Смирнова. После войны в них еще сохранился «не тронутый временем старый город, — город бывших торговцев, купцов всех гильдий, зажиточных мещан, адвокатов, врачей, присяжных поверенных, полицмейстеров и частных приставов, ростовщиков, офицеров, кисейных барышень, священников и благочинных. Здесь же был и город дворников, горничных, лакеев, извозчиков, мелких торгашей, шарманщиков, золоторотцев и бродяг» (с. 360). Зачем нужна девочке «с зимними глазами» история города? Она из того круга, где ценятся вещи практические, обеспеченность, положение, деньги. Развязка предопределяется несхожестью самих характеров. Все чаще Толя Смирнов задает себе вопрос: «зачем вру? Зачем напялил костюм, которого у отца никогда не было, и костюм этот уже заставлял меня играть в барчонка, сверху вниз глядеть на одноклассников… Ведь дома ободранные стены, жалкая железная кровать, скрипучий стол и бабушкин крашенный охрой шкаф…» (с. 324). Все чаще иро- 225 низирует над собой: «Я подошел к ней неожиданно даже для самого себя, пригласил и даже спокойным голосом. Это был не мой голос, и вообще опять это был не я, а кто-то другой и действительно сын генерала, а может, и сам генерал, или это был мой костюм, а я только его раб, послушный исполнитель его воли» (с. 309). История, завязанная в крепкий сюжетный узел, разрешается обыденно и просто: дракой в курилке и коротким объяснением, где говорит оскорбленная Лида, а сам Толя Смирнов не находит слов, чтобы объяснить, ради чего затевался обман. Хорош финал — без нравоучений и выводов. Их сделает сам читатель, ибо отрицательный опыт — тоже опыт, и совсем немалый. «Когда я приезжаю в тот город моего детства, живу там, брожу по улицам, по его раздавшимся проспектам — иногда встречаю худощавую красивую женщину с зимними глазами. Я встречаю ее уже равнодушно, — только смотрю, она ли, и, провожая ее взглядом, всегда думаю, что же такое — время…» (с. 401). С появлением двух повестей конца 60-х – начала 70-х годов становится очевидным, что в послебажовскую уральскую прозу приходит писатель нового поколения, реалист и психолог. В ту пору их именовали «сорокалетними». Николай Никонов последовательно разрабатывает образ своего современника — человека 30–70-х годов, создает уральские пейзажи, воспетые еще Д.Н. Маминым-Сибиряком, и рисует картины большого уральского города, меняющегося от десятилетия к десятилетию. Как писатель Никонов динамичен, надежно защищен своим талантом от творческого самоповторения. В 70-е годы разделяет задачи, которые ставились перед литературой: «активно вмешиваться в жизнь», оперативно «реагировать на болевые точки современности» и т.п. Несколько позднее он напишет: «…Истинная тема и подлинный сюжет должны быть замешаны на боли и гневе, на сострадании и желании исправить несовершенный мир, и, более того, если судьба художника, его жизнь не были исполнены этого и подобного страдания (сострадания), ничего истинного из его творчества, как ни дави, не выдавить…»1 2004 1 226 Никонов Н.Г. В поисках вечных истин // Урал, 1990. № 10. С. 41. Эпизод из литературной жизни. Повесть «Старикова гора» С этим почти забытым ныне произведением связан один из самых драматических моментов творческой биографии Никонова. Создававшаяся с искренним желанием помочь «нашей бедной нечерноземной деревне» «Старикова гора» (1983) была превратно истолкована. Чтобы понять давнюю историю, попробуем возвратиться в литературную атмосферу того времени, когда партийная критика настойчиво призывала писателей к «активному вмешательству в жизнь». Не погрешим против истины: литература откликалась на призывы, реагировала на «болевые точки» современности. Верилось, что горячее писательское слово (как и толпы горожан и студентов на уборке колхозных полей) спасет деревню, каким-то образом возродит в сельском жителе все угасающую заботу о самой земле, превратит равнодушного работника в рачительного хозяина. Как документ своего времени приведем отдельные места из доклада Николая Никонова на отчетно-выборном собрании Свердловской писательской организации в конце 1980 года. Перед нами стоят самые серьезные общественные задачи, — напоминает докладчик. — Необходимо «искать новые формы взаимоотношения города и деревни, взглянуть по-новому, по-государственному на тему: земля и ее хозяин. Возвысить труженика. Предать осмеянию лодыря и захребетника. Воспитать уважение к труду хлебопашца не одной газетной славословицей, а художественно убедительным образом — не самые ли это важные проблемы сегодня? Село ждет писателя, который суровым, умным, заинтересованно-добрым словом поможет увидеть суть новой деревни, деревни будущего»1. 1 Никонов Н.Г. Уральская проза – проблемы и надежды //Урал. 1981. № 1. С. 157. 227 Как-то невдомек было, что вмешательство в «гущу жизни» могло породить непредвиденные результаты: обнаруживались противоречия и проблемы столь серьезного уровня, которые невозможно разрешить с помощью одного художественного слова. В подобных случаях писатель, как правило, обвинялся в «очернительстве» и даже в сознательном намерении подорвать основы социалистического строя. Как раз это и случилось с никоновской «Стариковой горой». Конкретным поводом явился герой, которого писатель назвал просто Стариком, но не лишил разума и трезвого понимания жизни. Старик не на шутку напугал партийные инстанции Свердловской области открытыми рассуждениями о земле, которая «заботы требует» со стороны ее настоящего хозяина, то есть собственника. Последний представитель большой и трудолюбивой крестьянской семьи, Старик неразговорчив, угрюм, с утра до вечера занят работой, более чем критически настроен к колхозным порядкам. В редкую минуту откровенности он произносит такой вдохновенный гимн своему полю, какого давно не слыхала русская литература: «А еще скажу, пахать-то свою земельку радостно. Идешь, бывало, за плугом, руки гудят, спина мокрешенька, а чуешь, хозяин ты на земле. Хозяин... И солнышко-то будто твое, тебе светит, тебя видит. И жаворонки тебе поют, вербы цветут, осока пушится, береза зеленеет. Все будто для тебя, вся земля звенит, каждую свою лесину обнять готов... А потом ждешь, глядишь, как хлеба зеленеют, подымаются...» (с. 106)1. И такому вот кулаку повествователь отдает свои симпатии! А он ведь еще трактор и другую технику в своем хозяйстве иметь захочет! Да Старик и не скрывает: «Был бы нам тогда еще трактор, техника, машины всякие. Мы бы город зерном, мясом завалили... Завалили бы...» (с. 99). Никонов предвидит возражения: в главу четырнадцатую включается условный диалог между автором, который высказывает мысль о материальной заинтересованности земледельца, и неким «ответственным лицом» — выразителем сугубо партийной позиции. Возражения последнего не развернуты, но при всем том непробиваемы. Писателем метко схвачен административно-официальный язык 1 Здесь и далее цит. по : Никонов Н.Г. Старикова гора. // Никонов Н.Г. Повести. Свердловск, 1990, с указанием страниц в круглых скобках после цитаты. 228 времени: «Кто же позволит?»; «Частную собственность захотели?»; «Наживаться будут»; «Сомнительное что-то вы предлагаете. Неопробованное»; «Так они, пожалуй, двухэтажные виллы в деревне строить начнут»; «Сомнительно что-то» (с. 90). В доперестроечное время предложения автора звучали неожиданно, почти кощунственно. Неудивительно, что их постигла судьба тех «опережающих суждений», о которых с горечью писал Александр Солженицын в своем обращении к Четвертому съезду писателей СССР (май, 1967). «За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются или уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным»1. Прямое тому подтверждение — события, разыгравшиеся вокруг «Стариковой горы» в Свердловске в 1983 году. «Измордованная», на четверть сокращенная повесть Николая Никонова печатается на страницах «Урала» в год двадцатипятилетия журнала (1983, № 1) и вызывает бурное негодование со стороны Свердловского обкома КПСС. Об этих событиях помнят многие. Валентин Лукьянин, тогдашний главный редактор «Урала»: «Конфликт, начавшийся в скромном кабинетике цензора (куда автора даже и не приглашали), завершился громким скандалом на бюро обкома, где будущий демократ Ельцин метал громы по поводу “удара, нанесенного партии в спину” (но самого Никонова и туда не пригласили)»2. Из воспоминаний автора: «По поводу повести и журнала, опубликовавшего ее (повесть «Старикова гора». — Л. С.), было БЮРО ОБКОМА! С громами и молниями! (Что-то все лезут под руку грозовые сравнения, но тогда было, поверьте, не до шуток. Весь “ареопаг” против. И организовано все по навету снизу и указаниями свыше!) Повесть для тех, кто ее не читал, написана в 1979 году и рассказывает о том, до чего дошла 1 2 Цит. по: Новый мир. 1991. № 6. С. 113. Лукьянин В.П. «Не ей уж, а вам…» // Лит. газета. 2000. 6–12 дек. С. 13. 229 наша колхозная деревня в результате “ликвидации кулачества как класса”»1. Правда, известный московский критик Андрей Турков, которому, скорее всего, не был страшен Свердловский обком, не увидел в никоновской повести ничего угрожающего социалистической системе. Более того, ему пришелся по душе умный Старик, который оказался на редкость работящим человеком. Когда же этот «куркуль» наконец разоткровенничался, критик услышал в его словах «столь естественную для исконного земледельца тревогу и боль — за плохо возделываемые поля, падение урожаев, пропажу любви к земле. Горько, что такой талант земледельца, такой хозяйский глаз остаются без должного употребления»2. Местная печать не отозвалась на публикацию «Стариковой горы». Повесть молчаливо была признана «идейно несостоятельной», хотя каждый читающий не мог не разделить тревожных опасений повествователя (автора): «Что это за деревня, если заколочена треть домов и растут в огороде самосевные осинки?» (с. 35). Если «половина жителей никак не связана ни с селом, ни с землей, работает где придется, в соседнем райцентре, на лесокомбинате, а кто и просто нигде, ездит по электричкам, собирает бутылки и пьянствует?» (с. 36). Как случилось, что старательный крестьянин, работающий от зари до зари, как того требует земля, пользуется не уважением, но награждается кличками: «кулак», «куркуль», «жадюга», «частник», «кощей»? Не всем известно, что шумная история с публикацией «Стариковой горы» имела московское продолжение, на этот раз для автора благополучное. События, которые не освещались в печати, сохранились в памяти членов редакции журнала «Урал» и зафиксированы в дневниковых записях Антонины Александровны Никоновой, любезно предоставленных автору настоящей статьи. Теперь уж трудно сказать, по чьей инициативе было организовано обсуждение журнала «Урал», в том числе «Стариковой горы», на секретариате СП СССР. Заседание под председательством Георгия Мокеевича Маркова состоялось 6 марта 1985 года. С момента публикации никоновской 1 2 230 Никонов Н.Г. В поисках вечных истин // Урал. 1990. № 10. С. 43. Турков А.М. Цвет земли // Лит. Россия. 1983. 1 июля. С. 20. повести прошло два года. То ли подуло «перестроечным» ветром, а скорее, повесть была прочитана без предвзятости, но пленум не поддержал выступление представителя Свердловского обкома КПСС, не осудил, но принял талантливое произведение широко известного к тому времени писателя Николая Никонова. В унисон с доброжелательной атмосферой пленума секретариата прозвучала вскоре напечатанная в «Литературной газете» статья Владимира Шапошникова «Глубокая разведка и мелкая вспашка». Новосибирский критик отводит автору «Стариковой горы» роль смелого «разведчика» в ряду других писателей, поднимающих острые проблемы современной колхозной жизни: «...Интересная, полная горечи и боли за судьбу деревни повесть Н. Никонова — это, на мой взгляд, талантливые эскизы к будущему художественному полотну. Скорее всего, ее надлежит отнести к очерку-разведчику, подчеркнув, что разведка проведена глубокая»1. «Опальная» повесть была реабилитирована, однако основательно забыта. Критика не вернулась к обстоятельному анализу и после того, как «Старикова гора» была восстановлена в полном объеме (Николай Никонов. Повести. Свердловск, 1990), и повесть попала таким образом в разряд «возвращенной» литературы. Тем любопытнее к ней присмотреться. Что это: публицистическое выступление на актуальную тему или законченное художественное произведение? Трудно согласиться с уважаемым критиком из журнала «Сибирские огни» разве что в определении жанра: все-таки «Старикова гора» — не «эскизы» и не «очерк», но повесть, остро социальная и вместе с тем глубоко лирическая. Помимо образа художника-повествователя в ней состоялись, по крайней мере, три объемных характера: это Старик; Семен Кондратьевич, хозяин дома, где художник снимает на лето комнату, и сосед напротив — по фамилии Гусаков, а по авторской кличке Диоген. Событийный ряд в «Стариковой горе» максимально ослаблен, собственно, как это и полагается в лирической повести, где «ничего такого» не происходит. Городской человек, по профессии художник, не влюбляется в деревенскую девушку и не разбивает ничье сердце. Он не переживает «драмы на охоте», как это 1 Шапошников В.Н. Глубокая разведка и мелкая вспашка // Лит. газета. 1985. 24 апр. С. 4. 231 бывало в прежних произведениях Никонова; далек от намерений поучать председателя колхоза или на худой конец бригадира правильному ведению хозяйства, а также руководству людьми. Ну, пожил вдали от города с начала лета и до поздней осени, поучаствовал в воскреснике на уборке капусты, поработал «на пленэре», но даже неизвестно, написал ли что-нибудь путное или вернулся к себе с одними набросками. При всем том «Старикова гора» не менее, если не более драматична, чем, скажем, публицистическая поэма «След рыси» с ее трагическим исходом. Обращает на себя внимание фигура художника-повествователя, хотя вообще-то героев-художников у Никонова много. Очевидно, неистребимой была его тяга к этому виду искусства. Пейзажистом-любителем оказывается лесник Леонид в повести «Балчуг» (1969), правда, образ во многом условный. Живописец с профессиональным образованием станет главным героем романа «Чаша Афродиты» (1995). Этот образ много глубже и основательнее. Он интересен своим пониманием сложных вопросов искусства, но, с другой стороны, шокирует многих читателей слишком продолжительной «эротической одиссеей». Зато совершенно обаятелен безымянный художник из «Стариковой горы». Может быть, этот персонаж больше других получил от незаурядной личности самого писателя — «авторское» подмечали в нем все критики. Он влюблен в краски, знает их «настроение» и «характеры». От прежних автобиографических героев Никонова он наследует необыкновенную чуткость ко всему живому. Природу он воспринимает во всей осязаемости ее красок и форм и вместе с тем в космической масштабности. Мировосприятие далеко не новое, знакомое, скажем, Виктору Астафьеву в повести «Стародуб» и повествовании в новеллах «Царь-рыба», да и самому Николаю Никонову — в «Подснежниках», в поэме «След рыси» и других произведениях. Однако эта «философия» всякий раз обновляется заново, как бы не допуская повторений. Взять ли в «Стариковой горе» описание «бесовского часа», который бывает лишь раз в году теплой июньской ночью. Обостренноприродным и вместе с тем натренированным слухом художник-повествователь улавливает, как живет земля. Неумолкаемый хор птичьих 232 голосов сливается в его восприятии в величавую симфонию под безграничным куполом неба. Что касается стилистического оформления, то этот ночной пейзаж словно оживает, приобретая особую динамику благодаря богатству русских глаголов. «В июне ночь лишь слегка отемняет небосклон, всю ночь сияет небесный купол, как бы вместилище высших и горних духов, бесконечных идей и только в лесах ненадолго, на час-два устанавливается глухое нерассветное время. Но даже в этот бесовский час слышно, как живет за околицей лес, не спят поля и река. Доносится в деревню, словно крик помешанного, дикое кукареканье — кричит неясыть. Кричит на темной опушке другая лесная жуть — козодой... В болотце за огородами посвистывает погоныш: “Футь-футь... Утьуть”. С полей слышно перепелов. Посвистывают, пожвякивают, переговариваются утки и кулички. Всю ночь то глуше, то яснее скрипит дергач, поют камышовки, щелкают, рокочут у реки соловьи. Не спит Земля. И, желая разделить это бодрствование, понять его, проникнуться и насладиться, как наслаждается, быть может, все живущее и живое, я засиживался до рассвета, слушал, дышал, старался и понять, и вжиться во все эти голоса, звуки, тона неба, в краски зари, которая, как жар-птица, не затухая почти, обходила небосклон по северу и востоку и малиновым светом, как звоном, занимала новый день» (с. 48–49; курсив наш. – Л. С.). Недосягаемое совершенство природы вызывает в душе художника беспокойное осознание невозможности перенести на полотно «все дыхание, всю синеву, всю просквоженность лесов, запах листьев и горькую запаленность тонов по кустарнику» (с. 93). С другой стороны, с природой же связываются волшебные приливы вдохновения, когда «накатывается радостный до озноба подъем, ощущение своей силы, нужности, правоты и правды» (с. 31). Тогда «образы схватываются, прорастают подробностями, детали находятся неожиданно, чувствуешь: засветилось в тебе солнышко, началось где-то там, внутри, утро, закипела жизнь, и рука едва успевает штриховать...» (с. 17). В такие часы художник абсолютно независим. Он чувствует себя способным передать в красках и это небо, и этот простор, и легкие ветерки, и шум сосен, «о чем-то все будто предупреждающий». Передать, чтобы «люди молились и оглядывали себя внутрь, душу свою ощущали 233 и трогали, и думали бы: кто мы? Зачем? Что есть такое — жизнь на Земле? Грех ли? Сладость ли? Горе горькое? Подвиг ли?..» (с. 51). Сегодня удивительно, как могли литературно образованные обличители «Стариковой горы» пропустить эти глубоко выстраданные признания, понятные каждому пишущему, независимо от степени его известности? Однако же пропускали, не замечали, проходили мимо, не удостаивая вниманием. Лишь изредка «провоцируют» повествователя щедрые краски уральской осени, и в отдельных местах пропадает чувство меры. Вырисовываются черемухи, «сбрасывающие светлое солнечное платье». Они «оставались нагие, в черных чулках, в голубых линялых рубашках неба. Было в них нечто стыдное и улыбчивое. Девки-чернавки». И еще появляются осины, которые «день-другой полыхали алыми сарафанами, как малявинские румяные бабы, да и, как картины лихого того живописца, сникли вдруг, расточились зеленым и серым дымом оголенных стволов по косогорам и низинам» (с. 92). К счастью, изысканные, рассчитанные на специалиста описания природы редки и не снимают высокого уровня одухотворенных никоновских пейзажей. Герой физически пребывает в природной среде, но та же среда служит для него способом общения с мирозданием, с космосом. Так это и было во всей русской пейзажно-философской лирике. В острейшем несоответствии между высоким душевным настроем художника и повседневной деревенской реальностью заключается источник внутреннего драматического сюжета «Стариковой горы». Повествователя огорчает многое: развороченная тракторами и машинами улица, неумолкаемый треск мотоциклов, звуки магнитофонов и транзисторов. «Ушло в прошлое великое молчание полей, — с грустью констатирует повествователь, — исчезает глушь... Нету ведьм... Нету леших... И сказок нет, и тягостно как-то без сказки, и чем трезвее, расчетливее жизнь — тем тяжелее художнику жить...» (с. 68). Николай Никонов судит колхозную деревню 1970-х строже, если не сказать, беспощаднее, чем современные ему писатели. В его Макаровке совсем ничего не остается от того традиционного «лада», которым славилась старая русская деревня. Никто из жителей не придерживается календарных обрядов и праздников — когда-то они соблюдались «всем миром». Не слышно, чтобы кому-то где-то устра- 234 ивалась «помочь». Нет в Макаровке таких крестьянских семей, где с особой строгостью соблюдались бы нравственные «устои», а все другие семьи так или иначе ориентировались бы на них. Нет, наконец, тех авторитетных людей, которые не без успеха руководили уральской деревней еще в годы Отечественной войны. В повести «Когда начнешь вспоминать» безусловным авторитетом для всех была бригадир Катерина Воронова. Ее не то что боялись, но с ней считались, ее уважали за справедливость, деловитость и честность. Прислушивались к знающему землю Александру Петровичу, хотя подсмеивались над его постоянными воспоминаниями-поучениями. Кое-какой «лад» еще сохраняется в абрамовском Пекашине (роман «Дом», 1978). Его строго соблюдают Лиза и Михаил Пряслины, а смерть старого идеалиста-коммуниста Калины Ивановича неожиданно всколыхнула пекашинцев в благородном порыве к чему-то туманному, но благородному и высокому. Нельзя сказать, что жители Макаровки совсем не общаются. В разное время дня на бревнах у Диогеновой избы объявляются группы. Раньше всех сюда приходят женщины, которые провожают своих коров, овечек и коз в общих табун. Хозяйки уступают место механизаторам — трактористам, шоферам, прицепщикам, разного рода подсобникам, направляющимся на колхозные работы. Часам к одиннадцати сюда приходят старухи. Они уже управились с домашними делами, и настало время посудачить. Во второй половине дня и до самого позднего вечера на бревнах остаются подростки со своими «рычащими» мотоциклами, с поющими магнитофонами и транзисторами. На бревнах представлена вся Макаровка, однако ни в одной из групп не высказывается того, что можно было бы назвать общественным мнением. Ни у кого не вызывает симпатий сельская власть в лице молодой, но какой-то удивительно непривлекательной женщины. «Плоская, некрасиво-худая, с деревянными будто ногами-лутошками, с вогнутым узкогубым лицом» (с. 28). Сердито размахивая руками, женщина распределяет людей по работам и «так же сердито уходит». Даже «героическая битва за урожай», организованная этой властью, не помогает сплотить макаровцев в единый коллектив. Стиль жизни в никоновской Макаровке — всеобщая разобщенность, разлад. Получается, автор не видел, не знает другой деревни, 235 где люди живут сплоченнее и дружнее. Именно такой упрек был в ходу в полемике с «очернителями» во времена не столь отдаленные. Вероятно, и видел, и знал, да как вне заострения (типизации) выразить свою душевную боль за судьбу «неперспективных», погибающих деревень, за неухоженную землю, которая была и остается кормилицей? Когда-то критиков сильно беспокоила изолированность никоновского героя от актуальных общественных проблем, его безоглядная погруженность в жизнь леса и птиц, в «торфяник» и в «глухомань». На рубеже 70–80-х годов интерес к социальной сфере возникает как бы сам по себе, без какого-либо подталкивания со стороны. Социальные характеры-типы обступают писателя со всех сторон, теснят друг друга и требуют своего воплощения. В «Стариковой горе» число их заметно уменьшилось по сравнению с предшествующими произведениями — повестью «Мой рабочий одиннадцатый» и публицистической поэмой «След рыси». Однако эти «немногие» выписываются с особой тщательностью, причем каждый из них основательно «нагружается» социальными вопросами. Кто-то из критиков справедливо заметил, что вульгарная социология плоха не потому, что она социология, но потому, что вульгарная. По системе реалистических ценностей вершиной художественного творчества считается психологически разработанный характер. Кто бы спорил, как говорится. В творчестве Николая Никонова после «Стариковой горы» возникнут все новые и новые типы, однако из художественной структуры романов «Ледникового периода» практически исчезнет пейзаж. Появятся новые сюжеты и обстоятельства, однако героям «Весталки», «Чаши Афродиты», тем более политического романа «Стальные солдаты» будет не до природы. Всему свое время и место, но терять никоновский пейзаж все-таки жалко. Тем более что в «Стариковой горе» природа как способ передачи изменчивого душевного состояния персонажа используется с подлинным совершенством. Если присмотреться к тексту, то можно обнаружить в нем как бы серию пейзажей, которые рисуются словом. Вслед за описанием «чудной» июньской ночи дается картина знойного летнего дня, где возрождается ранний образ «Голубой страны», символизирующий гармонию человека и мира. «За тонким летним маревом све- 236 тило невидное тихое солнце, цвел лютик. Предвечно белело на далях и совсем уж вечно, успокаивающе-неостановимо шумело в соснах, и все выкрикивала, филюкала где-то, обещала долгую жизнь чернокрылая иволга. Обещала <...> Тихая и счастливая страна грезится ТАМ, впереди, тихая и счастливая там, за туманом...» (с. 49–50). Легкую грусть вызывают пейзажные зарисовки ранней осени. В августе солнце светит «с остатней, умеренной ясностью. Тихие, впрозолоть, в алой паутине, в сиреневой дымке тлели закаты, за плетнями и избами сказкой мигала ночь. Ночи были совсем уж не летние, не те, с мышами, бабочками и жуками, — они точно углубились в тишину, застыли на молчании и застоялись в нем» (с. 79). Тревожное ожидание чего-то грозного и неумолимого передается в картине поздней осени, «спорой, с заморозками, с ветрами, когда в одну ночь желтел и багровел лист, в одну ночь облетал, особенно по опушкам, где легче доставал ветер, да и в самих чащах редело с каждым днем» (с. 91). Правда, в иных случаях ни весенне-летние, ни осенние пейзажи не понадобятся автору. Вне природного окружения существует ГусаковДиоген, пожалуй, самый сложный образ в «Стариковой горе». На первый взгляд кажется, что с ним-то как раз все ясно: болтун, приспособленец, пьяница, из тех, кого литература соцреализма постоянно держала под критическим обстрелом. Некоторые из них подолгу оставались в читательской памяти, как Никишка Болтушок из «оттепельной» повести Гавриила Троепольского «Прохор семнадцатый, король жестянщиков». В эпоху «развитого социализма» лентяй-тунеядец заметно меняется, становится самоувереннее и как-то даже «философичнее». Бывает непросто подобрать к нему «ключик». Неслучайно художнику не удается его портрет: «исчезала суть, которую я никак не мог решить, и все досадовал на свою бесталанность». И это притом, что физиономия Диогена более чем красноречива: «Лицо цвело всеми оттенками сиреневого и фиолетового, кончик носа был, как ежевика, а щеки того цвета, который хорошо знают живописцы: он получается, если в белила добавить без меры мареновый краплак, как они сами говорят, перекраплачить» (с. 20). Больше всего годятся для Диогена саморазоблачающие монологи: это его собственные речи, которые произносятся со всей серьезностью, но воспринимаются с откровенной иронией. В своих лите- 237 ратурных истоках это давний комедийный прием, хорошо знакомый по школьным «разборам» «Горя от ума» и «Ревизора». У Никонова «великолепны» постоянные поучения Диогена, как и его сожаления по адресу повествователя: «Вот вы, художники да писатели, все ведь, наверно, придумываете. Жисть, что ли, вы знаете? Не-е. Жизни-то в окошко не много увидишь. Жисть боками надо узнавать. На своей шкуре...» (с. 56). «Странный ты мужик... Не уважаешь ты, чо ли, женчин-то? Живешь ить, как монах...» (с. 45). Свое собственное поведение Диоген принимает за единственно правильное. Легко было бы обвинить его в цинизме, если б не был он столь простосердечно невежествен. «А я весело жить люблю! Не то что этот вон кощей, — кивает он в сторону Старика. — На краю могилы стоит, а все гоношится, гоношится. Скотины сколь держит. Землю копает. Как жук, из навоза не вылазит. Разве это жисть? Не для того человек на свет родится, чтоб червяком в земле да в земле. Жисть на то и дана, чтоб удовольствие иметь, чувствуешь, что живешь. Само ето...» (с. 44). Диоген постоянно кого-то обличает: не только Старика, но государство, которое «производством всех избаловало. Раньше-то еще земля держала, куда от земли, а теперь и этой причины нету... Да и сравни-ко полеву работу с фабричной...» (с. 88). Коноплянкиных: за то, что «робить не хотят и ездят бутылки в городе собирают, известку где-то воруют и продают. Зимой — елки...» (с. 87). Дает исчерпывающую характеристику своему соседу, опять-таки не подозревая, что при всех различиях оба они — одного поля ягоды: сельские жители, оторвавшиеся от земли, лишенные самой «деревенской сути». «Кондратьич-то ведь тоже буржуй-капиталист, только с другой стороны будет. Он весь век на легкой работе пребывал. Сперва в колхозе учетчиком, весовщиком, счетоводом робил, потом на комбинат подался. Диспетчером был, нормировщиком. Все ходил — ручки в брючки, чистенький такой: нтилигент. Уж он не переробит. С работы идет — часы проверяй. И все постановленья-от знает. А хитрой — как старый лисовин. Само ето... Никак его не обойдешь» (с. 46). Послужной список Семена Кондратьевича повествователь дополняет описанием его внешности в момент, когда он собирается к «одной женщине», у которой живет больше, чем в деревне. «“Одна жен- 238 щина”, видимо, была требовательна и, по всей вероятности, много моложе, ибо снаряжался Семен Кондратьевич тщательно, даже без меры, долго мылся-брился, брякал рукомойником, чистился и, когда во всем параде, с плащом в руке объявился на крыльце, выглядел чуть ли не сорокалетним. Пиджак сидел лихо, штаны не обвисли, ботинки блестели, а седина куда-то запряталась» (с. 11). Внешний и внутренний портрет Семена Кондратьевича вполне готов. Кто же, наконец, сам Диоген, далеко не глупый и еще не старый мужик, откровенный иждивенец, но «весь настоенный на желание справедливости»? В начале 90-х годов публицистика объяснила этот тип русского мужика как «продукт» длительного исторического застоя, начавшегося, по убеждению писателя-публициста Юрия Болдырева, «сразу же после Октябрьского бунта... А последние двадцать лет действительно отличались от предшествующего полувека. Но не застоем. А тем, что народ окончательно и бесповоротно понял ложь власти и тщету собственной веры и, будучи не в силах от обескровленности и истощения сбросить расползшихся по всему телу страны бесчисленных вурдалаков, явочным порядком свалил с себя иго дисциплины и самодисциплины, сбавил до самого малого трудовые обороты, устроил себе этакий многолетний отпуск от государственных имперских забот. Умученный и преданный своим государством, народ повернулся к нему спиной и задницей, наплевал на него и с глубоким равнодушием встретил развал империи и другие ее беды»1. Заглавная фигура Старика лучше прочитывается в близком ему литературном окружении. На Урале Николай Никонов оказывается одним из первых, кто возвращает «злейшему классовому врагу» его человеческий облик. Несколькими годами ранее от плакатной фигуры кулака отказался Иван Акулов в первой части романа «Касьян Остудный» (1978). Его «мироед» Федот Федотыч Кадушкин сбрасывает с себя двойную личину труженика и собственника, навязанную ему партийной пропагандой; остается тем, кем он был на самом деле: рачительный хозяин, экономист и агроном в одном лице, руководитель большого доходного хозяйства, дающий работу и хлеб деревенским люмпенам. Однако в начале 80-х еще ждала своего часа 1 Болдырев Ю. Русский век: главы из книги // Известия. 1993. 6 февр. С. 10. 239 поэма Александра Твардовского «По праву памяти» (опубликована в 1987-м); обдумывалась трагедийная история «ненастоящего кулака» в «Облаве» Василя Быкова (1990), и не были известны поздние рассказы Владимира Тендрякова, в том числе поразительный по своей пластичности рассказ «Пара гнедых» (написан в 1969–1971 годах, опубликован в 1988-м). Владимир Тендряков поведал историю из эпохи коллективизации: сельский кулак Антон Коробов, вырастивший пару сказочно прекрасных гнедых коней, вынужден расстаться с «презренной частной собственностью», чтобы избежать раскулачивания и «спецпереселения». Уходит, не оборачиваясь на призывно-тоскующее ржанье гнедых. «А какие кони были!» — вспоминает рассказчик. С восьмилетнего возраста запомнилась ему пара гнедых вместе с их хозяином. «Таких коней не было ни в нашем селе, ни в соседних селах, да были ли лучше на всем свете? Лучших и представить нельзя. Они лоснились так, что казались выкупанными. По спинам и крупам, на выпуклостях они отливали глубинно тусклым золотом. У них, гладких, — тощие морды с пугливыми ноздрями и крупными, влажными, горячими глазами. У них широкие, бронзово литые крупы, а под ними сухие, до невольного страха тонкие ноги, кажется, вот-вот под тяжестью крупов хрустнут у бабок. На передних ногах одной — белые носки, и даже копыта у нее розовые... Я тайно и безумно любил этих коней — каждую их лощеную шерстинку, каждое их богоподобное движение, позвякиванье их сбруи, призрачный стук их невесомых копыт на рыси. Я никогда не мог досыта на них наглядеться... Я временами любил — ничего не мог с собой поделать! — их хозяина Антона Коробова, когда тот ласкал своих коней, говорил с ними с шутливой небрежностью, за какой взрослые обычно прячут свою нежность к детям. Его смуглое лицо в эти моменты было таким, что хотелось подвернуться под его руку — чтоб осчастливил — погладил по голове»1. Неизбежен печальный итог: редкостные кони хиреют и погибают в колхозных конюшнях, а деревня лишается толкового хозяина. 1 240 Тендряков В.Ф. Рассказы // Новый мир. 1988. № 3. С. 5. Никоновский Старик не поставлен в столь драматическую ситуацию, да и сам он куда менее эффектен, чем подтянутый, одетый на городской лад герой Тендрякова. Художнику Старик напоминает русского крестьянина с картины Крамского: «Такая же линялая синяя рубаха, сложенные руки, простецкие волосы оглажены пятерней, негустая, впрожелть, борода, трогательное и заклеклое в вечном полевом загаре лицо. Мина Моисеев! Портрет работы Крамского... Мина Моисеев — крестьянин из той ушедшей и прошлой России глядел на меня» (с. 95). Может, и у Старика были когда-то лошади, с которыми жаль расставаться, но для него все уже в прошлом: раскулачивание, административная ссылка, потеря родных, война... Постаревший и одинокий, он не ищет жизни полегче и возвращается в деревню, к земле. Он постоянно в труде, этот неугомонный Старик. Его огород был «воплощением ухода и чистоты». В начале лета картошка стояла там рядами, вдвое большая, чем у Семена Кондратьевича, и уже окученная. «На помидорах зеленели плоды, морковь темно топорщилась — так растет лишь на славу удобренный овощ» (с. 19). В короткие июньские ночи Старик «будто вовсе не спал. Всю ночь слышались его шаги, скрип калитки в пригоне — изредка ворчание — он нередко, хотя и невнятно, говорил сам с собой, а может быть, со своими копытными и рогатыми чадами, которые густо населяли его двор-ковчег» (с. 49). В традиционном советском конфликте старое — новое «старое» в лице Старика оказывается много лучше «нового». Никто из макаровцев не принимает столь близко к сердцу «общее», как этот «овчинный» мужик. Ему дорога не только «своя земелька», но богато заколосившееся колхозное поле, вовремя скошенное, да так и ушедшее вместе с урожаем «под снег». Он вытаскивает из заброшенной мелиоративной канавы беспризорного теленка, а поздней осенью сноровистее других работает на рубке капусты. Ему писатель доверяет «программу» возрождения деревни: «Надо, чтобы обчее-то было как свое. В мелком колхозе, до слеванья-то, так и было сперва. А теперь поля велики. Только и слышишь про землю: мать-перемать да мать-перемать. Вся любовь. Не будет толку, когда ты землю так понужаешь... Нет, тут надо решительный поворот. Землю надо за крестьянином закрепить. Машины ему продать» (с. 105). Надо полагать, 241 Николай Никонов не придумал этот монолог. Он его «подслушал и отредактировал». Пора подвести итоги. Нет ничего проще, чем снисходительно оценить эту повесть как явление социального или «бытового» реализма. От всей души подивиться писательской наивности: героям ли решать те жизненные проблемы, которые требуют чисто законодательных мер? К чему вмешиваться, скажем, в трудный разговор о значении для России Столыпинской реформы? Рассказ Старика о прошлом его семьи — это и есть реализация не доведенной до конца программы царского министра. Но тут уж кому что дано, советы излишни. Только не забыть, что насквозь социальная «Старикова гора» — гармоническое сцепление образов и уральских пейзажей. Взять хотя бы финал. На следующую весну художник снова приезжает в Макаровку. Позвали березы на Стариковой горе, «высокие и стволистые, сиреневорозовые от солнца, с коричневой сетью ветвей». Грустным оказалось возвращение. Зимой умер Старик, вырублена гора, и не состоялся этюд «Березы в синеве». Но уже «вовсю светило полуденное солнце. Изо всех сил старались, заливались жаворонки над полями. Теперь уж все их голоса сливались в сплошной немолкнущий хорал. Синий теплый пар стоял над далями. Земля ждала своего хозяина» (с. 124). Повестью «Старикова гора» практически закрывается в литературе 60–80-х годов так называемая деревенская тема. Вслед за патриархальной русской деревней умирает деревня колхозная. Больше писать было не о чем. В канун горбачевской перестройки в уральской прозе появляются две смелые повести, разные по материалу и манере исполнения: «Диофантовы уравнения» Андрея Ромашова (1981) и «Старикова гора» Николая Никонова (1983). В «застойный» период писательская мысль не дремала; она настойчиво пробивала пути к обновленному общественному мышлению. 242 Женщина и война. Роман «Весталка» Есть книги, которые грешно забывать, независимо от того, написаны они два десятилетия назад либо появились совсем недавно. Пусть даже они выполнены в традиционно-реалистической, если не сказать архаической, манере «записок» от лица главной героини. К ним принадлежит никоновская «Весталка» (1986–1987). Это одна из тех книг, что несут в себе живую память о героической эпохе, передают ее дух, возрождают характерные человеческие типы, восстанавливают давно исчезнувшие подробности и детали. Вместе с тем это первый романный опыт Николая Никонова — развернутое двухчастное повествование с охватом событий не менее четверти века и четким подразделением на военные и послевоенные годы. По сути, получается два разных романа, скрепленных образом одного главного персонажа. Своего рода историческая дилогия, интересная изображением тех сторон недавнего прошлого, которые оставались художественно неосвоенными. В самом пекле О первой книге «Весталки» в момент ее публикации спорили шумно, почти скандально. Частичное представление о читательской конференции, состоявшейся во второй половине 1986-го, дают материалы, опубликованные «Уральским рабочим» 9 августа 1987-го. Одно и то же произведение Никонова воспринимается по-разному в заметке подполковника запаса Б. Маркова из Нижнего Тагила «О тебе кругом гремела слава...» и в статье И. Щербаковой «Обреченные на безбрачие». «Сомнения возникают в достоверности 243 изображаемого», — пишет Б. Марков, не признающий за писателем, который не видел фронт своими глазами, права писать о войне. И еще: не слишком ли мрачной оказывается нарисованная автором общая картина: «Никонов представляет всех женщин на фронте как женщин легкого поведения»1. Противоположная точка зрения гораздо больше взвешенна. И. Щербакова убедительно полемизирует не только с автором этой заметки, но и с известным писателем Вячеславом Кондратьевым, полагавшим «вторичным» любое произведение, созданное не участниками событий2. Но ведь никто не ставил под сомнение, скажем, право автора «Войны и мира» писать о событиях, участником которых он не был. Еще в 1960-е стали популярны «военные» стихотворения и песни невоевавшего Владимира Высоцкого. Почему же вдруг в 1980-е Николаю Никонову отказывали в праве писать о войне? Как знать, может, по-прежнему завораживал поток «окопной» прозы с ее максимальной иллюзией правдоподобности? Сегодня вызывает сомнение, принималась ли во внимание общая эстетическая направленность «Весталки». Никонов пишет не политический, не семейный, не эпопейный роман, в котором освещался бы общий ход войны либо одно какое-либо событие, но антивоенный роман, для которого больше всего годился образ женщины. Оте­чественная война, справедливая, патриотическая, освободительная, осмысляется вместе с тем как «чудовищная несправедливость», как разрушительная стихия, калечащая людей физически, а подчас и душевно. По мысли писателя, нет более несовместимых понятий, чем понятия «женщина» и «война», ибо женщина дарит миру жизнь, а война ежедневно и ежечасно губит ее. Женщинамать, медсестра, врач чаще других имеет дело с последствиями войны: с увечьями, ранениями, смертью. Для пояснения своего романа Никонов тотчас же после дискуссии пишет обстоятельную статью «Война и правда»3. Что касается обвинения в «мрачности», то в этом случае дискутировать не приходится: искусство вообще не существует вне сгущения красок, то есть вне типизации и заострения. К тому же характер и Марков Б. «О тебе кругом гремела слава» // Уральский рабочий. 1987. 9 авг. Щербакова И. Обреченные на безбрачие // Там же. 3 Никонов Н.Г. Война и правда // Уральский рабочий. 1987. 3 янв. 1 2 244 судьба главной героини — свердловчанки Лидии Одинцовой — полностью снимает мнение о безнравственном якобы поведении женщины на войне. К написанию романа Никонов шел исподволь. Отрочество, совпавшее с войной, оставило в сознании писателя неизгладимые впечатления: «Сам видел и горько пережил войну, встретил ее подростком, а в сорок пятом мне шел пятнадцатый год. Видел и пережил — и не случись этого, возможно, не имел бы права писать. Война и сейчас с ее карточками, голодом, дистрофией и цингой, вареной лебедой, керосиновыми коптилками, бесконечными тревогами стоит во мне тяжелым отстоем, дополненным тем, что довелось и случилось узнать... В течение четырех десятилетий я зачем-то собирал, копил в записях и памяти женские судьбы, факты войны»1. Ценнейшие материалы автор получил от прямых участниц вой­ ны — врачей, медсестер, санитарок госпиталей и санпоездов. Со многими из них познакомился в 70-е годы через свердловский Музей фронтовой сестры, едва ли не единственный в стране. С реальных женщин «списывался» образ «весталки». Точнее сказать, создавался заново, заполнялся психологическим содержанием, биографическими подробностями, шлифовался творческой фантазией самого художника. Теперь уже очевидно, что первая книга романа «Весталка» не нуждается в каких-либо извинениях и поправках: это единое, сильное, стремительно развивающееся романное целое, охватывающее все военное четырехлетие от июня 1941-го до мая 1945-го. Здесь создается образ главной героини и сопутствующие фигуры матери, Вали Вишняковой, Зины Лобаевой, эпизодические — соседки по квартире, снабженца Виктора Павловича, армейского повара Степана Анисимовича и других. Состоялся еще один образ — уже не персонаж, но обобщенный образ тылового города, в котором без особого труда узнается Свердловск 1941–1942 годов. Писательская память сохранила его зримые приметы, включая то короткое время, когда еще продолжается инерция мирной жизни. «На Первомайской, в саду Вайнера, по вечерам гремела музыка — работала танцплощад1 Никонов Н.Г. Война и правда. 245 ка; в магазинах бесперебойно были хлеб, сахар, печенье; всем казалось, что победа близка, и по радио непрерывно транслировали бодрые марши» (с. 26–27)1. «На Урал еще только начали докатываться первые страхи, жуть и правда, так не похожая, видимо, на сводки Информбюро, успокаивающие, краткие, обнадеживавшие коль не близкой победой, то хоть бы какой-то предполагаемой ее частью» (с. 27). Неожиданно как-то вдруг выяснилось: сдан Минск, бои идут под Смоленском и у самого Ленинграда. «По радио выступил Сталин... Он говорил правду, горькую, ожидаемую, подразумеваемую правду. Теперь было ясно — война тяжелая и все впереди» (с. 27–28). С августа город все быстрее меняется. Улицы наполняются людьми с незнакомым акающим говором. Магазины враз оскудели. На полках стояли лишь бесконечные вереницы банок с надписью «снатка», которые почему-то никто не покупал. В сентябре всем выдали карточки — сиреневые и желтые бумажки с надписью: 400 гр. Это была пайковая норма иждивенцев и служащих, предвестница настоящего голода. К осени ввели лимит на электричество. В сосняках за городом разгружались бесконечные эшелоны. Теснились школы, институты, учреждения культуры, освобождая здания под оборонные заводы и эвакогоспитали. Из уличной жизни запомнились трамваи — «деревяшки», на которых цепями висели молчаливые люди — мужчины, парни, женщины, направляющиеся на заводы. «Ездить на окнах, на сцепках меж вагонами, не говоря уже о подножках, считалось обычным, привычным делом» (с. 48). В переулках и на улицах, примыкающих к вокзалу, можно было встретить приземистые мощные танки, колоннами в пять-шесть машин идущие в сторону железнодорожных платформ. А на дальних путях — особые санитарные поезда. Вероятно, их надо было совсем близко увидеть и даже «почувствовать», чтобы спустя несколько десятилетий вот так написать: «Чаще всего санпоезда подкатывали глухой ночью или на рассвете. Они были и сами, как люди, усталые, забрызганные грязью, иногда с пробоинами, с выбитыми стеклами, с окнами, кое-как заделанными фанерой, завешенными простынями, заткнутыми шинелями. Их приводил такой же усталый, 1 Здесь и далее цит. по: Никонов Н.Г. Чаша Афродиты. Екатеринбург, 2000, с указанием страниц в круглых скобках после цитаты. 246 черный, будто обугленный паровоз без огней. Он дымился впереди, вздыхал, как избитый великан» (с. 30–31). В бытовой повседневности заметно поубавилось радости и даже света стало как будто меньше. «Суть идущей тогда жизни везде и во всем, в каждом мгновении крылась, как серой облачной пылью, войной». Лишь с весны 1942-го городской пейзаж оживили зеленые всходы картошки по дворам и по обширным газонам. Той самой картошки, что помогла людям в самую тяжелую, пожалуй, военную зиму1942/43-го. Было бы несправедливо не увидеть в никоновской «Весталке» всего этого, не оценить почти документальный и единственный в литературе Урала развернутый «портрет» военного Свердловска. Тот, кто пережил, поймет автора, а если не довелось, — тому не лишне узнать, как жили, чтобы победить. Точен и убедителен в передаче Никонова особый стиль тыловой жизни: работа и только работа, практически бесконечная. В остальном — короткая передышка, накопление сил, необходимых для той же работы. Так трудится персонал госпиталя, куда в качестве младшей палатной сестры принимают молоденькую Лиду Одинцову, — так работают на всех оборонных заводах. «Дежурим сутками, не выходя из госпиталя. Спим где придется. Новых надо принять, вымыть, перевязать, устроить — только тогда лечить. Домой теперь приходила раз в два-три дня <...> Жизнь напоминала какой-то беспросветный тягучий сон, в котором уже все равно, кто ты, где ты, сыт, голоден, обут, одет, не поймешь, и не важно совсем, какое стоит время года. Нет ничего! Есть только госпиталь, раненые, койки, перевязки, стоны, костыли, судна с мочой и кровью, запах ран и тусклый свет лампочки по вечерам...» (с. 45). Художественное пространство «тыловых» глав «Весталки» стягивается к госпиталю, где нет героев и победителей — есть жертвы войны. Кульминационный центр «дофронтовых» глав романа — челюстно-лицевая палата, куда доставляют людей с особенными ранениями. Здесь больше всего боли, отчаяния, безнадежности. Здесь бессильны медицина и самое искреннее участие. Жуткая правда вой­ ны превосходит кошмарные фантазии сюрреалистов. «То, что было лицом, главной сутью этого человека, как бы его воплощенной душой, здесь было забинтовано, закрыто салфетками, и я даже не зна- 247 ла, кого лечу, кого кормлю. Кто эти люди? Что можно было понять, приподнимая салфетку над кровавой раной, где лишь черно-красные дыры, размозженное, пузырящееся нечто обозначали то, что было ртом, носом, лицом» (с. 40). Если это не фронт, увиденный с самого близкого расстояния, то разве это не война? «Это была самая суть войны, не схожая даже с понятием “жестокость”, “страх”, “преступление”. Слова эти слишком маленькие, приземленные, короткие» (с. 41). По структуре «Весталка», уже в первой своей части, ближе к психологическому роману, предполагающему взаимодействие многих характеров. Блестяще освоенный Никоновым жанр реалистической повести вполне состоялся бы на основе судьбы Лидии Одинцовой. Для романа потребовались новые образы, в том числе такие нетрадиционные для военной прозы, как образ матери. Еще далеко не старая женщина, она изводится от тоски по мужу, слабеет, как говорится, на глазах, превращается в старуху в тридцать девять лет и умирает, как только приходит похоронная. Никонов вглядывается в характер женщины, которую природа создала для счастья, но не дала ей защитных сил от горя. Можно сказать, постигает психологический тип женщины, которую сама природа лишает способности защитить себя при встрече с непоправимым несчастьем. Такой была Алевтина Булатова в повести «Когда начнешь вспоминать», такова мать Лиды. Ни ту, ни другую не спасает всеобщий патриотический порыв; та и другая погибают, утрачивая интерес к жизни. Не здесь ли истоки фольклорно-песенного образа женщины, умирающей в разлуке с любимым? Никонов находит поэтическое сравнение в мире природы: есть такие птицы, которых называют «неразлучниками». «Мои родители, видно, были из таких», — думает Лидия Одинцова (с. 39). Привычнее для читателя тип «соседки», которая тоже ничего не знает о своем муже, но не печалится, «не сетует лишнего, точно бабочка, и плевать ей, им на все то, что где-то умирают, убивают, пухнут с голоду, кругом разлито горе» (с. 56). Под стать ей мужчины из тыловых частей, что «как крабы, цеплялись за любую возможность быть дальше от фронта, ближе к пайкам, к хлебу» (с. 55). От начала и до конца романа контрастируют образы двух школьных подруг: Лиды Одинцовой и Вали Вишняковой. Первая не отка- 248 зывается от самой тяжелой челюстно-лицевой палаты, вторая в том же госпитале находит теплое место диетсестры и все ярче цветет под покровительством могущественного снабженца Виктора Павловича. Валя Вишнякова пройдет через всю войну, устроит свою жизнь куда лучше Лиды, сохранит свой «странный, расчетливо-незлобивый нрав»: не жадная, участливая, могла помочь, когда и не просили, плакала вместе с подругой, старалась утешить. Валя «достанет» дефицитный по тем временам пенициллин, приведет знахарку и тем убережет раненую подругу от грозящей гангрены. Линии этих двух женщин пересекаются, сходятся и расходятся, чтобы в конечном пути разойтись окончательно. Пройдут годы, и обеспеченная рыхлая генеральша поймет: в чем-то главном она уступает скромной труженице Одинцовой, не нашла себя, потерялась как личность. Чуть позже объявится Зина Лобаева — еще один вариант женской судьбы. Разбитная медсестра, не устоявшая в водовороте самых низких страстей: «было в ней что-то блатное, тюремное в манере выражаться и во взгляде, в развинченной, наконец, походке» (с. 81). Спутницы-антиподы создают вокруг Лидии Одинцовой жизненное пространство. Без них она оказалась бы менее рельефной в своем служении Родине и в своем чисто женском достоинстве. Контрасты вполне реальны, как достоверны эти женские типы-характеры. Никонов способен разочаровать иного читателя тем, что в своем романе о Великой Отечественной войне не сообщает о каких-либо неизвестных фактах и не озадачивает непривычной интерпретацией уже известного. «Весталка» доносит до наших дней дух русской культуры 1960—1980-х годов. В этом смысле проблематика романа стара и одновременно вечна как мир: выдерживает ли человек те моральные перегрузки, которые приносит с собой война? Остается ли человеком? Не ломается ли? Как во всем, Никонов не уклончив, хотя и не прямолинеен. Человек выдерживает. Не ломается. Медсестру Одинцову убеждает в этом ее фронтовой опыт с лета 1942-го до штурма Берлина. Через много лет, будучи автором воспоминаний (или записок?), она размышляет об истоках Победы: «Фронт, передовая — здесь было все: умирали зря, подрывались на собственных гранатах, трусили, лгали, подставляли под пулю другого, чтобы не попасть самому, не выполняли приказ... Но думаешь трезво: “Да если 249 б только на том одном держались — на подлости, на страхе, — разве бы одолели? Нет, держалось все... на храбрости, может быть, на отчаянии, но честном, святом, на совести, помощи, сострадании...”» (с. 149–150). Это высокие слова, но в них заключена позиция автора и героя одновременно, и, как всякая другая выстраданная точка зрения, заслуживает уважения, даже если кто-то думает совсем иначе. Восприятие медсестры, от лица которой пишется роман, более чем своеобразно: это не обзор с командного пункта, но и не взгляд из окопа. Лидия Одинцова смотрит на происходящее чисто поженски, то есть обобщенно и глубоко эмоционально, хотя от нее не ускользают мелочи фронтового обихода. Вспоминая о своем участии в сражении на Курской дуге, она рассказывает не о глубоко эшелонированной обороне и не о тысяче танков, бившихся под селением Прохоровка. Сражение для нее — это «Апокалипсис», «геенна огненная», в которой гибнут правые и виноватые, святые и грешные, обреченные и торжествующие хотя бы на краткий и зыбкий миг победы <...> Я и сейчас не могу этого описать, осмыслить, что видела и пережила» (с. 132). Для санинструктора все бои одинаковы, главное для нее — раненые. О наступлении на Берлин: «Дым, гарь. Лязганье танковых гусениц по каткам, вот все, что хранит моя память, мое зрение, обоняние, рассудок — это непрерывное движение вперед, и раненые, раненые — это не считая убитых» (с. 227). Зато, как в крупном кадре, держатся в памяти отдельные лица, истинные герои войны. Оживает богатырь Обоянов, которого считают «заговоренным». Правда, все знают, что главный секрет его неуязвимости — саперная лопатка, которую, говорят, он привез с собой из Сибири. Получается почти как в сказке: волшебный предмет выручает героя, а последний отвечает ему признательностью и заботой, хотя все совершается в обычной фронтовой реальности. «С лопатой не расставался, холил, носил постоянно спереди, на бедре, для чего пришил к брюкам специальный ремень. Один край лопаты был заточен — чини карандаши, им же резал хлеб, рубил ветки, тесал, что надо, — сталь у лопатки не тупилась. Окапывался же, как крот, мощными бросками, с какой-то удивительной сноровкой, раза в три опережая других по времени, да и окоп ему требовался не маленький — в полтора профиля... 250 — Предмет этот — главный солдату, — говорил он мне, любовно поглаживая железное оружие. — Да я лучше без винтовки останусь, чем без лопатки! Верно, девка... И в атаку могу без винтовки пойти. Была бы лопата...» (с. 147–148). Без фольклорных ассоциаций обходится армейский повар Степан Анисимович. Образ строится на контрасте между почти клоунской внешностью и поступками человека сильного, смелого, глубоко порядочного. До определенной степени автор рискует, однако же не проигрывает. Судите сами: «В кухонном вагоне заправлял всем рыжий, лучше бы сказать, оранжевый, котовой масти мужчина. Как описать его малиновое, почти без глаз, без бровей голое лицо, с толстыми веками и даже будто бы губами в засеве веснушек? Не нахожу сравнения, разве что с готовым, всеми виданным случайно — вот на заборах, на каких-нибудь стенах рисуют, как попало, круглую рожу, с боков уши, глаза — две точки, рот до ушей, во рту зубы — решетка... да еще в колпаке грибом» (с. 78–79). Не до клоунской внешности Степана Анисимовича в момент, когда под бомбежкой почти за минуту до взрыва он срывает засов с наглухо закрытого вагона, в котором едут девушки: «— Жи-вы? Девки? Беги-и-и! Бегии!! — страшно крикнул он, как-то странно приседая, метнулся к другому вагону. Исчез. И когда мы кубарем, кто как мог и успел, валились на жесткую насыпь, расшибая колени, локти, над нами возник тот же, вжимающий в землю свист... Я помню, как кинулась под откос, взрыв там и достал меня, великаньей лапой двинуло в спину и по затылку. Я оглохла, ослепла, показалось — нет головы! А когда зрение вернулось, не увидела ни соседнего, ни нашего вагона, их будто сдуло, не то сбросило и развалило по ту сторону низкой насыпи. По другую сторону вставали облака земли и огня. Огонь вспыхивал едко и ярко. И так же ярко, как на показном пожаре, пластало пламенем передние вагоны, не вагоны — костры» (с. 87–88). Если этот прифронтовой эпизод выполнен не по личным впечатлениям, а по рассказам фронтовых сестер, то для художника это совсем не отдаленный источник. По впечатлению «бомбежка» у Никонова равнозначна его «челюстно-лицевой». А если вернуться к Степану Анисимовичу, то он спасает медсестру Одинцову еще раз — в 251 Польше зимой 1945-го, когда приводит в сознание полузамерзшую девушку. Крупным планом подается в первой книге еще один герой — комбат Полещук. Только герой ли? Человек, так и не ставший героем Лидиного романа, но против ее воли оказавшийся отцом ее сына. Для описания Полещука достаточно небольшой зарисовки: «лицо некрасиво, худое, длинное, подбородок торчит, уши тоже. Помню, почему-то я долго смотрела на эти удаляющиеся уши-сочни под синеверхой фуражкой и думала, до чего нахрапистый, жесткий, должно быть, человек» (с. 75). Таким и остается. Как нельзя лучше пришлась биографическая деталь: Полещук до войны служил охранником в лагере на Воркуте, откуда и вынес свою жестокость. Ему ли считаться с чувствами медсестры, которая ниже его по званию? Фигура, что и говорить, сложная и все же более живая, реалистичная, в отличие от Алеши Стрельцова, которого с непостижимым упорством уже после войны будет ждать немолодая Лидия Одинцова. В задачу автора не входило написать роман о счастливой любви. Никонов иронизирует над произведениями, где «мудрый комбат и обязательная медсестра Маруся, главная цель которой на передовой — это будто бы только быть любимой...». Счастливой развязки нет, но нет также разоблачения комбата-насильника. Больше того, майор Полещук, к концу войны подполковник Полещук, храбр, верен воинскому долгу. Много позже в глазах сына тот же Полещук вырастет в героя-участника войны, которым он мог бы по праву гордиться. Сын готов простить отцу те прегрешения, о которых не в состоянии забыть его мать. Напряженно-драматическое действие первой книги вершит достойный финал: медсестра Одинцова чувствует в себе биение новой жизни, несмотря ни на что, испытывает неповторимое ощущение женщины, продолжающей жизнь. После войны В одном из своих первых произведений, связанных с Великой Оте­чественной, Николай Никонов создал героя, который радовал- 252 ся окончанию войны и возвращению близких. «Остановилась война. Возвращались к себе люди. И снова человеческое, доброе прорастало всюду, как прорастает на пожарищах весенняя трава. Теперь я снова учился. Жизнь налаживалась. Остановилась война» («Маленькая повесть», 1966)1. В этой повести была своя проблематика и своя логика. Героиню романа «Весталка» не ждет никто. Послевоенная судьба Лидии Одинцовой тяжела. С грудным ребенком, без родных, без квартиры и почти без средств Лидия Одинцова близка к отчаянию. В пору написания «Весталки» творческая позиция автора во многом изменилась по сравнению с периодом 1960-х. О послевоенной жизни он рассказывает в манере того сурового реализма, в духе которого незадолго до романа была написана «Старикова гора» (1983) — повесть о «нашей бедной нечерноземной деревне», переживающей до сей поры разрушительные последствия коллективизации. Война отняла у вчерашней девушки-свердловчанки все. Будто «черный меч пересек счастливую нить моей судьбы, и все пошло в моток, спуталось, перекрутилось, меч отдал меня на волю случая» (с. 426). Война войной, но есть еще преступное безразличие власти к вчерашним защитникам Отечества. «Все воевали», — отвечает на просьбы Лиды молодой бюрократ из военкомата. Радуйся, что остался живым, а о подвигах кричать нечего, — так можно было бы понять невысказанные его мысли. «Куда деться? Как быть? Кажется, случись такое на передовой, даже в наступлении, в бою, и то не была бы я в безвыходной растерянности, нашла б выход» (с. 261). Спасает случай, как это бывает в жизни. На этот раз — в лице Зины Лобаевой, той самой, что еще с фронта усвоила привычку командовать и принимать немедленные решения. Логику этого женского характера Никонов передает безошибочно. Настрадавшаяся за войну не меньше медсестры Одинцовой Лобаева не чувствует себя жертвой. Со всеми и всегда была высокомерной и первой и уж никак не могла быть «жалеемой» и «подчиненной». Бывшая «детдомовка» Лобаева еще не стала «жертвой собственного темперамента», хотя появляется не иначе как в компании сомнительных подруг, прячущих в карманах бутылки. Сегодня Лобаева — настоящая спасительница, отсюда выразительный эпизод-сцена: 1 Цит. по: Никонов Н. Перед весной: повести. С. 191. 253 «— Лидка? Не верю глазам. Ты?? С лялькой? Ну, я тебе говорила. Обра-зо-ва-ли... Да что там... Война-а. Едешь-то куда? Пришлось объяснить. — Муроч-ка-а... — тянула Лобаева. — Вот это ты хлебнула. По самую, по... Ну-у. А? Чо мне с тобой делать теперь? А? Давай тогда счас ко мне... Устроимся. Как-нибудь. Что я, падла, подругу брошу... Мы же фронтовые...» (с. 262). В барачной комнатушке Лобаевой пожилось, однако, недолго. Смущала не теснота, но гости и больше всех — сама хозяйка. Зина Лобаева появится в романе еще не один раз, чем-то поможет, но больше для того, чтобы оттенить собой почти аскетический образ жизни «весталки». Так или иначе, интуитивно или осознанно молодая женщина-мать убережет себя от погибельного пути, по которому все дальше пойдет Зина Лобаева, пока не окажется на самом дне. Лидии Одинцовой удастся перебраться в «отдельную (!) квартиру», то есть в подвал школьного здания (девять ступенек вниз). Далеко не сразу, но шаг за шагом жизнь налаживается. Радует маленькое живое существо, которое требует ежеминутных забот, но щедро одаряет собой и своим пробуждающимся разумом. Радость приносит кроватка, которую соорудила из двух связанных стульев; купленное на барахолке пальто, сменившее армейскую шинель, туфли вместо сапог, наконец, «бескарточный» хлеб 1947-го, за которым надо было «на двоих» занимать очередь с раннего утра и писать на руке порядковый номер. Послевоенный быт «густо положен» во второй книге романа, тем не менее бытом не заглушается главное. Главным было ощущение н а с т о я щ е й ж и з н и — в отличие от той, фронтовой, которая всегда казалась Лидии Одинцовой лишь п о д о б и е м ж и з н и, — «это было подобие сна, подобие отдыха, подобие работы, когда копали укрытия, строили землянки и блиндажи, подобие удобств — коптилка из пэтээровской гильзы, снарядного стакана, хорошо, если свеча или немецкая осветительная плошка, штык вместо ножа, консервная банка взамен кружки, подобие еды — то густо, то пусто. Только раны, кровь и смерть были настоящие» (с. 149). Ж и з н ь б е з в о й н ы воспринималась как счастье — это чувство разделяли все — снималась душевная усталость, исчезала необъяснимая виновность перед теми, кто там, далеко, все еще мог погибнуть, а здесь, в тылу, надеялись и ждали. 254 Терпеливый русский народ оттаивал душой, и тем легче переносились условия, которые кому-то сегодня представляются невероятными. Восприятие мира как долгожданного счастья, аналогичное никоновскому, передано в эпической миниатюре Алексея Решетова «Дворик после войны» (1960). Здесь все по-своему, но так же все дышит историей и поэзией. Мирный дворик. Горький запах щепок. Голуби воркуют без конца. В ожерелье сереньких прищепок Женщина спускается с крыльца. Пронеслось на крыльях веретёшко, То есть непоседа-стрекоза. Золотая заспанная кошка Трёт зеленоватые глаза. У калитки вся в цвету калина, А под ней — не молод и не стар — Сапогом, дошедшим до Берлина, Дядька раздувает самовар. В «Весталке» эпическое спокойствие преходяще. Специфика романа в непрерывной динамике событий и переживаний. И все же Николай Никонов не стал бы писателем со своим именем, если бы близкие ему персонажи не жили высоким, небудничным. Героиня «Весталки» неожиданно для читателя осваивает философскую мысль, идущую из глубины веков, заключающуюся в книгах античных и позднейших европейских авторов. Не будь этих книг, «я, наверное, так и тупела бы, глупела, осталась бы женщиной без адреса, мой разум, не находя пищи, сгорел бы в мелких заботах, однообразии той жизни, когда надо было вставать в семь, кипятить титан, греть воду, стирать тряпки, колоть мел, разливать чернила в непроливашки, потому что еще не у всех были ручки, называвшиеся тогда «самописками», а потом подавать звонки, ругать нерях и курильщиков, ворочать парты и мыть, мыть, мыть...» (с. 311). Не дело критики решать, в какой мере годится на роль мыслящего героя человек с той или иной профессией: школьная техничка, медсестра, общественный деятель, крупный ученый, герой труда и т.п. 255 Любые подсчеты заранее обречены на неудачу. Критика лишь берет на себя смелость уловить эстетическую оправданность или же неоправданность того или иного авторского решения. «Подвальная академия» Лидии Одинцовой смущает обстоятельностью мотивировки. Как говорится, слишком много суеты. Словно автор озабочен в первую очередь тем, чтобы ему поверили. Потому и выстраивается столь громоздкая конструкция: в старинном шкафу, принадлежавшем некогда сбежавшему от революции хозяину дома, в идеальном порядке стоит весь энциклопедический словарь «Гранатъ»; ниже — книги Аристотеля, Платона, Канта, Спинозы, Фихте, Шопенгауэра, Ницше, Соловьева, Фрейда, Монтеня, Кьеркегора. Еще ниже «Илиада», «Одиссея», «Афоризмы Диогена Синопского», русская классика. По всему видать, хозяин книг был человеком философски образованным. Но как получить доступ к этим сокровищам? Наотрез отказала чопорная библиотекарша. Понадобилась отмычка Зины Лобаевой. Лишь позднее было получено разрешение от самого директора. Книги читаются на протяжении целых семи лет; из них выписываются афоризмы и особо заинтересовавшие суждения, которыми заполняется до десятка толстых тетрадей. В свою очередь тетради хранятся как главная ценность, перечитываются, бережно переносятся с квартиры на квартиру... Не тот ли случай, когда писатель не сумел «удержаться в образе», сохранить дистанцию, и, сам того не замечая, он порой думает и ощущает за героиню, как замечает рецензент из «Литературной газеты»?1 Впрочем, вроде бы неорганичное для Лидии Одинцовой изучение философских книг неслучайно для самого Никонова. В годы, когда идет работа над «Весталкой», он, по-видимому, уже спокойно отстраняет от себя марксистко-ленинскую догматику как нечто совершенно ненужное. Философская мудрость, так или иначе освоенная, помогает Лидии Одинцовой отстоять себя, не опуститься до уровня приземленной житейской морали. Ее отношения с окружающими держатся теперь на противопоставлении и отрицании. Не задалась жизнь с таксистом Самохваловым. Союз оказался именно браком: слишком далека Лидия от человека, «идеалы» которого исчерпывают1 256 Полухина Л. Хранительница очага // Лит. газета. 1989. 17 июня. ся несколькими глаголами активного действия: «достать», «закалымить», «объегорить», «принести в дом». Уход от Самохвалова оправдан психологически, но почему все же столь одинока эта женщина? У нее нет подруг, и вообще она не встречает людей, духовно ей равных. Можно понять посуровевшую Одинцову: годы войны научили ее разбираться в людях, безошибочно распознавать честного человека и шкурника. Пережитое поубавило в ней прирожденного оптимизма, в чем-то сделало неуступчивее. Удивляет ее постоянная неприязнь к людям: к соседям по коммунальной квартире, к учителям из вечерней школы. Она — «как в вечной против всех обороне, в ожидании нападения, готовая, как взведенная пружина, сработать от прикосновения»1. Пружина срабатывает, и не раз: в драке с распутной соседкой Ирочкой («пустоглазая тощенькая дрянь»), в столкновениях со злющей старухой-нянькой в роддоме, с учительницей биологии Марьей Денисовной, которая для опыта принимается резать на уроке живую (!) кошку. Помимо этого есть бездушная врачиха Марья Федоровна, пьянчуга-директор, которого приходится вытаскивать из лужи вместе с его служебным портфелем; золотозубый жулик Владимир Варфоломеевич и вся команда Самохвалова; бюрократ-чиновник Качесов с его «кабаньей мордой» и почти все эпизодические персонажи, встречающиеся Лидии Одинцовой в ресторанах, в вагоне, в коммунальной квартире. Не многовато ли? Всему есть мера. Такое количество людей мелких и неприятных рождает синдром одиночества, сопутствующий медсестре Одинцовой. Не исключено, что сказалась в этом известная заданность самого образа «весталки». В 1970-е и 1980-е годы Николай Никонов не был единственным из уральских писателей, который в поисках масштабного образа обращался к античности. К позднеантичной культуре восходят ключевые образы в «Диофантовых уравнениях» Андрея Ромашова и в повести Виктора Астафьева «Пастух и пастушка», создававшейся на Урале, в поэзии Бориса Марьева. Никонова привлекает весталка — загадочная хранительница храмового огня. Жрица богини Весты — покровительницы домашнего очага, весталка хранит вместе с тем 1 Полухина Л. Хранительница очага. 257 «пенаты» — священные для Рима реликвии погибшей Трои, именно поэтому весталке традиционно сопутствуют мотивы избранничества и величия. Но органичен ли в русском антивоенном романе образ, рожденный историей и менталитетом другого народа? Надо ли объяснять, что речь идет об эстетической целесообразности, исключающей принципиальную невозможность. Трудно отказаться от предположения, что судьба Лидии Одинцовой выстраивается не по логике самого женского характера, но согласно найденному образу весталки, который особенно «агрессивен» во второй книге. «Брак с весталкой не считался благоприятным», — не один раз повторяется фраза из словаря «Гранатъ». Холодный образ весталки не становится роднее и ближе от того, что со школьной скамьи Валя Вишнякова именно так называет свою подругу. К счастью, весталка пропадает, когда появляются живые и «теплые» образы русских людей. Такие, как деревенская женщина Кошкина, которая, казалось, «вся состоит из справедливости». В присутствии Кошкиной меняется сдержанная медсестра Лидия Одинцова. Ее и читателя не утомляют бесконечные повествования простой женщины, но притягивают чистейшим русским языком и здравым смыслом, который не зря зовется народной мудростью. Сегодня мы почему-то с особенным пристрастием и даже придирчивостью воспринимаем наше недавнее литературное прошлое, не очень-то отдавая себе отчет, что не столь уж преуспели в собственном художественном развитии. Не секрет, что поотвыкли от истинно драматических коллизий, которые создавались «в старину». У Никонова глубоко драматична Одинцова-мать в ее отношениях со взрослеющим сыном. Теперь сын — уже суворовец и, как видится, прирожденный военный. С детских лет играл в «солдатики», подрастая, заинтересовался военной историей. Курсантская шинель сидела на нем «как влитая», а матери горько напоминала военные годы: «подполковник Полещук все мерещился мне. И горевала душа и саднила, когда сын, побыв у нас малое время, глядел на часы, торопился, кончалась увольнительная, и он опять принадлежал не мне, а службе, училищу, армии» (с. 420). В угловатом лице подростка все определеннее проступают черты подполковника Полещука, о котором всегда старалась забыть, хотя 258 в глубине души не могла себе лгать: при всей своей жестокости Полещук не отказался бы от сына. Не пыталась разузнавать, жив ли, ранен ли Полещук. Лишь изредка пробуждалось в душе странное чувство «полувосхищения-полуненависти». Словно «видела, как он, обгоняя бойцов, бежал в атаку: каска на носу, автомат в руках, а бывало, и с немецким ручным пулеметом, тяжелым, “дырчатым”... Помню его безумное, не оставляющее сомнений “Впе-ре-ед!” Так, на бегу, наверное, с автоматом и погиб. За две недели до победы». И все больнее тревожат настойчивые вопросы сына: «Почему у меня не отцова фамилия, в смысле — мужа? Какая была его фамилия?” Пришлось сказать: “Я бы лучше ее носил. И ты — тоже”. Пришлось опять говорить: “Не успели зарегистрироваться. Фронт. Война. Были бои под Берлином”. Лгала. Краснела. Думала, как все объяснить?» (с. 360). Ситуация не из легких. Может, лучше было хранить память об Алеше Стрельцове, но забыть об оскорблении, которое нанесено Полещуком? Не для себя, но ради сына. Не смогла. Не тот характер. И все же самое тяжелое ждало впереди: гибель сына в Афганистане. Трагедия продиктована главной авторской мыслью: «война — преступление, может быть, самое тяжкое, которое способен совершить человек». Никонов передает горе матери сдержанно и тактично. Сам переживший смерть двадцатипятилетнего сына — старшего лейтенанта Николая Николаевича Никонова, не считает возможным углубляться в психологические переживания: «Летом меня вызвали в военкомат. Майор Василий Васильевич был теперь подполковником. Он обнял меня... А потом я ничего не запомнила. Очнулась в больнице. О подвиге сына писали газеты» (с. 438). Роман «Весталка» несет в себе благодарную память о людях 1940-х годов. О женщинах, на долю которых выпало так мало «личного счастья», однако они не унизили себя ни приспособленчеством, ни нравственными уступками. У Лидии Одинцовой трудная судьба и нелегкий характер — «не уютный», но жесткий, прямой, справедливый в большом и малом. Каждому встречались такие женщины среди людей уходящего поколения. Они прошли через большую войну, знали, какой ценой оплачивалась Победа, в частной своей жизни обходились совсем немногим. К ним как-то неприменимо расхожее — 259 «скромные труженицы», хотя они были таковыми. В своем высоком гражданском служении они оправдывают неожиданное название романа — «Весталка». Что касается текста, то образ Лидии Одинцовой состоялся ранее завершающих глав романа. Мало чего к нему добавляют переезд в дом Кошкиной, воспитание сиротки Они, поездка в Москву на вручение медали имени медицинской сестры Флоренс Найтингейл, которой Международный Красный Крест удостаивает совсем немногих, определенно растянутые ресторанные и вагонные диалоги. Зато, как всегда, Николай Никонов — мастер «ударной» концовки. На этот раз это размышления Лидии Одинцовой о долге и смысле человеческой жизни: ей казалось, что «долг всегда смыкается с представлением об обязанности, необходимости и чести... И только теперь я поняла: долг... не стремление оправдать свою жизнь в чьихто глазах — он просто суть всякой человеческой жизни, ее главное содержание и условие. Уклонение от долга — и есть начало распада личности. Всегда, везде, во всем...» (с. 439). Роман «Весталка» завершает один из самых продуктивных периодов творчества Никонова с конца 1970-х до середины 1980-х годов, отмеченный такими заметными литературными явлениями, как публицистическая поэма «След рыси» (1979) и повесть «Старикова гора» (1983). По сути, автор ставит на грань полного отрицания главные положения социалистического реализма и тем самым советской идеологии. В первую очередь казавшийся в ту пору незыблемым тезис о ведущей и организующей роли коммунистической партии. Собственно, политкомиссар и политрук в романе есть, но какие-то совершенно безжизненные, как комиссар госпиталя Дашевич, что перед отправкой девушек на фронт «тихим занудным голосом читал инструкцию». Вровень с ним политрук Семенов, «черный маленький мужичок, на котором вся военная форма была как с чужого плеча: ремень криво, худая шея из большого ворота гимнастерки и большой кадык на этой петушиной шее» (с. 80). Это совсем не тот контраст, что в образе Степана Анисимовича, а в военных эпизодах тот и другой политработник исчезают совсем. Никонов убежденно полемизирует с прямолинейным истолкованием труда в эстетике соцреализма. Считается, что советский писатель поэтизирует любой труд, в том числе самый тяжелый и грязный. 260 Не станем затрагивать известную «Живинку в деле». Бажов написал сказ не столько об углежжении, сколько о творческой природе человека. Никонов пишет о необыкновенной выносливости русского человека, о присущей ему способности преодолевать обстоятельства. Но в чем же здесь поэзия? Судите сами. «Работать уборщицей невелико счастье. Пусть и на две ставки. Мою теперь всю школу, коридор, классы, учительскую, курилку. Переворачиваю горы парт. Опять годится фронтовая сноровка, годится и сила. Мою быстро, иначе не успеть до утра, толкаю парты, успеваю для отдыха сбегать, глянуть — кипит ли титан, наливаю воду в бачок и снова за швабру, а еще между делом бегаю в подвал, как там Петенька? А еще я поливаю цветы, чищу окна, отмываю забрызганные чернилами подоконники, храню и выдаю чернильницы, и пальцы у меня в не отмывающихся сине-фиолетовых точках» (с. 304). Николай Никонов и соцреализм — проблема серьезная, имеющая отношение не только к «Весталке». Этот роман в известном смысле итоговый: распад соцреализма не был скачкообразным и неожиданным. В целом это процесс, сопровождавшийся более значимыми эстетическими явлениями, нежели весьма условное его становление. Потребовалось время, чтобы сформировалось более широкое эстетическое мышление. В творчестве Никонова новый подход к изображению человека сказался также в романах 1990-х годов: «Чаша Афродиты» (1995) и «Стальные солдаты» (2000). 2005 261 Молох революции. «Стальные солдаты. Страницы из жизни Сталина» Роман «Стальные солдаты» — последнее завершенное произведение Никонова, над которым писатель, по его признанию, трудился всю жизнь. Однако критические отклики, встретившие роман, были либо откровенно недоброжелательны, либо обтекаемы по смыслу. Нет нужды скрывать, что «Стальные солдаты» воспринимаются поразному. Есть читатели, оскорбленные гротескным изображением Ленина и вместе с тем использованием библейской образности, но есть другой читатель, который принимает и никоновскую сатиру, и углубленный психологизм. Реальная трудность — нехватка самих текстов. В полном объеме роман напечатан «Уралом» (2000. № 3–5). Журнальные книжки семилетней давности порядком поистрепались, да и мало их. Отдельное, несколько сокращенное издание романа, вышедшее под названием «Иосиф Грозный» (М.: Эксмо, 2003)1, опять-таки мало доступно из-за ограниченного тиража. Получается, совсем как у Горького: «Да был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?» Однако «Стальные солдаты» все-таки есть. Равнодушие, так же как предвзятая недоброжелательность, далеко не аргумент, чтобы игнорировать самое сложное и во всех отношениях состоявшееся произведение известного уральского прозаика. Образ Сталина оказывается в этом произведении главным; он притягивает, как притягивает любая неоднозначная историческая личность. С началом перестройки литературой опробованы в этой 1 Роман «Стальные солдаты» составил 6-й том собрания сочинений Н.Г. Никонова, изданного в Екатеринбурге Средне-Уральским книжным издательством в 2006–2007 гг. 262 теме самые разные средства: от поверхностной информативности до психологического анализа, от сатиры до поэтики абсурда. Поначалу читателей увлекали сатирические типы сталинской эпохи, в особенности в произведениях таких мастеров сатиры, как Фазиль Искандер (главы с участием Сталина в эпопее «Сандро из Чегема»), екатеринбургского писателя Германа Дробиза в его «Театре кукол товарища Сталина» и других. Но уже в ту пору было ясно, что эстетически наиболее значим не сатирический, а реалистический и идеологический портрет этой личности — в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». В последние годы появляется желание рассказать о Сталине и его эпохе языком абсурда. Оно бы и ничего, если бы поэтика абсурда, по законам которой выстраивается нелепый скомороший мир, привносила «что-либо новенькое» в осмысление столь сложных явлений. Досадно, когда приращения смысла не происходит, как это получается в романе Василия Аксенова «Москва-ква-ква». Николай Никонов предлагает изображение революции и ее вождей на уровне библейско-мифологической образности — как извечное противостояние света и тьмы, добра и зла, Бога и Дьявола. Нельзя не принимать во внимание этот авторский замысел, как делают редакторы московского издания романа, исключившие из текста главу «Антихрист», хотя так будет куда спокойнее. Революция, по Никонову, антихристово деяние, преходящая победа Дьявола, который насылает на Россию своего сына — антихриста. «Сатана давно приметил эту бескрайнюю землю. И давно, от первого века, шли... в одиночку и нашествиями на нее, Богобоязненную, Боголепную и Богопослушную, посланцы его: чернокнижники и пророки...» (3, 9)1. Никоновский Ленин по своему внешнему облику напоминает нечистого в народных поверьях, который время от времени «вочеловечивается» на земле и которого обозначают местоимениями: «Он», «Тот». «Этот коренастый, низенький, нескладно бойкий и всегда как-то нелепо ступающий человечек с усмешливо-медвежьими, но и 1 Статья была опубликована (Урал. 2007. № 6) до выхода собрания сочинений Н.Г. Никонова, поэтому роман здесь и далее цит. по: Никонов Н.Г. Стальные солдаты // Урал. 2000, № 3–5 с указанием номера журнала и страницы в круглых скобках после цитаты. 263 тотчас по-медвежьи каменеющими, широко расставленными глазами отличался от всех обычных людей необъяснимо страшной, отталкивающе-притягивающей аурой»; «Таким он был с детства. Неуправляемый, непослушный, все куда-то лезущий, напичканный дурной, прущей из него энергией» (3, 7–8). Куда уж резче! Но так ли одинок Никонов в своем представлении о Ленине как Антихристе? По характеристике Сергея Залыгина, Ленин, развязавший гражданскую войну, учредивший орден за эту братоубийственную бойню, — «один из самых жестоких людей человеческой истории»1. Мысль о Ленине как Антихристе возникала в сознании русской интеллигенции еще в первые годы советской власти. Сошлемся на документалиста. «В первые годы после революции, в пору разрухи и голода, власть выделила самым известным писателям академический паек, среди этих, тут же в шутку окрещенных «бессмертными», счастливчиков был и Бердяев. Охранная грамота позволяла ему еще иметь и квартиру, и рабочий кабинет, и библиотеку. И каждую неделю в его гостиной — пожалуй, это был единственный такой дом в Москве — собирались люди разных убеждений, от крайне левых до крайне правых, и вели дискуссии на самые разнообразные злободневные и классические темы. Как-то газета «Известия» опубликовала сообщение-донос об одном из таких собраний, где обсуждалось, Антихрист ли Ленин; пришли к выводу: нет, не Антихрист, а лишь предшественник Антихриста...»2. Прозаик Андрей Ромашов уже не сомневается в Ленине как Антихристе, хотя в его романе «Осташа-скоморох» народный рассказчик избегает называть Ленина по имени, но и так ясно, о ком идет речь: «тот, кто церкви Божьи разрушит, святые иконы огнем спалит». Народ же, продолжает рассказчик, по его научению «душу свою испоганит желаниями пакостными, и руки свои вымоет в крови невинных <...> и скажет ликуя: — Нету Бога и не было, один ты на земле, солнце наше и утешение, и вся слава тебе!» Залыгин С.П. Поклон Василию Теркину в день рождения Александра Твардовского // Лит. газета. 1995. 25 июня. 2 Шенталинский В.А. Осколки серебряного века // Новый мир. 1998. № 5. С. 183. 1 264 За этими словами стоит немалый счет Русской православной церкви к революции и к Ленину. 1918 год начался «Декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви» и одновременно — неслыханными гонениями на церковь и ее служителей. «Расстрелы крестных ходов, групп верующих при отнятии церковного имущества. Осквернение мощей святых угодников Божьих. Газетная кампания, запрещение церковной печати, кощунственные процессии, закрытие Поместного собора, закрытие монастырей, домашних церквей, всех духовно-учебных заведений, прекращение преподавания Закона Божия в школе на частные средства»1. На Урале в 1918-м были замучены архиепископы Пермский Андроник и Тобольский Гермоген. После домашнего ареста патриарха Тихона (умер в 1925 году) преследование священников, разрушение храмов, сбрасывание колоколов — все эти действия не прекращаются. Русских писателей и философов потрясает расшатанность нравов как следствие борьбы классов и разрушения христианской морали. Озлобленность и жестокость надолго оставят свои следы в душе народной, — предупреждали русские философы начала минувшего столетия. На рубеже 80–90-х годов ХХ века многим довелось заново пережить это потрясение. Автор «Стальных солдат» напрямую обращается к читателям. «Тех, кого коробит слово «Антихрист», я прошу вспомнить одну из главных Божьих заповедей. “Не убий!” — учил Христос. “Расстрелять, расстрелять, расстрелять!” — учил Антихрист. Слово это “расстрел”, жуткое в его истинном смысле, — лишение человека жизни за его убеждения, имущество, духовное или дворянское звание, да мало ли еще за что, приобрело в годы “революции” и “гражданской” словно бы безобидный, рядовой смысл. С “расстрелом” смирились, его радостно требовали для “врагов народа”, в него веровали как в высшую справедливость. И все это родил Антихрист, принесший с собой “большевизм”, “ленинизм”, “марксизм”, “сталинизм”» (3, 76). Чтобы родилось убеждение, писателю, помимо знания множества фактов, необходим личный нравственный опыт. Христианскую мораль Николаю Никонову с детства внушала бабушка Ирина Карпов1 Булгаков Н. Подвиг патриарха // Москва. 1990. № 2. С. 154. 265 на. Она давала ему уроки милосердия своим собственным поведением и отношением к людям. «В окружающей меня жизни о милосердии не говорил никто», — пишет Никонов в публицистическом трактате «Закон милосердия» (1990). «Слово это считалось как будто вымершим... было за пределом прошлого... И только изредка, без названия, без обозначения проглядывало в деяниях моей бабушки. Когда торопливо... крестясь... она хватала со стола кусок-другой хлеба, а то полбуханки, бежала по лестнице вниз (мы жили в двухэтажном доме) и под лай собак, унимая их, бежала к воротам подать хлеба нищим... Милосердия не было. Вместе с гражданской войной, с белыми-красными, церковью, с которой сдергивали кресты, с “попами”, “буржуями” его съела, сожгла без остатка та красная черта...»1. Революция, преступившая заповедь Христа, уподобляется чудовищу, которое непрерывно требует человеческих жертв. Она формирует тип человека, способного отказаться от идеалов добра и милосердия, рождает в вождях жажду власти и подсказывает «дьявольские» способы устранения соперников. Никонов убежден, что власть для Ленина была ничуть не меньшей целью, чем для Сталина, что Сталин мог «ужаснуться, прикинув, как рано или поздно, однако без всякой жалости, он будет растоптан этими “соратниками”. Перешагнут — не оглянутся. И надо было спешить. Ножи на него уже точились» (3, 33). Казалось бы, это и есть исчерпывающая доминанта личности Сталина. В действительности в этом еще не весь Сталин. Русская революция, по Никонову, рождала людей, способных в чем-то противостоять Антихристу. К таким натурам автор причисляет и Сталина. Спору нет, «верный ученик» был сыном Антихриста, однако было в нем и «много человеческого, не присущего Старику, но было и от Антихриста, слугой которого, как ни крути, он был или старался быть таким» (3, 14). В обрисовке Сталина Николай Никонов не допускает иронии. В его представлении это — крупная личность, соизмеримая с масштабами российской истории. В этом случае автор «Стальных сол1 Никонов Н. Закон милосердия // Уральский рабочий. 1990. 1 дек. Полностью этот текст был опубликован в год смерти писателя: Урал. 2003. № 12. 266 дат» сближается с Леонидом Леоновым, позицию которого он, однако, не мог знать. В беседах с научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом) Натальей Александровной Грозновой Леонов говорил: «Сейчас плевки и оплеухи в адрес Сталина. Это — чушь. Сталин — историческая необходимость. Мы еще не изучили и не поняли, на каких координатах прошло это очень серьезное явление» (сентябрь 1970-го); «Сталин не зря заказывал литературе параллели с Иваном IV и Петром I... Это единственная по-настоящему шекспировская фигура в нашей революции» (май 1980-го)1. Читатель, шокированный гротескным изображением Ленина, удивится, пожалуй, не менее, когда обнаружит в образе Сталина психологические краски. В романе — это не монстр, не чудовище, не «пахан», но сложнейшая личность — «обыкновенный грешник с необыкновенной судьбой», наделенный к тому же некоторыми исключительными природными свойствами. Над образом Сталина Никонов работал практически всю жизнь. Втайне работал, никому о том не сообщал и ни с кем не делился этим своим замыслом. «Бывало и такое, — рассказывает Антонина Александровна Никонова, — что прятал написанное в специально устроенный тайник за камином». Может, потому-то и явился для многих этот роман полнейшей неожиданностью: как же так? Писал о птичках, о бабочках, о детстве, о «чаше Афродиты», а думал о Сталине? Да что ты можешь о нем знать? Многое знаю, — с достоинством ответит писатель. — Сталина я «видел воочию, слышал его выступления, смотрел кинохроники, бывал в тех местах, где он жил (кроме Тегерана), и, наконец, еще октябренком собирал “досье” на Сталина, складывая в папки вырезки из газет, журналов и переписывая, что было возможно. Сбор этого “досье”, начатого примерно с 36-го года, я продолжаю и сейчас» (3, 6). Свидетельство тому — богатейшая личная библиотека писателя. В характере Сталина обнаруживается множество тонов, полутонов и оттенков. Он был разным на пути к власти, на вершине власти, в период Отечественной войны и в последние годы свой жизни. Следует, однако, определиться, о чем идет речь, чтобы не «спутать предмет с автором», на что когда-то сетовал Михаил Зощенко. Он 1 Роман Л. Леонова «Пирамида». Проблемы мирооправдания. СПб, 2004. С. 6, 9. 267 обличал мещанство и пошлость, а его самого бичевали как мещанина и пошляка. Никонов исследует неоднозначный характер вождя, который причудливо сочетал в себе «человеческое» и «дьявольское», рискуя навлечь на себя нарекания в реабилитации «тирана» и возрождении сталинизма. Предмет разговора — не только исторический Сталин, но, в первую очередь, писатель Никонов. Удается ли ему постичь логику характера своего героя? Уместна ли в тексте историческая мистификация? В какой мере осуществляется желание автора «уйти от журналистики в роман»? И, наконец, тактичен ли автор в своем желании заглянуть в интимную сферу жизни вождя, скрытую от глаз куда глубже, нежели жизнь любого другого из советских лидеров? Начать с того, что Никонов отказывается от того условного Сталина, образ которого во многих случаях лишь иллюстрирует то или иное историческое событие: парад на Красной площади 7-го ноября 41-го (роман К. Симонова «Живые и мертвые»), совещание Большой тройки в Потсдаме в июле 45-го (роман А. Чаковского «Победа»), начало массового террора в стране после убийства Кирова (роман Ан. Рыбакова «Дети Арбата»). В каждом из этих произведений Сталин — не тип и не характер, но всего лишь исполнитель той или иной функции. Разгадку психологического феномена Сталина автор «Стальных солдат» находит в неразложимости лица и маски. Известно, что Сталин был искуснейшим лицедеем. «Прикинуться простачком был-бывал один из любимых способов “игры” Сталина. Припомним к тому же, что и актером он был великим» (5, 51). Но всегда ли лицедеем и только ли лицедеем? Писательское исследование начинается с момента, когда у постели безнадежно больного Ильича появляется «тихий с виду, невысокий и невзрачный человек с желтовато-белым лицом, иногда словно потертым керосиновой тряпкой» (3, 13). Его истинные намерения надежно укрыты за непроницаемой внешностью. Он не кажется опасным «вождям» из ближайшего ленинского окружения: «инородец», «грузишка», «недоучившийся семинарист», «гениальная посредственность», по характеристике Троцкого. А возможно, что «гадкий утенок», хотя окончательный вывод еще впереди. 268 Своей работоспособностью и усидчивостью — как раз в этом лицедеем Сталин был минимально — он напоминает заурядного канцеляриста. Да он и был «канцелярской машиной, словно не знающей усталости, — охотно соглашается Никонов. — Он корпит за столом по 17–18 часов, довольствуется простой домашней едой... он ходит в солдатской грубой шинели с крючками, носит самую простейшую одежду: “толстовку” — так называли тогда подобие кителя с отложным воротником, — брюки, заправленные в сапоги, фуражку полувоенного образца, на улице он обычно ее никогда не снимал. И до поры он брал на себя всю работу, какую спихивали ему “вожди”. Подпись “Сталин” стояла тогда под множеством самых разнообразных документов. Так он приучил всех знать свое имя, и силу свою, и свою осведомленность» (3, 17). Более популярные после смерти Ленина Троцкий, Зиновьев, Каменев незамедлительно усваивают барственный образ жизни, в то время как Сталин работает. Работает на свой авторитет, — уточняет писатель. «И всю жизнь будет работать. И ничего не брать в свой карман. О счетах Сталина никогда не было известно. Скорей всего, по крайней мере, в этот особенно воровской период их действительно не было. Сталин с семьей жил на зарплату. Известны письма, где жена жаловалась Иосифу: “Пришли, пожалуйста, хоть немного денег...» (3, 17) Сбежавший за границу Федор Раскольников, которого трудно заподозрить в симпатиях к генсеку, писал: «В домашнем быту Сталин — человек с потребностями ссыльнопоселенца. Он живет очень просто и скромно, потому что с фанатизмом аскета презирает все жизненные блага: ни жизненные удобства, еда его просто не интересуют»1. Во всем этом не было маски. Наступит час, когда демократический имидж пригодится Сталину. «Умный ястреб прячет свои когти», — неслучайно приводится эта восточная пословица. Писатель оставляет за кадром политические процессы конца 20-х — первой половины 30-х годов — ему интересен Сталин, отраженный народным сознанием. В глазах маргинальной массы, которая составляла главную опору революции и в городе, и в деревне, шинель, сапоги, фуражка и трубка приобретут допол1 Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи. М., 2002. С. 615. 269 нительное, почти магическое значение: такому вождю верят истово, он свой, ему прощается все, даже беспрецедентная подтасовка результатов голосования на XVII съезда ВКП(б) (гл. «Когда в делегатов целятся из винтовки»). В этом доверии что-то есть от давней мечты о мужицком царе: хоть деспот, да свой. При всем том «лицедейство» сохраняется, когда Сталин достигает абсолютной власти. Только «игра» становится все совершеннее. На грани дружбы-игры выстраиваются отношения Сталина с Кировым, который, похоже, в ней так и не разобрался. Что это были за отношения? Сталин уже не боялся соперников и, по убеждению Никонова, не был причастен к убийству ленинградского лидера. Со своей стороны, Киров «четко держался на своем втором месте и не лез поперек батьки. За это единственное качество Сталин и играл в дружбу с Кирычем. “Другу моему и брату любимому!” — написал Сталин на подаренной Кирову книге. И даже сам верил тому, что написал...» (с. 3, 68). Двойственное чувство испытывает Сталин после трагедии, разыгравшейся в Смольном 1 декабря 1934-го. «Итак, “друга и брата” нет. Горько терять друзей и единомышленников... Но, пожалуй, теперь и легче дышать. Нет постоянной озабоченности, куда его пристроить, чтобы не мешал. А в кремлевской стене места много... Сталин снова один, быть может, так и лучше для вождя». «Если б Бог хотел иметь брата, он бы сотворил его», — это грузинская пословица (3, 68). К слову сказать, в своем последнем романе Никонов превосходно работает с этим малым фольклорным жанром. Известно, что «игрой» Сталина обманывались многоопытные его современники. Чего уж говорить о доверчивой массе, которая все принимала за чистую правду, представляя Сталина по парадным портретам да фотографиям: «Сталин среди колхозников», «Сталин с пионерами в Тушине», «Сталин с таджикской девочкой на руках». Как никто из его соратников, вождь умел скрывать свою сущность под той или иной маской. Руководителю страны победившего социализма всего более подходило олимпийское спокойствие. «В этой игре в спокойствие и задумчивость флегматика большую роль играла его трубка, — полагает автор. — Ах, как она помогала ему, когда он неторопливо набивал ее, приминая и удавливая табак. Как он умел раздумчиво держать ее, пока кто-то там обличал его, лез на амбразуру. 270 А Сталин слушал для того, чтобы медленно поднести трубку ко рту, зажечь спичку, подняв брови (бровь), раскурить и — спокойно, рассудительно ответить... Кроме трубки полагался он еще на усы... Усы можно было поглаживать все той же трубкой, их можно было закрыть ладонью, спрятать в них улыбку или гримасу ненависти...» (3, 51). На коллективной фотографии Сталин — обыкновенный, простой, скромный, обходительный человек, ничем не выделяющийся; на поверхности ровно ничего, кроме доброты, снисходительности и терпения, в то время как у всех остальных «сущность» как бы написана на лице. Никонов прочитывает ее, не затрудняясь подбором достаточно резких красок. «В первом ряду слева явно хитрый белобрысый “паренек из деревни”, этакий сельский комсомолец, — Никита Хрущев, дальше — “себе на уме”, погруженный в свои недомогания Андрей Жданов, заместивший в Ленинграде убитого Кирова, вот весь словно нацеленный на крик: “Ату!”, свирепый, как волкодав, Каганович, вот маленький самоуверенный и грозный Ворошилов — правая рука вождя и сидит от него справа, а слева — каменно-благообразный интеллигент в пенсне Молотов, с лицом мальчика-отличника, председатель Совнаркома, и приткнувшийся к нему хитренький старичок Калинин, а на самом краю ряда барски-благообразный, презрительно-важный Тухачевский, почти нескрываемо играющий в будущего диктатора, в новой маршальской форме, с большими звездами в петлицах. И таков же второй ряд, лишь рангом пониже, где недоверчивосуровый Маленков, типовой партократ, сидит рядом с каким-то явно юрким прохиндеем, глядящим на фотографа, как мышь на крупу, — этот явно выскочка, затесавшийся не по чину, а далее — будущий министр и маршал, баловень судьбы Булганин, тогда еще ходивший в “подпасках” у сидящего рядом и похожего на орангутанга, а то ли на китайца... Поскребышева, за которым разместилась уже как явный анахронизм и реликвия из музея восковых фигур революции “старая большевичка” Стасова, похожая на иссохшую очковую змею» (3, 78–79). Сатирическое перо Никонова не щадит ни одного из большевистских «апостолов», даже «всесоюзного старосту» Калинина, который награждал героев труда орденами и подписывал все «расстрельные» указы. Это и есть «стальные солдаты» — не герои и не «рыцари ре- 271 волюции», не поклонники абстракции «светлого будущего», а весьма неравнодушные к удобствам кремлевской жизни, к власти в доступных для них пределах. С маской простоты («прост, как правда») Сталин, по сути, не расставался всю жизнь. Однако, похоже, лишь полувымышленная Валечка Истрина, за столом всегда подававшая Сталину, знала, что за этой его «простотой» проглядывала «такая страшная власть, что у нее холодело под коленками» (3, 29). Ничего этого не чувствовали те, кого на кремлевские застолья приглашал радушный и щедрый Хозяин, обрусевший, конечно, но еще сохранивший природный грузинский темперамент. Все это был своего рода кремлевский спектакль. Обнаружение «масок» Сталина — занятие увлекательное, однако рождается вопрос: бывал ли Сталин человеком без маски, оставался ли когда-нибудь самим собой? Где же в нем то «человеческое», которое, как это поначалу заявлено, отличало его от Антихриста Ленина? Никонов не прямолинеен, однако достаточно убедителен в своем суждении о «человеческом». Мало приметное для окружающих, оно, это человеческое, усматривается в уважительном отношении Сталина к своей матери и в памяти о ней — здесь он оставался истинным грузином. Отцовское чувство проступало в редких и далеко не всегда удачных попытках воспитывать дочь и, наконец, в острой сердечной боли, с которой перенес трагическую гибель жены. На могиле Надежды «лучший скульптор того времени Шадр установил красивый мраморный бюст-памятник по приказу вождя». Сталин «навсегда остался вдовцом, и ни одна женщина из тех, что хотели бы сыграть роль третьей его супруги, не получила этого страшного звания... Ездил на Ново-Девичье всегда почти осенью, в день рождения жены. Либо почему-то второго мая каждого года, ночью. Сидел, курил и молчал. Никто, кроме Сталина, не объяснил бы этих поездок. Тайна ушла вместе с ним. Года за два до своего ухода Сталин повесил фотографию Надежды на даче в Кунцево, где он практически постоянно жил» (3, 24–25). Николай Никонов озадачивает читателя и более сложной загадкой: возможно ли, чтобы человек, который двадцать лет шел к верховной власти, «накапливая тот страшный опыт, который уже не останавливает в применении любых крайних средств к противникам», оказался 272 первым, кто «рванул дьявольскую сеть, опутавшую страну со времен Антихриста»? Никонов предлагает поверить, что «грешный вождь шел от последователей и продолжателей черного дела Антихриста к Богу сложным, долгим и мучительным путем самопрозрения... самопрозрения! Ему невозможно обучить. На то оно и само-прозрение» (3, 33). Очевидно, такое возможно лишь при условии, что язык Библии, язык веры станет языком искусства. Но в обрисовке Сталина не работает библейско-мифологическая образность, столь эффектно заявленная в изображении Ленина. Никонов пользуется привычной для него реалистической и психологической поэтикой, доведенной в «Стальных солдатах» до самого высокого для него уровня, чтобы постичь те глубинные движения души, которым кто-то другой найдет более рациональное объяснение. Современный церковный писатель о. Дмитрий Дудко полагает, что Сталин «лишь с внешней стороны атеист, но на самом деле он верующий человек. Не случайно в Русской православной церкви, когда он умер, ему пропели даже вечную память, так случайно не могло произойти даже в самое безбожное время!»1. В чем-то Никонов согласен с таким истолкованием. Однако некоторые перемены в действиях Сталина прозаик находит также и в глубоко личных обстоятельствах. «Грешный» вождь шел путем Антихриста, «пока не рухнул, изнуренно осев в тучах пыли и дыма, великий собор Христа Спасителя, пока не погибла Надежда и, возможно, пока не явилась перед ним простая русская девочка, бесстрашная, как детская глупость, и откровенная, как вещественное слово горькой правды» (3, 34). Тогда-то дьявол отступил. Пусть временно, не навсегда, но отступил. Где-то в конце 30-х Сталин неожиданно «приостановил снос храмов, аресты священников, вдруг запретил превращать Красную площадь в проезжий проспект», отстоял от сноса здание Исторического музея, бывший собор, и храм Василия Блаженного, отклонил, наконец, проект Дворца Советов — чудовищной махины с тридцатиметровой статуей Антихриста вместо шпиля. 1 Сталин: в воспоминаниях… С. 639. 273 Творческая интуиция приводит Никонова к весьма впечатляющим результатам. Одна из удач автора — глава восьмая «Что знала свинья...» о сверхсекретной встрече Сталина с Гитлером во Львове 18 октября 1939 года. Возможно, что эта «тайная вечеря» — историческая мистификация, что ее вообще не было, как не было, впрочем, «одного из свойственников Иоанны д’Арк» в поздней пушкинской «подделке» из французской истории — «Один из свойственников Иоанны д’Арк». При всем том вымышленный эпизод необходим писателю. В «доверительной» беседе с Гитлером никоновский Сталин раскрывается совсем с неожиданной стороны: оказывается, руководителю «страны победившего социализма» как нельзя более импонирует имперская политика русских царей, всегда ревностно относившихся к «приращению» русской земли. О предстоящей войне с Финляндией, а также о «добровольном» вхождении Прибалтики в состав советских республик Сталин говорит столь же спокойно, как Гитлер о своем намерении оккупировать Францию и Великобританию. В своих планах Сталин усматривает не агрессию, но историческую справедливость: за эти земли Иван IV и Петр I вели когда-то самые продолжительные свои войны. Встреча, которой не было, необходима Никонову для характеристики «двух тиранов», от которых зависели в 30-е годы судьбы многих народов Европы: «самоуверенного авантюриста» и «расчетливого, самовластного и умного диктатора», которые менее чем через два года сойдутся в смертельной схватке. Сегодня они предельно вежливы и предупредительны, хотя внутренне насторожены и ироничны по отношению друг к другу: один — к «недалекому актеришке», другой — к «хитрому азиату». Однако пока им нужен «союз»: Гитлеру — для окончательной подготовки агрессии на Восток, Сталину — для укрепления обороноспособности страны. Никоновский Сталин меняется с приближением событий Второй мировой войны. Снимаются маски — остается человек, всерьез озабоченный судьбой огромной, доверившейся ему страны. В это трудно поверить читателю, воспитанному на яростном разоблачении культа личности. Слишком велик слой разноречивых суждений и мнений о Сталине, сквозь который почти невозможно пробиться к истине. На 274 правах современника, формировавшегося в «эпоху Сталина», Никонов восстанавливает давнее восприятие и отношение к этой личности. Народ великодушнее профессиональных историков, фиксирующих ошибки и просчеты вождя в годы, исключительные по своей сложности. Народ не поставит в вину Сталину, что «немецкий ефрейтор», предложивший в 1940 году пакт о ненападении, по сути, обманул «вождя народов». На то он и Гитлер, коварнейший из политиков своего времени. Николай Никонов последователен в своем доверии к политической деятельности Сталина в последние мирные годы перед войной. Не считает справедливыми обвинения вождя в «преступной нерешительности» в самый канун войны. Ведь если Сталин не реагировал военными действиями на многочисленные провокации со стороны немцев, то был лишь осмотрителен, не опережал событий и не хотел давать Гитлеру столь выгодную политическую карту. Психологически для этого необходима была немалая выдержка, которая во всем отличала Сталина, а с точки зрения большой политики — это единственно верное решение, позволяющее сохранить авторитет страны в глазах мировой общественности. «Он хотел выиграть не только время — выиграть право быть правым» (4, 58). Никонов не разделяет мнения о «прострации», в которую якобы погрузился Сталин в первые дни Отечественной войны, о том, что перепуганный вождь удалился от государственных дел и «бросил руководство страной». По минутам просчитанные биографами Сталина его рабочие часы с 22 по 29 июня позволяют писателю сделать совсем другой вывод: «за авторов, преподносящих читателю явную ложь, становится стыдно» (4, 68). В действительности лишь к ночи 29 июня Сталин уезжает на свою ближнюю дачу, где без участия членов Политбюро и в величайшем душевном напряжении работает над «генеральным планом разгрома наступающих немцев» и над собственным выступлением перед народом. Автор «Стальных солдат» отдает должное исторической речи Сталина по радио 3 июля 1941 года; ему памятно то впечатление, которое произвела на людей эта речь. Никто не упрекал вождя за сравнительно позднее выступление, хотя все тревожились и спрашивали друг друга: чего же ОН медлит? Почему в первый день войны от имени со- 275 ветского правительства говорил нарком иностранных дел Молотов? Однако Сталину верили. Настроения менялись с непредсказуемой быстротой: что бы ни происходило вчера, в довоенном прошлом, которое наступило совсем внезапно, теперь все стало иначе. Пришло время защищать Родину. Никонов убежден, что своим выступлением перед народом Сталин не обманул ожиданий современников. «Вряд ли еще какая-нибудь речь (может быть, только Черчилля, объявившего нации, что для победы над фашизмом англичане будут сражаться на суше, на море и в воздухе до последнего солдата) была столь нужна и столь вовремя прозвучала... И, слушая речь Сталина, я был очень рад, что он наконец выступил и пообещал победу» (4, 78; глава «Воспоминания очевидца»). Сегодня уже очевидно, что это выступление Сталина было словом, выстроенным по всем правилам ораторского искусства. С характерными для этого жанра обращением, сменой интонаций — от трагедийных, пониженных, до высоко патетических, от делового изложения международной и внутренней обстановки до пафосного призыва: «Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!» Это был мощный мобилизующий фактор, и не лишено оснований предположение Никонова, что стилистическую обработку своей речи Сталин поручил писателю Алексею Толстому — здесь видна рука опытного стилиста. Участие Толстого документально не подтверждено, однако вполне возможно, по свидетельству эрудированных биографов писателя. Факт этот мог быть засекречен, как и многое другое, имеющее отношение к вождю. Как бы то ни было, речь, произнесенная Сталиным, не умаляет значения ни «автора», ни «соавтора». Неуместной представляется лишь неожиданная никоновская ирония по адресу Алексея Толстого: «барственный лже-граф», «великий лицедей», «холуйская мимика». Большой русский писатель, известный в годы войны своими патриотическими произведениями и антифашистской деятельностью, не доживший до Победы (умер 23 февраля 1945 года), заслуживает иного к себе отношения. В изображении государственной и полководческой деятельности Сталина в годы Отечественной войны Никонов откровенно полемичен. По всей вероятности, ему была известна точка зрения Виктора 276 Астафьева, именовавшего Сталина «самовскормленным генералиссимусом» («Веселый солдат», 1998), однако его собственная позиция иная: Сталин «был умнее и дальновиднее самых прославленных своих полководцев, и он не зря носил позднее присвоенное ему звание генералиссимуса. Оно было точь-в-точь в соответствии с его военными заслугами» (4, 77); «Как бы ни оценивать Сталина, но не видится иная фигура того времени, равная этой» (5, 42). Автор «Стальных солдат» все так же ориентируется на массовое сознание. Большая часть нации, еще далеко не отвыкшая к тому времени от царистских иллюзий, видела в Сталине «отца». Может, поэтому никого не шокировало его обращение к «братьям и сестрам». Эти сердечные слова удивляли своей теплотой, неожиданностью, но подкупали и сплачивали людей на борьбу с агрессором. Современные историки доискались, откуда пришли в речь вождя эти «братья и сестры». Предполагают, что к концу июня Сталин уже ознакомился с «Посланием пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» митрополита Сергия, традиционно адресованным «братьям и сестрам». 22 июня 1941 года митрополит написал и собственноручно отпечатал его на машинке. В этом послании местоблюститель Православной церкви писал: «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз поставить наш народ на колени перед неправдой. Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу <...> Вспомним святых вождей русского народа Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших души свои за народ и Родину <...> Господь дарует нам победу!» Сталин не мог не обратить внимания на то, что аргументы высшего иерарха Русской православной церкви совпадают с аргументами Советского правительства1. 1 Емельянов Ю.В. Сталин. На вершине власти. М. 2002. С. 225. 277 Восстановление патриаршества в период войны носило политический характер как необходимое расширение социальной базы в борьбе с фашизмом, однако независимо от этой цели импонировало массам и тем самым поднимало авторитет Сталина. В годы войны имя вождя обрастает в народе разного рода слухами, преданиями и рассказами, то есть переходит в область устного творчества. Культ Сталина надолго укореняется в стране не только благодаря широко поставленной пропаганде, но в силу этой неписаной народной истории. Не что иное, как молва, гиперболизировала фигуру вождя, превратила «тщедушного, быстро стареющего и седеющего человека», который «без ропота нес невероятную ношу... и в маршальском мундире не воспринимался военным», в могущественное и всезнающее существо. Убеждение, что Сталин «все видит и все знает», сродни обожествлению, но по-своему логично, как любая мифология. Народ судит своих героев по-крупному, иначе сказать, по конечному победному результату. Во имя главного он освобождает реального человека от всего мелкого, преходящего, суетного. Возможно, так оно и было в истории с именами Владимира Красное Солнышко, Дмитрия Донского, Ермака, Разина, Пугачева. Давно известно, что в своих оценках народ расходится с историческими фактами. Для специалистов, изучающих историю Пугачевского бунта, Емельян Пугачев — самозванец, бунтарь, разоритель уральских заводов, вешатель, истребитель целых дворянских родов, а в народных преданиях — «надёжа», «спаситель», «батюшко Омельян Иваныч». Еще в годы Великой Отечественной войны намечается фольклоризация маршала Жукова. «Где Жуков, там победа» — таково общераспространенное мнение. Вряд ли оно будет поколеблено после тех беспощадных слов, которые сказаны об этом полководце Виктором Астафьевым: «Никто и никогда не сорил русскими солдатами, как он, маршал Жуков! И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест...»1. Но как быть с «не оправданными историей»? Ведь в майские дни люди несут и несут цветы к памятнику Жукову, 1 278 Астафьев В.П. Веселый солдат // Новый мир. 1998. № 5. С. 18. с именем которого связывают окончание войны и падение Берлина, хотя хорошо известно, что Берлин штурмовали не только армии Жукова. Никонов ближе всего к народному истолкованию событий в главе шестнадцатой — «Под Москвой». Битва за Москву подается как героическое деяние народа. Соответственно Сталин и Жуков — эпические герои, которые стоят в одном ряду с «самым большим или самым малым ее героем в Александровском парке у краснокровавой стены Кремля, под вечным огнем, в могиле неизвестного солдата». Неслучайно Никонов не полемизирует ни с кем из писателей. Ни с версией о двадцати восьми гвардейцах-панфиловцах, преградивших немецким танкам путь на Москву (А. Бек. Волоколамское шоссе. 1944), ни с романом Г. Владимова «Генерал и его армия» (1991), в котором автор утверждает, что лишь генералу Власову достало решимости в обстановке всеобщей сумятицы направить урало-сибирские дивизии в нужном направлении и тем самым обеспечить общее победное наступление. Для автора «Стальных солдат» очевидно: не русским морозом и не случайным стечением обстоятельств, но железной волей Сталина и полководческим талантом Жукова была достигнута эта величайшая победа. Никоновский Сталин мыслит широко и масштабно. Не считает для себя возможным повторять исторический опыт Кутузова, ибо «с падением Москвы неминуемо и мгновенно пал бы Ленинград, и тогда очередь дошла бы до третьего “кита”, на котором стояла его, сталинская, а может, сталинградская держава. С падением Москвы и Ленинграда Сталинград тоже был бы обречен. И тогда добивать Россию бросились бы, вероятно, и Турция, и Япония, и мало ли кто еще... Ослабевшего льва лягают и ослы» (4, 84). Сталин помнит, что когда-то на Куликовом поле решающим было внезапное введение в бой резерва, о котором не мог знать противник, и так же неожиданно бросает в битву хорошо вооруженные и обученные дивизии «сибиряков», прибывших под Москву с Дальнего Востока. Сталин умело использует самонадеянность немцев, которые поверили Гитлеру, что 7 ноября он проведет на Красной площади парад победы над Россией. «Разведка доносила Сталину, что октябрьское наступление немцы ведут без резервов, в летнем обмундировании. А едут на телегах! Экономят бензин для танков» (4, 83). 279 Никонов убеждает фактами и вместе с тем аргументами из неписаной народной истории. Последние для него более убедительны, нежели исследования профессионалов, которых он постоянно укоряет в лживости. «По преданиям», состоялся разговор между Сталиным и Рокоссовским, в начале войны освобожденным из лагеря вместе с некоторыми другими военачальниками. В результате опальный Рокоссовский получил вначале дивизию, а потом армию, состоявшую «едва ли не наполовину из “чернобушлатников” (лагерников), сражавшихся отчаянно». О параде советских войск на Красной площади, который при всей своей доподлинности стал легендарным историческим событием, рассказывают тоже с вариациями, неизбежными для фольклорного жанра. Никонов опирается на свидетельства москвичей, которые видели Сталина на улицах Москвы в самые тревожные дни октября-ноября 41-го, и особенное значение придает твердому решению Сталина не выезжать из Москвы. Причем опять-таки, «по рассказам его личной охраны», вождь даже не знал, где находится его личный поезд, который должен был увезти его из Москвы. «Сталин действительно решил остаться в Москве. И это обстоятельство, обычно никак не оцениваемое неправедными историками-“летописцами”, сыграло едва ли не главнейшую роль в обороне полуосажденной столицы» (4, 89). Как истинные герои, Сталин и Жуков далеки от тщеславия. Сталин «не взял себе, кажется, за эту победу ничего... А Жуков... Он был награжден, как и Сталин, только медалью “За оборону Москвы”. Медаль эта давала позже право на квартиру и московскую прописку. Право это получил и Жуков, награжденный к тому же Сталиным большой двухэтажной дачей в Подмосковье» (4, 92). Битва за Москву — апофеоз деятельности Сталина, если судить по роману «Стальные солдаты». После нее родились «новые отчаянные и умелые полководцы» (4, 92), родилась армия, научившаяся побеждать. За Сталиным Никонов оставляет последнее слово в планировании Сталинградского и Курско-Орловского сражений, а также в операции за взятие Берлина. Возрастает магия личности Сталина и, соответственно, магия его власти. Никонов, по сути, обобщает свидетельства многих людей, общавшихся со Сталиным. Бывало, что на заседаниях Ставки Сталин, затягиваясь трубкой, молча ходил по 280 ковру, «ходил взад и вперед, и все ждали, что изречет этот невзрачный, невысокий человек, который тем не менее каждому казался воплощением какой-то особой и будто бы сверхчеловеческой мудрости, провидческого государственного знания... ибо нечто сверхъестественное вполне очевидно наполняло его не слишком складное тело. И каждый, кто сейчас смотрел на ходящего Сталина, чувствовал сквозь страх и тревогу невольное уважение и к его простенькому серовато-зеленому кителю, таким же брюкам, заправленным в хромовые поношенные сапоги, лицу, не выражавшему ничего, кроме окаменелой сосредоточенности» (5, 21–22). Что касается так называемой личной жизни вождя, то Никонов опять-таки полемичен. «Все предположительно и утвердительно писавшие о Сталине отказывали ему в простых человеческих чувствах... так много и определенно сказано в тех книгах об отсутствии у него простой человеческой души» (5, 60). Прежде писалось лишь о книгах, которые читал Сталин, о том, что он умел петь грузинские песни, любил театр, более десяти раз смотрел на сцене «Семью Турбинных» и не разрешал ставить эту пьесу Булгакова в провинциальных театрах, опасаясь, что не найдется актеров, которые сумели бы сыграть роли русских офицеров-аристократов. О круге чтения Сталина пишет и Никонов, но удивляет читателя не столько тем, что исследует, как вождь анализирует трактат флорентийского царедворца Макиавелли, адресованный правителям, но явлением Валечки Истриной. Удивил — это так, но убедил ли, что Сталину, как всякому одинокому и стареющему мужчине, необходимо постоянное внимание и «греющая женская энергия»? Пожалуй, что убедил, хотя найдется читатель, не принимающий Валечку — не жену, не любовницу, но самого близкого к Сталину человека после смерти Надежды. «Явление Валечки» не поддается буквальному прочтению: было — не было? В числе «любимых женщин товарища Сталина», о которых поведало миру всезнающее телевидение, нет ни одной, с кого была бы списана Валентина Истрина — «одна из тех редких женщин, синоним которым <...> слова “живое счастье” или “чудо”. Только такая женщина, пожалуй, могла бы завладеть его душой, слишком уж очерствленной и долгой жизнью, и борьбой с людьми, и презрени- 281 ем к ним...» (4, 85). Валечке доверено увидеть вождя таким, каким его не должен был видеть никто: смертельно уставшим от множества забот и интриг, подверженным простудам и болезням, подобно всем прочим людям, благодарным за помощь и утешение. Валечка была единственной, кто знал Сталина беспомощным, а незадолго до его смерти — плачущим. Валентина Истрина — опоэтизированный образ русской женщины, которую судьба подарила вождю на склоне его лет. Не исключено, что какие-то черты ее внешности и детали туалета импонируют не столько Сталину, сколько самому автору. Но как проверить? Пишется роман, а не документальное сочинение. Важнее, что по большому счету Валечка — персонаж не только не лишний, но необходимый в романе. Сказать, что это Россия, было бы слишком громко, хотя как раз эта простая подмосковная девушка сближала «инородца» Сталина с русским народом. Валечка — русская женщина в своей искренности и простоте. Сверхосторожный и подозрительный вождь «неизъяснимым своим чутьем», которому доверял больше, чем любым характеристикам, понимал, что она не пойдет ни на какую подлость. Из ее рук он спокойно ел, пил, принимал лекарства, избегая кремлевских врачей. Валечка — русская в той природной деликатности, которая не позволяла ей при всей близости к вождю претендовать на особое положение в обслуге Сталина. Она не нарушала «установленного раз и навсегда места и звания прислуги, экономки ли при нем. Вся охрана, обслуга, боявшаяся Сталина, не лебезила перед ней, так, самую малость, — все знали, Валечка не станет губить своих. А бывало, что и бесстрашно заступалась» (5, 51). Чисто русская, деревенская натура Валечки проступает в навыках лечить простуду домашними средствами и даже в просторечных оборотах, типа: «стиралась я...» Как простая, сердечная женщина Валечка ведет себя в последней встрече со Сталиным, когда подобревший и ослабевший вождь... плачет. «Стирает слезы малопослушной рукой со щеки и усов. И тогда она бухнулась — рухнула перед ним и сама зарыдала в три ручья, зарываясь лицом к нему в колени, причитая что-то несвязное, женское, горькое...» (5, 67). Совсем неученая, простенькая Валечка сердцем почувствовала трагедию этой исторической личности. Сцена их последнего прощания 282 глубоко драматична — ирония достается опять-таки «стальным солдатам». «Генерал Власик был арестован 16 декабря 52-го года, судим за растраты и “аморалку” и отправлен сначала в Новосибирск, а потом в небольшой уральский городок Асбест, где и отбывал ссылку. Замечу, что после исхода Сталина Власику разрешили вернуться в Москву, мстительный Никита Хрущев дал старику комнату в коммуналке, где и закончил свои дни грозный генерал, охранник Сталина. А в городок Асбест, словно на смену стальному Власику, прибыл в ссылку другой верный сталинец, бывший железнодорожный нарком и также железный, стальной ли солдат партии, Лазарь Моисеевич Каганович...» (5, 61). Николай Никонов полагает, что миф о «великом полководце всех времен и народов» разрушается тотчас же после окончания войны. По инерции еще прославляются «десять сталинских ударов», но уже очевидно, что принадлежат они не только генералиссимусу. По контрасту, чем выше взлет, тем круче и горше падение. В заключительных главах романа отсутствует рассказ о государственной деятельности Сталина. Читателю предлагается чисто романный сюжет с участием Берии, домогающегося очередной красавицы, генерала Власика, «страдающего» оттого, что в свое время упустил Валечку, и самого вождя, «страшной местью» покаравшего все ту же Валечку за ее непреднамеренную измену. И это, видимо, оправдано: у главного персонажа романа ни на что иное психических и физических сил уже не хватало. Слишком много взяла война, «недаром же Сталина еще в 45-м постиг первый, еще не слишком сильный удар»1. Это был действительно старый, больной человек. В заключительных главах романа мы видим Сталина в кунцевском парке: он сидит, «уставясь в никуда, окаменелый, жалкий, подчас засыпанный снегом. Припадки равнодушия (депрессии), в общем, обычные для людей, рожденных под знаком Стрельца, становились у него все более частыми и тяжкими. В та1 Возможно, неточность. По другим сведениям, «мало кто знает, что летом 1942 года у него (Сталина. – Л. С.) случился инсульт, и месяц он был совершенно неработоспособен. И это – в разгар войны, в самый сложный Сталинградский период. (Гений или злодей? Штрихи к портрету Сталина // Российская газета. 2007. 8 нояб. С. 14). 283 кие дни и даже периоды он никого не хотел видеть, не подписывал бумаги, не принимал “соратников”, не собирал Политбюро и переставал встречаться с Валечкой... Душа стыла, выветривалась, силы таяли, громада страны грозила вот-вот раздавить, приплюснуть» (5, 54). Мало кому удавался «непарадный» психологический портрет послевоенного Сталина и вместе с тем суровая и лаконичная картина жизни тех лет. «Война — странная штука: она портит людей, люди становятся иждивенцами, люди привыкают держать оружие и убивать. Много инвалидов... Куда их деть? Жить на пенсию... И вот донесения: воруют, становятся грабителями, торгуют на рынках бабьими штанами, сопротивляются милиции. Люди ропщут против все еще военного рабдня... А с другой стороны, война научила выживать, не требуют многого, терпят, и это хорошо...» (5, 46). В редкие минуты просветления Сталин пытается руководить творческой интеллигенцией, которая не хотела считать себя «колесиком и винтиком». Приходится «вправлять мозги», принимать строгие партийные постановления по вопросам литературы, кино, музыки, драматургии. А тут еще «безродные космополиты»... Теряется искусство «манипулировать массой», которому в свое время Сталин учился не только у Макиавелли, но и у Ленина. Утративший былую гибкость мозг Сталина находит решение все в той же марксистской догме о классовой борьбе: по мере нашего продвижения к коммунизму классовая борьба будет не уменьшаться, а возрастать. Отсюда поистине «дьявольский» вывод: «враги социализма — вот кто должен построить социализм! <…> Два с половиной миллиона в лагерях, не считая тюрем, да столько же примерно сосланных, живущих на поселении. Эти и дают главную производительность. Получается — он прав: кто добром поедет копать уран, мыть золото, рубить лес, строить дороги ТАМ?.. А заводы под землей, а шахты, а электростанции... Нет. Он прав. Союз поднимается, пусть на крови, принуждении, насилии, но нет иного выхода в этой стране. Нет его. И разве, в конце концов, не справедливо то, что враги социализма строят социализм?» (5, 46–47). Автора могут заподозрить: а не разделяет ли он сам позиции Сталина? Почему обходит затронутую в этом внутреннем монологе тему 284 репрессий конца 40-х — начала 50-х годов, которые по «размаху» приближались к 37-му году? В «Воспоминаниях очевидца» рассказывается вполне благополучная история с письмом, которое Никонов в бытность своего студенчества адресует непосредственно «товарищу Сталину». Отыщутся еще замечания. «Забудется» только, что для прямого изображения злодеяний Сталина Никонову потребовалось бы написать совсем другое произведение, в то время как этот его роман предостерегает от бегло-однозначного отношения к недавнему прошлому. «Эпоха Сталина» была эпохой идейного диктата, великих иллюзий и при всём том эпохой напряженных духовных исканий. «Нельзя, чтобы духовная жизнь умирала», — говорил Павел Петрович Бажов в самые трудные годы Отечественной войны. А «добрые дела»? Большие или малые, они творились всегда, были и при Сталине, хотя не снимали все нарастающей тирании и общего состояния угнетенности. Сталина губит не только неостановимый биологический процесс старения, но поклонение марксистской догме. Он до конца верен системе, которая «парализовала, как у Ленина, нормальную работу его мозга» (3, 18). За неполное «самопрозрение» Сталин расплачивается бессильной старостью и величайшим одиночеством. К концу жизни, вместо семьи, близких друзей и настоящих учеников, — фальшивые славословия, от которых «однажды и его, Сталина, затошнило, когда стал читать роскошную, богато изданную книгу “Письма белорусского народа великому Сталину” в переводах Петруся Бровки, Петро Глебки, Максима Танка. Почитав славословия, где его сравнивали и с солнцем, и с горами, и с вершинами, и еще неведомо уже с чем и кем, пробормотал: — Совсэм ужь с ума посходыли... дуракы... Но премию дал...» (5, 55) Искренно преданная Валечка, пожалуй, лишь усиливает своим участием его трагедию. Молох революции не щадит самого товарища Сталина. Роман «Стальные солдаты» привлекает свободным обращением с огромным историческим материалом, отточенной стилистикой, непредсказуемостью художественных решений. Достигается слаженность столь разнородных изобразительных средств, как библейско- 285 мифологическая образность, психологический анализ, сатира и элементы повествовательности — «простейшие» с виду «воспоминания очевидца». В одном из недавних выступлений известный с 60-х годов Игорь Виноградов размышляет о том, дала ли литература 60-х годов художественно адекватный, убедительный образ Сталина? «Уж кому, казалось бы, — сетует критик, — как не шестидесятникам попытаться разобраться в этой фигуре, из отвержения культа которой 60-е годы как раз вроде бы и выросли!»1 Дед Слышко сказал бы: ровнехонько в точку попал, ибо на сегодня “Стальные солдаты”, произведение одного из таких шестидесятников, — самое глубокое и непредвзятое прочтение феномена Сталина. Правда, для этого потребовалась почти вся творческая жизнь уральского писателя Николая Никонова. 2007 1 286 Виноградов И.И. Сталин — идейный тиран // Знамя. 2006. № 7. С. 163. Содержание М. Литовская. О книге и ее авторе.................................................3 От автора............................................................................................6 I. Уральская классика Непрочитанный Мамин (1890–1900 годы) ................................8 Мамин и Горький. Творческие связи и расхождения................26 Певцы Урала (Д.Н. Мамин – П.П. Бажов) ...............................40 «Малахитовая шкатулка» Бажова вчера и сегодня ....................57 В годы войны .............................................................................74 Сказ или сказка? ........................................................................82 II. Уральские писатели второй половины ХХ века Виктор Астафьев на Урале .......................................................96 Феномен Андрея Ромашова ....................................................119 Роман о русской духовности «Осташа-скоморох» .................131 Война народная: панорама по Кодочигову ............................153 Формула трудолюбия. Феликс Вибе глазами критика ............175 Владимир Блинов, истинный и нарочитый ..............................187 III. Николай Никонов Из поколения шестидесятых. Памяти писателя ......................200 Две повести: «Когда начнешь вспоминать», «Глагол несовершенного вида» .............................................................213 Эпизод из литературной жизни. Повесть «Старикова гора»...227 Женщина и война. Роман «Весталка» .....................................243 Молох революции. «Стальные солдаты. Страницы из жизни Сталина» ..................................................................................262 287 Слобожанинова Лидия Михайловна Русская проза Урала: ХХ век Литературно-критические статьи 2002–2011 годов Редактор Е.В. Черняк Компьютерная верстка И.Н. Шаманаевой Корректор Т.В. Сергеенко Подписано в печать 26.01.15. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 16,7. Уч.-изд. л. 14,5. Тираж 100 экз. Отпечатано в копировальном центре «РИЦ-копир» Екатеринбург, ул. Бебеля, 124, т. 367-67-61 288