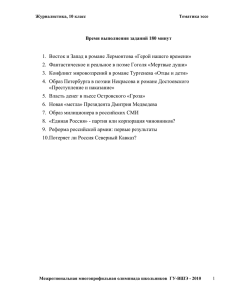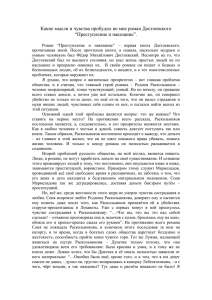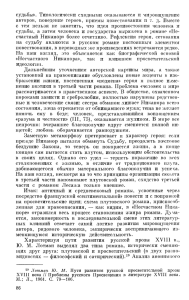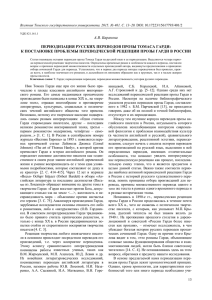ИГРОВОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ Т. ГАРДИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА
advertisement
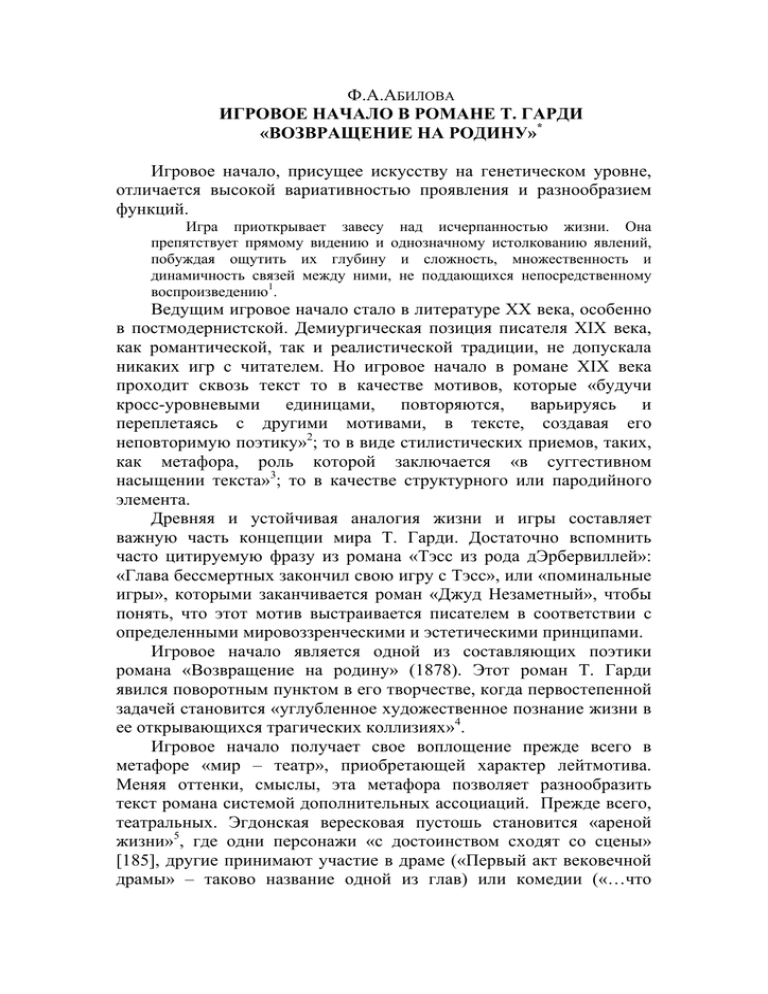
Ф.А.АБИЛОВА ИГРОВОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ Т. ГАРДИ «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ»* Игровое начало, присущее искусству на генетическом уровне, отличается высокой вариативностью проявления и разнообразием функций. Игра приоткрывает завесу над исчерпанностью жизни. Она препятствует прямому видению и однозначному истолкованию явлений, побуждая ощутить их глубину и сложность, множественность и динамичность связей между ними, не поддающихся непосредственному воспроизведению1. Ведущим игровое начало стало в литературе ХХ века, особенно в постмодернистской. Демиургическая позиция писателя XIX века, как романтической, так и реалистической традиции, не допускала никаких игр с читателем. Но игровое начало в романе XIX века проходит сквозь текст то в качестве мотивов, которые «будучи кросс-уровневыми единицами, повторяются, варьируясь и переплетаясь с другими мотивами, в тексте, создавая его неповторимую поэтику»2; то в виде стилистических приемов, таких, как метафора, роль которой заключается «в суггестивном насыщении текста»3; то в качестве структурного или пародийного элемента. Древняя и устойчивая аналогия жизни и игры составляет важную часть концепции мира Т. Гарди. Достаточно вспомнить часто цитируемую фразу из романа «Тэсс из рода дЭрбервиллей»: «Глава бессмертных закончил свою игру с Тэсс», или «поминальные игры», которыми заканчивается роман «Джуд Незаметный», чтобы понять, что этот мотив выстраивается писателем в соответствии с определенными мировоззренческими и эстетическими принципами. Игровое начало является одной из составляющих поэтики романа «Возвращение на родину» (1878). Этот роман Т. Гарди явился поворотным пунктом в его творчестве, когда первостепенной задачей становится «углубленное художественное познание жизни в ее открывающихся трагических коллизиях»4. Игровое начало получает свое воплощение прежде всего в метафоре «мир – театр», приобретающей характер лейтмотива. Меняя оттенки, смыслы, эта метафора позволяет разнообразить текст романа системой дополнительных ассоциаций. Прежде всего, театральных. Эгдонская вересковая пустошь становится «ареной жизни»5, где одни персонажи «с достоинством сходят со сцены» [185], другие принимают участие в драме («Первый акт вековечной драмы» – таково название одной из глав) или комедии («…что означает вся эта неприличная комедия?» – спрашивает миссис Ибрайт свою племянницу Томазин). Идея «мир – театр» была хорошо известна и в античные времена, и в средние века, но самой знаменитой стала шекспировская формула: «Весь мир театр, и люди в нем актеры». Жизнерадостная вера в естественный ход вещей и критическое отношение к официозу средневековья породило представление о комическом характере играемого спектакля. Так, в «Похвале глупости» Э. Роттердамского читаем: «…вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой все люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорег не уведет их с просцениума». В шекспировском «Гамлете» эта формула является важнейшим элементом художественной системы трагедии. У Т. Гарди жизнь ассоциируется с игрой в трагедии: «Люди в этой трагедии смеются, поют, курят, пьют вино и т.д., ухаживают за девушками в гостиных и на площадях, играя свои роли в той же самой трагедии»6, – записывал он в дневнике. Эта театральная игра актуализируется в романе через трагедийный код. Кодами Р. Барт, который ввел в литературоведение это понятие, называет «просто ассоциативные поля, сверхтекстовую организацию значений, которые навязывают представление об определенной структуре; …коды – это определенные типы уже виденного, уже читанного, уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое письмо»7. Трагедийный код в романе Т. Гарди проявляется прежде всего «тенью Шекспира»: своим лейтмотивным хронотопом «Возвращение на родину» имеет хронотоп шекспировского «Короля Лира». Когда-то в Эгдонской степи блуждал одинокий «легендарный король Уэссекса – Лир» [7], а теперь эта расчетливо выбранная сценическая площадка становится местом действия трагедий, которые разыгрываются современниками писателя. «На сцене появляется человек и с ним тревоги» – таково название второй главы романа. Трагедийный код не ограничивается апелляцией к Шекспиру. Т. Гарди сопрягает судьбу своих персонажей с судьбами древних греков. Если достаточно прозвучать в романе названию места действия – Эгдон, – чтобы вызвать у читателя соответствующие шекспировские ассоциации, то имя великого древнегреческого драматурга прямо упомянуто в тексте романа: «То, о чем греки смутно догадывались, мы теперь знаем точно; то, что их Эсхилы постигали мощью своего воображения, наши дети чувствуют инстинктивно» [178]. Таким образом, трагедийный код становится отправной точкой для трагической интерпретации жизненного материала и придает изображаемому универсальный характер. Главная роль в разворачивающемся действии принадлежит Юстасии Вэй. Она играет роль в прямом смысле слова, являясь одной из участниц святочного театрализованного представления. Поэтому в романе встречаются слова и выражения, связанные с образом театра, актерской игрой. Это и описание театрального реквизита и процесса его создания: девушки «налепливали бархатные и шелковые петли и банты всюду, где им нравилось. Латный воротник, кольчужный нагрудник, шлем, кираса, перчатки, рукав – все это их женский глаз воспринимал лишь как некую поверхность, на которой можно укрепить развевающийся пучок ярких лоскутков» [132]; это и отношение зрителей к исполнителям: «А, комедианты, комедианты пришли! – вскричали разом несколько гостей. – Очистить место для комедиантов» [144]; это и описание самого исполнения роли: Декламируя, она высоко держала голову и старалась говорить как можно грубее, – под покровом лат и шлема она чувствовала себя в безопасности [144]. Спектакль, в котором играет Юстасия, является частью старинного праздника. Языческая обрядность – это те правила, которым подчиняется ритуализированное бытие Уэссекса. Ритуал, как деяние, утратившее характер мировоззрения, сохраняет прошлое, историческую память, родовое коллективное сознание. Сознание «пассивно подчиняется забытому неживому прошлому, хотя воспринимает действительность в возрастающем к этому прошлому разрыве. Ему прошедшее уже совершенно непонятно. Но прошлое окружает позднеродового человека со всех сторон, и он не вступает с ним в борьбу, не перерабатывает его, а просто ему подчиняется и консервирует его8. Поэтому театрализованное представление воспринимается местными жителями как нечто естественное: «Представление кончилось: Сарацину отрубили голову, святой Георгий одержал победу. Никаких восторгов по этому поводу никто не выказал, как не стали бы их выказывать по поводу того, что осенью в лесу бывают грибы, а весной подснежники. Зрители отнеслись к пьесе с такой же флегмой, как и сами актеры. Это было развлечение, которому полагалось предаваться каждый год на святках, - и говорить тут было не о чем» [149]. Но Юстасия не желает мириться с предопределенным «самовластием природы и рутиной отсталого социального быта»9. «Эгдон стал ее Аидом» [76], из которого она мечтает вырваться. В ее душе жили воспоминания о «солнечных прогулках по эспланаде, о военных оркестрах и светских щеголях» [77], она грезит о Париже. Антитеза между реальным и воображаемым, между тем, на какой образ жизни она обречена, и тем, о котором мечтает, создает основу для той игры, которую ведет Юстасия Вэй. Она играет свой собственный спектакль: Единственный способ выглядеть царицей, когда нет ни царств, ни сердец, коими можно повелевать, это делать вид, что царства тобою утрачены, – и Юстасия делала это в совершенстве [78]. Отсюда – подчеркнутая двойственность как основа характеристики главной героини. Она становится формой ее сознания и бытового поведения: Юстасия «не хуже других женщин умела выражаться с достойной дельфийских оракулов двусмысленностью, когда не хотела сказать прямо» [81]. Двойственность отмечена во внешнем облике Юстасии: «Если бы тени Сафо и миссис Сиддонс встали из могил и слились воедино, из их сочетания мог бы, пожалуй, возникнуть этот образ, непохожий ни на ту, ни на другую, но напоминавший обеих» [63]. Имя известной английской актрисы конца XVIII – начала XIX вв. упомянуто здесь, конечно, не случайно, оно способствует активизации трагедийного кода (Сара Сиддонс прославилась исполнением ролей шекспировских героинь). Кроме того, можно предположить, что Сара Сиддонс с успехом сыграла бы роль Юстасии, ведь женщины, которых «она играла, нередко совершали ошибки, были не в силах избежать преступлений, но всегда сохраняли царственность осанки и безупречность манер. Они вызывали у публики сострадание и преклонение одновременно»10. В характере Юстасии есть, несомненно, привлекательные черты: «известная дерзость ума, …инстинктивное отвращение ко всему шаблонному и общепринятому» [80], готовность «к своевольным поступкам и пренебрежению условностями» [79]. Но они оказываются подчинены не искреннему чувству, а игре, с помощью которой она надеется оставить «эгдонское сборище» и уехать в столичный город. Поэтому она сходится с Уайлдивом, непохожим на местных жителей, «проходившем свой стаж в Бедмуте, в конторе гражданских инженеров» [315]. Понимая, что он не стоит ее любви, она все же идеализирует его «за отсутствием лучшего предмета» [81]. Но возвратившийся из Парижа Клайм Ибрайт, кажется, больше соответствует романтическим мечтаниям Юстасии, и она выходит за него замуж. Но когда надежды Юстасии не оправдываются, она собирается бежать с неожиданно разбогатевшим Уайлдивом. Если в линии Юстасии Вэй доминируют театральные аллюзии, то жизненную ситуацию Уайлдива и Клайма Ибрайта моделирует карточная игра. Ю.М. Лотман описал две сюжетных модели, основу которых составляют карточные игры – коммерческие и азартные. Разница между ними заключается в том, чем определяется выигрыш – расчетом или случаем. В основе коммерческих игр лежит расчет: «задача партнера состоит в разгадывании стратегии противника»; азартная же игра – это «модель борьбы человека с Неизвестными Факторами»11. Поведение Клайма Ибрайта укладывается в тот вариант игры, который Лотман называет азартным. Клайм нерасчетлив, он отдается на волю случая, который вносит в его жизнь элемент непредсказуемости. Таковым становится его женитьба на Юстасии: Сейчас, несколько уже остыв, он предпочел бы не столь скоропалительную женитьбу, но карты были брошены, и он решил продолжать игру [222]. Дэймон Уайлдив представляет собой иной тип игрока – расчетливого, не вполне искреннего, умело пользующегося ситуацией и просчитывающего ответную реакцию. Поэтому стратегия его поведения представлена с помощью карточного термина: «Эти тонкие штрихи хорошего вкуса были его козырной картой в игре с представительницами прекрасного пола. Особенность Уайлдива состояла в том, что сегодня он мог быть придирчив, вспыльчив, даже зол с женщиной, а завтра так обаятельно любезен, что вчерашнее пренебрежение уже не казалось ей неучтивостью или вчерашняя грубость – оскорблением, напротив того, вчерашние придирки воспринимались как деликатное внимание, а поругание ее женской чести как избыток рыцарства» [314]. Еще один вариант азартной игры встречается в романе «Возвращение на родину». Игра в кости – одна из древнейших и примитивных игр – олицетворяет слепую схватку с хаосом. Это единственное в романе описание процесса игры с ее скачкообразным ритмом, когда удача улыбается то одному, то другому игроку. С игрой в кости в сюжет романа вводится случай, непредсказуемый ход событий. Это сюжетное звено разворачивается как намерение Уайлдива «зло подшутить над миссис Ибрайт» [242], выиграв деньги, предназначавшиеся ее сыну и племяннице. Но приближение к цели изменяет его намерения, у него не остается никакого другого, «кроме желания выиграть ради собственной наживы» [242]. В тот момент, когда успех, кажется, достигнут и деньги перешли в руки Уайлдива, непредсказуемый случай вновь ставит его в положение проигравшего. Позже Уайлдив станет владельцем большого, по меркам эгдонцев, состояния, иначе как игрой случая не мотивируемого: он окажется единственным наследником богатого дядюшки. Однако главным игроком на «арене жизни», чьи замыслы неведомы людям и в чьих представлениях они принимают участие независимо от своих желаний, выступает Судьба. Человеческие страсти и раздоры – всего лишь кукольные забавы для насмешливой Судьбы. Идущее из античности представление об играющих и смеющихся богах и людях, чей удел – страдания и слезы, было близким Т. Гарди. Неизбежность столкновения человека и надличных сил, бывшая центральной проблемой античной трагедии, становится ведущей во всем уэссекском цикле романов писателя. Рок как установленный порядок вещей, как система социальных ограничений, преследующая человека и превращающая его в беззащитную жертву, наиболее отчетливо проявится в заключительных романах цикла «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» и «Джуд Незаметный». В романе «Возвращение на родину» Судьба предстает как иррациональная, безличная сила, управляющая жизнью людей. С насмешкой глядит на них «эта охотница до шуток, сделавшая Клайма в начале его жизни писцом, Гэя – торговцем льняным товарами, Китса – врачом и еще тысячи других чем-нибудь столь же мало для них подходящим…» [180]. Еще Сенека заметил, что судьба ведет послушного и силой влечет непокорного12. Юстасия Вэй, гордая, независимая, волевая, сметающая условности и предрассудки, способная к дерзостным мыслям и поступкам, не желает быть слепым орудием судьбы. «Юстасия Вэй заключала в себе сырой материал божества. После небольшой подготовки она могла бы с честью занять место на Олимпе. В ней жили все страсти и стремления, какие подобают образцовой богине» [74], – так характеризует писатель свою героиню. Она обладала качествами, позволявшими ей чувствовать себя небожителем: «небесная повелительность, любовь, гнев, пыл сердца» [76]. Именно поэтому Юстасия острее, чем остальные герои романа, ощущает свою зависимость от капризов судьбы: «Иногда в ее глазах можно было прочесть горький упрек …и больше всего к Судьбе, чье вмешательство, как ей смутно представлялось, повинно в том, что любовь лишь на миг дается в руки быстротекущей юности и что всякая любовь, которую она, Юстасия, сможет завоевать, неизбежно ускользнет от нее вместе со струйкой песка в песочных часах» [78 – 79]. И чем энергичнее пытается Юстасия Вэй избежать предопределенности судьбы, тем острее чувствует свою несвободу, и ей не остается ничего другого, как «смотреть на себя со стороны, наблюдать за собой, как незаинтересованный зритель, и рассуждать о том, какой удобной игрушкой в руках Судьбы» [354] она оказалась. Этот мрачный парадокс, родственный трагической иронии древних греков, подчеркивает не только роковой разлад мечты и действительности, но и трагический характер той игры, которую ведут между собой человек и Судьба. «Возвращение на родину» – первый роман Т. Гарди, в котором центральное место занимает трагический характер, и это прежде всего Юстасия Вэй, открывающая галерею женских трагических характеров в творчестве английского писателя. Анализируя тему карт и карточной игры в «Пиковой даме» А.С. Пушкина, Ю.М. Лотман обращает внимание на ее амбивалентный характер. С одной стороны, механизм игры обозначает «прорыв хаотических сил в культурный макрокосм и эгоистическое стремление к мгновенному обогащению в человеческом микрокосме»; с другой стороны, он обусловлен «потребностью риска, необходимостью деавтоматизировать жизнь и открыть простор игре сил, подавляемых гнетом обыденности». С этой точки зрения, игра как «механизм внесения в повседневность элемента альтернативы, непредсказуемости, деавтоматизации» противостоит «механистическому течению насквозь предсказуемой, мертвой жизни петербургского «света»13. Таким образом, «случай» перестал быть только синонимом хаоса, а «закономерность» – упорядоченности. Пушкин неоднократно противопоставлял мертвую, негибкую упорядоченность – случайности, как смерть – жизни. Энтропия представала перед ним не только в облике полной дезорганизации, но и как жесткая сверхупорядоченность»14. Проанализированная Лотманом закономерность функционирования механизма игры в «Пиковой даме» Пушкина, оказалась достаточно устойчивой и обнаруживается в творчестве Лермонтова, Достоевского. Ее нетрудно увидеть и в романе Т. Гарди «Возвращение на родину». «Играющие» Юстасия и Уайлдив, с одной стороны, – отрицательные персонажи, их побуждения эгоистичны, а цель – обогащение. Но с другой стороны, эти герои, и прежде всего, Юстасия Вэй, стремятся преодолеть гнет обыденности, власть ритуалов, сохраняющих умершее прошлое. «Но неужели я слишком многого требую, когда хочу прикоснуться ко всему, что вмещается в слове жизнь, – музыке, поэзии, страсти, войне, ко всему, что бьется и пульсирует в великих артериях мира?» – восклицает она в отчаянии от того, что все это так и остается только мечтой [297]. И в этих словах слышится оправдывающая героиню авторская интонация. Эти персонажи представляют собой мир случая, игры, непредсказуемости, который вносит хаос в упорядоченную жизнь Эгдона. Это мир энтропии, разрушающий человеческие связи и намерения: не сразу состоялась свадьба Томазин и Уайлдива, а когда они все же поженились, это не принесло им счастья; умирает миссис Ибрайт, погибают Юстасия и Уайлдив, а попытки Клайма стать учителем и просветителем «эгдонских отшельников» не принесут успеха. Но ритуализированное бытие Эгдона не допускает в свой мир случайностей «неугомонной новизны». Изображенные в предыдущих романах Уэссекского цикла дорогие Томасу Гарди черты патриархальности, такие, как народные обычаи и праздники, почтительное отношение к старине, близость человека к природе, своеобразный демократизм отношений, в романе «Возвращение на родину» превращаются в «царство энтропии» (Лотман). Это ощущение усиливает наличие рамочных элементов в структуре романа, каковыми являются описания древних языческих обрядов, в течение многих веков без изменений проводимых жителями Эгдона: «…то, что они сейчас делали, уже не раз вершилось в этот же час и на этом месте» [22]. Неизменяемый порядок жизни поддерживается и природой, не терпящей «квадратных полей, постриженных изгородей и лугов, орошаемых …правильно расположенными канавками»: «…в тех немногих местах, где делались попытки подъема эгдонской земли, пашня, продержавшись год-другой, в отчаянии отступала, и там снова утверждались папоротники и кусты дрока» [185 – 186]. Ритуал торжествует победу над современностью, косный автоматизм над страстью, воображением, волнением. «Энтропия косного автоматизма» (Лотман) проявляется и в тех персонажах романа, которые по традиции обозначаются как положительные. Это цельные, не раздираемые противоречивыми стремлениями натуры, - миссис Ибрайт, Томазин, Диггори Венн. Они прочно занимают свое место в неподвижности циклических повторов жизни, они предсказуемы и «ограниченность их плачевно очевидна» (16, 403). И именно они завершают роман хэппи-эндом. Ко времени создания романа «Возвращение на родину» уже был сформирован основной конфликт романов Уэссекского цикла: столкновение милой сердцу писателя патриархальности с миром буржуазных отношений. В первых романах цикла – «Под деревом зеленым» и «Вдали от обезумевшей толпы» – сельский патриархальный быт представлен как хранитель нравственных устоев и гуманистических традиций. Роман «Возвращение на родину» демонстрирует новые оттенки этого конфликта: мир сельской общины оказывается косным и ограниченным и уже не может служить опорой современному человеку. Мотив игры в этом романе – театральной, картежной, в кости, с Судьбой – становится способом подчеркнуть появившиеся в конфликте новации, которые привели к созданию первого трагического проблемного романа в творчестве Т. Гарди. Игровое начало обнаруживается и в таком элементе поэтики романа, как авторская роль. Традиционной авторской ролью в реалистическом романе XIX века было всеведение. Т. Гарди сохраняет верность этой традиции, выступая всеведущим, всезнающим творцом. Наряду с этим в романе «Возвращение на родину» складываются черты новой повествовательной стратегии, согласно которой автор ведет с читателем некую игру, приглашая его к сотворчеству. Одним из вариантов такой авторской игры является интертекстуальность, способом реализации которой может являться аллюзия. Объясняя избыточность аллюзий, намеков и отсылок в своих произведениях, У. Эко пишет: …я чувствую себя художником, который расписывает камчатную ткань и среди завитков, цветков и щитков помещает едва заметные начальные буквы имени своей возлюбленной15. Аллюзия, таким образом, нужна не столько для того, чтобы писатель блистал своей эрудицией, сколько для того, чтобы дать возможность читателю проявить свою наблюдательность и эрудированность, чтобы увидеть или почувствовать то, что слегка закамуфлировано частоколом текста. И когда это происходит, произведение обогащается новым смыслом, насыщается новыми оттенками. Таково изображение одного древнейших друидических обрядов в экспозиции романа – погребальных костров на пустошах Эгдона, – вызывающее у писателя вполне определенные литературные аллюзии: Люди, озаренные пламенем костра, как будто стояли в верхнем ярусе мира, отдельном и независимом от темноты внизу. Со всех сторон их окружала бездна – так чудилось им оттого, что взгляд, привыкший к свету, не проникал в эти черные глубины. …Тогда казалось, что вся эта нижняя бездна – это преддверие Ада, каким узрел его в своих видениях божественный флорентинец, когда заглянул туда, склонившись над краем; и в бормотании ветра по лощинам слышались жалобы и мольбы «могучих душ», обреченных вечно парить там в пустоте [22]. Т. Гарди «играет» с читателем, не называя прямо ни произведения, выполняющего роль прототекста, ни его автора, но дает читателю подсказку, делая маркерами интертекста упоминание Ада и «божественного флорентинца». Более сложная цепь литературных и театральных аллюзий возникает в следующем фрагменте текста: Женщины многого добивались в актерском платье. Не говоря уже о таких, как прекрасная собой исполнительница роли Полли Пичем в начале прошлого столетия и другая, столь же взысканная судьбой, исполнительница роли Лидии Лэнгвиш в начале нынешнего века, которым досталась не только любовь, но и еще герцогские короны в придачу, – не говоря уже об этих счастливицах, великое множество их более скромных сестер по профессии умело завоевать любовь почти всюду, где им хотелось» [154]. Писатель не дает каких-то подсказок на этот раз, но предполагает, что читателю известна история молоденькой Лавинии Фентон, исполнительницы роли Полли Пичем в пьесе английского драматурга XVIII в. Джона Гэя «Опера нищего» (1728). Своей игрой она «произвела такое впечатление на сорокадвухлетнего Чарлза Полета, третьего герцога Болтона, что летом того же года они бежали из Лондона да так и остались вместе. За три года до смерти Болтона, после смерти в 1751 г. его законной жены, они обвенчались»16. Эта история об актрисе, ставшей герцогиней, не была чем-то исключительным, английские актрисы часто выходили замуж за аристократов. Об этом свидетельствует и ссылка на исполнительницу роли Лидии Лэнгвиш в пьесе Шеридана «Соперники». В данном случае речь идет, по-видимому, об актрисе Гарриет Меллон, ставшей герцогиней Сент-Олбанс, которая даже удостоилась внимания короля и была принята при дворе17. Читателю, которому известны эти факты, уже не нужно объяснять, что Юстасии не удастся добиться подобного успеха – ни в спектакле, где она играла роль турецкого рыцаря в шлеме, скрывавшем ее лицо, ни в спектакле, которым режиссировала Судьба. И, наконец, еще один вариант авторской игры, заставляющий вспомнить о романе ХХ века, Т. Гарди демонстрирует в предпоследней главе романа. Она завершается прямым обращением писателя к читателям. Вынесенное за пределы текста, в примечание, оно, тем не менее, тесно связано с возможным последующим развитием сюжета. Писатель предлагает самим читателям выбрать тот финал, который они сочтут наиболее органичным: «Автор считает нужным отметить здесь, что в его первоначальном замысле не было брака между Венном и Томазин. Венн до самого конца сохранял свой одинокий и несколько загадочный облик, затем он таинственно исчезал в Эгдонской пустоши, и никто не мог сказать, куда; Томазин оставалась вдовой. Но в силу некоторых особенностей журнального издания автору пришлось кое-что изменить. Поэтому читателям предоставляется право выбрать либо тот, либо другой конец. Возможно, что читатель, особенно требовательный в эстетическом отношении, предпочтет наиболее последовательное развитие действия и его признает истинным» [412]. Финал, которым «в силу некоторых особенностей журнального издания» писатель завершил роман «Возвращение на родину», представляет собой вариант традиционной концовки викторианского романа, не чувствительного «к трагическим тайнам бытия». «Викторианское искусство редко способно (если способно вообще) к трагическому, которое заменено трогательным»18, – замечает А.В. Бартошевич. Правдивость этого наблюдения подтверждается финалом романа «Возвращение на родину»: трогательная забота Диггори Венна о Томазин, его беззаветная и поначалу безответная любовь к ней вознаграждается, как и должна быть вознаграждена подлинная добродетель, – свадьбой. Клайм Ибрайт находит утешение в миссионерской деятельности, вполне достойной, с точки зрения викторианской морали. Таким же закономерным, с позиций этой морали, выглядит трагический конец Юстасии. «Судьба милостиво поступила с ними, одним взмахом оборвав их заблудшие жизни» [394], – считает автор, придерживающийся традиционной викторианской нравственной ориентации. Этот вариант носит во многом вынужденный, компромиссный характер, появившийся под давлением викторианской критики. Негодовавшая по поводу разоблачительных тенденций в романах Т. Гарди, его отказа от общепринятых канонов, критика вынуждала писателя подчиняться правилам игры журнального рынка. И в конце концов, заставила писателя отказаться от прозы и сделать выбор в пользу более независимой от цензуры поэзии. Оставляя за читателем выбор дальнейшего движения сюжета, Т. Гарди тем самым конкретизирует направленность новой повествовательной стратегии. Во-первых, налицо предпосылки создания структуры нового типа – «открытого произведения», по выражению У. Эко. Такое произведение предпочитает «разворачиваться в поле возможностей, создавая амбивалентные ситуации, открытые для выбора»19. Во-вторых, отказ от позиции автора-демиурга создает основу для появления новой авторской роли – скрытого, «исчезающего» автора, приближающегося по выполняемым функциям к драматургу. Эта роль найдет свое воплощение в заключительных романах Уэссекского цикла. Примечания Абилова Ф.А. Игровое начало в романе Т. Гарди «Возвращение на родину» // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Пятых Андреевских чтений. Под редакцией Н.Н. Андреевой, Н.А. Литвиненко и Н. Т. Пахсарьян. М., 2007. С. 284 – 293. * 1 Лейтес Н.С. Конечное и бесконечное. Размышления о литературе ХХ века: Мировидение и поэтика. Пермь, 1992. С. 106. 2 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. М., 1997. С. 181. 3 Суровцев В.А., Сыров В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном познании // Философия науки, 1 (1999). Новосибирск, 1999. 4 Федоров А.А. Идейно-эстетические аспекты развития английской прозы (70 – 90-е годы XIX в.). Свердловск, 1990. С. 39. 5 Харди Т. Возвращение на родину // Харди Т. Собр. соч. в 8 т. Т. 4. М., Терра – Книжный клуб, 2006. C. 222. Далее все цитаты по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи. 6 The Life of Thomas Hardy. By Florence Emily Hardy. London, 1962. P. 171. 7 Барт Р. Избранные работы: Семиотика, поэтика. М., 1989. C. 455 – 456. 8 Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1978. C. 130. 9 Урнов М.В. Томас Гарди. Очерк творчества. М., 1969. C. 62. 10 Западно-европейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX – XX вв. / Отв. ред. М.Ю.Давыдова. М., 2001. C. 331. 11 Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала ХХ века // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т. Т.2. Таллинн, 1992. С. 5 – 6. 12 Ср. в «Истории античной философии в конспективном изложении» А.Ф.Лосева: «С античной точки зрения судьба меньше всего заметна на людях мелких, безвольных, пассивных. …Судьба и рок ощущаются античным человеком больше всего …в героических подвигах, в свободных актах разумно действующего большого человека, в его волевом напряжении, в его гордой и благородной независимости, в его мужестве и отваге». 13 Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт…, с. 410. 14 Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт…, с. 408. 15 Цит. по: Визель М. Чистое искусство // Иностранная литература, 2 (2007). С. 292. 16 Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987. С. 106. 17 Эптон Н. Любовь и англичане. Челябинск, Урал Л.Т.Д., 2001. С. 375. 18 Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. ХХ век. М., 1994. С. 38. 19 Цит. по: Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 287 [См.: Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. Перевод с итал. А. Шурбелева. СПб.: Академический проект, 2004. – прим. ред.].