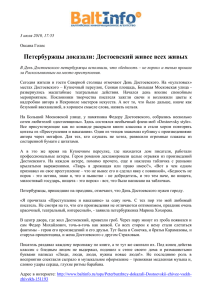К.В. Ратников ОБРАЗЫ И ИДЕИ ДОСТОЕВСКОГО В ПОЭЗИИ НА
advertisement
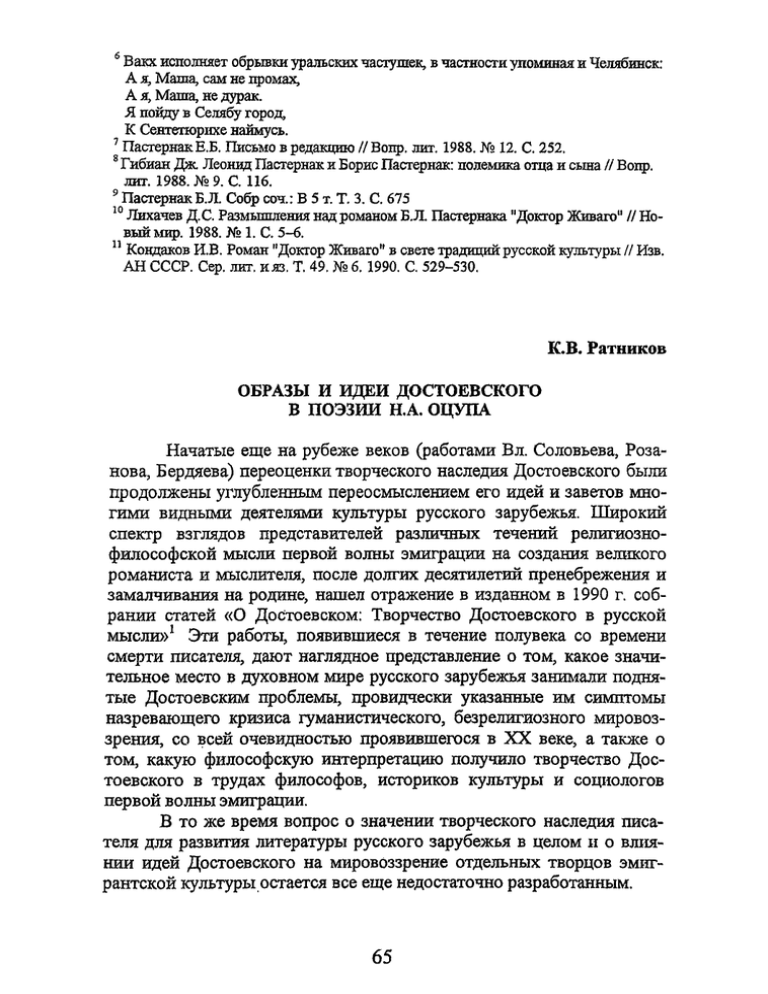
6 Вакх исполняет обрывки уральских частушек, в частности упоминая и Челябинск: А я, Маша, сам не промах, А я, Маша, не дурак. Я пойду в Селябу город, К Сентетюрихе наймусь. 7 Пастернак Е.Б. Письмо в редакцию //Вопр. лит. 1988. № 12. С. 252. 8 Гибиан Дж. Леонид Пастернак и Борис Пастернак: полемика отца и сына // Вопр. лиг. 1988. № 9. С. 116. 9 ПастернакБ.Л. Собр соч.: В 5 т. Т. 3. С. 675 10 Лихачев Д.С. Размышления над романом Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" // Новый мир. 1988. № 1.С. 5-6. 11 Кондаков И.В. Роман "Доктор Живаго" в свете традиций русской культуры // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 49. № 6. 1990. С. 529-530. К.В. Ратников ОБРАЗЫ И ИДЕИ ДОСТОЕВСКОГО В ПОЭЗИИ НА- ОЦУПА Начатые еще на рубеже веков (работами Вл. Соловьева, Розанова, Бердяева) переоценки творческого наследия Достоевского были продолжены углубленным переосмыслением его идей и заветов многими видными деятелями культуры русского зарубежья. Широкий спектр взглядов представителей различных течений религиознофилософской мысли первой волны эмиграции на создания великого романиста и мыслителя, после долгих десятилетий пренебрежения и замалчивания на родине, нашел отражение в изданном в 1990 г. собрании статей «О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли»1 Эти работы, появившиеся в течение полувека со времени смерти писателя, дают наглядное представление о том, какое значительное место в духовном мире русского зарубежья занимали поднятые Достоевским проблемы, провидчески указанные им симптомы назревающего кризиса гуманистического, безрелигиозного мировоззрения, со всей очевидностью проявившегося в XX веке, а таюке о том, какую философскую интерпретацию получило творчество Достоевского в трудах философов, историков культуры и социологов первой волны эмиграции. В то же время вопрос о значении творческого наследия писателя для развития литературы русского зарубежья в целом и о влиянии идей Достоевского на мировоззрение отдельных творцов эмигрантской культуры остается все еще недостаточно разработанным. 65* Настоящее исследование ставит своей целью показать, как отразились созданные романистом художественные образы и развивавшиеся им идеи на поэтическом творчестве Николая Авдеевича Оцупа (1894 1958), одного из наиболее значительных поэтов русского зарубежья. Он был учеником и соратником Гумилева по третьему Цеху поэтов, а позднее - редактором и издателем лучшего в эмиграции непериодического литературного журнала «Числа» (Париж, 1930 - 1934), автора пяти вышедших прижизненно поэтических сборников и романа «Беатриче в аду», а также первой из когда-либо защищенных диссертаций о творчестве Гумилева, многочисленных статей о поэзии диаспоры и книги воспоминаний о литераторах-современниках. Обширное поэтическое наследие Н. А. Оцупа было посмертно издано двухтомным собранием под общим заглавием «Жизнь и смерть», очень точно передающим стержневую проблематику его творчества. Избранные стихотворения Оцупа неизменно включались во все наиболее представительные антологии поэзии русского зарубежья, выходившие в эмиграции: «Якорь», «На Западе», «Муза диаспоры». Кроме того, именно Оцупу принадлежит приоритет в определении расцвета национальной поэтической культуры начала XX столетия как «серебряного века» русской поэзии. Тема «Оцуп и Достоевский» не была до сих пор предметом специального исследования, несмотря на то что Достоевский, по определению самого Оцупа, оказал несомненное воздействие на его творчество. С середины 1930-х годов, в процессе напряженного поиска ответов на коренные вопросы бытия, жизни и смерти человека, исторических судеб России в XX столетии, непросто проходя свой индивидуальный путь обретения веры, поэт все чаще обращается к богатейшему духовному опыту, накопленному русской культурой в прошлом и получившему наиболее полное и совершенное воплощение в творческом наследии поэтов, писателей и мыслителей века прошлого - Пушкина, Гоголя, Тютчева, Л. Толстого, В. Соловьева, Н. Федорова. Созданные ими художественные образы, разрабатывавшиеся идеи, провозглашенные идеалы заняли важнейшее место в духовном мире Оцупа, были заново переосмыслены им с позиций культурного самосознания русской эмиграции. И Достоевскому принадлежит здесь ведущая роль. Наряду с Пушкиным он стал для Оцупа как бы олицетворением самой России, выразителем ее сокровенной сути, поддерживая и укрепляя в изгнанниках на чужбине ощущение неразрывной духовной связи с утраченной родиной: Мне кажется, что мог бы эмигрант Примерно так ответить на упреки, Что изменил он родине своей: «Уо1С я не говорю о всех бео/савших 66* На Запад в прошлом, чтобы ей служить, Но был изменником и Достоевский. Ветхозаветная его dyuia Вас называла бесами, и Пушкин Изменником в таком же смысле был: Уже тогда прославил он свободу! Они учителя мои в любви КРоссии...»2. (159) Более того, творчество Достоевского и сама его личность, по убеждению Оцупа, перешагнули далеко за пределы национальных границ, став мировым, общечеловеческим достоянием: Над Блоком петербургская земля, Над всеми странами Толстой и Достоевский (160), - напишет Оцуп в другом стихотворении из того же цикла «Эмигрант». В столь высокой оценке мировой значимости творчества Достоевского поэт солидарен с мнением С. JI. Франка, высказанным по поводу широко отмечавшейся на Западе пятидесятой годовщины со дня смерти великого русского романиста: «Можно без всякого преувеличения сказать, что Достоевский на Западе теперь - бесспорно самый популярный, любимый и ценимый русский писатель <...> Можно сказать: Достоевский - единственный русский писатель, идеи которого играют существенную роль в духовном обороте западной жизни и который стал некоторым фактором в идейном развитии западного мира»3 Во многих своих поэтических произведениях Оцуп активно использует образы героев романов Достоевского в качестве прямых отсылок к некоторым идеям писателя, выразителями которых выступают эти персонажи. Так, вслед за известной статьей Бердяева «Духи русской революции» (не свободной, впрочем, от полемических передержек), в которой особый раздел посвящен детальному анализу сбывшихся пророчеств Достоевского о грядущей катастрофе, действительно разразившейся в России в 1917 году, Оцуп также проецирует образы романа «Бесы» на послереволюционную российскую действительность (стихотворение «Буря мглою»): Мчатся бесы... Бесы... Верховенский... Федька Каторжный... Топор. Петля. Кто-то где-то про Собор вселенский, Про Мессию... И поля, поля. (151) Ставя имя Федьки Каторжного непосредственно рядом с именем Петра Верховенского, Оцуп явственно перекликается с Бердяевым: «Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька-каторжник 67* и что победит в ней шигалевщина. Петр Верховенский давно уже открыл ценность Федьки-каторжника для русской революции»4 Подчеркивая кровавый характер разгула бесовщины, Оцуп сразу же после зловещего имени Федьки Каторжного называет подряд два орудия убийства: топор, перенесенный в стихотворение из «Преступления и наказания», и петлю, в которой в финале «Бесов» был обнаружен труп «гражданина кантона Ури». Для поэтики Оцупа вообще очень характерен прием монтажа образов и цитат, взятых из различных литературных источников, благодаря чему происходит сопоставление реалий, не рассматривавшихся ранее в едином контексте, возникают неожиданные смысловые ассоциации. Показательным примером такого монтажа образов, созданных разными авторами, с целью выявления скрытых параллелей, установления степени духовного родства между ними, может служить фрагмент из этого же стихотворения: Мчатся бесы, искрами мелькая, Вьюга, кони дышат.тяэюело,,. Но Волконская и Трубецкая И уже от сердца отлегло. И такое же, как те в кибитке, Чудное лицо... Опять она: Сонечка на улице в накидке... Мармеладов... Страшная страна. (151) Нравственный подвиг Сонечки, стремившейся спасти душу Раскольникова от окончательной гибели, в глазах Оцупа сродни подвигу жен декабристов, воспетых Некрасовым в «Русских женщинах». А рядом с этими образами, высочайшими нравственными идеалами, - фигура «пьяненького» чиновника Мармеладова, воплотившая собой для поэта образец человеческого падения, анги идеал, то, что делает страну, населенную подобного рода людьми, поистине «страшной страной». Кто-то где-то про Собор вселенский, Про Мессию... (151) за этими строками чувствуется образ «пророка русского мессианства»3 Шатова, чью трагическую гибель Оцуп воссоздает в следующей строфе стихотворения: Молодость, а страшно поневоле... Прокламации, нагайка, кнут... За мечтами о земле и воле Ночь... Уоюасен там и краток суд. (151) Прокламации - пресловутая «Светлая личность», а ночь - та «потрясающая Ночь»6, названная хроникером в «Бесах» «многотрудной», когда, по приговору Петра Верховенского, совершилась корот- 68* кая расправа над страстным мечтателем о великом предназначении России. (Поэт вместо мессианских идей Шатова обыгрывает название подпольной революционной организации «Земля и воля»; впрочем, он и не ставил своей задачей дословное следование за текстом «Бесов». Для Оцупа гораздо важнее вызвать максимально широкие смысловые ассоциации, среди которых образы знаменитого романа Достоевского занимают хотя и ведущее, но не единственное место). Наиболее подробное и всестороннее переосмысление образов и основных идей Достоевского Оцуп предпринял в своем главном поэтическом произведении «Дневник в стихах», отнюдь не случайно сходном по названию с «Дневником писателя», издававшимся Достоевским. В этом, по общепринятому определению, «монументальном» произведении, над которым поэт трудился в течении полутора десятилетий (1935 1950) и которое составило более 12 тысяч стихотворных строк, охватывающем самый разнообразный автобиографический, религиозно-философский, социально-политический и культурный материал, присутствие «стихии Достоевского» ощущается очень отчетливо. В длительном и трудном процессе глубокого внутреннего возрождения автора «Дневника в стихах» Достоевский с его философской антропологией - ключевая фигура. Оцуп прямо формулирует поставленную перед собой задачу нравственного обновления в соответствии с идеями Достоевского: Только, изменившийся духовно, Не срывайся в прошлое опять: Надо всем составом, то есть кровно, И душой и телом, новым стать! От всего, что голос из подполья Подает, всем нашим существом, Даэюе мускулами от безволья, Пусть с нечеловеческим трудом, Надо навсегда освободиться.. Помни эпилептика-провидца! Он-то знал, что изменяет свет Весь состав и той и этой ткани, Что одной душе спасенья нет... Страшно от усилий-содроганий Тела немощного. Это - князь Мышкин, и на дне его припадка Небеса... Почти как он трясясь, Падал я в себя, чтоб зло и гадко Жить привыкшую, больную плоть Изнутри измором побороть. (220) 69* Стремление к идеалу, выраженному Достоевским в образе «положительно прекрасного человека», воспринимается Оцупом в русле христианской традиции «усилий аскетической воли»7, смирения плотского, отмеченного печатью греховности, начала во имя очищения души, освобождения из-под владычества духовного «подполья» заключенных в ней «небес» - божественной сущности человека. Оцуп подчеркивает принципиальное положение философской антропологии Достоевского: речь идет не просто о духовном обновлении, но о полном нравственном перевоплощении всего человечества, о достижении христианского идеала «совершенного человека, в котором полнота божества обитает телесно»8 И сугубо личный, индивидуальный опыт нравственного исправления своей несовершенной человеческой природы поэт не случайно сопоставляет с религиозным визионерством князя Мышкина человека, которому в экстазе на миг приоткрылся миг гармонии и совершенства. Поэт сам пережил подобное состояние (рассказом об этом завершается первая часть «Дневника в стихах»), тем ближе и понятнее был ему этот герой Достоевского. Созданные великим романистом образы служат автору «Дневника в стихах» своеобразными зеркалами, в которых он узнает различные ипостаси собственного «я» на различных этапах той духовной эволюции, свидетельством которой стал «Дневник». При воспоминании о своем прошлом у Оцупа возникает ассоциация с образом «обворожительного демона» Ставрогина, чей успех у прекрасного пола видится поэту сродни череде собственных мимолетных увлечений в поисках предчувствуемого душой земного воплощения Вечно Женственного: Хороши Ставрогин и Печорин Оба - только ли для эюенских глаз? Все-таки и я не только черен Был, когда зараза из зараз, Та оюе хворь, такая эюе проказа Съела сердце... (219) «Проказа» заключалась в отпадении от божественного начала любовного чувства в религиозном его понимании («Amor sacro, - думал ты, Profano!» (227)), в подмене истинной любви как «воплощения в себе и в другом образа божьего», создания «из двух ограниченных и смертных существ одной абсолютной и бессмертной индивидуальности»9 «безрадостным сладострастием», грехом, одной из семи «язв сердца», которая и «съела» его. Так же точно и Ставрогин, потерпев окончательный внутренний крах, ощутил себя заживо мертвецом, именно так «отрекомендовавшись» Лизе накануне роковой ночи в Скворешниках. 70* Но когда в жизнь поэта вошла истинная, обновляющая и преображающая любовь (проникновенный рассказ о ней - центральный лейтмотив «Дневника в стихах»), благодаря которой в душе его произошел радикальный нравственный переворот, он осознает ее как проявление исключительной по своей силе и напряженности любовной стихии, владевшей сердцем другого героя Достоевского: Я люблю любовью маниаков (Как бы их ни били - все равно), То, что верно чувствовал Аксаков, То, что Достоевскому дано. То, чем увлекаются, как модой, И что поваэюней раз в миллион Злобы дня и всякой злобы... Одой Вот бы разразиться.. (241 - 242) Именно такой одой - «Исповедью горячего сердца. В стихах» и разражается Дмитрий Карамазов перед изумленным Алешей. Оценка Оцупом того, что Достоевскому дано было с необычайной силой выразить напряженность, «маниакальность» любовных переживаний своих героев, совпадает с впечатлениями многих исследователей, касавшихся этого аспекта творчества Достоевского, в частности, с мнением Бердяева: «Тайна природы человеческой всего более раскрывается в отношениях мужчины и женщины. И вот о любви удалось Достоевскому открыть что-то небывалое в русской и всемирной литературе, у него была огненная мысль о любви»10 В масштабности любовного чувства, в возможности его стать всепоглощающей, захватывающей всего человека страстью видит поэт соприродность своих переживаний биению «горячего сердца» Мити, хотя сущность любви, владеющей автором «Дневника в стихах», отнюдь не тождественна безудержу «земляной карамазовской силы». Оцупу близок у Достоевского иной, высший тип любви - «серафической» (по определению Л.П. Карсавина)11, той «любви деятельной и живой», носителем которой выступает старец Зосима. Именно такую любовь обрел поэт в лице своей жены, чей духовный облик отождествлялся им с образом Серафима, с ангельским началом («Я возле Серафима жил» (364), - с благоговением признается он в «Дневнике»). Но играть ты чувством не могла, Тем же, чем Алеше был Зосима <....> Для меня в несчастии моем Ты была (какая там гордячка!), (398) - пишет Оцуп, обращаясь к той, которая ради него, пожертвовала и блестящей кинематографической карьерой, и светскими успехами, возложив на себя нелегкое бремя заботы о духовном возрождении лю- 71* бимого человека, став для него подлинным ангелом-хранителем, но вместе с тем и высшим моральным судом. Именно поэтому Оцуп отчетливо ощущает кровную связь между сделанным ею нравственным выбором и подвижнической судьбой героинь русской литературы: ... пойдем с тобой В прошлый век, хотя бы поклониться Тем, кто смел и душу потерять, И спасти ее. Мне дева снится, Сонечка. Уходит провожать Каторжанина, убийцу, мужа Родиона... Ты ее сестра Более счастливая... Но стужа Крепнет. Сани стали у костра. Греется ямщик, а Трубецкая Дремлет, ждет... Сестра твоя другая. (213) Вновь, как и в стихотворении «Буря мглою», образ Сонечки ставится Оцупом в один ряд с созданными Некрасовым образами жен декабристов, их объединяет совершенный ими подвиг любвиспасения. Таково устойчивое осознание Оцупом высочайших нравственных качеств характера русской женщины. И потому так строго и беспощадно осуждал он себя за то, что слишком часто оказывался не на высоте предъявляемых к себе моральных требований, чувствовал себя недостойным той, которая добровольно приняла на себя крест любви-самопожертвования. Обличая застарелые изъяны своей души, поэт сравнивает себя с Мармеладовым по своей способности так же, как и тот, невольно доставлять страдания любимым: Я из гадов, Знающих, что губят невзначай... Я любил тебя, как Мармеладов Им оюе разоренную семью. Только я страшнее, хоть не пью. (398) Появление образа Мармеладова, сопровождается устойчивым эпитетом «страшный» - страшна для поэта та бездна морального падения, в которую может сорваться человек, способный эксплуатировать принесенную в жертву ему любовь. Мармеладов безвольно пропивает деньги, заработанные Сонечкой ценой невиданного самопожертвования во имя семьи, а себя поэт, со своим «съеденным» прежней греховной жизнью сердцем, ощущает духовно неспособным ничем воздать своей возлюбленной за ее «серафическую» любовь. Продолжает галерею образов героев Достоевского, с которыми соотносит себя поэт, образ самоубийцы инженера Кириллова из романа «Бесы»: 72* Яне раз припоминал, Кириллов, Как за шкафом ты стоишь и ждешь, И меня как в лихорадке било: Струсишь? Не посмеешь? Не нажмешь? Все, покинувшие дом отцовский, Перед искушением стоим... (414) Дьявольское искушение, покорившее гордую волю идеолога человекобожества и от которого самого поэта спасла лишь живительная сила любви «заступницы моей», выразительницы божественной правды, оказалось в роковые мгновения непреодолимым для Маяковского и Цветаевой. В их самовольном уходе из жизни Оцуп видел разрешение того мучительного колебания на грани жизни и смерти, так потрясшего поэта в «почти невыносимой по ужасу сцене»12 самоубийства Кириллова. Еще один герой Достоевского, решительным размежеванием с идейной позицией которого Оцуп оттеняет суть личного самоощущения, - неназванный в «Дневнике в стихах» по имени «ученый брат» Иван Федорович: «Мира не приемлю Твоего», Так устами своего героя Достоевский. Я же от всего Тоже не в восторге, но другое Говорю, творение любя: Нет, я с замыслом Твоим согласен Не приемлю самого себя,. > (406) Действительно, поэтом движет не пафос богоборческого бунта, а напротив сосредоточенная многолетняя работа обретения веры и нахождения своего пути к Богу («богоискателем» называет себя Оцуп в первых же строках «Дневника»). Стремясь к предельной искренности, исповедальности, Оцуп обращается за духовной поддержкой к Достоевскому, которого он особо ценит за его способность к максимально полному, не щадящему себя самораскрытию личности, за то, что тот решился, по мнению Оцупа, наделить собственными чертами даже заведомо отрицательных своих персонажей, отразивших некоторые теневые стороны человеческой души их создателя: Если явно о себе «Записки Из подполья», автор их чуть-чуть Свидригайлов и Фома Опискин, Даоюе Смердяков... Правдивым будь До концаL Мне этому завету Следовать хотелось... (404) 73* Сам поэт вынужден с горечью признать, что оказался не готов к окончательному и бескомпромиссному суду над собственным духовным подпольем, и ставит себе в пример образ Версилова: Только муж Истинный (лакей, сиди в передней) Не щадить себя способен, как Тот в «Подростке» или ты, Жан-Жак (388) Показательно созвучие гипотезы Оцупа об автобиографичности персонажей Достоевского, хоть и выраженной в осторожной форме («если», «чуть-чуть»), с утверждением Бердяева, не лишенным излишней категоричности: «Все герои Достоевского - он сам, одна из сторон его бесконечно богатого и бесконечно сложного духа, и он всегда вла1ч гает в уста своих героев свои собственные гениальные мысли» Заметное место в «Дневнике в стихах» занимает непосредственная оценка Оцупом творчества Достоевского. В огромной значимости для всего человечества поставленных русским романистом проблем Оцуп видит их преемственность с религиозно-нравственной проблематикой Библии, а в личности самого Достоевского - огненный пророческий дух, роднящий его с судьями «Книги судей» Ветхого Завета (не случайно Оцуп писал о «ветхозаветной душе» Достоевского): Вот уою чудо! Шутка ли: Толстой Или Достоевский - только эти Двое и заполнили собой Сразу перерыв тысячелетий <...> Не литературы короли, Судьи - украшение земли. (242) Под стать своему творцу и его герои, борцы и мученики, своим духовным величием соизмеримые с персонажами античных трагедий: Или выберешь из легиона Созданных поэтами имен Много в рост хотя бы Родиона, Только в древности находит он Равных: Каина, чуть-чуть Медею <..> Подлинности, сложности и силе Той оюе или так о/се насучили Только в Библии да в ропоте Хора героических трагедий <...> Нет веков, и снова мы соседи Клитемнестры убивающей И ее карающего сына, Воли, месть приготовляющей, Так о/се в нас надавлена пруо/сина, 74* И явлением Рогожина Та же страсть облагорожена. (242 - 243) Знаменательно совпадение восприятия Оцупом героев Достоевского с рядом положений известной работы Вячеслава Иванова «Достоевский и роман-трагедия», своеобразной иллюстрацией к которым могут служить вышеприведенные строфы «Дневника в стихах»: «Мы видим, что идея вины и возмездия, эта центральная идея трагедии, есть и центральная идея Достоевского...»14 И далее Вяч. Иванов отмечает: «Менее всего останавливает его эта излюбленная новейшими трагиками тема - тема всепоглощающей страсти, хотя и она глубоко разработана им, например, в «Подростке», в типе Рогожина (из романа «Идиот»), наконец, в типе Дмитрия Карамазова»15 Оцуп поэтическими средствами варьирует сходные мысли. Окружающую его современность поэт также рассматривает через призму художественных созданий Достоевского: «Век униженных и оскорбленных / Вот и для Европы наступил» (204), - замечает Оцуп в первой части «Дневника в стихах». В третьей части, саркастически характеризуя нынешний «рыцарский век», подпавший под власть вырвавшейся на волю «подпольной» стихии человеческой личности, Оцуп усматривает наглядное свидетельство развития в XX веке тех разрушительных идей, на первые ростки которых провидчески указал автор «Преступления и наказания», «Бесов», «Братьев Карамазовых» еще в прошлом столетии: Вырос он (т. е. «рыцарский век» - К. Р.) из величайших строчек, В Достоевского корнями врос (Неуменье обращаться с ядом). (411) Данное замечание, видимо, следует истолковывать как констатацию глухоты современного века к предостережениям Достоевского относительно губительности того Антихристова яда, который несли в себе разоблачавшиеся романистом идеи о разрешении «крови по совести», о «праве» сильной личности, о принципе «Бога нет и все дозволено». XX век отступил от заповедей Христа, от провозвещенного Достоевским идеала всемирного братства, не сумел изжить сатанинский соблазн «идеи» Раскольникова, ничего не смог противопоставить богоборческому бунту Ивана Карамазова, и не нашел понимания в сердцах потомков голос русского «пророка-гиганта», того, «кто нес / За века ответственность, в остроге / И в подполье голося о Боге» (459). Наибольшей глубины и напряженности переосмысление Оцупом итоговых идей и заветов Достоевского достигло в приводимом по- 75* этом духовном диалоге между ними. Вследствие пережитых за годы войны физических и нравственных потрясений, вызвавших тяжелый внутренний кризис, автор «Дневника в стихах» три недели пролежал в лихорадке, и в бреду, среди многих голосов, ему слышался голос Достоевского (сходную открытость своего героя воображаемым голосам из ирреального мира показал романист, описывая «кошмар Ивана Федоровича»). Оценивая свое кризисное нравственное состояние как «преступное безумье», поэт осознает его сопричастность духовному миру страдающих от мучительной внутренней борьбы героев Достоевского, для которых столь же остро стоит проблема непримиримого разлада начал добра и зла в своей душе. И тогда, как бы в ответ на потребность в духовной опоре, поэту слышится голос Достоевского: «Не бойся зла, Дух проговорил. - Оно угрюмей, Чем добро, но добрые дела, Если яда не преодолели, Пустоцветы: ни следа, ни цели». (419) Текстуально чрезвычайно близким, своего рода развернутым комментарием к сформулированному поэтом завету Достоевского может служить следующий фрагмент из уже неоднократно цитировавшейся нами работъхлН. А. Бердяева «Откровение о человеке в творчестве Достоевского», где философ так определяет решение Достоевским проблемы зла: «У Достоевского было до глубины антиномическое отношение к злу. Он всегда хотел познать тайну зла <...> Но он хотел что-то сделать со злом, претворить его в благородный металл, в высшее божественное бытие и этим спасти зло, т. е. подлинно его победить, а не оставить во внешней тьме»16. И далее, анализируя те итоги, к которым пришел романист, воссоздавая жизненные трагедии своих героев, в сердцах которых происходит острейшее столкновение сил добра и зла, философ находит у Достоевского тот же самый завет, который в более емкой поэтической форме был выражен в духовном диалоге поэта с голосом Достоевского: «Зло должно быть преодолено и побеждено, но оно дает обогащающий опыт, в раздвоении многое открывается, оно обогащает, дает знание. Зло также и путь человека. И всякий, кто прошел через Достоевского и пережил его, познал тайну раздвоения, получил знание противоположностей, вооружился в борьбе со злом новым могущественным оружием - знанием зла, получил возможность преодолеть его изнутри, а не внешне лишь бежать от него и отбрасывать его, оставаясь бессильным над его темной стихией. Человек совершает путь свой через развитие героев Достоевского и достигает зрелости, внутренней свободы в отношении ко злу»17 76* «Да, но ты, увы, надежду губишь», - замечает поэт, вероятно, имея в виду настойчиво проводимую в произведениях Достоевского мысль о тщетности атеистических иллюзий, о невозможности для человека, осознавшего свое отпадение от Бога, надеяться на сохранение полноценной жизнеспособной нравственной личности. Голос Достоевского, откликаясь на реплику поэта, выдвигает требование возвращения отступника к вере, обретения ее через покаяние и последующее многолетнее подвижничество: «Не надежду, а самообман. Вот ты лермонтовское припомнил,, Он как я: нам веры подвиг дан... Кто бывал Иуды вероломней, Дорасти надейся до Петра.. (419) Примером апостола Петра голос Достоевского доказывает обьятому сомнениями автору «Дневника в стихах» возможность нравственного исцеления грешника и отступника, возвращения его, к вере Христовой, духовного возрождения человека. И когда поэт, отказывая себе в способности к такому возрождению, сокрушенно кается в том, что «предал сам» ту, чья самоотверженная любовь к нему могла бы стать залогом превращения его, «оборотня, червя», вновь в носителя искры божественного огня, голос Достоевского подводит итог общей судьбы человечества (от которого он не отделяет и себя, подчеркнуто говоря «мы»): « Чтобы мы страдали от гордыни, Унижения даются нам: Даже совесть на земле больная, И спасет лишь родина иная». (419) Таково своеобразное преломление, которое получили в поэтическом творчестве Н. А. Оцупа некоторые художественные образы, религиозно-философские идеи и сама личность Ф.М. Достоевского. Интерпретация их Оцупом, безусловно, глубоко индивидуальна и носиг ярко выраженный субъективный характер, однако в ряде случаев, как было показано, взгляды поэта на проблематику и художественные особенности творчества великого русского романиста обнаруживают несомненную близость к оценкам, данным наследию Достоевского видными деятелями отечественной культуры начала века (в особенности Н.А. Бердяевым, а также Вяч. Ивановым). Настойчивое обращение Оцупа к наследию Достоевского - яркое свидетельство того, насколько важную роль в духовном мире людей XX столетия продолжают играть 77* завещанные писателем идеалы, впервые поднятые им общечеловеческие проблемы и пророческие предостережения его романов. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. М: Книга, 1990. С. 221. В дальнейшем и другие авторы этого сборника статей цитируются именно по этому изданию с указанием только страниц. 2 Оцуп Н.А. Океан времени: Стихотворения; Дневник в стихах; Статьи и воспоминания. СПб.: Logos, 1994. Здесь и в дальнейшем все цитаты из стихотворений и «Дневника в стихах» приводятся по этому изданию с указанием страниц (в скобках). 3 Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма// О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. С. 391. 4 Бдэдяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М: Правда, 1991. С. 271. 5 Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 443. 6 Булгаков С.Н. Русская трагедия// О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. С. 209. 7 Аскольдов С. А. Достоевский как учитель жизни//Там же. С. 259. 8 Соловьев B.C. Три речи в память Достоевского // Там же. С. 45. 9 Соловьев B.C. Смысл любви // Философия любви: В 2 ч. 4.2. М.: Политиздат, 1990. С. 75 10 Бердяев Н. А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. С. 218. 11 Карсавин Л.П. Федор Павлович Карамазов как идеолог любви // Там же. С. 276. 12 Мочульский КВ. Указ. соч. С. 445. 13 Бердяев Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевсхсого // Указ. соч. С. 224. 14 Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли. С. 187. 15 Там же. С. 185. 16 БердяевН.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского // Там же. С. 224-225. 17 Там же. С. 225. В.А. Осанкина БИБЛЕЙСКИЙ ПСАЛОМ В ПОЭЗИИ В Х КЮХЕЛЬБЕКЕРА Поэтический перевод Псалтири, осуществленный Симеоном Полоцким («Псалтырь рифмованная», 1679), положил в русской поэзии начало традиции переложения псалмов. До эпохи романтизма ей отдали дань все известные поэты от Тредиаковского до Державина. 78*