ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РУССКОЙ ПРОЗЕ И
advertisement
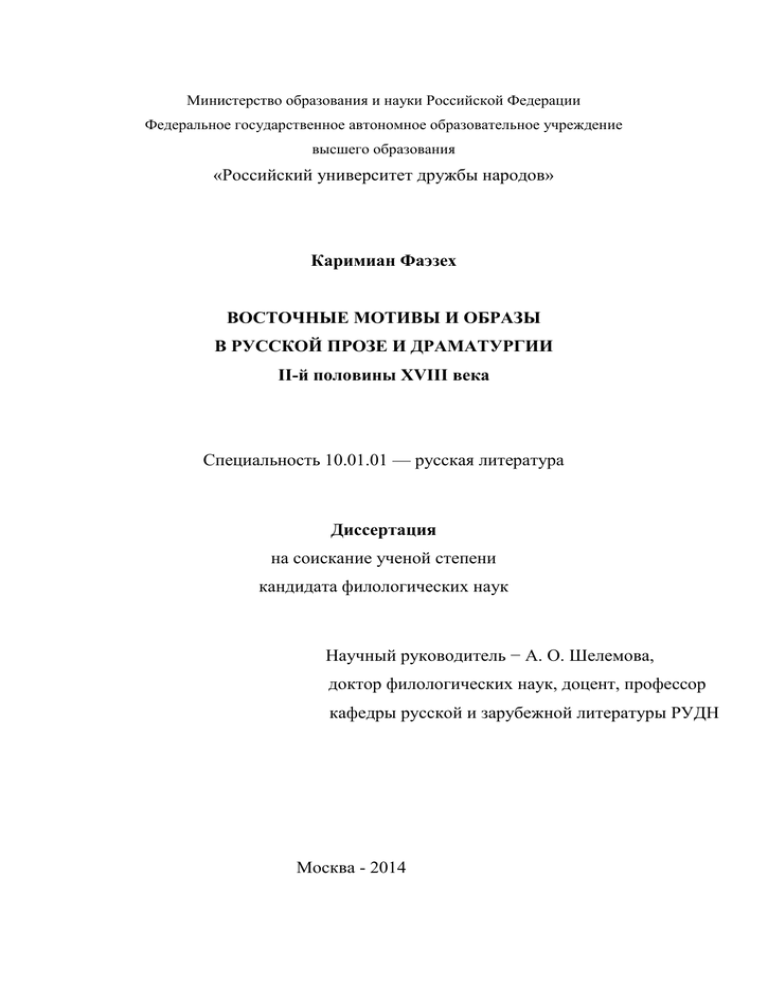
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» Каримиан Фаэзех ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ В РУССКОЙ ПРОЗЕ И ДРАМАТУРГИИ II-й половины XVIII века Специальность 10.01.01 — русская литература Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель − А. О. Шелемова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Москва - 2014 Оглавление Введение..................................................................................................................3 Глава I. Восточные мотивы в журнальных публикациях II-й половины XVIII века..........................................................................................10 1.1.Общественно-политические предпосылки активизации интереса к восточной теме в русской литературе II-й половины XVIII века................10 1.2. Трансформация восточных сюжетов и идей в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты.............................................................................................................21 1.3.Интерпретация восточной темы в журнальных статьях Н.И.Новикова....32 Глава II. Восточная повесть в русской прозе II-й половины XVIII века.........................................................................................................................41 2.1.«Золотой прут» М.М. Хераскова - эталон русского варианта «восточной» повести....................................................................................................................42 2.2. Восточная повесть «Надир» как образец нравственно-этического кодекса просвещенного правления....................................................................................49 2.3. Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительнодидактических сказок Екатерины II....................................................................62 2.4. Литературные пародии на восточные повести: «Каиб» И.А. Крылова и «Сон путешественника» из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева........................................................................................................73 2.5. Поэтика восточной повести: стереотип художественного дискурса и оригинальность мотиво- и образотворчества.....................................................80 Глава III. Ориентализм в русской классицистической трагедии..............99 3.1. Репрезентация восточного сюжета в трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим»...............................................................................................................102 3.2.Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий»..............................................................................................................114 3.3. Восточный контекст в трагедии В.И.Майкова «Фемист и Иеронима»............................................................................................................127 3.4. Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П Николева «Сорена и Замир».......................................................................135 Заключение.........................................................................................................154 Список использованной литературы............................................................157 Приложение: Восточная повесть «Благодеяние»........................................166 2 ВВЕДЕНИЕ Восточная тема вошла в русскую литературу с древнейших времен – момента появления первых рукописных переводных библейских и апокрифических текстов, содержащих ориентальные сюжеты, а также светских произведений, окрашенных флером восточной экзотики, таких, как «Александрия», «Девгениево деяние», «Повесть об Акире Премудром». В киевский период Восток стал объектом внимания древних писателей и по иным, не только сугубо литературно-эстетическим интересам. Борьба с кочевниками – печенегами, хазарами, половцами – в памятниках XI-XII веков не могла не волновать создателей произведений патриотического содержания, в которых Восток изображен как враждебная территория, «земля незнаемая», несущая разрушение на Русскую землю (летопись «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»). Еще более обостренно чужемирие Востока представлено в повестях XIII-XIV веков – времени монголо-татарского ига («Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»). В XVI-XVII веках интерес к восточной теме заметно снизился, что объясняется политической ситуацией в Русской державе, когда, освободившись от цепей Ордынского ига, Русь решала внутренние проблемы централизации государства. Популярность восточных мотивов в новой русской литературе возрождается во второй половине XVIII в. «Азийские страны» как обобщенный ареал и локальные территории Ближнего Востока становятся предметом художественной изобразительности. Вопрос активизации интереса к восточной теме в литературе II-й половины XVIII века неоднократно привлекал внимание филологов. Обращение к произведениям ориентальной тематики обусловлено двумя 3 причинами: с одной стороны, обзорным анализом литературного процесса, магистральное направление которого было определено популяризацией или критикой в литературных сочинениях доктрины просвещенного абсолютизма (главы в учебниках по истории русской литературы XVIII века Г.А. Гуковского, В.И. Федорова, П.А. Орлова, О.Б. Лебедевой и др.; исследования Ю.В. Стенника о драматургии XVШ в., фундаментальная статья В.Н. Кубачевой о функционировании восточной повести в просветительской литературе XVIII в.); с другой стороны, частными исследованиями восточных текстов в диссертационных работах: диссертации Л.Н. Нарышкиной «Романы М.М. Хераскова», 1978; Т.Ж. Юсупова «Развитие прозы XVIII века (Проблематика, поэтика, восточные мотивы)» 1995; К.А. Кокшеневой «Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма», 2002; Ю.С. Лиманской «Произведения М.М. Хераскова «Золотой прут» и «Кадмий и Гармония» в контексте масонской прозы последней четверти XVIII века», 2007; Т.А. Акимовой «Галантный диалог» в системе авторских стратегий Екатерины II (на материале литературного творчества 1750-1790 гг.), 2014. Целостное монографическое исследование, посвященное анализу продуктивного использования восточных мотивов и образов в русской прозе и драматургии II-й половины XVIII века, до сих пор не создано, чем и определятся актуальность темы диссертационной работы. Цель данной работы – исследовать аспекты функционирования ориентальной темы в прозе и драматургии второй половины XVIII века. Достижения поставленной в работе цели предполагает решение следующих задач: – выявить предпосылки активизации интереса к восточной теме в русской литературе П-й половины XVIII в.; 4 – представить общий фон бытования и состав восточных повестей (переводных и оригинальных); – исследовать опубликованные в журнальной прозе П-й половины XVIII в. (изданиях Н.И. Новикова) произведения восточной тематики; – проследить основные тенденции развития жанра восточной повести в прозаических сочинениях литераторов П-й половины XVIII века: М.М. Хераскова, В.А. Левшина, Екатерины П, И.А. Крылова, А.Н. Радищева, анонимных авторов повестей «Надир», «Благодеяние»; – проанализировать поэтику восточных повестей в аспекте индивидуальноавторского воплощения мотивов и образов; – рассмотреть произведения трагедийного жанра, актуализирующие восточную сюжетную коллизию. В реализации цели и задач использовалась методология, представляющая синтез историко-генетического, функционального и интертекстуального методов исследования. Предмет изучения трансформированные в – ориентальные прозаические и мотивы драматургические и образы, сочинения российских писателей П-й половины XVIII века. Объектом исследования диссертационной работы являются художественные произведения, сюжеты которых основаны на восточном материале. Отдельные из них представлены в журнальных публикациях Н.И. Новикова: анонимная повесть «Благодеяние»; «Ведомости» из театра военных действий на турецком фронте; «Завещание Юнждена, китайского хана, к его сыну» и «Чензыя, китайского философа, совет, данный его государю» (сочинения, приписываемые А.Л. Леонтьеву), анонимная повесть «Надир». Объектом анализа в диссертации являются также восточные повести М.М. Хераскова «Золотой прут» и И.А. Крылова «Каиб», сказки Екатерины II о царевичах Хлоре и Февее, эпизод «сон путешественника» из 5 главы «Спасская Полесть» книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»; трагедии «Тамира и Селим» М.В. Ломоносова, «Подложный Смердий» А.А. Ржевского, «Фемист и Иеронима» В.И. Майкова, «Сорена и Замир» Н.П. Николева. Отбор литературного материала напрямую соответствует целям исследования, так как временной период 6090-х годов XVIII века (Екатерининского правления) представляется наиболее интересным для анализа произведений, создававшихся в разных литературных родах и жанрах при относительной стабильности в условиях господства в классицистической эстетике литературно-художественной доминанты. При цитировании исследуемых текстов, обнаруженных в отделе редкой книги Румянцевской библиотеки, которые не были опубликованы после первоиздания в адаптированном варианте, мы позволили, сохраняя лексику оригинала, допустить цитирование, не соблюдая орфографию и пунктуацию источника. Научная новизна. Диссертация представляет собой первый опыт комплексного рассмотрения функционирования ориентальных сюжетов в просветительской прозе и трагедии периода 60-90-х годов XVIII века. Новизна определяется также литературным материалом, на котором тема исследуется: в диссертации впервые подробно анализируются анонимные восточные повести «Надир», «Видение Мирзы» и «Благодеяние». Последняя открыта лично нами, ознакомиться с ней можно в приложении. Основные положения, выносимые на защиту: 1.Жанр восточной повести был заимствован русскими писателями из западной, прежде всего, французской просветительской литературы. Ориентализм придавал жанру условность, благодаря которой авторы аллегорически маскировали свою общественную позицию, альтернативную правительственной эстетической доктрине. 6 2. Восточная фабула в произведениях русских писателей использовалась в разных идейно-художественных целях. Анонимные повести «Надир», «Видение Мирзы», «Благодарение», а также «Золотой прут» М.М. Хераскова представляют собой образцы дидактических текстов. Н.И. Новиков в статьях «Завещание Юнджена китайского хана к его сыну» и «Чензыя, китайского философа, совет, данный его государю», И.А. Крылов в повести «Каиб» и А.Н. Радищев в главе «Спасская Полесть» (сон путешественника) из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» используют восточную аллегорию в качестве подходящей литературной формы для критического отображения политического режима екатерининской России. 3. Аллегория как основной художественный прием определяет жанровую специфику восточных повестей. Ориентальной ширмой прикрыты пороки российской действительности – и в сфере государственной жизни, и на бытовом уровне. Этим объясняется характерная особенность произведений российских писателей, а именно: игнорирование восточной экзотики, «местного» колорита, конфессиональных обычаев. 4. В поэтике восточных повестей обнаруживается мотивно-образная амбивалентность художественных универсалий. Во всяком произведении используются идентичные для ориентальной фабулы образы – владыкитирана, недееспособного дивана, лживых придворных, волшебниц-пророчиц, и мотивы – путешествия, сна, переодевания, прозрения, волшебных атрибутов. Вместе с тем, при общей установке на использование восточного материала, в каждой из повестей прослеживается индивидуально воплощенная писателями художественная изобразительность. 5. Немногочисленные трагедии (М.В. Ломоносова, А.А. Ржевского, В.И. Майкова, Н.П. Николева), сюжеты которых основывались на восточном материале, выявляют индивидуально-авторскую интерпретацию осуждения 7 политической системы самодержавного абсолютизма, далекой от просветительских идеалов. Теоретическая значимость работы связана с рассмотрением жанровых особенностей литературных произведений в период кризиса классицизма. Восточные сюжеты продлевали жизнь исчерпавшей себя художественной системы. Практическая значимость диссертации заключается в том, что ключевые положения и выводы могут оказаться плодотворными для дальнейшего научно-практического изучения ориентальных произведений в контексте просветительской литературы П-й половины XVIII века. Диссертационный материал может быть использован в курсах лекций по истории русской литературы XVIII в., истории русской драматургии, а также в спецкурсах, спецсеминарах, практикумах и факультативных занятиях для студентов филологических и культурологических специальностей. Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы обсуждались на заседаниях аспирантского семинара при кафедре русской и зарубежной литературы РУДН. По материалам диссертации были сделаны доклады на научных конференциях: международной научно-практической конференции «Филологическая наука и школа: диалог и сотрудничество» (Москва, МИОО, 2011), международных научно-практических пространстве» конференциях (Москва, РУДН, 2011, «Личность в межкультурном 2012), научной конференции «Актуальные проблемы современного литературоведения» (Москва, РУДН, 2012), XV Всероссийской научной конференции «Печать и слово СанктПетербурга» (Санкт-Петербург, институт печати, 2013), научной сессии XV Невских чтений «Коммуникация в условиях глобальной информатизации» (Санкт-Петербург, 2013). Материалы исследования нашли отражение в 6 опубликованных статьях. 8 Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, членимых на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложения. Полный объем исследования 171 страница. В приложение включен текст восточной повести «Благодарение», обнаруженный в архиве отдела редкой книги Румянцевской библиотеки и проанализированный впервые. 9 ГЛАВА I. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ II-Й ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 1.1. Общественно-политические предпосылки активизации интереса к восточной теме в русской литературе II-й половины XVIII века «Столетье безумно и мудро». Этими словами характеризовал XVIII век А.Н. Радищев. Антонимическое сочетание «мудрости»-величия века и «безумия»ложных представлений об этой «мудрости», воспроизведенное в стихотворении одного из именитых писателей «осьмнадцатого столетия», остается дискуссионной проблемой до нашего времени. В современной науке специалистами различных областей знания предпринимается попытка восстановить исторический, политический, философский и культурный контекст П-й половины XVIII века. А.Н. Радищев описывал XVIII столетие в одноименной оде как современник и очевидец политических и культурных событий времени правления Екатерины Великой. Однако предпосылки общественной ситуации, сложившейся в Российской империи к концу века, имеют свою предысторию. В послепетровскую эпоху носителями верховной власти в России оказывались «случайные» правители. Это обстоятельство было предопределено законом Петра I о престолонаследии от 5-го (16-го по н.ст.) февраля 1722 г., отменившим и прямое наследование по старшинству, и соборное избрание. По этому указу власть отдавалась на волю монарха, который сам назначал преемника. Указ, поскольку великий император скончался без наследного волеизъявления, предрешил причины правительственного династического кризиса в России: за последующие 10 после его смерти пятнадцать лет, до воцарения Елизаветы Петровны в 1741 году, сменилось пять императоров, ни один из которых даже отдаленно не соответствовал своей роли и месту в государственной системе. Случайным оказалось и правление Петра Ш как мимолетный эпизод в истории России и, вместе с тем, серьезная государственная проблема. Тема «Петр Ш – Екатерина II» всегда привлекала внимание и историков и писателей. «Образ Петра Ш, предстающий перед потомками со страниц воспоминаний современников, вызывает противоречивые эмоции. На российский престол в самом конце 1761 г. поднялся 35-летний человек – нервный, впечатлительный, невоздержанный в своих порывах и увлечениях. Он не знал и не любил страну, которой ему предстояло править, и ему в голову не приходило, что по отношению к этой стране у него есть какие-то обязанности, а ее народ – не просто толпа подданных» [34, с. 57]. Екатерина П завершает своим правлением «случайные» царствования в XVIII веке; она провела продолжительное (34 года) и необычайное царствование, сотворив эпоху, названную в истории ее именем. 28 июня 1762 г. в России произошел дворцовый переворот, возведший Екатерину на российский престол. Она использовала ситуацию общественного недовольства безумным правлением мужа. Июньские события 1762 г. привели к значительным изменениям всего уклада русской жизни. На смену средневековому сознанию пришло из Европы мировоззрение Нового времени, где оно постепенно развивалось со времен Возрождения. В распространенным европейской становится политической учение жизни французских в это время философов, публицистов, писателей, поставивших своей задачей просветить широкие круги населения, дискредитировать феодализм, показать возмутительную деятельность церкви, деспотизм власти феодального монарха. Славу 11 приобретают Вольтер, Монтескье, Дидро, Гельвеций, Гольбах, Д’Аламбер, Руссо и др. Проповедь французских просветителей звучала далеко за пределами их отечества. Просветительство становилось распространенным явлением в России. Екатерина II прекрасно осознавала, что идеи просвещения находят широкий отклик в умах передовой российской интеллигенции. И она начала завоевание авторитета монархини, живущей в век Просвещения. Получив власть не по закону наследования, Екатерина не имела прав на титул императрицы: она должна была признать себя регентом при несовершеннолетнем наследнике. Однако Екатерина короновалась в статусе императрицы, общественность в поэтому своей ей необходимо состоятельности, было нужно убедить было продемонстрировать ожидаемую от подданных политическую лояльность и прогрессивную позицию. Однако, как образно охарактеризовал сложившуюся после дворцового переворота ситуацию Ст. Рассадин, в России «семена нововременного сознания попали в плохо приспособленную почву, их прихватило русским морозцем, и всходы они дали своеобразные» [71, с. 66]. И все же многие основополагающие представления этого мировосприятия сохранились по сей день не только в России, но и во всем мире. Так, например, именно к XVIII веку восходит идея правового государства, многие представления о демократии и свободе личности, о взаимоотношении личности и государства, об обязанностях правителя перед народом. «При изучении екатерининского царствования, – пишет автор книги «Под сению Екатерины» А.Б. Каменский, – бросается в глаза резкий контраст между декларативными заявлениями «просвещенной» монархини, щедро рассыпанными как в официальных документах, так и в личных бумагах, и ее реальной политикой. «Тартюфом в юбке и короне» 12 назвал Екатерину II А.С. Пушкин. Пятью словами великий поэт, обладавший удивительным даром исторического видения, выразил то, что профессиональные историки излагают в длинных статьях и монографиях. И во всех этих работах, написаны ли они апологетами или обличителями Екатерины, сквозит плохо скрываемое раздражение. Ибо апологеты никак не могут примирить слова императрицы с ее делами, а обличителям никак не удается уличить ее в каких-либо страшных злодеяниях. Первые исходят из того, что все заявления Екатерины искренни и она на самом деле стремилась действовать так, как говорила. Вторые убеждены, что императрица постоянно лгала, фарисействовала и не только не пыталась при этом воплотить свои заявления в жизнь, но делала все наоборот» [34, с. 105-106]. Екатерина была весьма дальновидным политиком и свою деятельность начала, по оценке Пушкина, с «фиглярства в сношениях с философами ее столетия». Дальновидность императрицы сказалась прежде всего в том, что она сумела во всей сумме прогрессивных идей французских просветителей увидеть самую выгодную для нее сторону, а именно: идеализм мировоззрения, который определил формирование их политической концепции – мечты о совершенном, просвещенном монархе. Именно на этой теоретической основе Просвещения и построила Екатерина свою политику овладения общественным мнением – европейским и российским. «Царице казалось, – писал Н.Я. Эйдельман, – что ввиду отставания России от Франции и других европейских стран еще не скоро появятся такие опасные «спутники прогресса», как стремление к свободе, ненависть ко всем формам деспотизма. Поэтому, хорошо зная, что Вольтер и Дидро враги своего короля, своей церкви, что они уже отсидели в французских тюрьмах, Екатерина тем не менее надеялась, что в России они не скоро найдут столь же дерзких последователей; зато 13 покамест их ум и влияние, их «прирученные идеи» могут быть использованы для укрепления просвещенного самодержавия» [99, с. 24]. Императрица действовала продуманно и решительно. Уже в первый же год своего царствования она успешно наладила личные связи с французскими философами, представив в переписке себя их послушной ученицей и последовательницей. Заявления ее подкреплялись практическими действиями. К примеру, все просветители хотели быть советчиками при государе. Екатерина, затеяв переписку с Вольтером, Дидро, Даламбером, приглашает любого из них в Россию, ко двору, изъявляет желание отдать своего сына, будущего императора, на воспитание. Просветители с восторгом отзывались о деятельности императрицы. Широко известны цитаты из переписки Екатерины с французскими корреспондентами, к примеру, желание Дидро «простираться у ног» русской царицы и Вольтера «созидать» ей «алтари». Однако принять предложение должности воспитателя престолонаследника никто из них не решился. В России побывал только Дидро, и то благодаря или вопреки особым обстоятельствам. Показательна Нуждающийся история в покупки средствах Екатериной философ, не библиотеки найдя среди Дидро. своих соотечественников желающих приобрести его единственную ценность, обратился со своей проблемой к российской императрице, которая ответила воистину царским жестом. «Она не только покупает библиотеку за пятнадцать тысяч ливров,.. но оставляет пока что книги в пользовании бывшего хозяина, назначив одновременно Дидро своим библиотекарем с ежегодным жалованием в тысячу ливров» [99, с. 27]. Реакция «просвещенного» сообщества, естественно, была однозначной: щедрость и великодушие, с одной стороны, и уважение и почитание, с другой, вызвало 14 восторг от благородного поступка российской монархини. Авторитет «просвещенной» императрицы был завоеван. Однако, с другой стороны, Екатерина одновременно принимает меры против распространения в России радикальных идей французского Просвещения. В 1763 г. она высочайшим распоряжением запрещает продажу романа «Эмиль» Жан-Жака Руссо, не допускает в печать перевод книги Гельвеция «О человеке», проницательно угадав антимонархический пафос этих произведений. Позже императрица назвала Руссо человеком, подготовившим «безумства» французской революции. Неоднозначная трактовка темы «Екатерина и французские просветители», согласно которой ее интерес к Просвещению носил скорее лицемерный, чем искренний характер, возникла потому, что «декларации, щедро рассыпавшиеся ею налево и направо, находятся в явном противоречии с ее действиями» [34, с. 130]. К концу царствования, как подметила Л.А. Черная, «идея «общего блага» превратилась в затертую монету, которой государственная власть пыталась купить покорность и терпение народа. Однако затертой монета становится от частого употребления, и именно это действительно произошло в период правления Екатерины, но в начале его императрица, несомненно, верила в возможность благоденствия всех подданных » [95, с. 42]. Первое предприятие, которое организовала Екатерина с целью овладеть общественный мнением россиян, был созыв комиссии по составлению нового Уложения (фактически, новой конституции). Комиссии предстояло воплотить безупречно продуманную идею, поскольку государыня, а не комиссия – тот мудрый, просвещенный, необходимый народу законодатель. Так родился знаменитый «Наказ» Екатерины П – один из уникальных документов эпохи: 15 «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите за право ваших действий, ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом. Свобода, душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, а не рабов…» [Цит. по: 71, c. 68]. Процитированы строки знаменитого «Наказа» Екатерины для будущих депутатов Уложенной комиссии, который являет собой непревзойденный образец вольнодумия. На поверку же оказалось, что и «Наказ», и последующие документы, и церемония выборов, и бездарная работа комиссии – все это было показным, двусмысленным действием, ни к чему не обязывающим и, в итоге, провальным. С. Рассадин писал: «Почти одновременно с «Наказом» Екатерина издает ряд указов отнюдь не в духе просвещенной монархини. 14 декабря 1766 г. был подписан Манифест о созыве в Москве «демократически» избранной комиссии по работе над Уложением. А 22 августа следующего года государыня издает указ «О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков и о неподавании челобитных в собственно Ея Величества руки». Далее следуют указ за указом: «Провинившихся холопов присылать в Адмиралтейскую коллегию с тем, чтобы отдать в каторжные работы на толикое время, на сколько помещики их похотят». За первое нарушение – каторжные работы, за второе – публичное телесное наказание и год каторги, за третье – снова пороть и в каторгу навечно» [71, с. 69]. Работа Уложенной комиссии оказалась несостоятельной. Естественно, в радикально настроенных кругах русской интеллигенции возникало сомнение в искренности прогрессивных настроений «просвещенной» монархини, впечатление, что комиссия была нужна императрице как 16 средство для достижения определенных политических целей – прежде всего, создания себе авторитета идеальной правительницы. На поверку, торопиться с выработкой законов она не спешила, поощряла более славословие в свой адрес, чем конструктивные действия. После двух месяцев заседаний комиссии стало ясно, что работа депутатов абсолютно неэффективна. Екатерина медлила, откладывала рассмотрение предложений, вносила изменения в Наказ, которые следовало изучать и т.п. Вся эта рутина длилась еще несколько месяцев, и, наконец, в декабре 1767 г. Екатерина приказала работу комиссии прекратить. Чтобы сгладить ситуацию, отвести разговоры по поводу роспуска комиссии, императрица предприняла новый «либеральный» жест: она объявила свободу слова в печати, анонимную бесцензурную критику, и сама взялась руководить журналистикой. С начала 1769 г. начинает выходить сатирический журнал «Всякая всячина», издателем которого официально считался секретарь Екатерины Козицкий, но всем было понятно, что фактическим учредителем и автором статей являлась государыня, маскирующаяся под псевдонимом «прабабка». В первом же номере журнала Екатерина раскритиковала работу комиссии, сняв с себя всю ответственность и переложив «головную боль» на депутатов. Она опубликовала статьи «Дядюшка мой человек разумный есть» и «Молодые люди всего желают отведать», а также «Сказку о мужичке», где изложила свой взгляд на причины провала Уложенной комиссии. В аллегорической «Сказке о мужичке» это преподносится так: Портные (депутаты) шили мужичку (народу) новый кафтан (уложение). И хотя у них был даже образец такого кафтана («Наказ»), дело им не давалось. Тут «вошли 4 17 мальчика, коих хозяин недавно взял с улицы, где они с голода и холода помирали» (Лифляндия, Эстляндия, Украина и Смоленск), которые, хоть и были грамотны, помогать портным не пожелали, а, напротив, стали требовать, чтобы им отдали те кафтаны, которые они носили в детстве (старинные привилегии). В итоге мужичок так и остался без кафтана [7, с. 174]. В одном из номеров журнала императрица выступила с «руководящим пособием» для «правнуков», декларируя те правила, которым следовало бы им руководствоваться в вопросах критики человеческих недостатков: «1.Никогда не называть слабость пороком; 2.Хранить во всех случаях человеколюбие; 3.Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было и для того 4.Просить Бога, чтоб дал нам дух кротости и снисхождения» [31, с. 70]. При таком понимании функции сатиры допустимость критики социальных пороков практически сводилась на нет. «Всякая всячина», – отмечал А.В. Западов, – рекомендовала журналистам толковать о достоинствах правительства и не расписывать дегтем недостатки русской жизни: «Добросовестный сочинитель, – говорилось в одной из статей журнала, – изредка касается к порокам, чтобы тем под примером каким не оскорбити человечество: но располагая свои другим наставления, поставляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами, то есть добронравием и справедливостью; описывает твердого блюстителя веры и закона, хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и отечеству, изображает миролюбивого гражданина, верного хранителя тайны…» [31, с. 67]. 18 Один за другим стали появляться в столицах сатирические журналы, так называемые «летучие листки»: «И то и сио» (Чулков), «Ни то ни сио в прозе и стихах» (Рубан), «Поденьшина» (Тузов), «Полезное с приятным» (Румянцев), «Смесь» (Сичкарев), «Адская почта, или переписка хромого беса с кривым» (Эмин), «Трутень» (Новиков). Обратим внимание, что за исключением двух последних журналов, все названия являются вариацией декларированной «прабабкой» «причесанной» критики: о всякой всячине, о поденщине, о приятном с полезным, о том - о сем, о ни том - ни сем… – то есть, ни о чем важном и существенном. О насущных проблемах заявил только Н.И. Новиков. Весь опыт истории культуры свидетельствует, что наиболее естественное положение творческой личности – это оппозиция к власти. Степень оппозиционности может быть различной, но как только художник начинает воспевать власть и подпевать власти, он перестает быть творцом, а выполняющая социальный заказ культура превращается в конъюнктуру. Чем больше государство вмешивается в жизнь своих граждан, чем больше оно стремится регламентировать их жизнь, тем острее противостояние конъюнктурного заказа и личностного самовыражения. Н.И. Новиков, активно выступивший против «безличной» критики, навязчиво рекомендуемой «Всякой всячиной», противопоставил свою общественную позицию, альтернативную екатерининской декларации. «Трутень» оказался первым оппозиционным изданием по отношению к правительственной «указующей» линии. В журнале публиковались острые, едкие, нелицеприятные материалы, изображающие действительность в сатире, отличной от декларативной – без «духа кротости и снисхождения». Новиков своими остроумными публикациями сумел возбудить недоверие к искренности «прабабки», чем вызвал ее гнев. Спровоцированная Новиковым полемика между «Трутнем» и «Всякой всячиной» – 19 опубликование журналистом писем Правдолюбова и Чистосердова и отповедь на них «прабабки» («На ругательства, напечатанные в «Трутне», мы ответствовать не хотим, уничтожая оные»); последующий, отнюдь не сатирический, а представляющий реальную картину жизни крепостной деревни материал «Копии переписки дворян с помещиками» – привела к дискредитации в глазах общественности «демократической» затеи Екатерины с анонимной бесцензурной критикой. Именно Н.И. Новиков впервые использовал сатирическую аллегорию – маску «восточного» прикрытия истинной ситуации правления «просвещенного» монарха в русской литературе. Будучи образованным интеллигентом и, безусловно, начитанным вольтерианскими произведениями, он сумел обернуть их идею в сторону критики отечественной власти. После запрещения «Трутня», в 1770 г., Новиков предпринял попытку издания сатирического журнала «Пустомеля», который был запрещен после выхода второй «книжки», содержащей публикацию под названием «Завещание Юнджена, китайского хана, к сыну» [см. подробнее: 1.3]. «Восточная» аллегория в повествовательной прозе екатерининского времени с подачи, безусловно, французских просветителей, прежде всего, Вольтера, но, одновременно и со смелого почина Новикова, «определилась сразу как жанр идеологический, разрешавший наиболее общие и в то же время злободневные философские вопросы, с одной стороны, и как сатирический жанр, с другой. Успеху «восточных» повестей способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, условные восточные одежды были удобны по цензурным соображениям; во-вторых, сам метод изображения западного мира через восприятие наивного восточного жителя был на руку писателю-просветителю. Это был идеальный для просветителя способ анализировать явления жизни с точки 20 зрения разумности и естественности. В-третьих, маскировка под модный жанр облегчала широкую популяризацию философских идей» [41, с. 289]. Восточная повесть в русской прозе П-й половины XVIII века приобретает весомую литературную популярность и весьма широкий общественный резонанс. 1.2. Трансформация восточных сюжетов в русской журнальной прозе II-й половины XVIII века: тексты, жанровая специфика, идейные приоритеты Жанровая разновидность художественного произведения, определенная литературоведами как «восточная повесть», имела довольно обширный ареал распространения в русской прозе. В перечень сочинений подобного рода можно включить, с одной стороны, подлинные переводы восточных сюжетов, среди которых архетипический образец жанра – цикл сказок «Тысяча и одна ночь», а также их многочисленные подражания, с другой, – западные тексты, известные в переводах на русский язык. Авторами этих произведений в большинстве случаев были французские писатели, сторонники просветительских идей – Вольтер, Дидро, Монтескье и др., которые использовали посредством восточные литературного мотивы выступления в целях актуализации пропагандируемых ими общественно-политических проблем. К образцами первого типа переводов можно отнести подражания «Тысяча и одной ночи» Пети де ла Круа «Тысяча и один день. Сказки персидские», Тамоса-Симона Геллета «Тысяча и одна четверть часа. Сказки татарские», «Тысяча и один час. Сказки перуанские». Популярны были и анонимные переводы, сюжетно и композиционно построенные по 21 модели классического прототипа – «Сказки арабские. Приключение Абдаллы», «Пятьсот с половиной утр. Сирийские сказки» и мн. др. Однако более значимыми, оказавшими непосредственное воздействие на восприятие и становление жанровой модели «восточной» повести в русской литературе французских исследуемого периода писателей-просветителей. стали Традиция произведения использования ориентальных мотивов и образов русскими писателями восходит, прежде всего, к творчеству Вольтера – автора произведений «Мир как он есть, или Видение Бабука», «Задиг. Восточная повесть», «Принцесса Вавилонская», в которых французский просветитель мастерски воспроизводил восточную экзотику в целях популяризации своих философских идей. В связи с выше изложенными наблюдениями нам представляется наиболее резонным вывод исследователя В.Н. Кубачевой, которая в своей фундаментальной статье отмечала, что «во французской литературе XVIII века «восточная» повесть не имела единого характера. Параллельно существовали два несовместимых ее вида: один – развлекательный, ведущий начало от восточной фантастической сказки и авантюрногалантного романа, а другой, лишь внешне сходный с ним вид, – просветительская «восточная» философская повесть. Они развивались рядом, почти не смешиваясь; каждый из них имел свою поэтику» [41, c. 299]. В.Н. Кубачева, анализируя рецепцию французской «восточной» повести на идентичный литературный аналог в русской прозе, определила три направления, выявляющие определенные тенденции восприятия идей, тем, мотивов и образов: 1) морально-этические с религиозной окраской; 2) развлекательные, авантюрно-галантные; 22 3) просветительские философско-сатирические и нравоучительные [41, c. 299]. «Общий термин «восточная повесть», – уточняет В.Н. Кубачева, – в этих группах имеет не один и тот же смысл. В первой группе он иногда воспринимается как указание на место возникновения, на родину произведения. Во второй чаще определяет лишь место действия, а в некоторых случаях – условный источник: подражание арабским или иным восточным сказкам. Наконец, произведения третьей группы всего дальше отстоят от первоначального значения термина «восточная повесть». Здесь могут отсутствовать даже восточные сюжеты; используются лишь имена, внешний реквизит и некоторые детали, ставшие общепринятыми признаками «восточности» [41, c 299-300]. Из трех пунктов, определяющих векторы использования восточных мотивов русскими литераторами II-й половины XVIII века, наиболее реализуемой нам видится заключительная рубрика. Религиозный компонент в прозе этого периода мало выявлен (он более обозначится в драматургии). Развлекательно-авантюрные сюжетные линии наблюдаются в оригинальных текстах изредка в виде нечастых окказиональных вкраплений. Но переводные произведения, отнесенные к этой группе, достаточно представительны. Жанр восточной повести, классифицированный в первую группу представлен такими произведениями, как «Явление, виденное Феодором, пустынником Тенерифским» («Сочинения и переводы», 1760), «Обидах и пустынник» («Ежемесячные сочинения», 1756), «Видение Мирзы» («Утренний свет», 1779). При ознакомлении с текстами этой рубрики бросается в глаза существенная особенность: отсутствие религиозного православного контекста. Поэтому в градации В.Н. Кубачевой при определении главного проблемного критерия для восточных сюжетов 23 первой группы нам представляется спорной вторая часть предложенной дефиниции: непонятно, какую «религиозную окраску» имела в виду исследовательница. Тексты насыщены аллегорическими образами, но все они далеки и от языческой, и от христианской мифологии, а сфокусированы вокруг символических универсалий, олицетворяющих нравственные категории. Перечисленные повести в идейно-художественном плане сходны между собой проповедью высоких морально-этических норм общественного поведения. В качестве образца нравственно-дидактической притчи прокомментируем «Видение Мирзы». Анализ именно этого произведения мы предпочли по одной причине: сюжет его перекликается со сказкой Екатерины II о мудрой царевне Фелице, добродетельном царевиче Хлоре и порочном мурзе Лентяге, который послужил основой к созданию Г.Р. Державиным его знаменитой оды [подробнее см.: 2.3.]. Заглавный герой анонимного произведения Мирза, в отличие от державинского порочного мурзы, является персонажем положительным. Его волнует нравственная проблема субъективной сущности человека, его внутреннего выбора в борьбе между наслаждением плотскими страстями и следованием высоким духовным моральным идеалам. Ответ на сомнения героя приходит в «видении», когда к нему является некий дух по имени Геонех, пригласивший Мирзу посетить «неведомые» земли за «багдадскими горами»: «Мирза! Я обещал познакомить тебя с духовным миром… Посредством моим духовные вещи спустятся несколько степеней ниже с бесконечныя высоты своея, и взорам твоим, в виде приличнейшем теперешнему образу мыслей и способностей твоих, предстанут» [16, c. 285]. 24 Герой в видении становится свидетелем спасения Души, которую Владыко за провинность низвергнул «в нижний мир сей» для испытаний грешными искушениями. Проступок ее не был серьезным прегрешением: «Некоторые сказуют, якобы она при некоем торжестве, упившись нектаром, вступила противу Царя духов в заговор… Другие же мнят, что не столько учиненное преступление, как некое тайное намерение Царя сего, которого никто знать не может, происшествию сему причиною; а сие тем вероятнее быть кажется, ибо неоспоримо, что Сам Он печется, чтобы Душа сия возвратилась паки во природную землю невредимою» [16, с. 286-287]. Но хрупкой, «эфирной» Душе пришлось преодолеть козни «коварных» противников, изображенных в персонифицированных образах порочных Желаний, Веселий и Глупости, вовлекающих ее в вакханалию плотских безумств. Победе Души над безнравственными способствовала Добродетель, явление которой соблазнителями уподобилось «оному блаженству, вкушаемому ею по среде ангелов; она мнила в лице Добродетели видети черты вечныя красоты, которую прежде всего обожала» [16, с. 295]. Таким образом, возрождению Души способствовала Добродетель. Пребывающий в философском поиске решения проблемы духовности Мирза благодаря своему видению познал высший смысл человеческого бытия: «Но всего удивительнее, и для зрения моего восхитительнее, было то, что всякое желание, движущееся вокруг Добродетели, яко в округе средоточия своего, подобно зеркалу принимало образ оныя; каждое из них казалось списком Добродетели во свойственном ему виде » [16, c. 296]. 25 В.Н. Кубачева, в своем исследовании кратко анонсируя восточную повесть «Видение Мирзы», отметила, что в ней и близких по содержанию произведениях решаются морально-этические проблемы «с позиции философа-мудреца, аскетически отрешившегося от мирской суеты… Поучения и толкования облечены в форму откровения, видения, явления. Образы пустынников, духов, ангелов композиционно помогали автору посвоему обобщить явления. Тут была и принципиальная позиция: слабый человеческий разум не способен достичь вершин знания – «истинное» знание связано с откровением» [41, c. 300-301]. Вторая группа повестей, художественной задачей которых была развлекательная цель, как было отмечено, самая мало представительная в оригинальной интерпретации восточной темы русскими литераторами. Вместе с тем, поток переводных текстов любовного содержания «хлынул» в журналы с переизбытком. В начале 70-х годов российский обыватель впервые познакомился со сказками «Тысяча и одна ночь», ставшими сразу самыми читаемыми и популярным. Причину колоссальной популярности сказок объяснил академик А.Н. Веселовский: «Перед читателем открылся особый мир, знакомый и незнакомый вместе, фантастический и реальный; те же образы, что и в народной сказке, но окутанные теплом и ароматом Востока: вместо тридесятого царства и банальных декораций romans d’aventures – настоящий Восток с обыденными подробностями его жизни, мелочами его interieur и тайнами гарема. Те же феи и волшебники, джинны и окаменелые города, но все в грациозных размерах, перерастающих воображение и вместе мирящихся с реальностью, миры демонов и людей так глубоко слились, что между ними нельзя провести границ: каждый шаг в области действительности может увлечь вас к магнитной горе, у которой погибнет ваш корабль, или во власть демона-великана, когда-то заключенного в медный сосуд пророком Соломоном. И эта чересполосица 26 фантастического и реального не только не изумляет вас, а кажется естественною: так просто вращаются в ней действующие лица,.. когда мир демонов любовно или враждебно опускается на землю и ткутся наяву пестрые сказки, которые Шехразада расскажет потом Шахрияру» [90, c. VVI]. Издатели журналов тут же подхватили «волну» популярности «восточных» повествований, предлагая многочисленные подражания «Тысяча и одной ночи»: переводы с французского языка так называемых персидских, татарских, китайских и прочих сказок. Русского подписчикаобывателя, утомившегося от чтения злободневных публицистических материалов, привлекла восточная сказка с ее изящной экзотикой и фантастическими приключениями. Растущий «рейтинг» популярности развлекательного чтения вызывал осуждение в среде русских журналистов и литераторов, во-первых, тем, «что авантюрное повествование требовало много места», во-вторых, что «содержание подобных произведений казалось издателям журналов неприемлемым» [41, c. 302]. Попытки подражания французам в оригинальном прочтении сказок «Тысяча и одной ночи» вызвало поток резкой критики. Так, переложение одного из восточных текстов М. Поповым было воспринято весьма негативно. Критики указывали на антипедагогическое влияние ориентальных сюжетов. В одной из рецензий отмечалось: «Большая часть романов многим, особенно молодым людям вредна, хотя бы тем только, что напоясь они сею сладостию, чувствуют уже отвращение от здоровой и больше им приличной пищи, равно и тем, что, представляя себе примеры вымышленных лиц, щастия своего ожидают от случайных приключений, которого они от доброго поведения и трудолюбия своего ожидать должны были» [74, c. 318-319]. Попов же отрицал эти обвинения, полагая, что 27 переводы обладают правом существовать даже отодвинутыми на периферию литературы. Мнение Попова имеет свой резон. Легкие, довольно динамичные в развитии сюжета, в отличие от пространных, перенасыщенных назидательными максимами, занудных нравоучительных текстов, эти повести привлекали читателя любовной интригой и, несмотря на их наивность, явный авторский дилетантизм, оказались весьма популярными и публиковались чуть ли не в каждом выпуске даже таких авторитетных изданий, как новиковские «Утренний свет» и «Городская и деревенская библиотека». То есть, издатели не смогли обойти должным вниманием интерес читателя к модной восточной развлекательной прозе. Не следует игнорировать и тот факт, что развлекательные тексты одновременно осуществляли воспитательную функцию, наподобие сказок вообще, и сказок «Тысяча и одной ночи» в частности. В качестве примера подобного восточного текста, замаскированного под перевод с французского (а может быть, и действительно переведенного) проанализируем опубликованную в журнале «Утренний свет» восточную повесть, основой сюжета которой является любовная история, счастливый конец которой предрешен ситуацией, обозначенной в заглавии – «Благодеяние». В конце этого произведения указывается сведение: «Перевел с французского языка Дмитрий Рыкачев» [10, с. 286]. Сюжетную интригу завязывает описание несчастной любви бедного безродного, изображенного в повествовании безымянным, юноши и его возлюбленной Фатьмы, дочери состоятельного крестьянина Сгель Адара. Изначально отец девушки был твердо категоричен в своем отказе на ее брак с бедным простолюдином, что явилось причиной изгнания молодого человека и разлуки со своим отцом и маленькими братьями. 28 Извечное противоборство морали властных «отцов» и непокорных «детей» разрешается в повести идиллически в пользу «детей». Счастливое воссоединение влюбленных происходит благодаря судьбоносному случаю – встрече отчаявшегося молодого человека и умудренного жизненным опытом старика, проникшегося симпатией к несчастному юноше: «Молодой человек подняв голову, пребывал в глубоком молчании, взирал несколько время на старика с удивлением, находя в нем чувствительность и благосклонность. Единой вид доброго Пастора подавал доверенность; глаза его были наполнены приятности и остроты; они имели сии нежные взгляды, утешающие несчастных» [10, с. 282]. Молодой человек, спасенный от смерти старцем, поведал ему свою несчастную историю: «Я любил Фатьму, она любила меня; отец ее о том сведал; мы ему открыли страсть нашу, а он хочет принудить меня удалиться от той страны, где обитает дочь его. Я бросился к ногам его и сказал: «О родитель Фатьмы, позволь по крайности жить мне в одной с тобой долине: я согласен не говорить уже с Фатьмой, не буду знать, любит ли она меня еще, обещаюсь тебе, не буду знать о ней» [10, с. 283]. Оказавшийся богатым владельцем пастбищ и скота, старец становится благородным покровителем влюбленных, жертвующим частью своего имущества для выкупа невесты и тем самым примиряющим враждующие стороны. Повесть завершается воистину идиллической картиной – описанием созерцающей умиротворенным покровителем семейной сцены: «…Добрый Пастух… остановился, чтобы насладиться всем тем, что лестное и приятное зрелище может дать удовольствия. Два старика показывали друг другу некоторых юношей, между которыми находились два мальчика… Добрый Пастух 29 узнал, что сии мальчики были братья младаго супруга Фатьмы… Два старика показывали друг другу некоторых юношей, между которыми находились два мальчика… Добрый Пастух узнал, что сии мальчики были братья младаго супруга Фатьмы… При деревьях Фатьма и супруг ее сидели на траве,... смотря пристально друг на друга, и столь тихо усмехались… Добрый пастух видел и слышал повсюду к нему относящиеся радостные восклицания. Везде восклицали ему похвалы и прославляли его имя» [10, c. 286]. Счастливая развязка в повести, в результате, представляет собой лишь внешним образом привлекательный сюжетный предлог для выражения более важных в просветительской литературе мыслей, вскрывающих проблему социального имущественного неравенства, во-первых, и актуализирующих дидактическую задачу воспитания благородства и великодушия, во-вторых. Однако негативные качества, в частности, алчность Сгель Адара, ретушированы счастливой развязкой и открытого обличения не содержат. Особо следует отметить в рамках развлекательно-авантюрной рубрики «восточные» повести В.А. Левшина, включенные в сборник «Русские сказки». Они не связаны с журнальными изданиями, но обойти их вниманием при рассмотрении вопроса о влиянии и использовании мотивов «Тысяча и одной ночи» невозможно. Произведения Левшина весьма специфичны, и не случайно исследователи определяют их как «посевдорусские» сказки, поскольку персонажи представляют собой не столько древних киевских витязей и богатырей, сколько неких абстрактных рыцарей, выписанных в манере европейской традиции рыцарского романа с привнесением восточного флера. На «псевдорусскость» сказок Левшина обратила внимание Г.П. Присенко: «В «богатырских» сказках В.А. Левшин… обработал русский эпос в духе западноевропейских рыцарских романов… В повествования о 30 подвигах и приключениях киевских князей им вносились многочисленные эпизоды, заимствованные из волшебно-рыцарских романов и восточных сказок» [67, c. 26]. В списке произведений Левшина среди «псевдорусских» сказок («Повесть киевского воеводы Мирослава», «Повесть псковского дворянина Разбивоя», «Повесть древлянского князя Миловида» и др.) имеется два сюжета с явной восточной коннотацией – «Повесть о мавранарском королевиче Абакае» и «Приключения Гассана Астраханского». Эти произведения предназначены для легкого, занимательного чтения и адресованы невзыскательному читателю. М.А. Гистер характеризовала их как тексты «не скованного условностями повествования, наполненного безудержной фантазией, сплетением в сюжете самых необычных мотивов, фабульных ходов, авантюрных перипетий». Левшин, по наблюдению исследовательницы, «сосредоточил все внимание… на экзотике фантастических стран, на необычной любви героя и его злоключениях. Чудесные превращения, магические перемещения героев по миру «дольнему» и «горнему», подземному и подводному, описание их встреч с духами, гномами, волшебниками – вот что держало внимание читателя…» [20 а, с. 159]. Восточные повести Левшина фабульно связаны с известными волшебно-авантюрными сказками из «Тысяча и одной ночи» о Синдбаде-мореходе, Али-Бабе и сорока разбойниках, об Аладдине и его волшебном светильнике. Интенсивное же использование восточной темы в русской прозе II-й половины XVIII века обнаруживается в следовании вольтеровской обличительно-сатирической в совокупности с нравоучительно- проповеднической традиции, что выявится в отечественной литературе как «жанр идеологический, разрешавший наиболее общие и в то же время злободневные философские вопросы, с одной стороны, и как сатирический 31 жанр, с другой» [41, c. 298]. Подобные литературные сочинения, как авторизированные, журнальных, так и печатались анонимные, в изданиях, регулярно. Наибольшей прежде всего популярностью пользовались журналы Н.И. Новикова, которые и для нас, при ознакомлении с литературно-публицистической периодикой II-й половины XVIII века в отделе редкой книги Румянцевской библиотеки, оказались наиболее ценными источниками в поиске материала для нашего исследования. 1.3. Интерпретация восточной темы в журнальных публикациях Н.И. Новикова Как было выше отмечено, преобладающее влияние французской «восточной» Просвещения, повести на восходит русских к писателей, вольтеровскому воспринявших идеи публицистическому и литературному творчеству, прежде всего его философско-сатирическим повестям, идеологически насыщенным актуальными, злободневными для современного общества проблемами, маскирующимися авантюрно- восточными сюжетами. Новиковские «Ежемесячные сочинения» уже в первых номерах журнала поместили публикацию перевода вольтеровского «Задига» с его концептуальным предисловием, суть содержания которого – намек на творческое использование восточной аллегории в целях актуализации своей художественно-публицистической задачи. Открыто, без какого-либо подтекстового намека, вольтеровское творческое кредо выявлено в письме к Мормантелю, где он призывал адресата: «Вам следовало бы непременно сочинять философские сказки, где вы сможете предать осмеянию кое-каких глупцов и некоторые глупости, некоторые подлости и кое-каких подлецов – все это с умом, вовремя, подстригая 32 когти зверя тогда, когда застанете его спящим» [27, с. 286]. Новиков блестяще реализовал этот эстетический лозунг в лаконичных журнальных статьях, впрочем, как впоследствии идею Вольтера не менее ярко воплотят его русские литературные преемники – И.А. Крылов и А.Н. Радищев. Однако прежде чем обратиться к анализу текстов, представленных в журналах Новикова, в которых вольтеровская традиция использования ориентальных сюжетов в просветительских целях совмещается с насущной идеей просвещенного правления в российской империи, рассмотрим синхронный аспект функционирования восточных мотивов и образов, появление которых в литературных произведениях обусловлено реальными событиями, связанными не с внутренними проблемами государственного устройства, а с внешней политикой России. В.Н. Кубачева в исследовании функционирования «восточной» повести в русской прозе II-й половины XVIII века обошла вниманием тему, которая в триаде мотивов, ею обозначенных, может быть дополненной четвертой группой литературных сюжетов, основанных на реальных событиях взаимоотношений России и Востока. Имеется в виду военное русско-турецкое противостояние. События театра боевых действий, громкие победы русской армии освещались в журналах сообщениями документального характера. Вместе с тем, некоторые авторы не преминули сатирически изобразить вражеские ратные неудачи. В качестве примера приведем любопытный материал, опубликованный Н.И. Новиковым в журнале «Пустомеля» (1770 г.). Автор использует широко представленную в его первом журнале «Трутень» жанровую форму «Ведомостей». Но если прежде обличительный характер ведомостных публикаций был сугубо сатирический, то, после закрытия «Трутня», в новом издании Новиков избрал тактику осторожности и действовал через подставное лицо: донесение в Академию наук с просьбой печатать «Пустомелю» он написал 33 от имени некоего маклера Фока. Одной из тем нового журнала была заявлена патриотическая – прославление подвигов русских солдат в войне с Турцией. Но реализовать эту задачу удалось только частично, поскольку публикации Новикова продолжали сатирическую установку «Трутня» даже в отображении такого серьезного события, как русско-турецкая война, и журнал после второго выпуска был закрыт. В первой ведомостной статье ироническая интонация еще скрывается в подтекст: ВЕДОМОСТИ ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ Ни который народ не был приведен до такой крайности, чтобы торжествовал успехи неприятельского против себя оружия; но у нас сие делается. Орудия, коими до сего времени турки врагов своих поражали и которые возвещали наводимый ими на всю Европу ужас, ныне только нас самих приводят в трепет и возвещают народное несчастие. Неизвестно, по какой ложной политике, при всякой одержанной неприятелями над нами победе диван делает торжество: но народ обманам сим не верит. Всякий выстрел из пушек серальских умножает всенародное уныние и напоминает предстоящую нам погибель; письменные известия, получаемые из армии, от народа тщательно скрывают: но ему повседневно из армии приходящие солдаты сказывают истину. Они, возвещая храбрость неприятельскую и смертоносное действие их орудий, сделали то, что в Константинополе о победе над россиянами и думать не смеют. Слово российский солдат наихрабрейшего турка приводит в трепет, и в армию никто больше иттить не хочет. Янычары, до сего времени для получения золота во всякую опасность ввергавшиеся, ныне оное презирают. Ни султанский гнев, ни деньги, ни проклятие, муфтием налагаемое на тех, которые не пойдут в армию, не делает их храбрыми. Повсюду говорят о падении турецкой монархии; народ во отчаянии бродит по улицам и вопиет: "Проснись, Магомед, мы все погибаем!", но совсем неизвестно, где он теперь и что о народе своем промышляет. Турки точно в такое же бедственное россиянами приведены состояние, в какое турками за несколько сот лет приведены были греки. Янычары Магомеда призывают на помощь, но сабель из ножен не вынимают [60]. 34 Следующая публикация уже лишена иронического намека: автор открыто издевается над поверженными турками, пытающимися найти способы дать отпор русской армии, даже такие нелепые, как волосоподвивание: ОТТУДА Ж Тайные серальские известия Старый муфти, яко начинатель сей для нас несчастливой войны, всячески старался уговаривать янычар, чтобы они шли в армию и побеждали неприятеля; он рассыпал пред ними султанскую казну, грозил проклятием, называл их трусами, но ничто не помогло. Янычары его не слушаются. Султан за сие чрезвычайно на муфтия огорчился и недавно отправил его для набору армии из тех янычар, которые служили под предводительством Магомеда султана, приведшего всю Европу в трепет; может быть, он сие окончает удачнее и хотя тем воспятит неприятельские нам поражения. На место старого выбран новый муфти, который меньше прежнего к войне имеет склонности. Он, собравши всех толкователей Алкорана, предложил им для решения самую претрудную задачу, а именно: отчего русские солдаты несравненно превосходят храбростию турок? Толкователи пришли от сего вопроса в недоумение; они очень долго потели, приискивая приличное сему в Алкоране; наконец заключили, что храбрость сия и неустрашимость происходят от завивания и пудрения волос. Муфти предложил сие султану и давал свое разрешение, чтобы всем янычарам обрить бороды и завивать волосы. Султан приказал немедленно требовать у министра некоторой доброжелательной нам державы, чтобы он для турецкой армии выписал парикмахеров, пудры и помады: решение сие произвело в серале ободрение тем паче, что по сие время ядры, пули и сабли нам не помогали; но от народа сие еще скрывают: ибо сколько сераль на сей счастливый вымысел ни надеется, но, однакож, страшится ввести сию перемену. Впрочем, сие почитают вдохновением святого пророка Магомеда, почему и великую на сие полагают надежду. Многие любимцы султанские начали уже тайные делать приуготовления к торжеству по получении над русскими победы [60]. 35 Дальше – больше: ведомостная хроника достигает своего сатирикоиронического апогея. Европейские государства, «поддерживают» турок и направляют им в «помощь» лучших своих цирюльников: ИЗ НЕКОТОРОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДА Дружелюбие нашего двора с Отоманскою Портою всему свету известно; если бы были мы посильнее и побогатее, то давно бы знаки оного свет увидел; но мы находимся в таком состоянии, что и в своих нуждах на наши руки надеемся мало, а обороняемся всегда головами. Впрочем, по требованию Порты набираются у нас по всем местам парикмахеры и заготовляется бесчисленное множество пудры и помады, что в скором времени к блистательной Порте и отправится. Вспоможение сие немалой важности: ибо все жители нашего города небеспричинно опасаются, чтобы не ходить им с незавитыми и непудреными волосами до того времени, пока заведутся новые парикмахеры. Впрочем, во что бы сие ни стало, только двор непременно вознамерился сие исполнить. Поговаривают, что министерство наше вознамерилось к Порте отправить несколько тысяч книг о парикмахерском искусстве [60]. Заключают цикл «Ведомостей» статьи, продолжившие сатирическое описание беспомощности турецких янычар и их военачальников, которые в ситуации безысходности решают предпринять последний тактический ход – набрать войско в серале! ВЕДОМОСТИ ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ Почти никакого не видим мы средства к нашему избавлению, уж и парикмахеры нам не помогают! Недавно предложенный муфтием способ никакого не имел успеха. Янычары, услышав о введении в обычай завивания волосов, пришли в бешенство, и дошло бы до преужасного кровопролития, если бы заблаговременно не взяты были надлежащие к тому меры. Повседневно приходящие к нам известия об успехах неприятельского против нас оружия умножают народное смятение. До какого несчастия Порта дошла! Уж и греки под предводительством россиян нас побеждают. Окрестности Дуная горят, Морея пылает, Дарданеллы трясутся, и Стамбул трепещет. 36 Повсюду в турецких областях российский летает орел, неся с собою ужас и смерть. Муфтий, видя бесполезность своего намерения, всех присланных к нам от доброжелательной нам державы парикмахеров приказал употребить к строению флота; неизвестно, какой и от сего успех будет: ибо весьма сомнительно, чтобы народ, приобыкший к чесанию, завиванию и пудрению волос и к новым модам, в состоянии был сделать преграду непобедимому российскому флоту. ОТТУДА Ж В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ Последние два страшные нашим войскам от россиян поражения лишают нас друзей, воинов, военных снарядов и приличной до сего времени блистательной Порте гордости. Янычары, приведенные в ужас, в армию против россиян иттить не дерзают. Некто на сих днях подал султану выдумку о наборе войск в сералях, которая, как сказывают, и утверждена; и так в скором времени будут набирать сии войски, и свет увидит целую армию, состоящую из женщин: неизвестно, кто будет предводительствовать победоносными сими войсками; и в народе о том еще разные носятся слухи [60]. Создатель цикла «ведомостей» выступил как аноним, но с большой долей вероятности можно предположить, что текст принадлежит Н.И. Новикову. Иронически изысканная стилевая манера повествования, отличавшая статьи в «Трутне», а также варьирование сугубо новиковских тем и образов свидетельствуют о его авторстве. В качестве сравнительного образца приведем фрагмент «Статей из русского словаря», опубликованных в «Трутне»: «У к р а с и т ь г о л о в у п о - ф р а н ц у з с к и. О приведении в совершенство сея науки Франция несколько лет прилагает попечение. И хотя в Париже заведена академия Волосоподвивательной науки, изданы в народе печатные о том книги, но однако ж и по сие время, так же, как и философия, в совершенство не пришла, из чего следует, что быть совершенным волосоподвивателем так же трудно, как и философом, да и науки сии одинакии, одна украшает голову снаружи, а другая внутри, а что к 37 первой ныне более прилепляются, тому причиною мода. Да сие и весьма справедливо: украшенная снаружи голова гораздо почтеннее украшенной внутри… А в том и никакого нет сомнения, что хорошо завитые волосы скорее ума приметить можно: волосы снаружи, а ум внутри…» [61, c. 366]. Новикову удалось издать только два выпуска «Пустомели»: этот журнал, как и «Трутень», был запрещен. Причина закрытия – опубликование политической сатиры, неугодной Екатерине II. Помимо оригинальных новиковских сочинений в журнале были напечатаны сатира «Послание к слугам моим» Д.И. Фонвизина и обозначенная как перевод с китайского статья под названием «Завещание Юнджена китайского хана к его сыну». Эта статья была приурочена ко времени совершеннолетия Павла Петровича в сентябре 1772 г. Вопрос о наследственных правах императрицы и ее сына все чаще и чаще обсуждался в обществе, и эта публикация для Екатерины была «бомбой». Современные исследователи приписывают авторство статьи Алексею Леонтьевичу Леонтьеву. Википедия предоставляет о нем довольно обширные сведения. Он был единственным профессиональным синологом в екатерининское время, служил в русском посольстве в Пекине, а по возвращении получил должность переводчика в Коллегии иностранных дел. Леонтьев перевел на русский язык более 20-ти китайских и манчьжурских сочинений, в том числе и два текста, опубликованных Новиковым (с позволения автора или по собственной инициативе?) – «Чензыя, китайского философа, совет, данный его государю» («Трутень», лист 8) и «Завещание Юнджена китайского хана к его сыну» («Пустомеля», лист 2). Возможно, Новиков воспользовался текстами Леонтьева, спроецировав их содержание на обсуждаемую злободневную тему «просвещенного» правления, в целом, и законности власти Екатерины, в частности. Оригинальные китайские сочинения в контексте 38 новиковских сатирических публикаций воспринимались как скрытая под восточным флером критика государственного правления российской императрицы. Основная идея обеих статей – «полезная государству» деятельность верховного властителя. Среди наставлений философа Чензыя – соблюдение законов, учрежденных во имя благополучия подданных, а также разумный выбор достойных личностей в управленческий аппарат: «Знай, что не было от века такого государя, который не желал бы благополучия своим подданным, но немногие достигли до исполнения оного, а сие ради того, что государи часто бывают легковерны, окружают себя льстецами, следовательно такие не могут знать истинного состояния своих подданных, посему не могут они ни полезных делать учреждений, ни искоренять злоупотреблений,.. ни награждать добродетельных… Поручай государственные дела во правление мужам достойным, июо одному тебе в пространном твоем владении ни всего узнать, ни исправить невозможно…» [43, c. 209210]. В «Завещании Юнджена…» монарх, беспрекословно следуя закону, наставляет соблюдать утвердившийся веками «прародительский» режим «для управления пространного и многочисленного нашего государства» [44, c. 267]. Из описания восточной идиллии в восприятии ее российским читателем предстает идеальный правитель – справедливый, честный и послушный собственным законам, в том числе и закону престолонаследия: «Хотя не могу сказать, что о чем я заботился и чего желал, то все исполнилось, но могу достоверно обнадежить, что все дела приходят в желаемый порядок и точность. Подданные… живут в довольствии и веселии; хлеб всякой родится изобильно, и часто проявляются благополучные предзнаменования… 39 Учредивши порядок государственного правления и восстанавливая мир и тишину, начал стараться о совершенстве, чтобы восстановленное утвердить на веки; но в самое сие старания моего время ослабли мои чувства, истощились силы, я отхожу от света, оставляю всех моих подданных и купно мое величество… Да сем будет известно, что я избрал и утвердил наследника во вступлении на престол…Сего избранного мною наследника возведите по мне на престол мой, памятуя, что ныне, по милости и охранении высочайшего неба, по оставшимся от наших прародителей благим законам и по моим трудам обитает во всем нашем государстве мир и тишина и такое время, в которое государь и подданные могут быть благополучны и наслаждаться веселием и радостию» [44, c. 268-269]. Главную идею опубликованного Новиковым перевода отметил А.В. Западов: «Обращаясь к своему сыну, Государь преподает ему урок правления. Тот порядок, который он ввел в стране, так не походил на состояние России, что читатель невольно сравнивал Юнджена с Екатериною П, отчего она весьма проигрывала» [31, с. 81]. После опубликования политической и «Завещания идеологической Юнждена…», дидактикой, насыщенного преподнесенной в иносказательном восточном флере, издание «Пустомели» было запрещено. Таким образом, обозначенная в журналах Новикова ориентальная тема предуготовила появление в русской прозе последней трети XVIII века произведений критического содержания, вобравших одновременно с вольтеровской просветительско-философской мыслью актуальную в условиях российской политической ситуации идею просвещенного монархического правления. Писатели активно использовали восточную аллегорию в качестве удобной литературной формы для критического отображения политического режима екатерининской России. 40 ГЛАВА II ВОСТОЧНАЯ ПОВЕСТЬ В РУССКОЙ ПРОЗЕ II-Й ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА Восточные повести, обозначенные одним из основных объектов нашего исследования, реализуют, с одной стороны, литературно- публицистическую вольтерианскую традицию, а, с другой, актуализируют ее в условиях российской политической ситуации екатерининского правления, когда «просвещенные» реформы императрицы обращались в утопические мечтания, а надежда на их осуществление связывалась с будущей деятельностью законного престолонаследника. Эти произведения оказались наиболее продуктивными в идеологическом контексте репрезентации восточного сюжета. Из многочисленных «восточных» повестей наиболее идеологически и художественно презентабельными нам представляются три: «Золотой прут. Восточная повесть» М.М. Хераскова, вышедшая отдельной книгой в 1782 г.; «Надир. Восточная повесть» – анонимный текст, напечатанный в издании Н.И. Новикова «Городская и деревенская библиотека» в 1783 г.; «Каиб. Восточная повесть» И.А. Крылова, опубликованный в журнале «Зритель» в 1792 г. Важной в изучении ориентальных сюжетов исследуемого периода является глава «Спасская Полесть» (сон путешественника) из книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Альтернативными «восточному» циклу повестей критического содержания являются нравоучительные произведения идеологической направленности, написанные в 1781-82 гг. императрицей Екатериной II – «Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Февее». Во П главе 41 диссертационной работы анализ восточных мотивов сконцентрируется на рассмотрении текстов перечисленных произведений. Доминирующей идейной константой этих, как, впрочем, и других идентичных восточных повестей, является проблема государственного устройства общества, базирующаяся на нравственно-этических принципах воспитания власть предержащих – государя и его политических сподвижников. Центральный персонаж, монарх, «становился причиной несчастия злых дел по ведению или по неразумению и полной неспособности мыслить» [41, c. 306]. Как и в лаконичной форме журнальных статьей, довольно пространные сюжеты восточных повестей с их экзотическим «местным» колоритом (султаны-калифы-эмиры-шахи, визири-муфтии-паши, использовались диваны, русскими гаремы-серали писателями в и пр.) качестве продуктивно аллегории для назидательно-дидактического проповедования просвещенного правления или обличительно-сатирического изображения российского самодержавия. Вместе с тем идейные стереотипы в каждой из восточных повестей получили свою оригинальную интерпретацию. На пересечении общих, усвоенных благодаря французскому влиянию, традиций возникали самобытные тексты, демонстрирующие индивидуальные литературные решения актуальной проблемы. 2.1.«Золотой прут» М.М. Хераскова как эталон русского варианта «восточной» повести К обозначенному выше типу художественных текстов в русской литературе II-й половины XVIII в. относится повесть М.М. Хераскова «Золотой прут». Это произведение весьма мало изучено литературоведами. Оно даже не всегда упоминается среди авторского наследия Хераскова в 42 научных, учебно-методических и энциклопедических материалах. Наиболее полное обоснование важности повести в литературном творчестве писателя представлено в работе Ю.С. Лиманской «Произведения М.М. Хераскова «Золотой прут» и «Кадмий и Гармония» в контексте масонской прозы последней трети XVIII в». Автор исследует масонскую идею изображения странствия души на пути к постижению нравственной истины. В главе «Сравнительно-типологический анализ романа М.М. Хераскова “Золотой прут” и повести И.А. Крылова “Каиб”» весьма оригинально рассмотрел произведение Т.Ж. Юсупов – автор диссертационного исследования «Развитие прозы XVIII века (Проблематика, поэтика, восточные мотивы)». Вместе с тем, автономно от масонской идеи, в восточной повести Хераскова «Золотой прут» подымается множество актуальных политических, идеологических и философских проблем, лежащих и на поверхности, и в подтексте. Не случайно писатель предпослал своему произведению пометку на титульном листе «перевод с арабского» (хотя текст оригинальный – К.Ф.) и весьма значимый комментарий: «Сия достопамятная книга недавно напечатана была в Константинополе вместе с Белизарием («Велизарий» Мармонтеля – К.Ф.); но великий Муфтий, догадавшись, что в оных двух книгах больше смысла, чем в мозгу у всех бывших и будущих Муфтиев, сей великий Муфтий, доказал Султану, никогда книг не читающему, что Музульманам вредно читать таковые сочинения, а паче того вредно заводить на Турецком языке тиснения. Уничтожил он сие благоразумное художество, и так ни Белизарий, ни Албекировы приключения не могли быть напечатаны» [94, c. 87-88]. Повесть М.М. Хераскова «Золотой прут» выделяется из многочисленных произведений обозначенного жанра продуктивностью использования в ней восточных мотивов: присутствием владыки-тирана, мнящего себя идеальным монархом; описанием дворцовой роскоши, «услужливых» 43 интриганов-придворных, конъюнктурных поэтов-сочинителей; использованием мотива сновидения, приёма волшебных атрибутов: золотой прут, камень, излучающий свет, чаша с чистою водою, перстень на дне океана и пр. В мозаичном переплетении сюжетных коллизий доминирующей в произведении является идея просвещенного абсолютизма. Традиционно в восточных повестях главный персонаж – это некий верховный правитель, обозначенный как шах, султан, калиф и пр.; интригу «завязывают» представители «дивана»: обычно это благородный визирь и злонравный муфтий. Государь, пресытившись праздной жизнью, отправляется в авантюрное путешествие, дабы узнать правду о своем народе. Все эти персонажи присутствуют в повести. Однако Херасков отступает от устоявшейся традиции: в путешествие вместо шаха был отправлен визирь, оклеветанный муфтием. Шах Багем крупно представлен лишь в начале повести. Портрет выписан в традиционной манере иронического изображения персонажа. Знатная особа, потомок в третьем поколении Шехерезады, шах Багем «процветал», в окружении «любящих подданных», «мирных соседей», красавицы жены. «Имел он попугая, с которым в праздные часы беседовал; имел обезьяну, с которой после утренней своей молитвы забавлялся и прыгал Аглинския контродансы; имел любимого коня, на котором за охотою ездил; имел он друга, которого без сумнения почтил достоинством первого своего Визиря» [94, c. 4-5]. Визирь Албекир славился «таланом» плести из прутиков рогожку, поэтому и стал другом шаха, самое важное и почитаемое занятие которого было вырезать деревянные ложки. Но судьба оказалась немилостивой к султану, наслав на него «слезы». Супруга потеряла красоту и от отчаяния умерла. Погибли в разных обстоятельствах все его любимцы: попугай, 44 обезьяна, конь. Придворные-завистники во главе с муфтием сговорились лишить шаха Багема последней его услады – дружбы с визирем Албекиром, который, в результате дворцовых козней, был изгнан из дворца и отправился в странничество. В.Н. Кубачева обратила внимание на связь образа шаха Багема из произведения Хераскова с персонажем анонимной повести «Шах-Багам», опубликованной в «Санкт-Петербургском вестнике» в 1779 г.: «Герой последней повести тоже шах. За всю жизнь он получил представление лишь о двух вещах: о разбитой трубе и о пуговицах, которыми играл в детстве… Автор говорит: «Дервиш научил его (Шах-Багама – К.Ф.) выделывать из яблочных семечек мышей, чем шах занимался до самой смерти, в то время как народ думал, что он занят важными государственными делами». Приведенная фраза очень напоминает «Каиба» Крылова. Там цари собирались, чтобы играть шемелой на коврах и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов» [41, c. 308-309]. Мастер плетения из прутиков рогожи, незадачливый визирь Албекир становится главным персонажем повести, который в странствии, попадая в разные дорожные ситуации, в результате из придворного-невежи перерождается в мудрого философа. «Мудрость» Албекира есть не что иное, как конъюнктура времени и политических взглядов М.М. Хераскова. В путешествии изгнанный визирь встречается с неким старцем, «благополучной личностью», который поведал страннику о государстве, где «образ и душа правительства» – это «равенство без верховной власти» [90, c. 34]. Старец рассказывает Албекиру о «свободном обществе», в котором он был рожден: 45 «Я не был Султаном, и был в то же время свободным человеком, ибо я рождён в свободном народе, где всякий член государства равен другому члену, и все могут и Государями и подданными называться; каждый отец в своём семействе был и правителем и наставником; законы были нашею подпорою, а не угнетением; право каждого охраняемо было общественною пользою и уважаемо всенародным защищением; личные обиды относились к оскорблению гражданского блага, а преимущества и дарования к частному и купно ко всеобщему украшению; вот в коротких словах образ и душа нашего правительства. Мы все были равные…» [94, c. 34-35]. Описание родной страны старца как «свободного общества» в «Золотом пруте» перекликается с аллегорическим текстом сатиры А.П. Сумарокова «Другой хор ко превратному свету». Оба писателя изображают некое идеальное государство, используя иносказание в целях изобличения реальной российской самодержавной политики. Херасков, прикрывшись ширмой восточного флера, оказался менее критичным, чем Сумароков. Его общественная позиция связана прежде всего с исправлением нравов, моралью. В целом, сюжет восточной повести Хераскова выстроен по типичной для просветительской литературы модели путешествия главного героя в поиске истины через череду испытаний и приключений. Т.Ж. Юсупов сравнивал текст русского автора с «Кандидом» и «Простодушным» Вольтера, «Племянником Рамо» Дидро и «Новой Элоизой» Руссо. «Далекие от реальности, – по наблюдению литературоведа, – общетвенно-политические, философские, нравственные позиции», на которых находился в начале повествования багдадский визирь Албекир, «не выдержали натиска жизненных обстоятельств. Главный герой в поиске земного счастья как бы странствует по лабиринту собственных заблуждений и выходит из него лишь после того, когда рассеивается последняя иллюзия. Тогда он становится обладателем искомого сокровища – прагматической истины, 46 главная суть которой заключается в том, что на земле нет и не может быть счастья, но есть его эквивалент – покой и душевное равновесие, а их можно обрести только отрешившись от мятежных страстей и земных привязанностей» [ 100, c. 187]. Сюжет «Золотого прута» внешне как бы соответствует законам авантюрных повествований. Однако внутренняя содержательная логика противоречит им, поскольку автор актуализирует этическую и философскую оценку поступков персонажей более, чем сами эти поступки, совершенные в экстремальной ситуации. Как было отмечено выше, сюжет «восточной» повести соткан из мозаичного переплетения разноплановых картин. Но по прочтении произведения становится понятно, что композиция его весьма продумана. Внешне текст представляет собой цикл сюжетно завершенных отдельных глав. Композиция его традиционно трехчастна. Вычленяются введение (глава 1), главная часть (главы со II по XXIV) и заключение (глава XXV). В каждой из глав затрагивается конкретная проблема либо государственного, либо философского, либо нравственно-этического содержания, к примеру – «Свободные науки», «Нравоучение», «Пустословие», «Грабительства», «Прения», «Забавы», «Нравы», «Что есть счастие» и др. Объединяющим стержнем всех глав является личность самого героя. Внешняя мозаичность сюжета позволила автору выстроить дискретный дискурс, представленный, на первый взгляд фрагментарно – в образах, сюжетных эпизодах, встречах, рассуждениях, снах, но мастерски скрепленный внутренней логикой. Аналогично выстроит композицию своего знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищев. Свое произведение Херасков жанрово обозначил как «восточная повесть», хотя литературоведами оно определяется романом. Для автора, который в работе «О чтении книг» открыто выступил с осуждением 47 романа как жанра низовой культуры («Романы для того читаются, чтобы искуснее любиться» [93, с. 6], создаваемое им литературное сочинение глубокого философского содержания не могло по его эстетическим убеждениям называться романом. Однако, по всем жанровым признакам «Золотой прут» тяготеет к романной форме. Впрочем, в русской прозе классицистического периода, в отличие от драматургии и поэзии, наблюдается определенная формальная размытость, жанрово-видовой синкретизм, и о чистоте жанра применительно к прозе говорить не приходится. «Русские писатели, – отмечал Т.Ж. Юсупов, – опираясь на традиции философской прозы Вольтера, сумели создать произведения,.. где ставятся обсуждаются проблемы политического взаимоотношения народа устройства и правителя, государства, оценивается нравственность правящих сословий, обличается фаворитизм и другие болезни русского общества» [100, с. 181-182]. Таковым и является «Золотой прут». Херасков, будучи писателем просветительских взглядов и устремлений, не оказался в стороне от обсуждения актуальных дидактических идей современности, поэтому «Золотой прут» правомерно рассматривать как произведение, созданное в традициях воспитательного романа. Жанровая специфика подчеркивается и организацией постранственновременного ареала произведения. В художественном пространстве «Золотого прута» нет точных топонимических указателей, что объясняется «условностью самой формы «восточного» романа или повести» [22, c. 472]. Несмотря на то, что Албекир путешествует по восточным землям – Персии, Турции, Египту, странам Ближнего и Среднего Востока, он не реагирует на пространственные и временные перемещения. Херасков, отправляя своего героя в скитания по территориальному региону Центральной Азии, обходит вниманием восточную экзотику: «местный 48 колорит», то есть, описание географических и этнографических ориентальных примет напрочь отсутствует. Условность изображения Востока подтверждают и частные пассажи: Багдад называется столицей Персии, театр военных действий между иранцами и скифами располагается на Дунае, турецкий султан изучает книгу Мармонтеля «Велизарий» и мн. др. Таким образом, М.М. Херасков в «Золотом пруте» осознанно избегал описаний этноса мусульманского региона, привлекательной экзотики Востока, реальных пространственно-географических и темпоральных координат. Отсюда следует вывод, что для писателя-просветителя в одном из главных его литературных сочинений важен был не ориентализм, – он лишь ширма, – а критическое обсуждение социально-политических проблем русской государственности. В этом обсуждении доминирующей является идея нравственного воспитания соотечественников. Немаловажная роль в рациональном дидактиктизме М.М. Хераскова отводится пропаганде масонских идей. 2.2. Восточная повесть «Надир» как образец нравственно- этического кодекса просвещенного правления. Опубликованная в издании Н.И. Новикова «Городская и деревенская библиотека» анонимная восточная повесть «Надир» внешним образом представляет собой литературный вариант философско-просветительского произведения. Автор, воспользовавшись восточным аллегорическим прикрытием, высказал свои соображения по поводу активно обсуждаемой в литературных кругах проблемы переустройства общества на основе принципов просвещенного абсолютизма. Повесть впечатляет обширным 49 (около двухсот тридцати страниц) описанием политической карьеры молодого человека, сына знатного, но опального вельможи. Сюжетная канва восточной художественно-публицистической повести задачей «Надир» автора, обусловлена заключенной в реализации основного идейного замысла: демонстрирования процесса воспитания представителя правящей элиты, долженствующего повлиять на общественное поведение государя. Содержательно повесть представляет собой подробный пересказ жизненных перипетий заглавного персонажа. В художественном дискурсе явственно прослеживается композиционный замысел автора: первая половина текста содержит нравоучительное проповедничество в духе воспитания справедливого государственного сподвижника – главного законодательного советника государя. Во второй части повести описываются многочисленные испытания, которые пришлось пережить Надиру, приведшие его, в результате, к высокому государственному чину. На пути к вершине карьеры он прошел нравственную закалку как справедливо заслуженными им триумфальными фанфарами, так и морально неоправданными, псевдоистинными «медными трубами». События, описанные в произведении, происходят в реально существующей стране – Персии. Очевидных аллюзий политических и социальных катаклизмов, проистекающих спроецированного аналога в на восточной державе, в качестве современную политику российского верховного правления повесть не содержит. Основная идеологическая задача автора «Надира» нам видится в утверждении нравственноэтического эталона деятельности высокопоставленного государственного чиновника, в данном конкретном случае – честного, радеющего за социальную справедливость и позитивно влияющего на государя министра или советника. 50 Восточная повесть «Надир» начинается описанием процветающей Персии. Причем столица государства в этом произведении, как и в «Золотом пруте» Хераскова, не соостветствует действительности, более того, получает некий условно обозначеный топоним – Испогань. Богатой страной правит шах Бен-Абасси: «Персия была счастлива, доколе здравствовал Бен-Абасси. Сей Принц был из тех, которых небо смертным щедротою своею к их блаженству посылают, среди несчастий возрастал, и, возмужав, он укротил множество возмущений, раздирающих государство; он скипетр получил равно как добродетелями своими, так и по праву законному; не гордость величество его составила. Без низкости был народолюбив» [56, с. 157] В отличие от других восточных повестей в «Надире» при правлении справедливого султана Бен-Абасси не прослеживается сатирическая линия изображения придворного окружения, как это будет ярко выписано в других произведениях этого жанра. Более того, Бен-Абасси представлен как самодержавный правитель. Создается впечатление, что «дивана» с мудрыми визирями вокруг него вообще не существует, правящий «кабинет» состоит лишь из одного человека – ближайшего сподвижника и друга Залега, отца Надира. Причинам отсутствия «дивана» есть свои объяснения: «Монарх без товарищей один господствовал над областьми своими, ненавидел он тех надменных самовластителей, живущих между народом и престолом, которые всегда ползающие рабы единого и надменные мучители другого. Не имел любимцев, но имел друга… (который) сотовариществовал в его трудах; соединение их происходидо на от веселостей, произведенных роскошию, ни корыстию, ниже вожделением, но той приятною и ненарушимою цепию, происходящею от врожденной склонности, бываемой между честными людьми. Среди сей-то истинной и добросердечной дружбы Бен-Абасси имел свое отдохновение от тягости царствования; доверенность их была взаимная, 51 разговоры же их всегда имели свои окончания каким либо нибудь новым благом для общества» [56, с.157-158]. После же его кончины слабый и безвольный наследник Бен-Махмуд сразу же возвел в фавор придворных интриганов и завистников: «…Восшествие его на престол чрезмерно было торжествуемо: там все сокровища, собранные хозяйством прежней державы, истощены были. Вид правления тотчас переменился, судебные места наполнились новыми судиями; из прежних одни подвергаются осуждению, других, невзирая на их заслуги, презирают и называют милостию, оказанною над ними единою ссылкою… Махмуд возлюбил придворных, которые взаимно друг пред другом чтились изъявлять раболепствие свое удовольствованиям его страстям, которые господствуют над молодым сердцем. Они осмелились уверять его, что будет сходно с его величеством, когда он невидим будет от подданных своих, и оставит попечение о правлении своим министрам, и не будет иметь иных законов, как свое желание. Молодой Принц поверил сему коварству, чрез что двор Испаганский сделался позорищем тайных умышлений и вымыслов, где неправда попрала разум, а пронырство добродетель» [56, с. 159, 160]. Восстановить просвещенное правление предопределено было сыну бывшего главного визиря Надиру. Поэтому автору повести потребовалось провести через множество испытаний и искушений заглавного героя, который выполнит с честью предназначение – воспитать на своем примере наследника в духе верности, преданности и последовательности отеческим заветам. Думается, здесь автор довольно открыто намекает на реставрацию государственной деятельности Петра I. В первой части повести, содержательно насыщенной назидальной дидактикой, правителя, доминирующей разумно является управляющего идея страной воспитания идеального сообразно справедливо утвержденным им как верховным владыкой правовым законам. Вторая 52 глава целиком посвящена этой проблеме. Трактовка весьма традиционной в просветительской литературе темы «просвещенного» монарха представлена неизвестным автором весьма оригинально: в пространной поучительной тираде акцентируется нравственно-этический аспект, включающий религиозную проповедь. Назидание, обращенное к заглавному герою, воспринимается христианского свидетельствует амбивалентно: нравоучения, об то ли то ли в духе мусульманского условно-аллегорическом библейского Корана, использовании что автором восточной аллегории для воплощения своего идейно-художественного замысла: «Есть… могущий Бог, основание всех вещей, не имеющий границ, ни начала, ни конца, подающий жизнь, движение, бытие всему, что чувствует, который единым намерением своим сотворил животное, и человека, и сие солнце, оживотворяющее землю;.. он желает службы чистой и простой; предпочитает приношение, чистосердечное… [56, с. 170-171]. Духовное почитание «вышнего Существа» является основополагающим моральным принципом, который непререкаемо вменяется державному чину, долженствующему быть блюстителем закона и справедливости в своем отечестве. Вторая глава повести посвящена исключительно описанию идеального правителя; эту проблему автор неоднократно реактуализирует на протяжении всего последующего текста. «Иконописный» образ просвещенного монарха обобщается в эталонной характеристике Бен Абасси: «Я хочу утвердить славу моей Империи на благополучии моих подданных; чем больше уменьшу я подати, тем увеличатся мои сокровища; я предпочту земледельца, вельможей отвращу от праздной жизни; но чтобы богатый владелец не запущал селения 53 своего беспрестанным отсутствием, чтобы тук, спершись в каналах, течения их не запирал, велю и их поля покрыть. Нигде моего двора не будет, но повсюду я буду сам; воспользуюсь у земледельца зрелищем блаженного человечества» [56, с. 201]. К идеальному образу истинно справедливого правителя автор обращается на протяжении всего текста, используя разнообразные формы дидактического поучения: воспитание примером (чаще всего, в отсылке к «великим мужам», знатные имена которых «история начертала золотыми буквами»), противоположение добродетели страстям («но вящее всего, что и угождая страстям других, повсюду должно, чтобы добродетель сохраненною оставалась»); наставление в духе законопослушания («помни то, мой сын, что закон… должен быть в сердце, а не в служении»). Один из вариантов назидания – прямое обличение пороков, к примеру: «Корысть есть порок душ низких»; «Гордость имеет свое основание в наших сердцах; путь ея тих и нечувствителен, который начинается самолюбием, потом доверенностию, но немедленно пременяется в надменность и спесь…»; «Что же до ласкательства, то сей порок есть весьма постыдный… Еще зловреднее и гибче льстец повреждает господина, к которому он прилепляется» [56, с. 204-205]. Начиная с пятой главы, наблюдается резкий поворот сюжета, повествование приобретает динамизм. Заглавный герой отправляется в «самостоятельную жизнь», чтобы испытать на практике теоретически усвоенные им воспитательные уроки. В этой части произведения сфокусированы присущие восточной повести некоторые мотивы и образы – встреча с надежным и верным другом-покровителем, любовная история, правда, лишь отчасти отмеченная загадочной интригой, путешествие. В 54 «Надире», даже по сравнению с «Золотым прутом» Хераскова, менее всего выявлены экзотический колорит и сказочная, волшебная аура Востока. Герой оправлен отцом не в неведомые земли, а в родную Испагань, где он встречается не с таинственным незнакомцем (волшебником, магом, прорицателем), а с предсказуемо ожидаемым его мудрым стариком, единомышленником Залега, – Сореном, который будет уже на деле воспитывать будущего министра. Первый практический урок убеждает Надира в истинности родительской нравственной заповеди о богатстве внутреннего мира бедного человека. Судьба Сорена сопоставима с жизненной историей отца Роксаны из восточной повести Крылова «Каиб»: оба служили при дворе, оба попали в немилость и оказались опальными изгнанниками, у обоих росли дочерикрасавицы. Описание жилища Сорена идентично хижине крыловского персонажа: «Со случившейся при Дворе перемены сей честный гражданин избрал свое жилище в самой отдаленной части города. Дом его был простой и необширный, но покойный и веселый; его наружность не имела других украшений, как только то, что служило к прославлению его владельца благодеяний, излиянных им во окрестностях его. Жилище доброго человека есть храм добродетели на земле» [56, с. 207]. Второе испытание, предстоящее Надиру – самостоятельное путешествие, в которое его отправил Сорен. Но это путешествие – не авантюрное предприятие, предпринятое крыловским калифом Каибом, и тем более не полные приключений скитания визиря Албекира из херасковского «Золотого прута», а формальное задание с целью выработки позитивных практических навыков, необходимых высокопоставленному придворному: 55 «Сын Залегов… должен отечеству служить; сия есть его первая должность… И для того поди к иностранцам;.. возвратись к нам с их добродетелями, убегая от их пороков; без предубеждения о них суди, будь у них ты космополит и дома гражданин…» [56, с. 213]. Путешествие описано очень кратко, акцентируются только полезные наблюдения, то есть, этот сюжетный эпизод имеет прикладное значение и воспринимается как очередная иллюстрация процесса универсального воспитания просвещенного государственного деятеля: «Сначала он проезжает все Персидские провинции, познает их климат, их коммерции, их законы, их собрания к благосостоянию Монархии… Мало он останавливается в городах, где никогда в своем истинном виде народ не бывает, где роскошь помрачает истинное богатство. Надир не следует большим путем, но рассматривает внутренность государства, проникает в те отдаленные части, где господствует унылость, где плодятся заблуждения под сению самодержавной власти. Потом Надир объезжает Азию, переменяя свое состояние и вид... Он купец у Сисиниан и жителей Тована (очевидно, в Китае и Тайвани – К.Ф.). Он смотрит арсеналы, пристани, магазины, испытывает плоды их торговли, подробно входит в мореплавание, во внутреннее их хозяйство, познает их политику и их сношение с другими государствами, а наипаче с Персиею. Воин он в Вифинии, где обучается способам сей власти, качествам ея Госудря, искусствам ея Генералов, основаниям ея установления и неедостаткам, там еще господствующим. Наконец, проезжает в Гисперию, желая окончить свой путь чрез Герулию…» [56, с. 215]. Утилитарные путевые наблюдения, лишенные художественной изобразительности, вместе с тем пробуждают определенный интерес, особенно в описательной части, относящейся к географии и топонимике восточного ареала. В конце путешествия Надир предстает возмужавшим, приобретшим опыт, готовым к служению отечеству мужчиной. Узнав, что на Персию готовится нападение враждебных государств и война неизбежна, 56 он прерывает путешествие и устремляется на родину с намерением возглавить армию: «Но слышит он о войне и узнает о смятении Персии, что сильный союз готовится восстать против нее. Сие известие сокращает его путешествие» [56, с. 215]. С художественной точки зрения любопытным представляется описание результатов путешествия: «Уже имеет он великие и справедливые намерения, выгодные и возможные предприятия, как та разумная пчела (курсив наш – К.Ф.), которая, узнав разбирать полезные цветы и спокойно из них сок тянуть, восчувствовав северную погоду и туч собирание, оставляет свою добычу и возвращается в свой улей с шумом» [56, с. 215]. Универсальные сравнения и метафоры, соотнесенные с энтомологической темой, были довольно широко распространены в классицистической поэзии и прозе. Впервые аллегорический образ насекомых использовал М.В. Ломоносов в раннем сатирическом стихотворении «Услышали мухи медовые духи». Традицию подхватил А.П. Сумароков, назвав свой литературный журнал «Трудолюбивая пчела», а также употребив метафору «улья» в басне «Жуки и пчелы». Вслед за ними отнюдь не случайно свой первый сатирический журнал озаглавил Н.И. Новиков – «Трутень», предпослав ему эпиграф из сумароковского текста: «Они работают, а вы их труд ядите». То, что создатель восточной повести «Надир», эпизодически, но так уместно применил универсальный образ, свидетельствует о многом: его образованности, литературной компетентности, незаурядных творческих способностях. Более того, последующая сюжетная история, где описываются ратные подвиги героя, подтверждает литературное дарование писателя прежде всего как мастера художественной баталистики, умело 57 использовавшего поэтические традиции античного и средневекового героического эпоса и древнерусской воинской повести. «Северная погода» и «туч собирание» – исходные метафоры в последующем ярком воплощении этой темы. Третье, предуготованное Надиру испытание – защита Родины. Описание военных подвигов героя в текстах синхронных восточных повестей отсутствует. «Надир» в этом ряду – исключение, что является свидетельством самобытного авторского поиска нетривиальных сюжетных решений в интерпретации популярного жанра. Художественное изображение событий военного противостояния Персии и враждебного ей альянса «окрестных» стран с полным на то основанием можно назвать творческой удачей автора повести. Очевидно, эта тема более других была ему близка, входила в круг его интересов, поскольку он проявил исключительную осведомленность в литературной батальной классике, творчески используя ее традиции. В тексте обзначаются мотивы, известные по античным и древнерусским произведениям, таким как «Персы» Эсхила, «Медея» Еврипида, «Илиада» Гомера, летописные повести о походе князя Игоря. Так при описании ситуации военной угрозы в варьируется художественная универсалия, которую в своих исследованиях медиевист А.О. Шелемова обозначила как «ратник-ратай»: «Границы Персии объяты ужасом становятся, мятется государство, с крайним поспешением там набирают полки, чинят крепости, и утомленный пахарь отлучается от своего плуга,.. кровожаждущие враги… уничтожают жатвенные семена…» (курсив наш – К.Ф.) [56, с. 217]. А.О. Шелемова, рассматривая универсальный поэтический образ, приводит ряд примеров его художественно-идентичного применения в произведениях античной литературы, например, в «Илиаде» Гомера: 58 «<Воины>, словно жнецы, расположившись друг против друга, / выводят полосу пшеницы или ячменя на поле блаженного мужа; / и падают густые снопы - так троянцы и ахейцы, устремляясь друг на друга, / бились...» (Илиада, XI, 67-710). В аналогичном «поэтическом ряду – мотив «поля ратной жатвы» из мифа о золотом руне, легший в основу «Медеи» Еврипида. Имеется в виду рассказ об Ясоне, засеявшем по наущению Эета поле зубами дракона, из которых выросли железные воины» [97, c. 257-258]. Отмеченное выше словосочетание «туч собирание» также есть не что иное, как универсальных символический образ грозы – аллегории вражеской агрессии, который неоднократно использовался в мировой эпике, в том числе и в «Илиаде», что также анализировала А.О. Шелемова: «В гомеровской поэме… грозовые явления – не символика природной стихии, а поэтическая атрибутика образных характеристик персонажей,.. их действий и поступков», например: «Словно губительная звезда появляется из-за туч, светя и там и там, / затем снова погружается в чёрные тучи - так и Гектор [Приамид] / то является между первыми, а то среди задних, отдавая приказания / - весь сверкая медью, словно молния эгидодержателя Зевса» (Илиада, XI, 62-66); «<Оба Аякса> ждали, подобно тучам, которые Кронион / во время безветрия поместил на высоких горах - / неподвижные, пока спит ярость Борея / и других бурных ветров, которые, / дуя, рассеивают чёрные тучи шумными дуновениями, / так данайцы непоколебимо ожидали троянцев и не боялись» (Илиада,V, 522-526) [98, с. 2223]. В батальном дискурсе повести «Надир» прослеживается традиция древнерусской воинской повести, прежде всего в соблюдении этикета 59 ситуации – скрупулезном изображении последовательности хода сражения, построения войск перед битвой, стратегии и тактики боя. Будучи, несомненно, эрудированным в исторической литературе, писатель XVIII века наряду с этикетными клише творчески использовал и конкретный, очевидно, привлекший его внимание летописный материал. Описание ратных перипетий в его произведении воспроизводится по аналогии с изложением событий похода князя Игоря на половцев по Ипатьевской летописи. Помимо идентично совпадающих общих обстоятельств хода битвы, поведения полководцев в экстремальных моментах, картин природных предзнаменований, можно даже привести и примеры прямых текстуальных перекличек с древним текстом. Так, в летописной повести после первой удачной атаки русская «дружина стояла три дня в вежах» половецких, забыв в победной эйфории о том, что враг продумал тактику окружения, приведшую впоследствии к разгрому полка Игоря. Аналогично тактический обман противника деморализовал персидских воинов литературной версии батальной истории, описанной неизвестным автором восточной повести «Надир»: «Армия следует вперед, неприятели, рассыпавшиеся по степям, соединяются и идут к своим крепостям. Сие их движение принято за решительный отступ. Персидские генералы сим напояют свой разум,.. преследовав без осторожности за ними и без всякого запасу; два раза их задохшиеся войска сражаются с арьергардом неприятельским, находящемся в порядке, и были разбиты совершенно» [56, с. 224]. Включение батальной темы в сюжетное повествование и довольно подробное ее изложение определяет оригинальность повести «Надир». Четвертое испытание героя – проверка «медными трубами». Триумфатор победоносной военной баталии, защитивший свою Родину, вознагражден должностью первого министра. Надиру предстоит пройти 60 моральную проверку высоким покровительством султана и лестью и завистью придворных: «Еще остается для него наиопаснейшее искушение: любовь его Государя опасный случай, где весьма часто нарушается добродетель великих. Государь ему изъявляет дружество свое, имеет его во всех пиршествах с собою и во всех забавах, и немедленно он уже не может с ним расстаться» [56, с. 246]. Но Надир выдерживает и это испытание. Автор восточной повести в повествовательном изложении сюжетной коллизии использует принцип «композиционного кольца». Государственная должность первого министра не возвеличила прогрессивные Надира, а реформы предоставила и утвердить возможность реализовать справедливый закон. Новопоставленный правитель Бен-Махмуд благодаря мудрой политике министра стал почитаемым как просвещенный монарх, достойный преемник справедливого Бен-Абассия. В эпилоге автор не так радикален, как его последователи И.А. Крылов и А.Н. Радищев, использовавшие восточную аллегорию в качестве пародии на самодержавное правление. Финал повести на оптимистический исход прогрессивной деятельности даже «просвещенно» воспитанного государственного чиновника не настраивает: «…Добродетель убегает от общества, когда в нем царствуют пороки. Персы ныне составляют народ, сделанный из граждан и из братьев… Надир жил еще долгое время. Владычествующий дух Персии рачил о нем и дни его исчел. Блаженна счастливая Персия! когда бы она всегда последовала уставам и его основаниям! но по смерти Надировой крутящийся вихрь веков навлек на поверхность земли другие времена, другие нравы, других людей и новые заблуждения» [56, с. 284]. 61 Таким образом, заглавный герой восточной повести, обученный по специальной программе, достиг чина министра. Как государственный преобразователь, он призван был перевоспитать самого монарха. Однако автор, как это явствует из заключительного резюме, уповает только на времена и нравы. 2.3. Ориентализм как сюжетообразующая основа нравоучительнодидактических сказок Екатерины II. Литературное творчество российской императрицы Екатерины Великой было частью ее политической деятельности. Она понимала общественную силу литературы и стремилась использовать ее в государственных целях. Литературное наследие Екатерины велико по объему. Она как литератор работала интенсивно, напрочь не беспокоясь о художественном стиле, поскольку обработкой сочинений высокопоставленного автора занимались ее секретари Г.В. Козицкий, А.В. Храповицкий и др., которые не только редактировали тексты, но и подбирали материалы для публицистических, исторических и сугубо литературных (трагедии, комедии, сказки и пр.) произведений. В своей публицистической деятельности («Наказ», публикации в журналах «Всякая всячина» и «Собеседник любителей российского слова» и др.) Екатерина II, сохраняя видимость свободы мысли в подвластном ей государстве, весьма искусно противодействовала общественному инакомыслию. Подобно тому, как в Древней Руси венценосный писатель Владимир Мономах адресовал свое «Поучение» сыновьям, прекрасно понимая, что выступает с «открытым посланием» – назиданием всем князьям-вассалам, много веков спустя Екатерина создает поучительно-дидактические сказки 62 для внука, которые выходят за рамки семейно-воспитательного нравоучения, перерастают в общественно-политическую декларацию, предназначенную для российского дворянского общества. «Сказка о царевиче Хлоре» и «Сказка о царевиче Февее» Екатерины II написаны для внука Александра, но подспудно адресованы были и литературным оппонентам, в частности, и российскому дворянскому обществу, в целом. Императрица в 1785 г. законодательно подтвердила указ о вольности дворянства, объявленный Петром Ш в 1762 г., в «Жалованной грамоте дворянству», освободившей сословие от обязательной службы отечеству. Ее литературные публикации, в том числе и, на первый взгляд, ни к чему не обязывающие «детские» сказки должны были стать фундаментом новых отношений с верноподданным дворянством. Эта ситуация и отображена в «Сказке о царевиче Хлоре». Сочинение Екатерины II, как отметила в одной из своих статей Т.И. Акимова, является «первым примером самоапологии царицы, которая предстала не миростроительницей, как в хвалебной оде, а нравоучительницей. Заявленная сказкой «смена литературных вех» фактически объявляла переход монархии от петровской системы тотального административного принуждения к диалогу со свободным дворянством, в основе которого лежало исправление нравов и воспитание «галантной» поведенческой культуры с помощью шутки и сатиры. Программа эта была объявлена сатирическим журналом «Всякая всячина», начатым Екатериной в 1768 г., а теперь потребовала своей литературной кодификации» [2, c. 13-14]. Императрица-писательница в сказках использует восточные мотивы, что очередной раз подтверждает ее внутренне «чутье», интуицию в обращении к столь распространенному в просветительской литературе, а потому и беспроигрышному в популяризации своей политической программы восточному сюжету. 63 «Сказка о царевиче Хлоре», таким образом, являясь «авторской стратегией» (термин Т.И. Акимовой) воспитания и формирования важнейших качеств наследника русского трона великого князя Александра, имела и более широкий замысел, то есть, создавалась Екатериной как «наглядное пособие» для дворянского общества, рациональная идеологическая иллюстрация ее политической доктрины просвещенного абсолютизма. Главный герой сказки, царевич Хлор, представлен идеальным отроком: «Какъ царевичъ сталъ вырастать, кормилица и няни начали примечать, что сколь былъ красивъ, столь же былъ уменъ и живъ, и повсюду слухъ носился о красоте, уме и хорошихъ дарованіяхъ царевича» [28]. Весть о необыкновенных способностях царевича разнеслась по «окрестным» странам, но более всех Хлор заинтересовал киргиз-кайсацкого хана, который авантюрно похитил мальчика и доставил в свои восточные владения. В отличие от традиционного сатирического описания ханского двора в синхронных оригинальных восточных повестях, Екатерина весьма «обтекаемо» описывает реакцию придворных на появление царевича: «На другой день рано, до света, ханъ собралъ своихъ вельможъ к сказалъ имъ следующее: «Известно вамъ да будетъ, что я вчерашній день привезъ съ собою царевича Хлора, дитя редкой красоты и ума. Хотелось мне заподлинно узнать, правда ли слышанное объ немъ; для узнанія же его дарованій употребить я намеренъ разные способы». Вельможи, услыша слова ханскія, поклонились въ поясъ; изъ нихъ ласкатели похвалили ханскій поступокъ, что чужое, и то еще соседняго царя, дитя увезъ; трусы потакали, говоря: «Такъ, надёжа государь ханъ, какъ инако быть, какъ тебе на сердце прійдетъ?». Несколько изъ нихъ, кои прямо любили хана, те кивали головою, и когда ханъ у нихъ спрашивалъ, для чего не говорятъ, сказали чистосердечно: «Дурно ты 64 сотворилъ, что у соседняго царя увезъ сына, и беды намъ не миновать, буде не поправишь своего поступка». Ханъ же сказалъ: «Вотъ такъ, всегда вы ропщете противу меня», и пошелъ мимо ихъ, и какъ царевичъ проснулся, приказалъ принести его къ себе; дитя, увидя, что нести его хотятъ, сказалъ: «Не трудитесь, я ходить умею, я самъ пойду», и вошедъ въ ханскую кибитку, всемъ поклонился, во-первыхъ хану, потомъ около стоящимъ направо и налево, после чего сталъ предъ ханомъ съ почтительнымъ, учтивымъ и благопристойнымъ такимъ видомъ, что всехъ киргизцовъ и самого хана въ удивленіе привелъ» [28]. Далее по сюжету царевич Хлор получает задание – испытание на подтверждение своих уникальных достоинств: он должен отыскать розу без шипов, цветок, символизирующий добродетель: «Ханъ однако, опомнясь, рекъ тако: «Царевичъ Хлоръ! про тебя сказываютъ, что ты дитя разумное; сыщи мне, пожалуй, цветокъ розу безъ шиповъ, что не колется; дядька тебе покажетъ обширное поле, сроку же даю тебе трои сутки». Дитя паки поклонился хану, сказалъ: «Слышу», и вышелъ изъ кибитки, пошелъ къ себе. Дорогою попалась ему на встречу дочь ханская, которая была замужемъ за Брюзгой султаномъ. Сей никогда не смеялся и серживался на другихъ за улыбку, ханша же была нрава веселаго и весьма любезна; увидя Хлора сказала: «Здравствуй, царевичъ, здорово ли живешь? куда изволишь идти?». Царевичъ сказалъ, что, по приказанію хана батюшки ея, идетъ искать розу безъ шиповъ, которая не колется. Ханша Фелица, такъ ее звали, дивилась, что дитя посылаютъ искать таковой трудной вещи» [28]. Фелица обещала помочь отроку и отпустила своего сына Рассудка в помощь царевичу. По пути поиска розы Хлор встречается с множеством трудностей, препятствий и соблазнов, которые организуют «льстивые», «веселящиеся», «проводящие время в забавах», «пьяно шатающиеся» люди, а также рыночные торговцы, не узнающие царевича и грубящие ему. Полоса препятствий, которые отрок, не без помощи Рассудка, успешно преодолевает, соседствует в сказке 65 со встречами с персонажами великодушными и благородными – крестьянской семьей, учителем, двумя стариками. В сказку коронованная писательница не преминула включить эпизод, представляющий идиллическую картину сосуществования монарха и подвластного ему народа. Идиллия изображает мирный труд крестьян, любовно возделывающих землю и обильно пользующихся плодами своего труда: «Не въ дальнемъ разстояніи увидели домъ крестьянскій и несколько десятинъ весьма удобренной земли, на которой всякій хлебъ, какъ-то: рожь, овесъ, ячмень, гречиха и проч. засеянъ былъ; иной поспевалъ, иной лишь вышелъ изъ земли. Подалее увидели луга, на которыхъ паслися овцы, коровы и лошади. Хозяина они нашли съ лейкою въ рукахъ: обливаетъ разсаженныя женою его огурцы и капусту; дети же упражнены были въ другомъ месте, щипали траву негодную изъ овощей» [28]. Далее следует эпизод, более напоминающий намеренную субъективную эстетизацию действительности, в частности, крестьянский быт в более поздних произведениях русского сентиментализма: «Разсудокъ сказалъ: «Богъ помочь, добрые люди»; они ответствовали: «спасибо, баричи»; кланялись же царевичу незнакомо, но Разсудокъ пріязненно просили, говоря: «посети, пожалуй, наше жилище, и матушка твоя ханша насъ жалуетъ, посещаетъ и не оставляетъ». Разсудокъ согласился къ нимъ войти; пошли съ Хлоромъ на дворъ. Посреди двора стоялъ ветхій и высокій дубъ, а подъ нимъ широкая, чисто выскобленная лавка, а передъ лавкою столъ; гости сели на лавку, хозяйка съ невесткою разостлали по столу скатерть и поставили на столе чашу съ простоквашею, другую съ яичницею, блюдо блиновъ горячихъ и яицъ въ смятку, а посредине ветчину добрую, положили на столе ситный хлебъ да поставили возле каждаго крынку молока, а после 66 вместо закусокъ принесли соты и огурцы свежіе да клюкву съ медомъ. Хозяинъ просилъ: «покушайте, пожалуй». Путешественники, которые проголодались, ничемъ не гнушались, и межъ темъ разговаривали съ хозяиномъ и хозяйкою, кои имъ разсказывали, какъ они живутъ здорово, весело и спокойно и во всякомъ удовольствіи по ихъ состоянію, провождая векъ въ крестьянской заботе и преодолевая трудолюбіемъ всякую нужду и недостатокъ. После ужина на той же лавке разослали войлочки; Хлоръ и Разсудокъ на нихъ положили свои епанчи, хозяйка каждому принесла подушку съ белою наволочкою, легли спать и заснули крепко, для того что устали» [28]. Напрашивается сравнение с изображением крестьянской избы в сентиментальной повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», когда героиня выносит своему возлюбленному на чистом рушнике в кринке молоко, непонятно откуда взявшееся в избе с земляным полом и топившейся «почерному» печкой. Этот эпизод воспринимается более как описание «потемкинской деревни». Понятно, что изображается идеальная ситуация, не действительное, а должное положение вещей. Создавая идиллический образец благополучной крестьянской жизни, Екатерина преследует, вероятно, определенную воспитательную цель, «замыкая» на себе мудрость державного правителя, проявляющего заботу о подданных всех сословий. Этот «смысловой сдвиг», возможно, оправдывает пасторальный пласт сказки, соответствующий пафосу просвещенного абсолютизма. Образуется единое пространство идиллического общественного устройства, в котором одни люди живут трудом, другие ведут праздный образ жизни. Царевич Хлор поставлен перед выбором между этими двумя способами существования, и должен предпочесть жизнь в труде на пользу своих подданных. «Крестьянский» мотив в целом можно обозначить как универсальный сюжетный фрагмент повестей конца XVIII века, как конъюнктурных, так и оппозиционных официальной эстетической доктрине. Т.И. Акимова 67 отмечала: «Античный поэтический архетип крестьянина как пастуха служил в эпоху абсолютизма мостом для корреляции крестьянин-царь» [1, с. 193]. По наблюдению Н.Т. Пахсарьян и Т.В. Саськовой, «пастух стоит между дикой природой очеловеченной; (хаосом) царь, и призванный окультуренной, упорядочивать, космизированной, организовывать человеческую общность, превращая ее из стада в коллектив» [65, c. 77]. В сказке Екатерины эта идея приобрела наглядное воплощение. В качестве положительного героя в произведении выведен Учитель, представленный в окружении множества юношей. Один из молодых людей, удовлетворяя любопытство Хлора, растолковывает царевичу значение понятия «розы без шипов» как символа добродетели, которое раскрыл своим ученикам их наставник. Этот эпизод наиболее ярко демонстрирует дидактическую задачу сказки – нравственное преодоление жизненных трудностей путем «чистосердечной твердости»: «Встретили они человека не молодого, но пріятнаго вида, который окруженъ былъ множествомъ юношъ. Хлоръ, всегда любопытствуя о всемъ, отозвалъ одного изъ нихъ, спросилъ, кто таковъ? Юноша сказалъ, что «сей человекъ есть учитель нашъ; мы отучились, идемъ гулять; а вы куда идете?» На что царевичъ ответствовалъ: «мы ищемъ розу безъ шиповъ, которая не колется». «Слыхалъ я», сказалъ юноша, «толкованіе розы безъ шиповъ, которая не колется, отъ нашего учителя; сей цветокъ не что иное значитъ, какъ добродетель; иные думаютъ достигнуть косыми дорогами, но никто не достигнетъ окроме прямою дорогою; счастливъ же тотъ, который чистосердечною твердостію преодолеваетъ все трудности того пути. Вотъ гора у васъ въ виду, на которой растетъ роза безъ шиповъ, которая не колется, но дорога крута и камениста». Сказавъ это, простился съ ними, пошелъ за своимъ учителемъ» [28]. Этот эпизод представляется литературной иллюстрацией к трактатам Екатерины II о воспитании. Идея монаршей дидактической доктрины прозрачна: как бы ни был умен и красив царевич, чтобы стать достойным 68 человеком и правителем, он должен обрести добродетель, подружившись с рассудком, честностью и правдой. Ее литературная модель воспитания преемника на царствование в аллегорической сказке подтверждает устойчивость классического (аристотелевского) способа познания мира, обусловленного доминантной ролью учителя в тандеме «учитель-ученик». В ряду положительных персонажей изображена в сказке пожилая пара: «Хлоръ съ провожатымъ пошли прямо къ горе и нашли узкую и каменистую тропинку, по которой шли съ трудомъ. Тутъ попались имъ на встречу старикъ и старуха въ беломъ платье, равно почтеннаго вида; они имъ протянули посохи свои, сказали: «упирайтеся на нихъ, не спотыкнетеся». Здесь находящіеся сказывали, что имя перваго Честность, а другой Правда» [28]. Эпизодические образы старика и старухи – персонифицированных честности и правды – замыкают сюжет поиска храма «Розы без шипов». То, в чем они помогают царевичу, протянув посохи свои, – это приобретение нравственно-этического опыта на пути к добродетели. Еще в самом начале пути заглавный герой оказывается перед выбором направления на перекрестке дорог, где ему подсказывается избрание «прямой дороги, по которой не все ходят, хотя она пригожее других», «хороша да кратка» [28] . Преодолев все трудности, царевич отыскал желанную розу без шипов. Все, таким образом, заканчивается благополучно: царевич с розой поспешил к хану, а тот, довольный, отослал его «со цветком» к князю-отцу. Литературные источники «Сказки о царевиче Хлоре» исследовала Т.И. Акимова. Изначально в их перечне она называет роман «Приключения Телемака, сына Улисса» Фенелона, известный в переводе на русский язык В.К. Тредиаковским под заглавием «Тилемахида». В сказке Екатерины, по 69 наблюдению исследовательницы, можно обнаружить «не только аллюзии с романом Фенелона, но и особый «мессаж» царицы. Скитания Телемака под предводительством учителя Ментора, под маской которого скрывалась богиня Минерва, стремящаяся сделать своего воспитанника идеалом правителя, легко перекладывались на фигуры Фелицы / Екатерины, ведущей Хлора с помощью своего сына Рассудка. Сказка о Хлоре подтверждала права Екатерины на российский престол, в том числе и ее способность совместить в себе две вершины Просвещения: монаршую и поэтическую» [1, c. 192]. Государственный подтекст екатерининского произведения, по Т.И. Акимовой, указывает и на сказочно-философскую прозу Вольтера, в частности, «открытым заимствованием» называется повесть «Задиг», риторическая в фигура которой восточный мнимого удаления колорит сюжета выглядит от «как современной реальности… Однако у Вольтера фигура удаления в фантастически далекие пространства, а зачастую и времена, подчинена социальной сатире и отражает меру удаленности современной Франции от утопических… идеалов разума и справедливости. В «Хлоре» роль удаления прямо противоположна. Само удаление – мнимое: под киргизкайсацкой ордой, безусловно, понимается современная екатерининская Россия, которая уже подготовлена царицей для героических свершений Хлора – Александра» [1, c. 193]. Можно с уверенностью утверждать, что уже вскоре после появления екатерининской «Сказки о царевиче Хлоре» она становится достаточно широко известной современникам. Великий русский поэт Г. Р. Державин создал гениальную оду «Фелица», одно из лучших своих поэтических произведений, заимствуя имя главной героини из сказки венценосной писательницы, тем самым нарочито намекая на связь своего стихотворения 70 со сказкой императрицы. В первой строфе Державин лаконично пересказывает сюжет «Хлора»: Богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды! Которой мудрость несравненна Открыла верные следы Царевичу младому Хлору Взойти на ту высоку гору, Где роза без шипов растет, Где добродетель обитает, Она мой дух и ум пленяет, Подай найти ее совет [49, с. 220]. Одной из характеристик Фелицы, напрямую не обозначенной в сказке Екатерины, но чутко угаданной Державиным, является определение «богоподобная». Начальные строки оды не могли не импонировать монархине, но воспевание ее «неземных» достоинств первой строфой и заканчивается. Далее следует восхваление мудрой, но «земной» царицы – неустанной труженицы, государственной устроительницы в противопоставлении вольно-безалаберной жизни свободного дворянства. Вместе с тем, название Фелицы-Екатерины «богоподобной» имело для нее исключительно важное значение. «Лично для Екатерины, – резонно подметила Т.И. Акимова, – обоснование своей власти «богоподобными качествами» было обусловлено еще и отсутствием формальных династических прав на русский трон. Мотив инициации служил российской государыне онтологическим оправданием ее правления. Все это, очевидно, и обусловило появление в сказке… волшебного источника рациональной мудрости, которая постигается с помощью посвятительного путешествия в запредельную область и заключена в мистических талисманах» [1, с. 193]. 71 «Сказка о царевиче Февее» Екатерины П менее популярна, чем «Сказка о царевиче Хлоре». Может быть, благодаря Державину, вольно или невольно вынудившего помнить своего читателя о Фелице и Хлоре, может быть, в результате своей идейной и художественной безликости. Мы упоминаем ее только в контексте использования восточной темы как сюжетообразующей основы текстов коронованной писательницы. Произведение, как никакое другое, соответствует характеристике восточных текстов, данной В.Н. Кубачевой, отстоящих – «от первоначального значения термина «восточная повесть» и использовавших лишь имена, внешний реквизит и некоторые детали, ставшие общепринятыми признаками восточности» [41, c. 299-300]. Действительно, в художественном пространстве сказки восточная топонимика и ономастика условны, а упоминающиеся территории – Сибирь, Китай, Монголия, Калмыкия – лишь «внешний реквизит». «Сказка о царевиче Февее» – сугубо дидактический текст, и главная идея его – воспитание наследника престола. Авторская мысль в сказке выражена четко и однозначно: это радение правящей императрицы, озабоченной будущим царствованием ее преемника. В сказке представлен идеал правителя: «Царь, умный и добродетельный человек, который подданных своих любил, как отец детей любит: он излишними податьми не отягощал никого и при всяком случае людей сберегал, колико мог. Он великолепие, пышность и роскошь весьма презирал» [28]. Образ Февея, в отличие от образа Хлора, выписан ненатурально, чересчур позитивно. Но, по мнению Екатерины, таков эталон личности государя. 72 В целом, восточные сказки Екатерины можно охарактеризовать как произведения, выявляющие субъективную декларацию педагогической доктрины, пропагандируемой монаршим волеизъявлением. Вместе с тем, сказки иллюстрировали и способ преподнесения дидактических сентенций, преподанных в актуальном в просветительской литературе восточном контексте. 2.4. Литературные пародии на восточные повести: «Каиб» И.А. Крылова и «Сон путешественника» из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева Одним из самых значимых обличительных произведений русской литературы ХVІІІ века является восточная повесть «Каиб» И.А. Крылова. По проблематике это произведение перекликается с эпизодом, повествующим о сне путешественника, включенным в главу «Спасская Полесть» книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, где также изображены и самодержавный правитель, и его раболепствующие царедворцы. В обоих текстах важное место занимает «прозрение» государя, помогающее ему увидеть окружающий мир в его истинном виде. Большинство литературоведов не исключают определенного влияния на произведение Крылова книги Радищева, вышедшей в 1890 г., то есть, всего за пару лет до журнала «Зритель». Думается, что это предположение не вполне обосновано. Во-первых, вряд ли книга Радищева была доступна Крылову. Как известно, «Путешествие из Петербурга в Москву» было напечатано в домашней типографии писателя. Понимая опасность репрессий, Радищев передал для продажи в Гостиный двор только 25 экземпляров книги. Реакция Екатерины П была гневной: «Тут рассеивание заразы французской: 73 отвращение от начальства,.. – записал в своем дневнике секретарь императрицы А.В. Храповицкий – Сказывать изволила, что он бунтовщик хуже Пугачева» [См: 6, с. 4]. Накануне ареста Радищев весь тираж уничтожил. Приобрести книгу было фактически невозможно. Во-вторых, обличительный пафос в каждом из произведений различен. В книге Радищева отражены проблемы современной российской политики, проводимой императрицей, критическое изображение которой он наиболее ярко представил в аллегорическом «сне путешественника». Крылов же создал сатирическое произведение в популярном в то время жанре политической утопии. Если он и следовал каким-либо предшествующим образцам, то ими можно считать, к примеру, восточные повести, напечатанные в журналах Н.И. Новикова, или «Золотой прут» М.М. Хераскова. Книга Радищева – это не сатирическое, а гневное политическое обличение. Внешним образом сюжетных аналогий в обоих текстах можно отметить довольно много: владыка-тиран, мнящий себя идеальным монархом, его чудесное прозрение; волшебница, помогающая деспотичному властителю увидеть окружающий мир в истинном виде; услужливые придворные; описание дворцовой роскоши; использование мотива сновидения. В развязке обоих сюжетов присутствует идентичная мысль: нравственное перерождение и превращение деспота в просвещенного монарха – утопия. В начале сравниваемых текстов дается описание великолепия и богатого убранства дворца. Приведем краткий, но весьма показательный отрывок из повести Крылова: «Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда не входил…: золото, жемчуг и каменья… Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам. Внутренние комнаты его убраны коврами… редкой красоты и цены… Зеркала его хотя 74 были по двенадцати аршин длиною,.. но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть…» [40, c,. 596]. Крылов перечисляет традиционные для «восточной» повести предметы дворцового убранства – золото и драгоценности, бюсты, ковры, зеркала. Радищев же, создавая общий фон блеска золота и драгоценных металлов, акцентирует символы власти: «Место моего восседания было из чистого злата, и хитро искладенными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно… Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коих изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода…Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью Закон милосердия; в другой же книга с надписью Закон совести …» [70, c. 23-24]. В сне путешественника внимание сосредотачивается не на изображении богатства и изобилия шаха, и даже не на драгоценных аксессуарах власти, а на деяниях монарха, символизируемых этими символами. Детали дворцовой атрибутики не воспринимались отвлеченно-аллегорическии, поскольку представляли конкретное описание Зала общего собрания Правительствующего Сената. Из всех заслуг императрицы истинными были лишь военные, символизируемые мечом: при Екатерине II территория Российской империи значительно расширилась благодаря завоеванию южных (Крым) и западных (Украина, Польша) земель. Золотой сноп с обильными колосьями оказался иллюзорным символом крестьянского благополучия подобно потемкинским деревням, как эфемерной была и идея монархини о справедливом законодательстве. 75 Попытка созыва комиссии по составлению Нового Уложения потерпела провал. Радищев не случайно изобразил все приписываемые императрице заслуги в скульптурных символах, то есть, застывших, окаменевших, мертвых. В одной из глав книги он открыто высказался, что «крестьянин в законе мертв». Изображение мнимых достоинств «просвещенного» монарха в повести Крылова абстрагировано, Радищев же конкретно разоблачал иллюзорный авторитет «просвещенного правления» российской императрицы. Автор «Каиба» при описании дворцовой роскоши употребил художественный прием «зеркального отображения». Заглавный герой прекрасно знал волшебное свойство зеркал и использовал их, забавы ради, «видя, как отвратительнейшие лица перед своими зеркалами спорят о своей красоте…» [40, c. 596-597]. Подобный прием Радищев в эпизоде «сна путешественника» возводит в ранг доминантного сюжетного, идейного и композиционного принципа. По сюжету волшебница-целительница, привидевшаяся в восточному владыке во сне, представилась Истиной-Прямовзорой. Она не побоялась честно сказать шаху о его слепоте, сняла бельма с глаз правителя, и он увидел все в истинном свете: «Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровью и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине… Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия… Обширные земли и многочисленные народы изрождалися из кисти сих новых путешествователей… Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом…» [70, c. 2930]. 76 В обоих произведениях «прозревшие» государи представлены как жертвы, доверившиеся своим приближенным. Используя приемы сатирического изображения монархической власти, Крылов показывает придворную жизнь в пародийной манере. Подобным способом описывается государственный совет – «диван». Возглавляет «диван» «человек больших достоинств» Дурсан, который «служит отечеству бородою», и в этом его главное «достоинство» [40, c. 600]. Он является прилежным сторонником самых жестких мер реализации мифического государственного закона. Чтобы добиться от народа исполнения любого указа, следует, по его мнению, только лишь повесить первую дюжину любопытных. Другой советник халифа, представленный «потомком Магомета» и «верным музульманином» – Ослашид – с удовольствием рассуждает о власти и о законе, не понимая и не стремясь осмыслить их истинного назначения. Он, «не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться» [40, с. 601]. Мнение Ослашида о жизни в государстве зиждется на религиозной догме: воля правителя приравнивается к праву самого Магомета, для «рабства» коему создан весь мир. Еще один важный представитель «дивана» – Грабилей – преуспевает, потому что научился «обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки» [40, с. 602]. «Диван», чье прямое назначение непосредственно осуществлять власть в государстве, преследует лишь эгоистические цели; его самые «авторитетные» представители жестоки, глупы, лицемерны и корыстны. 77 Аналогично описание придворной свиты в сне путешественника Радищевым – те же лесть и лицемерие: «При улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся: радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать: – Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки… Иной вполголоса говорил: – Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе. Другой восклицал: – Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества… Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло: - Он милосерд, правдив, закон его для всех равен… Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный,.. он вольность дарует всем» [70, с. 25]. Крылов изобразил «диван» в сугубо пародийной манере, Радищев же использовал аллегорию. В хвалебных тирадах придворных подхалимов узнаваемы некоторые реальные, но в большинстве случаев только сулимые предприятия и действия российской императрицы Екатерины, прославленные придворными одописцами-славословами. На новом витке сюжетного развития Радищев еще раз развенчивает мнимые заслуги, приписываемые Екатерине: роспуск Уложенной комиссии, беспощадную цензуру при либеральном обещании бесцензурной критики. Что же касается лозунга о «расширении пределов отечества и покорении тысяч разных народов своей державе», критическая точка зрения писателя, высказанная окказионально, в подтекстовом намеке, впоследствии открыто прозвучит в ироническом стихотворении Ал. К. Толстого: 78 «Madame, при вас на диво Порядок расцветёт, – Писали ей учтиво Вольтер и Дидерот, – Лишь надобно народу, Которому вы мать, Скорее дать свободу, Скорей свободу дать». «Messieurs, – им возразила Она. – Vous me comblez, (вы слишком добры ко мне – К.Ф.) И тот час прикрепила Украинцев к земле (курсив наш – Ф.К.) Таким образом, ориентальные сюжеты, которыми воспользовались Крылов и Радищев, позволили авторам актуализировать насущные проблемы политического, социального и морально-этического порядка, стоявшие перед русским обществом в 80-90-е годы XVIII века. Естественно, в художественном воплощении идентичных идей в обоих текстах существуют заметные отличия. Сюжет у Крылова выстраивается как путешествие заглавного героя: описываются его встречи, осмысление увиденного, акцентуация значимых судьбоносных моментов. Герой физически перемещается во времени и пространстве. У путешественника Радищева все важные для него встречи происходят наяву на протяжении его поездки из Петербурга в Москву, а в ирреальном пространстве сновидения к нему приходит истина. 2.5. Поэтика восточной повести: стереотип художественного дискурса и оригинальность мотиво- и образотворчества П.Н. Берков, характеризуя произведения русского классицизма, отметил, что в них «существенным было не полное совпадение реальной истории с 79 сюжетом произведения, а наличие известной близости ситуаций, их общей направленности, важна была возможность сопоставлений и проведения аналогий» [9, c. 142]. «Близость ситуаций», обусловленная использованием писателями – анонимным автором «Надира», М.М. Херасковым, А.Н. Радищевым и И.А. Крыловым – восточной экзотики, отличной от национального исторического и современного колорита, была для них сознательным выбором, поскольку в их произведениях ориентализм использовался для аллегорического воссоздания социально-политического уклада российского общества. В произведениях выше названных авторов, воспользовавшихся восточными сюжетами, определяется много «близких ситуаций»: мотивы путешествия, сна, переодевания, прозрения, аллегория зверя-чудища, атрибутика волшебства, образы восточного правителя, придворных вельмож (визирей, муфтий, пашей), таинственной возлюбленной, льстивых поэтов-сочинителей. Рассмотрим основные, наиболее, как нам представляется, интересные в плане художественно-изобразительного воплощения восточные мотивы и образы. Мотив путешествия. Один из общих мотивов восточных повестей – путешествие. Герои анализируемых произведений познают жизнь в странствии, только причины предпринятых ими путешествий разные. Албекир, главный персонаж «Золотого прута» М.М. Хераскова, был изгнан из родного города, его странничество оказалось вынужденным. Он прошел через многие восточные государства, встречался с разными людьми и попадал в различные ситуации. Каждая встреча – это история чужой судьбы, которая всякий раз проникновенно переживалась героем. Случай свел Албекира с неким пустынником, показавшимся ему пророком или волшебником. Он поведал изгнаннику о трагедии своего народа, утратившего свободу (главы 3 «Пустынник» и 4 «Повествование»). 80 Личность главного героя формировали близкие по взглядам пустыннику безымянный старец (глава 6 «Свободные науки») и Маготеософ-мудрец, от которого Албекир получил волшебный золотой прут, делающий людей невидимыми (глава 10 «Есть ли счастие?»). Не прошли незамеченными встречи с несчастными молодоженами, судьба которых напоминает историю Ромео и Джульетты (главы 11-12 «Свадьба» и «Знатные гости»), богатым купцом Гомаром, занимавшимся благотворительностью, щедрость которого показная, вызванная чувством скуки и равнодушия: «лучше скучать при бесчисленном богатстве, нежели скучать в нищете и бедности» (главы 14, 16 «Богатый купец и встречи» и «Несчастный богач»), шутами, позволяющими говорить правду сильным мира сего (глава 23 «Прения»). Итог продолжительного странствия Альбекира, встреч и размышлений в общении с разными людьми подводит автор в заключительной фразе о превращении Албекира из придворного визиря, играющего фактически роль шута, плетущего из прутиков рогожку и режущего деревянные ложки, в философа, пребывающего в поисках истины и счастья. Финал остался открытым. Путешествие Надира, персонажа одноименной анонимной повести, обусловлено иными обстоятельствами. Его отправляют в странствие в воспитательных целях. Пройдя «огонь, воду и медные трубы», герой с честью выходит из всех дорожных приключений. Путешествие Надира, подобно Албекиру, отмечено важными событиями: значительная роль в его судьбе отводится встреченным ему на пути Сорену и его дочери Цирме. Надир, в отличие от Албекира, поставлен в более жесткие условия выживания: он сам должен был воспитывать свой характер, поэтому и встречи, которые влияли бы на становление его личности, сведены к минимуму. Надиру предназначена была высокая правительственная 81 должность, а Албекиру предопределена судьба пребывающего в поисках истины и счастья философа. Самое интригующее в сюжетных перипетиях путешествие описано И.А. Крыловым в восточной повести «Каиб». Богатого и успешного владыку восточной деспотии Каиба на странствие подвигла скука. В его, как он мнил, благополучном государстве, царила гармония, на поверку оказавшаяся желанно воображенной. Благополучие терзало душу калифа: умный диван, красивый гарем, богатство и роскошь убранства дворца надоели Каибу. Поэтому душу калифа беспокоила мысль о бессмысленности его существования. Все ему наскучило: несуразные речи визирей, фальшивая любовь жен, пышная атрибутика богатой дворцовой жизни. Он искал выход из обуревающей его тоски в проведении якобы разумных, но, на поверку, бесполезных государственных реформ через диван, в любви гаремных жен и наложниц, в успехах военных побед. Но состояние скуки Каиба не покидало. А потом состоялось путешествие, преподнесенное автором повести как иррациональное наитие. Избавляя несчастную мышь от преследования ее котом, Каиб, оказывается, спас фею, наворожившую скучающему калифу благополучное будущее. Волшебница в знак благодарности от спасения дарит владыке книгу и волшебный перстень с пророческими словами: «Ступай немедля и ищи человека, который бы назвался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назвался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит; тот, в котором ты увидишь сие противоречие» [40, с. 599]. В повести амбивалентно реализуются мотивы переодевания. Каиб отправился в странствие инкогнито: 82 путешествия и «…Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег…» [40, c. 603]. В повести описаны три встречи Каиба наяву и одна во сне, и каждая оказалась значимой для осмысления калифом жестоко-действительной, а не благополучно-притворной жизни в его мнимом «процветающем» государстве: со стихотворцем, сочинителем хвалебных од; с пастухом, поразившим калифа нищенским существованием; древним героем, вернее, его тенью (во сне); со стариком и его дочерью Роксаной. Именно последняя встреча стала судьбоносной для венценосного странника, ибо он нашел то, что было целью его путешествия – юную прекрасную девушку, которая полюбила Гасана )так представился ей калиф), но ненавидела Каиба, что и было предсказано феей. Владыка забыл о скуке, терзавшей его, рядом с возлюбленной, которую он «возвел на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга…» [40, с. 608609]. Развил ли Каиб, возрожденный любовью, прогрессивную государственную деятельность в духе просвещенного монарха – этот вопрос остается без ответа. Если в обозначенных повестях странствие героя органически включается в ориентальный мотивно-образный комплекс, то в книге А.Н. Радищева путешествие является главным сюжето- и жанрообразующим фактором. Восточный мотив вводится в повествование для реализации идейного замысла писателя – с целью аллегорически представить самодержавную власть императрицы Екатерины П. Но вместе с тем, мотив странствия окказионально вплетен и в восточный эпизод главы «Спасская Полесть». Албекир, Надир, Каиб динамичны в своих пространственных перемещениях: они ищут встреч. Безымянный восточный владыка выписан 83 как статичный образ, и ему предопределено встречать путников. Таковой является Прямовзора, которая была представлена государю как неизвестная странница. В своих наставлениях она призывает владыку привечать, давать кров ей подобным «каликам перекатным»: «Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что тот есть друг твой искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым образом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво» [70, c. 28]. Общая цель странствий героев восточных повестей – поиск ответа на вопрос о смысле жизни. Результаты этих поисков оказались для них разными: Албекир остался в состоянии разочарованности, не сумел определить свое кредо и замкнулся в философствовании. Надир – личность более активная, он сделал блестящую карьеру, но отказался от единоличной власти. Каиб, скорее всего, не изменил образа своего правления, будучи ослеплен дарованным ему судьбой личным счастьем. Мотивы сна и прозрения. Без ситуация «засыпания», последующих сновидений и прозрения не обходится ни один восточный сюжет. Аллегория сна как перехода из мира реального в ирреальный позволяет писателю выразить личностную идейно-художественную позицию в момент пробуждения. В повести неизвестного писателя «Надир», в «Золотом пруте» М.М. Хераскова и «Каибе» И.А. Крылова сны осуществляют роль провиденциального предсказания судьбы героев, а критическое обличение государственного строя выполняет окказиональную функцию. 84 Иная задача была у А.Н. Радищева. В сне-аллегории, включенном в главу «Спасская Полесть» его знаменитой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», Радищев отвергает идею просвещенного монарха, столь популярную в общественном сознании его современников. Правление «прозревшего» монарха он изображает как эфемерную утопию: в концовке повествования о якобы освободившемся от слепоты султане он эффектно завершает сюжет пробуждением путешественника, который в реальности понял, что пережитая им история – сон. Возвращением из сна путешественника Радищев отринул все чаяния о справедливом, «просвещенном» монархе, царствующем в условиях абсолютизма. Финал сновидения полностью развенчал созданную литераторами- предшественниками иллюзию о возможности правления в России просвещенного и справедливого государя, потенциального создателя «золотого века». В числе этих литераторов был М.М. Херасков. В повести «Золотой прут» он не преминул описать сон своего героя, погрузивший его в прекрасную жизнь в идеальном государстве. Сновидение подвигло бывшего визиря возвратиться в Багдад, попытаться добиться прощения султана и моральной проповедью повлиять на его правление. В этой ситуации Албекир рассчитывал на волшебные силы, в частности, помощь золотого прута, который во время путешествия получил от пустынникамудреца Маготеосфора. Золотой прут давал возможность, во-первых, превратиться в невидимку, во-вторых, при его прикосновении узнать всякую тайну, в-третьих, открыть любую дверь. В продолжении рассказа старца о его стране акцентируется именно социальный аспект: в счастливом государстве царит любовь и согласие, а не «гонения и слезы»: 85 «… Дружество соединяло нас, а любовь оживляла: не знали мы ни тяжеб, ни раздоров, ни зависти; ты уже слышал об образе правления нашего – войны мы ни с кем не имели, ибо чужого не желали, а у нас похитить было нечего, потому что ни богаты, ни убоги не были; безопасны, ибо в зависть никого привесть не могли; спокойны, ибо лучшия жизни не знали» [94, c. 42-43]. После возвращения из долгого скитания принятый во дворце бывший визирь произносит пламенный монолог, в котором пытается открыть владыке глаза: «Тогда Албекир изобразил пред Калифом ясными чертами всё то, что на пути своём к Багдаду приметил; он живо описал жалостное всех жителей состояние, злодейские поступки грубого и голодного воинства; несправедливость Кадиев; общее роптание; бедность всего народа; и неправду Визирскую; все сие, примолвил он, устрашает восток всеобщим возмущением и…» [94, c. 125]. Пламенную речь Албекира автор прервал значимым многоточием. Шах Багем оказался глухим, подобно как слепым будет представлен владыка в сне путешественника Радищевым. Калиф слышал только льстивые речи придворных и нашептывания своей второй жены, которая, забавы ради, пожелала надеть на голову кающегося визиря шутовской колпак. Реакция героя соответствует дорадищевскому представлению о «слепоте», как и «глухоте» верховного властителя, доверяющего своим коварным царедворцам. Херасков разделял политическую позицию современников – писателей-просветителей: «Возгнушался честный Албекир таким всеобщим распутством,.. возгнушался и возопил: о нечестивые люди! Как гром не поразит вас, как земля вас не поглощает; но Творец вселенныя долготерпелив,.. но правосуден; он когда-нибудь, а может и скоро, по деяниям вашим вас накажет… Но бедный Калиф их не видит, надобно отворить ему 86 глаза, надобно его о всем уведомить; хотя и то бы жизни мне стоило, выведу его из заблуждения» [94, c. 143]. «Повелитель правоверных, – искренне восклицал бывший визирь на правах шута, – твоя Султанша также обманута, как и ты, Государь, коварными людьми обманут; философы, которыми кажется тебе, что ты царствуешь, суть ничто иное, как легкомысленные люди, которых два бездельника, два твоих шута в точное распутство приводят; они своим новым, но ложным учением соблазнив незрелые ещё их разумы, претворили их в машины, коими они по воле своей действуют, дабы удобнее удовлетворить своему собственному корыстолюбию и славе…» [94, c. 147]. Главный герой восточной повести Хераскова воспринимается как заблудившийся правдоискатель. Автор заключает свое повествование интенцией превращении Албекира в Великого Философа. И многоточие в конце повести опять же значимо. В произведении И.А. Крылова «Каиб» эпизод сна заглавного персонажа включен с дидактической целью. Опасаясь диких зверей, калиф устраивается на ночлег на высоком камне, оказавшемся надгробным. Его впечатлила надпись на памятнике: «Кто бы ты ни был, не приближайся; взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я… (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)… победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли… Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие, сокровища неисчерпаемы, славу бессмертную и страх имени моего столь великий» [40, c. 606]. Каиб заснул, и во сне к нему пришла тень древнего воина, который поразил калифа своей исповедью: 87 «Каиб, - сказало ему видение, ты зришь перед собою тень того, коего прах покоися под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничего не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая могла мучить того, кто мучил вселенную» [40, с. 607]. Завоевательная деятельность древнего воина, его слава и почет не сохранили о нем достойную память, поскольку привели к бедствиям, по его опоздавшему пониманию, «угнетавшим родную страну». Увиденная Каибом во сне тень воина и его исповедь по пробуждению «внушили» ему «благоразумные размышления»: «Сердце твое удобно ими воспользоваться; а сии размышления в толь великом калифе, каковы ты, будут причиною счастья миллионов людей, – вот благо, происшедшее также от меня…» [40, c. 607]. Какой же результат ситуации прозрения монархов заключает сюжеты в произведениях Радищева и Крылова? Крылов закончил повествование идиллически: к праведной жизни калифа возродила любовь к бедной девушке Роксане, которую он возвел «на свой трон, и супруги были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами» [40, c. 609]. Автор повести перевел критику в бытовую ситуацию. Только намек на давнюю историю в некой восточной стране, а также невозможность подобной счастливой развязки в «нынешнем веке» позволяет предположить о недвусмысленности отношения Крылова к современной ситуации в Российской «просвещенной» империи. Однако какой-либо позитивной политической программы Крылов не предлагает, он обличает, «с одной стороны, самодержавие, а с другой стороны, 88 ограниченность просветительской общественно-политической мысли» [41, c. 311]. Радищев изобразил искренний гнев прозревшего монарха: «Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего» [70, c. 31], и … разбудил своего героя-путешественника, который, очнувшись от сна, в реальности понял, что виденная им история – просто сновидение: «Властитель мира, если читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается» [70, c. 31]. Пробуждением путешественника Радищев отринул все иллюзии о справедливом, «просвещенном» правлении в условиях абсолютизма. В главе «Тверь», включающем оду «Вольность», он проповедует низвержение самодержавного правления, на смену которого должна придти демократическая республика. Аллегория «зверя-чудовища». Концептуальной составляющей восточных повестей является образ зверя-чудовища. Еще Вольтер сравнивал самодержавный абсолютизм со «зверем», которому надо «подрезать когти». Типологически соотнесенный с вольтеровским прием использовал М.М. Херасков в повести «Золотой прут», описав «зверя-чудовище» в собирательном образе султановых приспешников: «…Многие поставляют себя потому только просвещёнными,.. что пороков не стыдятся; всякое благоучреждение священное и гражданское безделкою ставишь,.. но с 89 приобретением желаемого подъемлется завеса, и чудовище во всей своей мерзости является; вот, Государь какие философы между твоими поданными рождаются» [94, c. 148-149]. Не преминул воспользоваться аллегорией и автор «Надира». Залег, обучая своего воспитанника закону, гневно обличает сильных мира сего, преступающих закон, либо творящих беззаконие: «Но какими неистовыми заблуждениями обесчестили люди столь изрядный закон, сделанный к их блаженству? Каких богомерзких чудовищ я вижу, взносившихся на его окровавленных развалинах?… Оно (чудовище – К.Ф.) пожирает все, предстоящее на его пути, опустошает землю и покрывает ее невежеством и пороками…Сей урод есть наижесточайший и опаснейший, ибо он берет вид благочиния… Здесь я зрю его с растрепанными власами,.. наводняющего вселенную кровию и злодействами… Он проповедует свое поучение, давит тех, которых не может уверить, и над половиною нашей земли царствует мучительски» [56, c. 171-172]. Образ чудовища в обоих произведениях олицетворяет, прежде всего, придворное невежество, возведенное в закон и толкуемое, как причина всякого зла. Обличение в повестях распространялось лишь на частные случаи несправедливого правления государя или на вельмож, лукаво потворствующих правителю. И даже если критиковался монарх, то сам самодержавный принцип правления сомнению не подвергался. В «Каибе» И.А. Крылова образ чудовища отсутствует. Вместе с тем, следует отметить, что литератор более решительно, чем его коллеги – авторы восточных повестей, выступал критиком «чудовища»- самодержавия. В одном из его писем содержится резкий выпад против монархов, которые своими властолюбивыми амбициями подвергали государство бедствиям войны: 90 «Область, опустошенная тщеславным победителем, не должна ли почитать его чудовищем, рожденным для погибели рода человеческого? Кто дал право человеку убивать миллион подобных себе людей для удовлетворения своих пристрастий? В каком установлении естественного закона можно найти, что множество людей должны принесены быть в жертву тщеславию или, лучше сказать, бешенству одного человека» [84, c. 72]. Радикальнейшим образом аллегорию зверя-чудища использовал А.Н. Радищев. Он предпослал своей книге эпиграф – перефразированную цитату из «Тилемахиды» В.К. Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» использовал миф о Телемаке, который, спустившись в ад, увидел мучения владык-тиранов. В наказание царям приносили два зеркала: зеркало Лести и зеркало Истины. В первом они видели себя такими, как их при жизни изображали придворные льстецы; во втором – какими они были на самом деле: страшнее и ужаснее, чем трехглавый пес Цербер и стоглавая Лернейская гидра. В радищевском варианте оба чудовища объединены в одно. Аллегория этого страшного чудища – российское самодержавие. Так главная тема книги была названа уже на титульном листе, в эпиграфе. Прием «двух зеркал» напрямую использован далее писателем в главе «Спасская Полесть» – сне путешественника, где применен восточный сюжет. И в остальных главах «Путешествия» повествование ведется как бы в двух планах – внешнем и внутреннем. Поведение людей (внешнее) объясняется с точки зрения их социальной и человеческой сущности (внутренней). В этом смысле прием «двух зеркал» становится художественным принципом писателя. Начав с рассказов об отдельных злоупотреблениях чиновников и помещиков, о безнаказанном нарушении ими законов, Радищев задается вопросом, почему это происходит? И 91 отвечает: такова суть самодержавно-крепостнической социальной системы, «стоглавого чудовища»: И се чудовище ужасно, Как гидра, сто имея глав, Умильно и в слезах всечасно, Но полны челюсти отрав [70, c. 122]. Так аллегорически характеризует самодержавную власть автор книги. По его мнению, отрубить головы «чудищу» может только народная революция. Образы придворных сочинителей. Конъюнктурное сочинительство – тема, волновавшая многих литераторов II-й половины XVIII века. Нашла она и своеобразное воплощение в восточных повестях. Довольно разнообразно представлены придворные поэты в «Золотом пруте» М.М. Хераскова. Одной из причин отстранения Албекира от должности и его изгнания явились пасквильные стихи: «Мелкие писатели сочинили на его несчастие несколько ругательных песен, эпиграмм и сатир, которые нестерпимо дурно написаны были…» [94, c. 22]. Глава «Свободные науки» посвящена целиком размышлению о полезности «наук и художеств», в том числе и стихотворства. В разговоре с пустынником-старцем Албекир высказывает расхожее суждение, что стихотворство и стихотворцы, как и прочие ученые люди, бесполезны человеческому роду, «ни к каким делам не бывают приспособлены». К чести опального визиря, он сумел прислушаться к словам своего собеседника и внять его рассуждениям о пользе «нельстивых» поэтов и опасной пагубности «льстивого» стихотворства: 92 «…Что же надлежит до стихотворцев, то ежели они прямую искру пиитического огня имеют, тогда конечно не бывают способными к подлому раболепству, к игношению презрительных и низких должностей, к льстивым похвалам людей безграмотных и непросвещенных,.. а стихотворство только тогда бесполезно, а может быть и вредно бывает, когда чье-нибудь дарование во вред обращается, когда неблагопристойные сочинения разжигают сладострастные чувствования в читателях, когда в соблазн другим приятные и приманчивые дают виды гнусным порокам, осыпают гордость, лесть и бесстыдство прелестными чиноположениями и цветами; обрядами когда законов, кощунствуют разрушают над верою основания или над благоустройств общественных, и наконец, когда корыстию влекомы или собственной славою упоены, губителей рода человеческого, злых и несправедливых людей, корыстолюбцев и гонителей в кротких агнцев и благотворителей народных превращают…» [94, c. 56-57]. В повести «Надир» только в одном фрагменте, когда подвергается критике бездарный полководец, тактика которого привела к поражению персидской армии, упоминаются стихотворцы, дружно отреагировавшие на военный провал, что в результате их бурной деятельности привело к опале министра и отставке генерала: «Слух о сих несчастиях доходит до Испагана (о поражении персов – К.Ф.); со всех сторон являются эпиграммы, и один сатирический стишок утешает народ в его горестях. Министр обвинен в его ошибке, а полководец в незнании; кончилось же сие через отозвание последнего…» [94, c. 223]. Для И. А. Крылова проблема стихотворной конъюнктуры была, очевидно, столь актуальной, что она реализовалась как вторая по важности в его восточной повести «Каиб». Во всяком случае, в пяти эпизодах присутствует ироническое описание «усердной» деятельности придворных сочинителей ради карьерного взлета, и в двух больших фрагментах – судьбоносных встречах с одописцем и пастухом – обсуждается та же тема. 93 В повести очевидно стремление автора к систематической дискредитации устойчивых литературных приемов создания образа просвещенного монарха. В глазах современников неотъемлемым свойством идеального правителя было покровительство наукам и искусствам. Каиб потворствует ученым и поэтам на свой особый лад: «... Надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пущал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и подлинно не было в Каибовых владениях ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету» [40, c. 596]. Иронию в повести Крылова следует отметить как самый удачный художественный прием: и в демонстрации дворцовой жизни Каиба, и в показе потакающего ему дивана, и в изображении льстивых придворных, в том числе и поэтов-славослововов, «которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими творениями», заготовляя «пирамиды од» и «надеясь при первом случае сбыть их за хорошую цену» [40, c. 596, 598]. «Карьеру» придворного поэта Крылов описал соответственно своему ироническому восприятию: «Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. «Слава твоя, – говорил ему» некто из его стихотворцев, – была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило». Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своей сералью» [40, c. 596]. 94 Ироническое высмеивание конъюнктурных стихотворцев сопровождается в повести столь же систематическим пародированием традиционных литературных жанров: оды как формы прославления государственного идеала: «…Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то… принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал; что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести их кому угодно;.. Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, — и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили…» [40, c. 604]. и идиллии как формы воплощения идеала крестьянской жизни: «…Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если б я не был Калифом, то бы хотел быть пастушком»… Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столь же глуп, сколь прибор его беден. «Скажи, мой друг, - спрашивал его калиф, - где здесь счастливый пастух этого стада?» «Это я», - отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба…». «Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, - сказал калиф. –О! теперь то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман» [40, c. 605]. Крылов язвительно высмеивает один из самых популярных классицистических жанров – похвальную оду и ее создателей, которыми 95 часто руководят лесть и страх. Его эстетический выпад направлен прежде всего против одописцев и той искусственности и условности, которые характерны для классицизма. Читая книгу, которую дала Каибу фея как усыпительное средство, он находит оду визирю, недавно повешенному им за взятки. Добродетели визиря были воспеты с таким восторгом, что калиф начал уже опасаться, «не святого ли он повесил». Путешествуя по своей стране, он попал в хижину поэта, слагавшего оды. Стихотворец объясняет калифу, как составляются подобные стихи: «Мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить было можно. Ода – как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу» [40, c. 604]. О.Б. Лебедева так оценивает иронию И.А. Крылова: «Пародийный смысл повести оказывается многозначным: высмеиваются не только официальные хвалебные жанры (ода, похвальная речь), но и самый жанр «восточной» повести, точнее говоря, ее «развлекательная» разновидность. Пристрастие к сказкам, которые «приятно обманывают», – черта, характерная для пресыщенного властью Каиба. Рассказы о чудесном и волшебном оказываются составной частью той системы лжи, на которой зиждется тираническая власть. Литературная пародия приобретает, таким образом, острый социально-общественный смысл. Нравственное перерождение Каиба и благополучный конец повести – это очередной обман, в который может поверить только читатель, не понявший авторского сарказма» [42, c. 203]. В главе «Спасская Полесть» – эпизоде сна путешественника – Радищев также не преминул использовать возможность поиронизировать над усердием придворных стихотворцев. Только прямых сатирических выпадов 96 в самом тексте нет: они выявляются на подтекстовом уровне. Многочисленные льстивые воззвания к султану есть не что иное, как скрытые цитаты из од современных стихотворцев, воспевавших российскую императрицу. На этот факт обратила внимание Л.В. Крестова в статье «Сон» в главе «Спасская Полесть» «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева». Эпизод, содержащий восторженные речи придворных, она сопоставила с многочисленными хвалебными одами современных Радищеву стихотворцев – Е. Кострова, В. Майкова, М. Хераскова, Н. Николева, В. Петрова, выявив множество текстуальных параллелей. Позволим себе позаимствовать некоторые примеры из ее исследования. Строки из «Оды на день рождения Екатерины П» Е. Кострова «Коль многих ты и коль несчастных / Исторгнула от бед ужасных, / От смертных челюстей спасла» у Радищева трансформировались в «Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавляя их до сосца от гибельной кончины»; хвала султану «он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный» напрямую перекликается с фрагментами из «Оды на случай избрания Екатериной Второю депутатов» В. Майкова («В ней купно храбрость, хрупкость, вера, / Екатерине нет примера/ На свете из земных владык») и героической поэмы «Россиада» М. Хераскова («Тесна ее лучам Российская страна, / Должна бы озарить вселенну всю она, / Она народам даст уставы / Гласящи поданных и государей правы». В. Петров, прозванный «карманным» поэтом, в оде «На заключение с оттоманскою Портою мира» изобразил Софию-«премудрость божию», пояснив, что «Мудрость – это Она», то есть императрица Екатерина [См. подробнее: 39, с. 355-356]. Не случайно Радищев пародировал все эти одические тирады. «Приводя в главе «Спасская Полесть» множество льстивых речей,.. – делает вывод Л.В. Крестова, – Радищев ставит под сомнение их искренность, придает им сатирический оттенок. В «Спасской 97 Полести», как позднее и в заключительной главе «Путешествия», Радищев явно осуждает «общий обычай ласкати царям, нередко, недостойным не токмо похвалы стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания» [39, c. 356]. Итак, художественные аналогии, выявленные в произведениях русских писателей, фабульной основой которых стал восточный материал, позволяют сделать вывод о целенаправленном применении идентичных ориентальных мотивов и образов. Но показательно то, что на пересечении сюжетообразующей восточной темы и индивидуально воплощенных в ее реализации идейных взглядов, каждый из писателей высказывал свою личностную эстетическую позицию. 98 ГЛАВА III ОРИЕНТАЛИЗМ В РУССКОЙ КЛАССИЦИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ Жанр трагедии в литературе русского классицизма был адаптирован более других соответственно канонам европейской драматургии. Конкретный теоретический источник, который преподал сведения о драматургической системе и сценических принципах классицистической трагедии – это, бесспорно, трактат Буало «Поэтическое искусство». Общую схему европейской трагедии перенес на русскую почву А.П. Сумароков, изложивший в свободном переводе на русский язык теоретические максимы Буало в «Эпистоле о стихотврстве» (1747 г.), концентрируя внимание на законах построения сюжета (коллизия внутренней борьбы героев между исполнением долга и личными чувствами, страстью, любовными страданиями; строгое разделение персонажей на положительных и отрицательных) и формальными требованиями (пятиактное построение, соблюдение правила «трех единств» – действия, времени и места, александрийский стих). Фабульная коллизия – это не просто разыгранная в трагедии конфликтная история «чувства - долга», это – «то состояние героя, которое может или должно контролироваться надличными ценностями, ими удерживаться» [36, c. 119]. Автор работы «Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма» К.А. Кокшенева обстоятельно проанализировала эстетическую сущность доминантного трагедийного конфликта: «Если страсть трагических героев направлена друг на друга, то долг их направлен вовне (наследование власти или наследование крови). И это трагедийное положение… обязательно для всех трагедий классицизма. В «круг долга» включены все трагические герои за исключением 99 вестников, наперсников, слуг. Но и «круг страсти» в трагедии классицизма непременно дополняется «третьей силой» – страстным правителем. Таким образом трагическая дилемма главных героев оказывается стесненной законом власти правителя и законом власти отца. В границах этого трагического пространства и идет трагическая борьба героев. Именно здесь возникает этическая высота трагедии классицизма – необходимости для трагического героя и героини согласовать свою любовную страсть с законом долга – долга к возлюбленному, долга к носителю власти, долга перед отцом и долгом перед наследованием власти и невозможности этого согласования в силу ситуации – положения героев» [36, c. 119] . Из формальных констант самым сценически жизнестойким в пьесах оказалось правило «трех единств», пережившее поэтику классицизма, соблюденное и Д.И. Фонвизиным в его новаторском «Недоросле», и А.С. Грибоедовым в «Горе от ума». В трактате А.П. Сумарокова знаменитая формула «трех единств» была прописана особо тщательно: Действия: Не представляй двух действ к смешению мне дум; Смотритель к одному свой устремляет ум. Ругается, смотря, единого он страстью И беспокойствует единого напастью… Времени: Не тщись глаза и слух рзличием прельстить И бытие трех лет мне в три часа вместить: Старайся мне в игре часы часами мерить, Чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить… Места: Не сделай трудности и местом мне своим, Чтоб мне, театр твой зря, имеючи за Рим, Не полететь в Москву, а из Москвы к Пекину: Всмотряся в Рим, я Рим так коро не покину [87, c. 145]. 100 Несмотря на прямое влияние французской классицистической школы на формирование трагедии в русской литераторы, актуализируя оригинальные концептуальные драматургии, трагедийный коллизии отечественные жанр, исходя разрабатывали из общественно- политической ситуации своего времени. «В центре идейного содержания русской трагедии, – писал Ю.В. Стенник, – всегда будет стоять проблема нравственной ответственности индивидума (будь то монарх или подданные) в выполнении своего долга перед обществом. Для XVIII века, прошедшего под знаком приоритета сословно-монархической государственности, идейная коллизия основанная на столкновении интересов самоутверждающейся личности с идеалами надличностного общественного начала, приобрела повышенную эстетическую злободневность» [81, c. 5]. В литературоведении принято считать, что родоначальником российской трагедии является А.П. Сумароков. Действительно, на протяжении 2-й половины XVIII века именно его трагедии были основой отечественного театрального репертуара. Являясь главным теоретиком и утверждая в русской литературе каноны жанровой системы классицизма, как писатель-практик Сумароков в ряде существенных моментов отступал от общепризнанного теоретического формуляра. Самая существенная его новация – это использование не античных сюжетов, как это принято было в произведениях французских драматургов, а материалов русской истории. Характерной чертой трагедий Сумарокова, созданных в 70-е годы, является наличие политических аллюзий. Характеризуя публицистическую идею трагедий Сумарокова, Г.А. Гуковский отмечал, что его пьесы «должны были явиться… училищем для царей и правителей российского государства, прежде всего училищем для российского дворянства, 101 которому Сумароков брался объяснить и показать, чего оно должно требовать от своего монарха и чего оно должно не допускать в его действиях…» [23, c. 150]. Опять же принято считать, что знаменитая трагедия «Дмитрий Самозванец» (1771 г.) – это первый опыт создания произведения антитиранистической направленности, так называемой «тираноборческой» трагедии. Однако, на наш взгляд, приоритет в этом «почине» должно отдать А.А. Ржевскому, автору трагедии «Подложный Смердий», написанной в 1769 г. Естественно, эта трагедия не столь радикальна, как сумароковская, но проблему самозванства поднял именно А.А. Ржевский. Образ Лжесмердия предвосхитил образ Лжедмитрия. Ориентальные сюжеты использовали в своих трагедиях также В.И. Майков («Фемист и Иеронима», 1773) и П.Н. Николев («Сорена и Замир» 1784-1785). В 1 параграфе главы считаем необходимым рассмотреть трагедию корифея русского классицизма М.В. Ломоносова «Тамира и Селим», написанную в 1750 г. – первом в отсчете второй половины XVIII века, поэтому мы включаем ее в анализ с полным на то основанием, тем более, что «восточная тема» является в пьесе сюжетообразующей. 3.1. Репрезентация восточного сюжета в трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» Традиция обращения к сюжетам из русской истории в трагедии русского классицизма (в отличие от французской школы, культивирующей использование античных материалов) восходит к трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир» (1705). Интенсивно использовал древнерусские летописные источники А.П. Сумароков (в восьми из девяти написанных 102 им трагедий), утверждая эту традицию. Драматурги-последователи второй половины века в подавляющем большинстве следовали Сумарокову. Великий современник прославленного драматурга – ученый, просветитель, писатель М.В. Ломоносов также пробовал свой талант в жанре трагедии. Для одной из двух написанных им трагедий – «Тамира и Селим» – он избрал не древнерусский, а восточный сюжет, причем, задолго до шумной популярности вольтеровских пьес. Ломоносов воспользовался ориентальной фабулой весьма оригинально, можно сказать, опосредованно, на подтекстовом уровне, спроецировав ее на русскую историю. Пьеса была построена по образцу структурного канона классицистической трагедии с установкой на дидактизм, поучительный моральный урок, просмотревшему который историю, должно было разыгрывающую преподать страсть и зрителю, любовные страдания героев на фоне политической борьбы с агрессией восточной деспотии. Это была первая в русском классицизме трагедия с использованием восточного материала. «Тамира и Селим» написана М.В. Ломоносовым не по собственной творческой потребности, а как выполнение «госзаказа» в ответ на указ императрицы Елизаветы Петровны от 29 сентября 1750 г. о расширении драматического репертуара русских театров. Впрочем, это не исключение, а вполне расхожий случай для Ломоносова как писателя. Известно, что знаменитая ода, возведшая его в ранг классиков русской литературы, которая посвящена восшествию на престол Елизаветы Петровны (1747 г.), написана также была по заказу Академии наук. Именно академики обратились с просьбой к Ломоносову от имени научного учреждения преподнести «радостные и благодарственные восклицания» императрице по поводу празднования 6-й годовщины ее правления. И ученый согласился, создав гениальную оду, в которой прославление реальных 103 деяний государыни («войне поставила конец», «в мире расширять науки изволила Елисавет») превосходили славословные дифирамбы «просвещенной» монархине. Известно, что ода вышла отдельным тиражом, при этом анонимно. Исполнение заказа на трагедию было не столь удачным. «Тaмирa и Селим» представлялась на сцене только два раза, причем не профессиональными актерами, а кадетами Сухопутного шляхетского корпуса (в декабре 1750 г. и январе 1751 г.). Спектакль успехом не пользовался. Вопрос литературоведении о причинах подымался зрительского неоднократно. Д.К. провала в Мотыльская высказывалась довольно резко: выдающийся ученый «пробовал свои силы в трагедии», однако «в этих произведениях не сказал ничего нового» [55, c. 347). По мнению А.В. Зaпaдовa, причина неприятия пьесы кроется в «политической окраске» пьесы: «Ее главными положительными героями были татары и aрaбы, союзники Мaмaя и потому – врaги России, о чем русский зритель никогда не забывал» [31, c. 210]. В этом ученый увидел «художественный просчет» замысла пьесы. Авторитетный исследователь жанра трагедии в литературе XVIII в. Ю.В. Стенник обратил внимание на то, что «при попытках уяснить причины неуспеха Ломоносова… в жанре трагедии» не учитывались «особенности творческого метода» автора [83, c. 69]. Согласиться с утверждением, что Ломоносов в пьесе не сказал ничего нового, будет несправедливо. Художественное новаторство драматурга оказалось невостребованным, непонятым русским зрителям, ожидавшим от зрелища привычного строгого трагедийного действа. Поэтому, на наш взгляд, ближе всего к истине мнение Ю.В. Стенника о неприятии творческого метода автора. 104 «Политическая окраска» – это, в принципе, тоже желаемая и более надуманная, чем истинная характеристика трагедии. Исследователи неправомерно абсолютизируют национально-исторический пафос произведения. Г.Н. Моисеева утверждает, что «основываясь на летописном источнике, Ломоносов передал все детали Куликовской битвы», что он «стремился к наиболее достоверной передаче исторических фактов, известных ему из древнерусских памятников» [53 а, c. 531, 532]. Но в тексте трагедии есть всего два небольших эпизода, даже отдаленно не отражающих «все детали» и «достоверность» театра военных действий на Куликовом поле: первый – ложная информация о якобы разгроме войск Дмитрия Донского ордой Мамая: Мумет: Пришла мне радостна, ему печальна весть, Что Росская страна подверглась вся Мамаю… С поспешностью гонец прибег с Донских полей И весть принес, что вся Ордынска к бою сила Противу россов шла, и россы против ней… Российские в крови повержены знамена, И князь Московский был отвсюду окружен, И сила войск его слабела утесненна: Сомненья нет, что он Мамаем побежден [48, С. 169], второй – рассказ одного из героев, участника и очевидца событий, Нарсима, о разгроме татар и бегстве Мамая: Не слыхано еще на свете зло подобно, Какое предпринял Мамай, тиран и льстец. Уже чрез пять часов горела брань сурова, Сквозь пыль, сквозь пар едва давало солнце луч. В густой крови кипя, тряслась земля багрова, 105 И стрелы падали дождевых гуще туч. Уж поле мертвыми наполнилось широко; Непрядва, трупами спершись, едва текла… Мамаевы полки, увидев, встрепетали, И ужас к бегствию принудил всех татар… [48, c. 209-210]. Эти два фрагмента не могут быть столь «могучей» иллюстрацией национально-патриотического пафоса трагедии. Автор учебного пособия «Русская историческая драма эпохи барокко, классицизма и сентиментализма» Е.А. Прокофьева также явно преувеличивает место трагедии Ломоносова в его исторических трудах: «Трагедия «Тамира и Селим» логично вписывается в ряд собственно исторических сочинений ее автора, предваряет наиболее значимые из них: [«Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи»] (1757), [«Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года»] (1754–58), «Краткий Российский летописец с родословием» (1759), «Идеи для живописных картин из российской истории» (1764). Здесь Ломоносов, отстаивая древность и величие русского народа, подверг критике норманнскую теорию создания новгородской или киевской государственности… При написании «Тамиры и Селима» им использовались различные, в том числе рукописные, редакции «Сказания о Мамаевом побоище», наибольшее предпочтение среди них отдавалось Никоновской летописи. Так же автор трагедии обращался к «Синопсису» И. Гизеля и материалам неизданной еще «Истории российской от самых древнейших времен» В.Н. Татищева (кн. 1-5, М., 1768–1848)» [69, c. 35]. Вызывает сомнение достоверность этого утверждения о столь высокой значимости трагедии «Тамира и Селим», где русская история отражена фрагментарно и в текст лишь вкраплены имена исторических личностей, в формировании исторического 106 мышления Ломоносова. Говорить о том, что пьеса Ломоносова «вписывается» в ряд его исторических сочинений, представляется натяжкой. Исторично предпосланное пьесе «Краткое изъяснение», сам же текст фактически внеисторичен. Без предваряющего текст комментария не была бы понята сюжетная линия трагедии. Вот о чем повествует это авторское «изъяснение», вводящее зрителя в курс происходящих событий на сцене: «В сей трaгедии изобрaжaется стихотворческим вымыслом позорнaя гибель гордого Мaмaя, цaря тaтaрского, о котором из Российской истории известно, что он, будучи побежден хрaбростию Московского госудaря, великaго князя Димитрия Иоaнновичa нa Дону, убежaл с четырьмя князьями своими в Крым, в город Кaфу, и тaм убит от своих В дополнение сего представляется здесь, что в нашествие Мамаево на Россию Мумет, царь крымский, обещал дочь свою Тамиру в супружество Мамаю, послал сына своего Нарсима с некоторым числом войска на воспоможение оному. В его отсутствие Селим, царевич багдадский, по повелению отца своего пришед через Натолию, посадил войска на суда, чтобы очистить Черное море от крымских морских разбойников, грабивших багдадское купечество. Сие учинив, приступил под Кафу, в которой Мумет, будучи осажден и не имея довольныя силы к сопротивлению, выпросил у Селима на некоторое время перемирия в том намерении, чтобы между тем дождаться обратно с войсками сына своего Нарсима. После сего перемирия в первый день следующее происходит в Кафе, знатнейшем приморском городе, в царском доме [48, c.161]. А происходит любовная история, начало которой зарождается на глазах зрителя. Далее в трагедии романтическая линия развертывается как основная в перипетиях драматического действа, пространственно отстраненного от батальных событий на Руси. По закону жанра в трагедии представлена конфликтная ситуация между чувством и долгом, ключевую роль в которой играет заглавная героиня. В 107 первом действии события развиваются динамично: резко изменяются причины, возбуждающие любовные переживания Тамиры. Сначала она страдает от чувства любви к врагу, поскольку Селим возглавляет багдадское войско, осадившее Кафу, и городу грозит серьезная опасность: Ах, что я делаю? Что в мысли я имею? Я тем родителя и Бога прогневлю, Что общего врага отечества жалею! Никак Селимом я пленилась и люблю? [48, c. 164]. Но багдадское войско сняло осаду и ситуация, к радости Тамиры, разрешается мирно, о чем возвестил ее отец, царь крымский Мумет: Прошла военная гроза и неустройство Желанный мир настал, возлюбленная дочь, И утверждается надежное спокойство: В союз со мной вступив, Селим отходит прочь [48. c. 169]. Но радость Тамиры была преждевременной. Отец объявляет дочери о решении выдать ее замуж за Мамая. Пришло известие, впоследствии оказавшееся ложным, что татарский хан победил русское войско, и Мумет посчитал Мамая достойным руки своей дочери. В последующих действиях антагонистами в конфликте становятся Мамай и Селим. Мамай, позорно бежавший с Куликова поля, ложью, коварством и использованием честолюбивых помыслов Мумета пытается склонить Тамиру на брак, чтобы заручиться поддержкой Крымского царства в войне с Русью. Селим организует побег своей возлюбленной, однако неудачно, попадает в тюрьму, но вернувшийся с Куликова поля брат Тамиры Надир 108 разоблачает коварство Мамая. Повергнутый враг погибает, и в финале зритель видит торжество справедливости. По мнению Ю.В. Стенника, Ломоносов создавал «правильную трагедию»: «Но само сочетание вымышленной истории о любви к багдадскому царевичу с подлинными фактами истории России (поражение и смерть Мамая) призвано было, по мысли Ломоносова, подчеркнуть очень важную для него патриотическую идею, на которую он и указал в «изъяснении». Только в данном случае идея вырастала из вымышленного (романтического) сюжета, а подлинным историческим фактам отводилась роль глубинного подтекста» [81, с. С. 15]. Обратимся еще раз к выше цитированному тезису Ю.В. Стенника о причинах неуспеха Ломоносова в жанре трагедии, которые он объяснял невосприятием «особенности творческого метода» писателя. «Тяготение к аллегоризму, установка на иносказательность, эмблематичность, сочетавшиеся с напряженной, основанной на метафоризации стиля символикой, столь характерные для торжественных од Ломоносова, своеобразно отразились и в структуре его пьесы» [81, c. 16], – пришел к выводу исследователь. Эмблематичность представления может трактоваться по-разному. В трагедии Ломоносова таковой нам видится любовная история. После прочтения пьесы создается впечатление некоего навешивания «масок» на героев. Изначально становится понятным, что любовные терзания Тамиры не столь искренни, сколь показные – при любом исходе она выберет чувство. Из первых же монологов становится понятным, что обуреваемая ее страсть возымеет верх, а долг, то есть покорение воле отца и Мамая, в любом случае будет проигнорирован – и в ситуации грозящего штурма Кафы Селимом, и в настойчивом сватовстве Мамая. В выборе покориться 109 ли воле отца или решиться на побег с любимым Тамира, несколько поколебавшись, предпочла побег. На фоне других героических женских образов, прежде всего из трагедий Сумарокова, Тамира теряет зрительскую симпатию. Но ее должна реабилитировать преданность Селиму, когда, верная чувству, а не долгу, она, прослышав о гибели любимого, пытается покончить собой. Поэтический дар Ломоносова превзошел его рациональное устремление в попытке создать «правильную трагедию». Ю.В. Стенник резонно подметил метафоризацию стиля писателя. Несвойственная жанру трагедии символика и тропика стала изобразительной новацией Ломоносова. Особенно наглядно это проявилось в воссоздании батальных эпизодов. Пьеса начинается монологом Тамиры. Произнесенные героиней первые же слова свидетельствуют об эстетической свободе выбора Ломоносовымдраматургом художественно-изобразительных средств для трагедийного представления: Настал ужасный день, и солнце на восходе, Кровавы пропустив сквозь пар густой лучи, Дает печальный знак к военной непогоде; Любезна тишина минула в сей ночи… Селим полки свои возвел на ближню гору, Чтоб прямо устремить на город тучу стрел. На гору, как орел, всходя, он возносился…. [48, c.163]. Буквально с первых строк текст насыщен изобразительной символикой и тропикой, не характерной языку трагедий. В процитированном фрагменте – это метафоры, сравнения, эпитеты, являющиеся поэтическими универсалиями художественной баталистики (война описывается как непогода, кровавый пейзаж; воин сравнивается с орлом; штурм – наведение 110 «тучи стрел»). Отметим, что Ломоносов переносит в текст трагедии метафоры из его поэтических произведений – оды «На взятие Хотина» («Восторг внезапный ум пленил, / Ведет на верьх горы высокой ») и оды «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», 1747 г. («Царей и царств земных отрада, / Возлюбленная тишина»). Анализируя одическую поэтику Ломоносова, В.И. Федоров подметил прелюбопытный факт: «Ломоносову нередко удавалось уже «приступом» (вступлением) придать оде тональность, соответствующую ее главной теме. Так, победная «Ода на взятие Хотина» открывалась «бурным» приступом, а ода 1747 года, посвященная прославлению мира в России, начиналась приступом «тихим» [91, c. 108]. Подобный прием Ломоносов перенес и в свою трагедию. Далее во всех батальных описаниях он продолжает использовать художественноизобразительные поэтические «клише», характерные воинским текстам. Приведем один показательный отрывок, где среди прочих отдельно отметим сравнение «ратник-ратай», которое также не преминул использовать автор: И с малым воинством Димитрий, князь Московский, Противу стать дерзнул, оставшись близ реки. Как буря шумная поднявшись после зною, С свирепой яростью в зажженный дует лес, Дым, пепел, пламень, жар восхитив за собою И в вихрь крутой завив, возносит до небес И нивы на полях окрестных поедает, И села, и круг них растущие плоды; Надежды селянин лишившись, оставляет Ревущему огню вселетные труды [48, c. 169]. Действующими персонажами трагедии, как положительными, так и отрицательными, являются представители восточных народов – персидские 111 арабы, крымские татары и монголо-татары. При таком образном «составе» Ломоносов выступил с темой прославления ратного подвига дружины Дмитрия Донского, в частности, и славы России, в целом. Вспомним, что, по мнению А.В. Западова, в этом был «художественный просчет» замысла трагедии. Парадоксально, но факт: проводниками патриотических воззрений Ломоносова выступaют крымские тaтары Мумет и Нaдир. Царь Мумет высказывается против военных действий, за решение государственных проблем путем мирных переговоров: Причину твой отец имел вооружиться, Какую завсегда к войне легко сыскать. Котора может власть на свете похвалиться, Чтоб так всех подданных могла она держать, Как мирны требуют от оных договоры, И многи б тысящи имели мысль одну? И кто угодит тем, что будто б рушить ссоры, Наносят для хвалы неправедну войну? [48, c. 178]. Нaдир, возражая совету визиря Зaисaнa заключить политический и матримониальный союз с Мaмaем, произносит чуть ли не речь русского патриота: Мамай поля свои людьми опустошaет, Дaбы их трупaми Российский крaй покрыть. Нaсильнa влaсть стоять не может долговечно. Кто гонит одного, тот всякому грозит. Россию вaрвaрство его бесчеловечно Из многих облaстей в одну совокупит. Нa плaч, нa шум, нa дым со всех сторон стекутся; 112 Рaссыпaнных врaждой сберет последний стрaх. Кaкою силою в единстве облекутся Влaдимир нaм пример и хрaбрый Мономaх [48, c.180]. «Зa возвышенной риторикой aфористически отточенной речи Нaдирa, – отмечает Ю.В. Стенник, – явственно слышен голос сaмого Ломоносовa. В доводaх, которые выдвигaются этим персонaжем, обрaщение к примерaм русской истории может рaссмaтривaться в контексте политических идеaлов, неоднокрaтно утверждaвшихся в одaх Ломоносовa» [81, c. 71]. Рассматривая конфессиональный вопрос в трагедии «Тамира и Селим», ученый-ориенталист М.А. Батурский высказал следующее наблюдение: «Нaм вaжно зaфиксировaть не только то, что рупором излюбленных политико-публицистических идей Ломоносовa выступaет приверженец ислaмa – явление, впервые столь мaсштaбно и последовaтельно выступившее в русской литерaтуре, – но и известное расщепление понятия «мусульмaнин»: одни мусульмaне (aрaбы и крымский вельможa Нaдир) олицетворяют Добро, тогдa кaк тaтaрин Мaмaй – Зло. Это вполне соответствует хaрaктерной для русского мaссового сознaния и спустя векa после свержения ордынского игa связaнной с ним пaрaлизующей психологической aтмосфере тенденции к отождествлению Игa со Стрaшным Миром, непреклонным, безжaлостным, ковaрным, с трудом преодолимым. Мы не рaз убедимся еще в том, что едвa ли не во всей русской литерaтуре, повествующей о временaх Игa, возникaл единый, предельно эмоционaльно окрaшенный ключевой обрaз Тaтaринa, символ холодной и злой жестокости, нередко, однaко (кaк свидетельствует хотя бы «Тамира и Селим») противопоставляясь «чужим погaным», в чaстности aрaбaм» [5, c. 10-11]. 113 Почему все-таки Ломоносов выбрал для своей трагедии восточный сюжет? Ю.В. Стенник полагает, что «подобное решение исторической темы делает Ломоносова своеобразным продолжателем традиций панегирических драм школьного театра петровского времени, имевших зачастую открыто политический, хотя и аллегорически выраженный смысл» [81, c. 71]. Но возможно причина кроется в индивидуальном замысле Ломоносова, поиске им новых художественных решений. Во всяком случае, пьеса о победе русских войск над Золотой Ордой воплотилась весьма специфическим образом: историческое поражение Мамая и его трагическая гибель в Кафе послужили лишь фоном для представления романтической истории. В конечном итоге идея, воплощенная в трагедии «Тамира и Селим» Ломоносовым, сводится к мысли о неминуемом триумфе любви и истинной справедливости над злобой, лживостью и властолюбием. 3.2. Восточная аллюзия как прием критики самодержавной тирании, деспотизма и самозванства в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий». В рамках нашего анализа интерполяции восточных мотивов в русской драматургии II-половины XVIII века пьеса А.А. Ржевского «Подложный Смердий» вызывает наибольший интерес как одно из самых значимых произведений не только в литературном наследии писателя, но и в общественно-политической дискуссии тех лет вокруг проблемы просвещенного абсолютизма. Трагедия «Подложный Смердий» А.А. Ржевского – произведение, практически забытое и невостребованное, изредка упоминаемое специалистами, изучающими русскую драматургию второй половины XVIII века, и не вошедшее даже в «Полное собрание всероссийских 114 театральных сочинений». Тем ценнее воспринимается свидетельство современника инсценировки пьесы в 1769 г. в императорском театре Н.И. Новикова, который в «Опыте исторического словаря о российских писателях» опубликовал о ней отзыв: «Сия трагедия делает сочинителю честь: она сочинена в правилах театра, завязка и продолжение расположены очень хорошо, характеры выдержаны сильно,.. нравоучение у места, хорошо и приятно, и, наконец, трагедия сия почитается в числе лучших в Российском театре, а сочинитель ее хорошим стихотворцем и заслуживает великую похвалу» [61 a, c. 344]. Кроме хвалебной рецензии Новикова о пьесе до середины XX в. в каких-либо источниках упоминаний нет. Трагедия А.А. Ржевского «Подложный Смердий» была опубликована только в 1956 г. в книге «Театральное наследство» П.Н. Берковым, как устновлено, даже не по авторской копии, а по некому варианту, неадекватному оригиналу и содержащему большое количество ошибок [См.: 76, c. 220]. «Забвение» трагедии, вполне вероятно, обусловлено цензурными запретами, поскольку в ней подымалась актуальная для конца 60-х – начала 70-х годов проблема самозванства и борьбы с незаконным владыкой. По мнению П.Н. Беркова, в трагедии А.А. Ржевского «явно присутствуют аллюзии, переключающие внимание зрителей на некоторые обстоятельства, связанные с правлением Петра Ш» [9, c. 158]. Ученый в качестве примера привел монолог Приксаспа, в котором увидел недвусмысленные намеки на образ правления Петра Ш. И.З. Серман полагает, что трагедия была написана несколько ранее принятой датировки, поэтому проблематика ее «отражала политическую борьбу начала 1760-х годов и могла восприниматься Екатериной только положительно» [75, c. 192]. Однако мы склонны разделить точку зрения по этому вопросу исследователей, 115 возразивших авторитетным литературоведам, в частности, М.Л. Смусиной, которая писала: «Предположение о том, что в 1769 г. у зрителей пользуется успехом политическая трагедия, бьющая по давно уже не существующему противнику (Петру Ш), кажется маловероятным» [76, c. 222]. С царствованием Петра не ассоциируется проблема самозванства. Более того, именно в 1769 году потерпела провал работа Уложенной комиссии, созванной Екатериной П для разработки «демократического» законодательства. Это было время приближения совершеннолетия Павла Петровича (1772 г.), когда дворянская оппозици совершила попытку мирным путем, через декларцию политичекого проекта, предложенного главой оппозиции – воспитателем цесаревича Н.И. Паниным – вернуть власть в государстве законному престолонаследнику. Политичская борьба активизировала напрямую литературные выступления творческой интеллигенции. Проблема самозванства стала центральной в трагедии А.А. Ржевского «Подложный Смердий». Вероятно поэтому, несмотря на большой интерес, вызванный у зрителей, пьеса не была опубликована, а, значит, просто запрещена цензурой. Автор статьи о государственной и литературной деятельности А.А. Ржевского М.Л. Смусина убедительно доказала, что написание «тираноборческой» трагедии было не случайным: русский писатель испытал прямое влияние политических идей Вольтера, причем, как переводчик на русский язык статьи французского просветителя, помещенной в «Переводах из Энцилопедии», вышедшей в 1767 г. «Стоит внимательно приглядеться и к тому, – пишет исследовательница, – что прежде всего увидел в истории русский переводчик Вольтера: «История нас пользует тем, что какой ни есть служащий человек или гражданин, читая ее, может сравнивать законы и нравы со своими», – вот идейная предпосылка бесчисленных исторических произведний 116 XVIII века. Чрезвычайно интересно в этом плане последующее рассуждение – о подлинности истории: «Всякая подлинность, не имеющая математического доказательства, не что иное, как чрезвычайно вероятная вещь. Исторические подлинности все таковы суть». Характерно, что в основу своей трагедии Ржевский положил самый сомнительный, по мнению Вольтера, эпизод Геродотовой истории: «История Кира вся обезображена баснословными преданями». Именно из истории Кира взял Ржевский сюжет для своей трагедии» [76, c. 223]. А.А. Ржевский, вероятно, напрямую не был знаком с «Историей» Геродота, а изучал ее перевод, выполненный в 1763 г. А. Нартовым. Ориентальный сюжет «Подложного Смердия», повествующий о событиях в Персии, о захвате власти самозванцем, его деспотическом правлении и борьбе за престол достойного наследника, явно намекает на идентично сложившуюся династическую ситуацию в России. Просвещенное дворянство было достаточно образовано и начитано сочинениями энциклопедистов, чтобы понять иносказательный смысл восточных аллюзий. Заимствованный из «Истории» Геродота рассказ о Лжесмердии в трагедии А.А. Ржевского получил инверсионную сюжетную интерпретацию. Прототип героя представлен вполне положительным персонажем: власть узурпатора не была деспотичной. Смерть его жителями всей Азии, кроме персов, воспринималась как скорбное событие. А образ Дария у Геродота производит весьма неоднозначное впечатление, уже хотя бы потому, что власть он приобрел хитросплетением интриг [66, c. 338]. Смердий и Дарий, представленные в трагедии Ржевского, абсолютно полярные персонажи. Русский драматург в данном случае четко следует одному из основных принципов поэтики классицизма – выполнению 117 требования строгого деления действующих лиц на благородных и порочных: Смердий – персонаж сугубо отрицательный, Дарий – абсолютно положительный. Единство места и времени также соблюдается. Вместе с тем, стремясь к формальному соблюдению канона трагедийного жанра, Ржевский нарушает требование единства действия: на фоне развития традиционной любовной интриги развертывается сложная политическая коллизия. В основе сюжета трагедии – восточная история. Действие происходит «в персидском городе Сузах, во Смердиевом доме, в проходной зале, между покоев царевых и царицыных» [72, c. 214]. После кончины царя Камвиза, правление которого представлено в воспоминаниях подданных как «просвещенное», престол захватывает некий мидянин – самозванец, выдающий себя за законного наследника Смердия. Настоящий Смердий убит по навету, причем по приказу Камвиза. О его смерти в Персии никто не знает, кроме убийцы – вельможи Приксаспа. Поведение претендующего на престол Смердия, еще не разоблаченного в самозванстве, удивляет и смущает знатных персидских вельмож Отана и Идарна. На восклицание Идарна: «Дивлюся я сему!» [72, с. 227]. Отан отвечает пространным размышлением, вспоминая совершенно другого по качествам характера человека, чем их нынешний царь: Я более тебя еще дивлюсь ему! О как, мой друг, во мне весь дух он возмущает! И нечто странное мне сердце предвещает: От самых детских лет я зрел и знал его, Но ныне уж не зрю я Смердия того. Вся Персия тому, весь двор и я свидетель, Сколь он отечество любил и добродетель… Три года только он в Египте пребывал, 118 Отсутствуя у нас, и весь пременен стал. От дел и от людей себя он удаляет, Всем царством Патизив коварный управляет. Всегда в той области народ отягощен, Где пред лице владык проситель нее впущен [72, c. 228]. Смердий благодаря интригам и хитросплетениям склонил к браку дочь вельможи Отана Федиму. Тайно влюбленная в Дария, судьба которого ей неизвестна, прекрасная персиянка тоскует в нелюбви и неволе. Внезапно появившийся Дарий пытается вернуть возлюбленную. Параллельно развертывается политическая коллизия: Дарий обвиняет вельмож в измене, затем разглашает тайну «подложного» Смердия, заставив раскаявшегося Приксаспа признаться в своем преступлении. В итоге случается народное восстание. Смердий, чтобы спасти свою жизнь, берет в заложницы Федиму. Но Дарий побеждает самозванца, убив его, и становится персидским царем. Престол он занимает законно, поскольку как освободитель Персии от тирана-мидянина власть получает по решению Совета высших вельмож. Ржевский реализует в трагедийном дискурсе как традиционные антиномии – долг-чувство, добродетель-порок, закон-беззаконие, монархпридворные вельможи, так и индивидуально-авторскую – законная властьсамозванство. Конфликт между долгом и чувством в трагедии «Подложный Смердий» можно было бы традиционно рассматривать как следование предписаниям классицистической эстетики трагедийного жанра, если бы не одно исключение – образ Федимы. Героиня, искренне любящая Дария, спасая жизнь отца, согласилась на брак с ненавистным Лжесмердием и до конца осталась верной долгу жены. 119 В первом действии зритель узнает со слов наперстницы Федимы Пармии, что царица все имеет в своей власти, но «жизнию своей должна народу счастью» [72, c. 218]. Федима же тяготится властью, обрекшей ее на исполнение долга перед народом и лишившей любви: Мой век, счастливый век, на горесть пременился. Он брак мне предлагал, противилася я, Но воля в том слаба была моя, Я всячески прервать любовь его старалась, Что я люблю уже другого открывалась, Однако страсть его все чувствия зажгла, Я отвратить ее ничем не возмогла. Вдаваяся тогда упорливому нраву, Употреблял тогда свою и власть он и державу, Отану гибелью и Дарию грозил И тем мою к нему несклонность разразил… [72, c. 220]. Возвращение Дария живым и невредимым вновь вернуло Федиме надежду на личное счастье, но предать мужа, принять участие в заговоре и убийстве совесть и чувство долга ей не позволили: Я сохранити долг супружества стараюсь, Но в чем мой долг, теперь я мыслию теряюсь. Коль Дария спасу, супругу изменю, А ежели его теперь не сохраню, То сохраню ль свой долг, зря казнь бесчеловечну, И пренесу ль сию я скорбь и муку вечну? Недостает теперь рассудка моего… Но иль оставлю я без помощи его? [72, c. 246-247] [курсив наш – К.Ф.]. 120 Рассудок в итоге победил чувство. Смердий был казнен, Дарий получил власть над Персией, и свободная Федима, как в других трагедиях с оптимистическим финалом, должна была обрести счастье с любимым человеком. Но героиня осталась верной долгу. Финал трагедии оказался непредсказуемым: главная героиня показала себя натурой сильной, глубокой, цельной: Дарий: Я скипетр восприял всевышнего судьбой На то, чтоб разделить, Федима, мне с тобой. Федима: Остави, государь, меня в моем ты плаче, Не возмущай моей души теперь ты паче! Достоин скиптром ты персидским обладать, А мне моя судьба велит терерь рыдать. Еще пред мною кровь супругова дымится, Мой ум теперь в одно отчаянье стремится. Дарий: Не чувствую утех и я, коль плачешь ты, Коль много смертных век наполнен суеты! [72, c. 266]. Таким образом, со страниц пьесы Федима предстает как самый сильный и волевой персонаж. Любовь-страсть переживают и главные мужские персонажи- антагонисты, но чувство чувству рознь. Лжесмердий соответственно своему положению верховного монарха считает себе дозволенным все, в том числе и насильственный брак. Главным оппонентом любовных переживаний царя является его наместник Патизив. Если Лжесмердий в своих чувствах вполне искренен, то наместник, внешне выступая в роли наставника, преподавая назидательные уроки царю как в государственном правлении, так и в личной жизни, на самом деле предстает лживым, потакающим каверзам самозванца. Именно в речи наместника вложены инвективы, оправдывающие деспотическое 121 поведение царя в домогательствах Федимы. Но он же внушает Лжесмердию и правила государственного управления: Как сам ты о себе так гордо мыслишь! А мыслей о себе народных ты не числишь. Ты думаешь, что царь есть бог рабам в сей век, Те думают, что царь такой же человек. Ты думаешь, народ царю рожден в угоду, Те думают, что царь спокойству дан народу. И при различии понятий таковых Ты должен, государь, всегда беречься их! [72, c. 222]. Патизив, внешне представленный как доброхотный наставник, по сути своими советами лицемерно направляет монарха на ложный путь обмана подвластного ему народа: Не страхом мудрый царь могущ в стране своей, Величит власть свою обманом он людей… [72, c. 223] [курсив наш – К.Ф.]. В действиях и поступках заглавного персонажа автор трагедии совместил две сюжетные линии: долг-личное чувство и самозванство- законная власть. Как государственный лжеправитель Смердий стал жертвой и самообмана и предательства окружающих его вельмож, но как частный человек – лжемуж – он избежал предательства возлюбленной, ставшей, в свою очередь, жертвой своих чувств. Положительный персонаж – антипод Лжесмердия Дарий также пребывает в раздвоенности эмоций: «Любовь… <и> долг… В какой я злой теперь судьбине!» [72, c. 241]. Дарий решительно настроен выполнить 122 долг перед отечеством, но при этом поставленная им цель – убийство самозванца – преследует и личные устремления: В Египте все дела мне долг велит оставить И поспешать мое отечество избавить, Коль не прервет моих намерений беда, Так в Сузах я останусь навсегда [72, c. 220] [курсив наш – К.Ф.]. Образ Дария выписан как личность героическая: он стойко выдерживает изгнание, достойно ведет себя во время ареста и заточения в смердиевой темнице, организует народное восстание. В итоге – Дарий законно получает персидский престол, но лишается личного счастья, любви Федимы. А.А. Ржевский, следуя традициям просветительской литературы, включает в текст трагедии проект идеального морально-этического государственного кодекса, сообразно которому должен править просвещенный монарх: Приятнее всего державу восприять; И нет трудняй, как долг монарший испольнять; Чтоб подчиненному народу царской власти Устроить век благий и отвращать напасти, Чтоб правосудие некосное являть, Достойных награждать, порочных исправлять, Чтоб между хитрыми зреть правду клеветами, Не поколебляся коварными устами, Проникнуть подданных и мысли и сердца И слух свой отвратить от хитрого льстеца… [72, c. 235]. Ключевые слова в приведенной цитате – «устроить век благий», но по отношению к моральному облику властителя важным является и 123 соблюдение справедливых законов по отношению к честным гражданам отечества, и не менее важным – отповедь «хитрым льстецам». Следуя традициям как французской просветительской трагедии, так и русской трагедии А.П. Сумарокова, А.А. Ржевский вводит в пьесу «Подложный Смердий» образы лукавых царедворцев. Не только самозванство является причиной бедственного состояния государства, но и безнаказанность лести, козней, интриг, наушничества монарших приближенных. Под маской добродетели изображен в трагедии интриган и смутьян Патизив, а также выписан собирательный образ советниковдоброхотов: Идарн: Нередко, кто явит под властью добродетель, На первой степени тот будет бед содетель. Хоть чувствие она одних честных людей, Но ею кроется притворно и злодей. Отан: Все здесь отечество любезный друг мой, страждет И тщетно помощи себе в напастях жаждет… Везде лазутчики рассыпаны по граду, Как волки хищные, скитаются по стаду, И ищут, чтоб кого поймать и уязвить И чтоб какой донос сыскать и объявить [72, c. 228] Впоследствии А.П. Сумароков в трагедии «Дмитрий Самозванец» выскажет мысль заблуждений о коварстве государя, а придворных ситуацию как самозванства основной прокомментирует довольно лояльно: Когда тебя судьба на трон такой взвела, Не род, но царские потребны нам дела. Когда б не царствовал в России ты злонравно, Димитрий ты иль нет, сие народу равно [86, c. 173]. 124 причине В критической литературе единодушно принято считать, что именно А.П. Сумароков в знаменитой трагедии впервые, хоть и закулисно, ввел образ народа как освободителя страны от власти самозванца, а реально на сцену народ вывел А.С. Пушкин в трагедии «Борис Годунов». Может быть потому, что пьеса А.А. Ржевского надолго была предана забвению, осталось без внимания его новаторство. Но факт налицо: в «Подложном Смердии» восстание народа против самозванца изображено в реальном сценическом его представительстве: «народ» включен в перечень действующих лиц, активно выходит на подмостки и даже представитель, обозначенный как «один из народа», убивает ненавистного Патизива. И хотя Сенат провозглашает Дария царем, решение это формально – царь признан народом: Один из народа: Великий Дарий муж! Он персов одолжил! Другий: Его кинжал теперь почтенье заслужил! Отан (к народу): Нам должно учинить, о персы, воздаянье Руке, от коей зрим благодеянье, И скипетром ее персидским наградить… Народ (упав на колени): Да будет Дарий царь! [72, c. 265]. Таким образом, восстановим несправедливость и отдадим должное драматургу А.А. Ржевскому, первому нарушившему классицистический канон жанра, сообразно которому в трагедии дозволялось изображать лиц только благородных сословий. Народ на сцене как действующее лицо – это нововведение драматурга, предвосхитившего и А.П. Сумарокова, и А.С. Пушкина. И еще одно художественное достоинство трагедии «Подложный Смердий» нельзя не отметить. В отличие от других синхронных трагедий у А.А. Ржевского очень тщательно выписаны ремарки. Он как бы режиссирует свой спектакль, например: 125 Явление 3. Дарий: Умри, злодей, под сим кинжалом! Когда они стремятся друг к другу, тогда евнухи окружают Дария и обезоруживают его. Патизив удерживает Смердия, а Федима бросается между их [72, c. 242]; Явление 10. В самое то время, когда Смердий говорит последние полтора стиха, Дарий выбегает на театр сздади Смердия и бросается к нему с кинжалом. Смердий, услышав голос позади него, оборачивается, а в то время Дарий его убивает, а между тем народ отнимает из рук Смердия Фетиму, и когда Дарий поражает его, тогда он выпускает из рук кинжал свой [72, c. 264]. Итак, в основу трагедийной коллизии «Подложного Смердия» А.А. Ржевского положена восточная история. Но ориентальный сюжет использован драматургом лишь как внешняя фабула. Восток иллюстрирует топонимическая карта – Персия, Египет; ономастика – специфические имена персонажей (Дарий, Федима, Пармия и др.); намек на гарем (в перечне действующих лиц – евнух с письмом и группа евнухов). Других характерных примет восточного колорита в пьесе не наблюдается. Вместо восточных обозначений монарха (султан, калиф, шах, бей) и приближенных (диван, визирь) употреблены русские титулы – царь, царица, вельможа. Впрочем, традиция предполагает не только следование и использование мотивов и образов, но и отступление от них. Не случайно русский драматург, заимствуя сюжет из «Истории» Геродота, абсолютно полярно оригиналу изобразил Лжесмердия как деспота-самозванца, представляя сугубо русскую ситуацию захвата власти незаконным государем. Напрямую свое политическое кредо А.А. Ржевский, будучи активным государственным деятелем, высказать не смог. Но впервые в русской литературе эту тему поднял именно он. Вслед за ним с 1769 г. этот вопрос начал активно обсуждаться в журналах Н.И. Новикова, а в 1771 г. широко 126 известной и популярной стала трагедия А.П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец». 3.3. Восточный контекст в трагедии В.И. Майкова «Фемист и Иеронима» Творчество В.И. Майкова было многообразно. Он известен как автор торжественных од, басен, комических опер, лирических стихотворений, а также трагедий. Главное произведение Майкова, ставшее классическим в его литературном наследии – это ироикомическая поэма «Елисей, или Раздраженный Вакх». В.И. Майков написал две трагедии: «Агриопа» (1769) и «Фемист и Иеронима» (1773). Во второй из них он обратился к восточной тематике, использовав исторический сюжет о взятии Византии турками. Драматургические опыты В.И. Майкова были не столь удачными в сравнении с поэтическими. Они оказались ученически подражательными А.П. Сумарокову и М.В. Ломоносову. Драматург старательно привносил в свои трагедии традиционные тирады назидательного характера и о приоритетах долга над чувством, и о наставлениях монархам в их «просвещенном» правлении. Трагедия «Фемист и Иеронима» написана Майковым во время русскотурецкой войны 1768-1774 гг. Антимусульманская идейная направленность пьесы соответствовала отображенной в ней актуальной внешнеполитической ситуации. Поэтому трагедия была принята к постановке на придворной сцене, но премьера в назначенный срок не состоялась по причине внезапной смерти актрисы, исполнительницы главной роли. Повторно пьеса к показу не была принята, очевидно, из-за ее художественной несостоятельности. 127 Как установлено литературоведами, восточную историю, представленную в трагедии «Фемист и Иеронима», Майков заимствовал из переводной анонимной французской повести «История о княжне Иерониме, дочери Дмитрия Палеолога, брата греческому царю Константину Мануйловичу», опубликованной в России в 1752 г. в переводе И. Шишкина. Обсуждается также версия, что Майков мог использовать какое-то другое историческое сочинение о взятии Константинополя. Русский писатель взял фабулу истории любви Фемиста и Иеронимы только за основу. повествующие о Он судьбе сохранил имена заглавной персонажей героини. и Сюжет эпизоды, источника заимствования был кардинально изменен. В оригинальном французском тексте пленница турецкого султана Магомета гречанка Иеронима была влюблена в одного из военачальников султана, пашу Солимана, который спас ее от смерти во время захвата Константинополя. Одна из жен султана подбивает на восстание янычар, обвиняя Иерониму в шпионстве и требуя ее выдачи. Солиман помогает Магомету усмирить бунт, и жестокий восточный деспот снисходит к прощению паши, благословляя брачный союз влюбленных. Совершенно иначе выписан образ восточного деспота в трагедии В.И. Майкова. Магомет – это жестокий тиран, упоенный своей властью, силой и вседозволенностью как в общегосударственном масштабе (он победил греков), так и в личном (он всевластен в своих плотских чувствах). Изменена в пьесе и характерология других действующих лиц. Так, представленный главным советником Магомета паша Солиман оказывается на самом деле греком Фемистом, происходящим из аристократического рода Комнинов. Скрытый враг султана, проникший в его чертоги, он, исполняя долг перед отечеством, тайно руководит 128 восстанием против турок. Друг и помощник Фемиста Клит также пробрался на вражескую территорию, маскируясь в должности начальника «садов серальских» под именем Мурата. Все эти переиначивания были не случайны. События русско-турецкой войны 1768-1774 гг. оправдывали ее антимусульманский пафос. По словам Ю.В. Стенника, «греческое происхождение положительных героев пьесы не только способствовало усилению драматизма действия, но и давало автору возможность дополнить содержание идейного конфликта трагедии существенным в тогдашней обстановке мотивом: законность выступления против жестокости мусульман со стороны страждущих под их гнетом греков» [81, c. 85]. В.И. Майков соблюдает в трагедии узаконенные черты жанрового канона, сохраняя дидактическую направленность идейного содержания и насыщая пьесу традиционными тирадами, в которых наставления монархам приобретали конкретный политический смысл. Только все эти тирады из действия в действие, из явления в явление заурядно повторяются и не возбуждают зрительскую и читательскую заинтересованность развертыванием сюжетной коллизии. На протяжении текста Магомет представлен как правитель-тиран в разоблачениях его положительными персонажами. Притворно служащий султану Фемист-Солиман обуреваем чувством ненависти к восточному владыке, покорившему его родную страну: Но только я его свирепство вспомяну, Кляну мою судьбу и власть его кляну! Им все несчастия здесь наши совершились, Мы братии, друзей и сродников лишились, Которые его рукою сражены… [51, c. 272]. 129 Клит-Мурат вторит своему другу: Здесь суетно тиран народ наш обольщал, И суетно ему он милость истощал: Ниже чины, ниже богатства расточенны Смягчити не могли сердца ожесточенны [51, c. 273]. Идентичны многочисленные характеристики злодеяний Магомета в резких высказываниях Иеронимы, например: Напрасно должностью ты зверство покрываешь, Геройским именем тиранство называешь; Тверди, что я тобой познала бедность, плен… [51, c. 286]. Антиподом Магомета в трагедии представлен грек Фемист. В его речь вложены обличительные слова, полные негодования, о деспотизме турецкого завоевателя, под игом которого стонет не только Греция, но и многие другие страны Европы и Азии, из цветущих земель «преобратившиеся в ад». На Фемиста возложена миссия освобождения своего народа от завоевателей. Под именем Солимана он проникает в султанский дворец, «втирается» в доверие к Магомету и становится его визирем. В пространном монологе – рассказе о своей судьбе, – обращенном к Клиту, он повествует о злоключениях, которые ему пришлось пережить, прежде чем преобразиться в Солимана: Ты помнишь твердо, Клит, ужасный оный день, В который молния над градом сим блистала И смерть нам страшная с ударами летала… Великий Константин, отечества лишаясь, Скончался, во вратах прехрабро защищаясь; Родитель мой тогда, своих лишенный сил, 130 От глаз моих, сражаясь, смерть вкусил; Я сам изранен был, и чувств моих лишенный, Упал без памяти на трупы пораженны; Но рок мою еще тут смерть остановил… Ты знаешь, Клит, что нам всегда союзник Рим; Он был в несчастии убежищем моим, И тайной помощью усердна Зустунея Вооружен я днесь на лютого злодея. Сей храбрый князь сие мне средство предложил, Чтоб я меж воинства султанского служил, И времени искал, ко мщению удобна [51, c. 271]. По сюжету Фемист, ожидая время, «ко мщению удобно», использует кризисный момент, возникший в ситуации недовольства янычарами сватовством султана к пленной гречанке. Восставшие турки выдвигают требование: или Магомет выдает им иноверку на расправу, или они предпринимают радикальные меры, вплоть до дворцового переворота: Грозящая толпа янычар вопиет: Да взыйдет на престол младый наш Баязет… Гласят, коль пленницу не выдаст Магомет, Так более ему над нами власти нет; Нигде от нас ее он не сокроет, Наш гнев в крови ее престол его обмоет [51, c. 282]. Бунтом янычар решил воспользоваться Фемист-Солиман, чтобы вернуть на волю пленных соотечественников и поднять их на мятеж против завоевателей. Возложив на себя долг вождя-освободителя, Фемист готов пойти на крайнюю меру: он, используя должность визиря и разыгрывая преданность Магомету, предлагает султану удовлетворить требование мятежных янычар и сам вызывается убить пленную гречанку. 131 Складывается нетривиальная для трагедийного действа ситуация: во имя исполнения долга Фемист готов пойти на убийство соотечественницы. Традиционно в сложившихся обстоятельствах герой должен жертвовать своей жизнью, но Фемист, намеренный на реальное убийство, ищет оправдания своим действиям: Уж время настает отмщенья моего, Не трать, Фемист, не трать ты времени сего, Оно для твоего намеренья полезно; Спасай от варвара отечество любезно… Сразим невольницу, пускай злодей восстонет; Неужели его и смерть его не тронет? [51, c. 292-293]. Готовый к убийству (ремарка: бросается к ней с кинжалом), Фемист узнает в жертве свою возлюбленную Иерониму. Далее, в ситуации борьбы между долгом и чувством, Фемист, не отказываясь от мести деспоту, пытается использовать свое высокое положение визиря, продолжая путем притворства и обмана завершить свою благородную цель освободителя и при этом спасти возлюбленную. В трагедии В.И. Майкова весьма специфическим образом воплощен традиционный для восточных сюжетов мотив переодевания. Заглавный герой «переоделся» в турецкие одежды, перевоплотился в преданного слугу восточного тирана, но – с целью мщения. Цель эта, на первый взгляд, была благородной: «Грецию от лютых бед спасти» [51, c. 271]. Ситуация притворства в результате привела к трагической сюжетной развязке. Главные действующие лица пьесы – положительные и отрицательные – плетут козни, интригуют. Как это не покажется парадоксальным, но основным притворщиком является заглавный герой. Фемист подвигает на лукавство Магомета: пользуясь его доверием, он уговаривает обмануть 132 янычар и пообещать им выдать греческую пленницу. Султан доверчиво следует совету своего визиря: Поди и объяви сим дерзким мой указ, Скажи, что мне мое уж пламя неприятно, Что слава днесь меня восхитит невозвратно, Что я их поведу к ужаснейшим бедам И, может быть, мою им пленницу предам… Притворством таковым я наглость их смирю [51, c.. 283]. Фемист принуждает и свою возлюбленную пойти на обман – согласиться на брак с Магометом, объясняя этот поступок патриотической мотивацией: Тебя, любезная, от казни свободит И видети еще захочет пред собою, Так мнит, конечно, он во брак вступить с тобою, Мне будет брачный день способен для того, Я в тот искореню злодея моего, Скажу ему, что ты злой казни устрашилась И в брак вступити с ним, в том страхе, согласилась [51, С. 299]. В трагедиях российских драматургов четко прослеживается одна закономерность – положительный образ героини. Поставленная в жесткие условия борьбы между долгом и чувством, она – сознательно или импульсивно – остается верной долгу. Такова и Иеронима: она представлена как натура цельная, намерение и поступок для нее одно: С тираном в брак вступить, с тираном соглашусь? Пускай притворство то, притворства я страшусь. Язык мой вымолвить сего не может слова, Умрем мы, князь, с тобой умрети я готова! 133 Не принуждай меня ему сего сказать [51, c. 299]. Но Фемист, вопреки упорному отказу Иеронимы, использует ее в достижении своей цели, объявляя Магомету о согласии пленницы на брак. И героиня подчиняется плану возлюбленного. Соратник Фемиста Клит, внедренный в султанский дворец как начальник садов серальских, убеждает Иерониму, что ее притворство есть не что иное, как героизм: Сей страх княжна, совсем быть должен истреблен. Тиран, конечно, наш днесь будет погублен. Фемисту он вручил о браке попеченье. Еще не совершил сей день свое теченье, Как мы намеренье геройско совершим И варвара сего владычества лишим. Настал нам ныне час, назначенный судьбою! [51, c. 305]. Заговор, основанный на обмане, закончился разоблачением. Начальник стражи, преданный Магомету, раскрыл фальшь Фемиста, Клита и Иеронимы, облеченную в форму героизма: Великий государь! О лютая измена! Сия неверная – изменница твоя! Она твой страшный враг, она твоя змия!.. Не к браку страсть тебя, к погибели влечет: В Диване кровь твоя ручьями потечет: Так греки, государь, и Комнин тамо сними, Грозящие тебе ударами своими. Осман уж двух теперь изменников поймал И таинство сие мученьем испытал; Они поведали всю важность заговора; Лишь Комнин от его теперь сокрылся взора [51, c. 307]. 134 Разоблаченные в заговоре, заглавные герои погибают: Магомет убивает Иерониму, а Фемист закалывает себя кинжалом, не преминуя произнести в адрес турецкого султана обличительный монолог: Довольствуйся, тиран, несчастного судьбою… Благодари ее… что мстительный мой меч… Не мог злодейския… души твоей… извлечь… [51, c. 314]. Трагедия В.И. Майкова не была признана современниками, несмотря на то, что идея ее, обосновывающая законность выступления против покорения мусульманами христианского мира, тем более в условиях войны с Турцией, представляется актуальной. Причины несостоятельности пьесы можно обосновать объективными причинами, связанными с обстоятельствами незаменимости ушедшей из жизни актрисы, исполнительницы главной роли. Но не исключен и субъективный фактор, обусловленный слабо выписанными характерами персонажей, а также, возможно, не импонировавшей публике, воспитанной на привычной в трагедийном действе благородной жертвенности положительных героев, коллизии, оправдывающей притворство ради возвышенных целей. Не прописан в пьесе и конфессиональный конфликт. Эта тема наиболее ярко разработана в трагедии Н.П. Николева «Сорена и Замир». 3.4. Антиномия «православная Русь – языческий Восток» в трагедии Н.П. Николева «Сорена и Замир» Драма Н.П. Николева «Сорена и Замир» по содержанию и характеру конфликта являет собой весьма выразительную иллюстрацию жанра 135 тираноборческой трагедии, интенсивно представленного в русской драматургии последней трети XVIII века. Стержневая сюжетная коллизия в трагедии Н.П. Николева «раскрывает противоречие между идеалом государя и монархом, пребывающим во власти низких страстей и потому становящимся тираном» [81, c. 79]. Основной конфликт, по канону жанра классицистической трагедии, воплощается в борьбе разума, чести и долга, с личными чувствами и эмоциями. В тираноборческой трагедии сюжет и конфликт осложняются проблемой политического характера вследствие неограниченного деспотизма монарха. Властитель, обуреваемый страстью, игнорирует все разумные законы общественной жизни, подменяя их личным произволом. В драматургии последней трети XVIII в. последователями Сумарокова, во многом продолжателями традиции тираноборческого пафоса его трагедий, выступили уже отмеченные в нашем исследовании А.А. Ржевский, В.И. Майков, а также Н.П. Николев, автор трагедии «Сорена и Замир». Особый цикл составляют пьесы на тему «новгородской вольницы» – трагедии П.А. Плавильщикова «Рюрик», Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». Не преминула анонимно отметиться в этом жанре и императрица Екатерина II, также употребив в своих политических целях ситуацию противостояния Рюрика и Вадима. Пьеса дословно имела заглавие: «Подражание Шакеспиру, историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика». Во всех перечисленных трагедиях основной является проблема верховной власти, хотя в каждом произведении реализация этой темы представлена в соответствии идейной и эстетической концепции их авторов. По содержанию и степени насыщенности антитиранистическими идеями трагедия Николева «Сорена и Замир» менее радикальна, чем, к примеру, пьеса Княжнина, не говоря уже об эталоне жанра – «Дмитрии Самозванце» 136 Сумарокова. Сценический успех трагедии «Сорена и Замир», зрительская популярность, однако, не преминули цензурных репрессий относительно ее постановки. Несмотря на эпизодическое упоминание пьесы среди других произведений Николева, ни одна биография драматурга не обходится без описания знаменательного факта, сохранившегося документально. Имеется в виду аутентичный текст Екатерины Великой – ответ московскому главнокомандующему Я.А. Брюсу, который, опасаясь неудовольствия императрицы, воздержался от рекомендации представления трагедии на сцене. Он отправил Екатерине послание с вердиктом о запрещении пьесы, поскольку в ней содержатся открытые намеки против самовластия правителей. На это письмо императрица отреагировала в духе «просвещенной» монархини: «Удивляюсь, граф Яков Александрович, что вы оставили представление трагедии, как видно принятой с удовольствием всею публикой. Смысл таких стихов, которые вы заметили, никакого отношения не имеют к вашей государыне. Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью» [80, c. 695]. Причину подобной реакции государыни однозначно объяснить затруднительно. Ключевым в послании императрицы следует признать последнее высказывание: Екатерина благосклонно отнеслась к критике деспотизма в трагедии Николева, поскольку не увидела себя прототипом тирана. Выступления против узурпаторства власти в запрещаемой высоким московским чиновником пьесе не было. Вместе с тем, честолюбивое желание анонимного публикатора трагедии «…Из жизни Рюрика» получить ожидаемые отклики на собственную версию активно обсуждаемой в литературных произведениях проблемы политической альтернативы «тирании» и «вольности», (которые так и не появились) 137 обернулось «милостью» облеченного властью цензора к трагедии Николева с целью привлечь внимание к собственной персоне. Авторитетные ученые, исследователи русской литературы XVIII века (В.И. Федоров, П.А. Орлов), сходятся во мнении, что пьеса Николева «Сорена и Замир» является «перелицовкой» тираноборческой трагедии Вольтера «Альзира». На наш взгляд, зеркально «перелицованной» «Альзиой» николевский текст не является. Он весьма оригинален не только в сопоставлении с вольтеровской пьесой, но и с синхронными трагедиями современных русских драматургов. Как нам представляется, вольтерианскую традицию правомерно рассматривать лишь в использовании некоторых частных сюжетных и композиционных приемов. Один из них, ярко выписанный Вольтером, определил развязку драматической коллизии пьесы Николева, раскрывшейся в проповеди религиозной толерантности. В обсуждении вопроса о влиянии вольтеровской «Альзиры» на произведение Николева более резонным нам представляется мнение Ю.В. Стенника: «Главными антагонистами у него (Николева – К.Ф.)… выступали Мстислав, царь российский, и пленный половецкий князь Замир… Николев несколько отошел от французского прототипа,.. сохранил верность сумароковской системе, и это отступление позволило ему осложнить трагедийную ситуацию двумя конфликтами. Антитиранистический пафос трагедии дополняется заимствованной у Вольтера проповедью религиозной терпимости. В соответствии с весьма смутными представлениями об обстоятельствах введения на Руси христианской религии Николев превращает Мстислава в жестокого и нетерпимого апологета христианства, заставляющего забыть своих богов и принять чужую религию. Это и служит непосредственной предпосылкой для трагической развязки» [81, c. 102]. 138 Как отмечалось выше, русская классицистическая трагедия, во многом следуя французской, имела одну весьма яркую специфическую особенность. Если европейские писатели в поисках сюжета обращались к античной драме, заимствуя из нее классические, «образцовые» коллизии, то в основу большинства пьес русских авторов положена была отечественная тематика, сюжетные истоки которой восходили к древнерусским летописям и воинским повестям. Причем, драматурги XVIII века отслеживали такие легендарные перипетии, которые в исторической проекции повторялись в нововременных политических ситуациях, напоминая о позитивной или негативной роли обремененного властью верховного правителя. Так, в начале XVIII столетия апологетом преобразовательной деятельности Петра I выступил Феофан Прокопович, автор трагедокомедии «Владимир». Историю принятия христианства на Руси и борьбы князя Владимира с консервативными языческими жрецами автор произведения спроецировал на государственную политику Петра, активно поддержав императора в его прогрессивных реформах. Отечественная тематика лежит и в основе трагедий Сумарокова, большинство из которых не лишены политического выпада против самодержавного самоуправства монарха. Вместе с тем в его трагедиях, как резонно отметил П.А. Орлов, наблюдается интересная закономерность: «Драматург обращался к самым отдаленным эпохам русской истории, легендарного или полулегендарного характера, что позволило варьировать те или иные факты. Важным для него было не воспроизведение колорита эпохи, а политическая дидактика, провести которую в массы позволил исторический сюжет. Отличие состояло так же в том, что во французских трагедиях сравнивался монархический и республиканский образ правления,.. в трагедиях Сумарокова республиканская тема отсутствует. 139 Как убежденный монархист, он мог тирании противопоставить лишь просвещенный абсолютизм» [64, c. 75-76]. Итак, Николев в своей драматургической версии о деспоте на престоле предпочел сумароковскую традицию. Источником сюжета для его трагедии послужил материал из древнерусской истории: одним из главных персонажей произведения, олицетворяющим деспотию правления, является русский князь Мстислав. Как последователь Сумарокова, который использовал реальную историческую ономастику и позволял себе творчески обыгрывать не только имена, но и поступки прототипов его литературных текстов в угоду реализуемой идее, Николев должен был обратиться к одному из летописных сюжетов, повествующих о древних князях, носивших имя Мстислав. Но в трагедии «Сорена и Замир» указания на какую-либо конкретную княжескую личность с подобным именем нет. Нет намека и на событийное время действия. На начальном листе после перечня действующих лиц Николев счел необходимым конкретно указать только место происходящих событий: «Действие в Полоцке, в царских чертогах. Театр представляет царские чертоги. Вдали виден храм божий, отделенный от места представления большими сеньми» [59, c. 432]. То есть, события в пьесе происходят в Полоцке в некий условный временной отрезок, связанный с удачным походом русского князя на половцев и пленении половецкого военачальника. Любопытно отследить возможные версии прототипа князя-тирана Мстислава в пьесе Николева. Претендентами могут быть три довольно известные по летописям персоны: князь Мстислав Изяславич (правивший в Полоцке в 1067-68 гг.), князь Мстислав Владимирович (сын Мономаха, 140 великий князь киевский в период с 1125 по 1132 гг.) и волынский князь Мстислав Изяславич (возглавлявший удельный престол в 1157-1159 гг.). Из троих представленных в перечне князей титулом «полоцкий» обозначен только Мстислав Изяславич, упоминаемый в «Повести временных лет» в связи с событиями битвы на Немиге, когда братья Ярославичи выступили против полоцкого князя Всеслава. Следствием этой битвы было поражение Всеслава, его коварное пленение, заключение в киевской тюрьме («порубе»). Из заточения Всеслав был освобожден киевлянами и «на княжеском дворе» провозглашен великим князем киевским. Именно в этот период времени, с 1067 по 1068 годы, до побега Всеслава из Киева, Мстислав был поставлен своим отцом на полоцкий стол, то есть, фактически узурпировал законную власть Всеслава. Известно, что после изгнания из Полоцка, Мстислав вернулся восвояси и организовал кровавую расправу над киевлянами, освободившими Всеслава из плена. Жестокости и деспотизма князю было не занимать. В походах на половцев участие Мстислава Изяславича не зафиксировано, равно как и нет упоминания о его религиозном поведении. Время правления сына Мономаха Мстислава более привлекательно в плане событийного использования летописного материала для трагедийного сюжета. Во-первых, в 1127 году полоцкое княжество было присоединено к волостям мономаховичей. «Мстислав, – констатировал в «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев, – послал войско на князей полоцких» [77, c. 401]. Хотя сам Мстислав напрямую полоцким столом не владел, он руководил объединенным войском союзников в завоевательным походе на полоцкую землю, а также после победы распоряжался распределением высших должностей в покоренном княжестве: «Полочане выгнали от себя Давида 141 с сыновьями, взяли брата его Рогволода и послали просить Мстислава, чтоб он утвердил его у них князем; Мстислав согласился» [77, c. 401]. Его личность как крупная фигура князя-военачальника вполне могла стать прототипом литературного героя трагедии «Сорена и Замир». Тем более, синхронно этим событиям следует описание военных действий против половецкой степи не без упоминания реакции на эти действия полоцких вассалов. «Во время половецкого нашествия в 1129 году Мстислав, собирая князей, послал звать и полоцких на помощь против варваров; Рогволода, приятого Ярославичами, как видно, не было уже в это время в живых, и старшинство по-прежнему держал Давыд, который с братьями и племянниками дал дерзкий ответ на зов Мстислава» [77, c. 402]. Этот издевательский ответ зафиксирован в Ипатьевской летописи; Соловьев цитирует его в примечаниях по оригиналу из летописного текста и в переиначенном варианте по реконструкции Татищева: «Полоцкие с ругательствами отказали, глаголя: «Ты с Боняком шолудяком здравствуйте оба, и управляйтесь сами, а мы имеем дома что делать» [77, c. 684]. Далее разворачиваются события, которые вполне могли дать повод к деспотическим репрессиям против полочан: «Половецкая война помешала великому князю немедленно наказать Всеславича; но когда половцы были прогнаны, то он вспомнил обиду и послал за кривскими князьями, как продолжали еще называть полоцких владельцев; Давыда, Ростислава и Святослава Всеславичей вместе с племянниками их Рогводоловичами посадили в три лодки и заточили в Царьград: без всякого сомнения, полочане выдали князей своих, не желая подвергать страны своей опустошениям. По городам полоцким, говорил летописец, Мстислав посажал своих посадников, но после мы видим там сына его Изяслава, переведенного из Курска» [77, c. 402]. 142 Столь досконально известные по летописи события с наибольшей долей вероятности могли подвигнуть Николева на литературную интерпретацию данного исторического материала, если при этом еще и учитывать синхронную полоцко-половецкую ситуацию в 1127-29 гг., инициированную князем Мстиславом Владимировичем. К тому же, третий соискатель из числа предполагаемых прототипов – Мстислав Волынский,– в отличие от первых двух, описан в летописях как политически лояльный, глубоко религиозный и заботящийся о православных мирянах правитель. Поход на половцев он оправдывал защитой торговых путей от грабительства иноверными купеческих обозов: «Мстислав Изяславич волынский в 1167 г. старался подвигнуть свою братию князей в поход на степных варваров. Он указывал на бедственное положение Руси: «Пожалейте, – говорил он, – о Русской земле, о своей отчине: каждое лето поганые уводят христиан в свои вежи, а вот уже и пути у нас отнимают», – и тут же перечислил черноморские пути русской торговли, упомянув между ними и греческий. В продолжение XII в. чуть не каждый год князья спускались из Киева с вооруженными отрядами, чтобы встретить и проводить «гречников», русских купцов, шедших в Царьград и другие греческие города или возвращающихся оттуда. Это вооруженное конвоирование русских правительственной торговых караванов было важной заботой князя» [35, c. 286]. Связей Мстислава волынского с историей Полоцкого княжества летописи не предоставляют. Впрочем, может проще было бы предположить, что Николев незамысловато смоделировал трагедийную коллизию, открыв простор вымыслу, и разыскание отдаленных прототипов по историческим источникам предпринимать не имело никакого резона. Но тогда следует признать, что драматург намеренно отступал от классицистических правил (одно из которых – требование правдоподобия), и объявить его 143 гениальным писателем. Увы, Николев таковым не был. Его трагедия, по сравнению с пьесами Сумарокова и Княжнина, являет собой довольно посредственный образец жанра. На протяжении первых четырех актов трагедийная интрига не получает развития, динамика действия не прослеживается, зачастую с варьируются в статичной стилистической гамме, лексическими повторами, обличительные тирады Сорены, Премысла и самого Мстислава, которые чередуются с душевными стенаниями и любовными переживаниями героини. Лишь в пятом акте проявляется оригинальный поворот сюжета, обнажается параллельный основному (борьба долга и страсти) конфессиональный конфликт. Христианину Мстиславу в трагедии Николева противопоставлены язычники-половцы Замир и Сорена. Тот факт, что в титуле обозначен абрис полоцкого православного храма (очевидно, Софийского собора) свидетельствует о немаловажной роли присутствия религиозной идеи в сюжетной интриге пьесы, что демонстрирует и финал трагедии. Николев мастерски использовал прием «композиционного кольца», открыв действие обрисовкой контура церкви и заключив его описанием трагической смерти героев, произошедшей в христианском храме. Кардинально отличительным от синхронных трагедий в пьесе «Сорена и Замир» является инверсионное проецирование событий, определяющих конфликт противостояния двух антагонистических миров. Имеется в виду отчетливо прослеживающаяся в памятниках древнерусской литературы (которые широко использовались в качестве сюжетных источников для русских драматургов) традиция структурировать художественное пространство по модели «родина – чужемирие», где своя земля является миром нерушимых политических, нравственно-этических, религиозных устоев, а чужая представляется агрессивной, враждебной, нарушающей стабильность этих привычных устоев территорией. Так, к примеру, в 144 самом известном памятнике древнерусской литературы «Слове о полку Игореве», сюжетом для которого послужили реальные исторические факты политического противостояния русских князей и половецких ханов, как отмечала исследовательница «Слова…» А.О. Шелемова, «понятие «Русская земля» наглядно выявляет поэтический космос произведения, построенный по образцу древнегреческой Ойкумены. В центре обитаемой Вселенной – родная земля как совокупность городов… В периферийном ареале – географические объекты, объединенные топосом «земля незнаема» и разбросанные по территориям, расположенным за пределами Русской земли» [96, c. 129]. В подавляющем большинстве древнерусских памятников батальной тематики, где сюжетные коллизии основывались на реальных событиях ратной борьбы с восточными противниками (печенегами, половцами, монголо-татарами), антонимия своего и чужого пространств на разных конфликтных уровнях ее выявления в позитив включала все, относящееся к родной земле, а в негатив – к враждебному пространству. Образцу этой художественной модели следовали и литераторы-преемники, воспользовавшиеся сюжетом, обозначенным ситуацией противостояния «своего-чужого». В альтернативном выборе «родная земля – чужая земля», в частности, «православная Русь – варварский Восток», положительными героями становились русские князья, цари, вельможи, а их антиподами – «поганые», то есть, восточные правители. Исключением, пожалуй, является только трагедия М.В. Ломоносова «Тамира и Селим». Николев, вопреки устоявшейся традиции, позитивно выписывает образы заглавных героев, половцев-язычников Замира и Сорену, а отрицательным персонажем выставляет русского князя, христианина Мстислава. На протяжении всего трагедийного представления, вплоть до финальной развязки, звучат обличительные тирады в адрес злонравного правителя. 145 Уже в 1-м явлении – завязке драматической коллизии – язычница Сорена в обличении самоуправства деспота наравне с иными методами социального порабощения называет религиозное насилие: О вы, которых я неложно в сердце чту И коих гордый враг, считая за мечту, Желает истребить – желает христианство Нам в души поселить чрез наглое тиранство, – Доколь вы будете презрение терпеть И подданных своих в постыдном рабстве зреть! Потерпите ли вы толикие досады? В темницы ваши днесь преобращенны грады, В них стонет ваш народ, в них кровь течет граждан, Везде насилие, грабительство, обман; В пренебрежении и олтари и храмы, И лишь Мстиславу в честь курятся фимиямы; Не вы днесь боги, он: он жизнь дает и казнь, Его за бога чтет народная боязнь. Злодеям торжество, а нам порабощенье! [59, c. 436]. И далее, в течение всего трагедийного действа, образ Мстислава олицетворяет тиранство, усугубленное слепой страстью, а восточные персонажи-половцы воплощают положительные качества: они не преступают морального принципа долга, чести и преданности своей вере. Сорена демонстрирует эти качества всем своим поведением. Так, выступая оппонентом Мстислава, она наставляет князя: Чтоб ты великодушен был, Склонился к истине и к должности героя И вредну страсть к себе рассудком успокоя, Из нашей области отшел к своим странам 146 И с вольностью вручил блаженство прежде нам. Вот требуют чего от гордого Мстислава Сорена, долг и честь… [59, c. 438]. А Замир вообще характеризуется автором пьесы как идеальный, «просвещенный» восточный правитель: Вы ль, боги!, терпите такое злодеянье? Ужель угодно вам души моей страданье? Но в чем преступок мой? за что наказан я, И предана за что врагу страна сия? За то ль, что половцы, когда меня имели, Подобного сему зла делать на умели? В довольстве, верности, гордясь хранить закон, Познав, что общества едина крепость он, Щадили правого, искореняли злого; Что бедствие свое зря в бедствии другого, Привыкнув жизнь свою для чести лишь любить, Страшились истину и в малом оскорбить? На троне был их друг, и были все счастливы [56, c. 471]. Мстислав представлен как антипод Замира, при этом именно ему, вопреки привычному обозначению подобным понятием язычников, вменяется в вину варварство. Причем варваром называет христианина половецкая княжна-язычница. Так, в одном из своих поучений она увещевает мучителя: Сорену позабыть И похищенный трон Замиру возвратить, И в нашей тем стране спокойствие восставить; Не варварством себя, щедротою прославить [59, c. 438]. 147 Впрочем, семантическое значение понятия «варварства» в обличительных контекстах ассоциируется более с «коварством» и «злодейством», чем с иноверием: Злодей!.. Сей варвар требует… о лютое тиранство! Чтоб ты забыл богов… [59, c. 472]. Кульминационной сценой трагедии является диалог Мстислава и Замира, в котором фокусируется основная идея произведения – альтернатива просвещенного и деспотического правления, при этом не без упоминания конфессиональной проблемы: Замир Великая душа сей крайности не знает. Она всегда равна как в счастьи, так и в бедах. Не власть тиранская ее приводит в страх; В себе имея все, она не знает плена, Приводит в страх ее свободе лишь измена. Мстислав Не ослепит меня высока речь сия. Ты честолюбия такой же раб, как я. Я власти над людьми достиг мечем и кровью; Я страхом их сковал, ты ложной к ним любовью. Замир Прибавь, что я их друг, а ты мучитель их; Что ты забыл людей в мечтаниях своих. Я вольность их хранил; ты их привел в подданство Чрез преступления, чрез лютое тиранство. Ты ближних и богов и честь и долг презря, Для титла громкого, для имени царя, На злодеяние дерзал и днесь дерзаешь… [59, c. 475-476]. 148 Мельком, еще в первом диалоге между оппонентами, прозвучала мысль о божественном предназначении власти справедливому монарху, а деспотическое правление предрешено адскими силами: … Исчисли преступленья, Которые пред ним (Богом - К.Ф.) тобой учинены; И ежели тебя для бедства сей страны, Для истребления, для лютых мук и злобы Послали Фурии из адския утробы, То совершай скорей определенья их! [59, c. 459]. На протяжении всего текста герои обращаются к богам, при этом зачастую этот императивный прием воспринимается как лексическое излишество, осуществляющее функцию междометия, типа «ох», «ах», «увы». Чаще всего адресуется к богам Сорена, искренне веря в их помощь и поддержку. Но в некоторых судьбоносных обстоятельствах ее моление обостряет психологизм повествования. Так, в ситуации бессилия бороться за свободу, героиня отчаянно взывает к небесным владыкам, укоряя их в равнодушии: Бессильны вы теперь, бессильны пред врагами! Все страждет!.. гибнет все, все злейшей ждет чреды: Угрозы, ужас, казнь, гонение, беды – Вот жребий половцев… вот наши оскорбленья, И вот Мстиславовы пред вами преступленья! А вы... вы медлите злодею отомстить! И вас, и вас тиран умел преобратить В ненужны существа для своего злодейства! Какие боги вы, коль боги вы без действа? [59, c. 462]. 149 В монологе Сорены наряду с упреком в безучастии богов к судьбе несчастной полонянки звучит и нота обличения земных властелинов, мнящих себя, наравне с богами, вправе распоряжаться чужими жизнями. Героиня как бы побуждает всевышние силы к действию. Мотив кары «земных богов», прецедентным источником которого, возможно, мог стать для Николева 81-й псалом, не впервые использовавшийся в литературе. Гениально интерпретировал библейский сюжет Г.Р. Державин в стихотворении «Властителям и судиям»: Восстал всевышний бог, да судит Земных богов во сонме их; Доколе, рек, доколь вам будет Щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, На лица сильных не взирать, Без помощи, без обороны Сирот и вдов не оставлять… Не внемлют! – видят и не знают! Покрыты мздою очеса: Злодействы землю потрясают, Неправда зыблет небеса… Воскресни, боже! боже правых! И их молению внемли: Приди, суди, карай лукавых И будь един царем земли. [49, c. 219]. . Безусловно, фрагмент обличительного монолога Сорены в идейной и художественной значимости несопоставим с шедевром Державина. Но то, 150 что Николев, пусть окказионально, затронул вопрос веры во всевышнего, «внемлющего молению» бесправных людей, и его «правого» суда над «земными богами», свидетельствует о творческой удаче писателя. В заслугу Николеву следует зачесть и обращение к проблеме религиозной толерантности. Проповедниками этой идеи выступили восточный хан Замир (и это факт уже не удивляет!) и советник Мстислава Премысл. Так, Замир провозглашает: Мой бог вселенной бог; закон моя свобода, Иных законов я не буду знать вовек: Торгует вольностью лишь подлый человек [59, c. 476]. Заостряет значимость идеи толерантности в одном из диалогов со своим господином советник Премысл, рассуждая о необходимости разумного политического и морального компромисса в решении конфессионального вопроса: Все веры суть равны, коль бога чтут за бога, К блаженству истина для всех одна дорога. Хранящему ее в бесчестье ль истукан? Блажен язычник с ней; тиран все есть тиран. Намеренье твое не есть необходимость, Мстислав, монарх, герой, чтить должен он терпимость [59, c. 468469]. Неожиданной является развязка трагедийной коллизии. Показательно, что финальная часть пьесы разыгрывается в православном храме. Месть Мстислава была воистину коварной. Он обещает оставить в живых Замира, если половец примет христианство: Отсрочу казнь его, отсрочу, но лишь с тем, 151 Чтоб веры истинной родить познанье в нем: Коль хочет жить еще, да примет христианство [59, c. 468]. Замысел тирана был незатейлив: перейдя в другую веру, Замир лишится права быть супругом Сорены. Мстислав велел ночью привести Замира в церковь, надеясь, что половец, потрясенный величием храма и, вместе с тем, обнадеженный спасением жизни и возвращением на родину, примет условие тирана и отречется от своей религии. Реакция Замира была однозначной: продать «за жизнь свою закон, свободу, честь» он отказался. Советник князя Премысл не теряет надежды убедить Мстислава отказаться от коварного плана пред ликом Божества, проявить великодушие. Но тиран настаивает на своем решении. Параллельно Сорена принимает радикальные меры, замыслив убийство Мстислава. Но, прокравшись в храм, героиня совершает ошибку: в темноте кинжалом она убивает своего любимого, и, осознав свой промах, кончает жизнь самоубийством. Классицистическая трагедия по теории жанра обречена на драматический финал. Лишь немногие авторы, прежде всего, Ломоносов, Сумароков, позволяли себе завершить текст оптимистической развязкой. Николев не отступил от жанрового канона, но – и это еще раз подтверждает оригинальность авторской интерпретации «тираноборческой» темы – допустил в определенной степени авторское «своеволие». Финал оказался неожиданно «открытым»: предсмертный завет Замира, обращенный к Мстиславу, направлен на моральное перевоспитание тирана: половецкий хан-пленник, взывая к небесам, завещает русскому князю-завоевателю все свои восточные владения и судьбу подданных, возвеличивая себя воистину поступками христианского милосердия, всепрощения и любви: 152 О небо, вынь мой дух и с ней соедини. Будь половцам отец, я их тебе вручаю, Будь им другой Замир… прости… я жизнь кончаю [59, c. 490]. В заключительном эпизоде – монологе Мстислава – Николев раскрыл как свое общественное кредо, так и творческий замысел: Мой друг! И ты уж мертв!.. Что, Боже, медлишь ты? Карай меня, губи, грянь с горней высоты… О чем молю?.. уж ад я в сердце ощущаю! Ад – совесть мне… Себе я ею отомщаю [59, c. 490] Автор завершает трагедию сценой, являющей религиозное раскаяние тирана, инверсионно репродуцируя эпизод моления Сорены о свершении справедливого суда над «неправедными» властителями. Таким образом, в финале Мстислав, потрясенный милосердием врага, предстает как покаявшийся в своих эгоистических «тиранских» проступках и прегрешениях правитель, что свидетельствует о влиянии на Николева популярных в екатерининское время идей французского просветительства, в частности, возможности воспитания идеального монарха. Однако, «модное» вольтерианство отвергало идею национальной вероисповедальности как условия политической стабильности общества. Назидательный урок правления на примере деспотизма Мстислава преподнесен Николевым, осложнившим сюжетную коллизию своей трагедии религиозным конфликтом, привлекающим нравственно-этической проблеме веры и вероисповедания. 153 внимание к ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты проведенного исследования позволили высказать некоторые наблюдения и сделать следующие выводы. Ориентальным сюжетам, мотивам и образам в русской литературе II-й половины XVIII века предназначалась функция своеобразной литературной маскировки для легализации критики государственной идеологии, а также пропаганды просветительских или масонских теорий. Поскольку напрямую высказать негативные суждения о методах правления императрицы Екатерины II не представлялось возможным, писатели избирали «обходные» пути, прибегая к иносказанию. В большинстве произведений обличительной ориентации авторы использовали временную аллегорию: события современности воспроизводились по идентично сходным историческим событиям, заимствованным из летописных источников. Новацией в интерпретации актуальной темы становится пространственная аллегория: изображение некоего экзотического действительностью. обозначенный как ареала ассоциировалось Нововведенный восточная повесть, жанр, с российской терминологически использовался сугубо для обсуждения монархического правления. На поверку, все произведения этого жанра представляют собой литературно-политические утопии. В прозе впервые маску «восточного» прикрытия реальной картины самодержавного правления в России использовал в своих сатирических произведениях Н.И. Новиков. Он же – первый и единственный – употребил аллегорию для сатирического изображения российско-турецкого театра военных действий. Но в подавляющем большинстве восточные повести, которые анонимно публиковались в журналах Новикова, содержательно 154 представляли собой нравоучительные сочинения («Надир», «Видение Мирзы», «Благодарение»). Восточная фабула применялась в разных произведениях в соответствии с различными идейно-художественными задачами их авторов. Явно определяются две группы текстов, сюжетообразующей основой которых является ориентальный мотив. Произведения первой группы пропагандируют нравственно-этический идеал просвещенной личности. Эталоном подобного сочинения является «Сказка о царевиче Хлоре» Екатерины II. К этой группе относится и «Золотой прут» М.М. Хераскова. Критика в произведениях данного цикла преследует воспитательные цели и направлена, прежде всего, на искоренение аморальных в общественном поведении качеств и поступков. Вторая группа объединяет восточные повести, выполненные в пародийно-сатирическом жанре. Самый яркий пример такой повести – «Каиб» И.А. Крылова. Продуктивно использовал восточный мотив как адекватную фабулу для критики самодержавного режима екатерининской России А.Н. Радищев в главе «Спасская Полесть» (сон путешественника) из книги «Путешествие из Петербурга в Москву». Один из самых презентабельных жанров классицизма – трагедия. При изучении внушительного корпуса трагедийных сочинений было обнаружено, что представительство пьес, действие которых основано на восточном материале, единично. Это трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим». А.А. Ржевского «Подложный Смердий», В.И. Майкова «Фемист и Иеронима», Н.П. Николева «Сорена и Замир». Последние три характеризуются как тираноборческие. Обращение Ломоносова к восточному сюжету в 1750 году представляется как исключение из общего правила использования драматургами отечественного исторического материала. На основании тщательного анализа трагедии, мы пришли к выводу, что утверждение 155 большинства исследователей об исконно исторической основе сюжетной коллизии (битве на Куликовом поле) не имеет оснований. Эпизоды сражения выступают как некий виртуальный фон, как повод использовать поражение Мамая для представления романтической истории. В трех остальных проанализированных трагедиях обнаруживаются антимонархические настроения. Наиболее радикальной, на наш взгляд, оказалась литературная позиция. Ржевского. Именно он впервые поднял проблему самозванства, еще за несколько лет до знаменитого «Дмитрия Самозванца» Сумарокова. Суровый назидательный урок преподнес зрителю в своей трагедии Николев на примере правления тирана Мстислава, при этом осложнив коллизию конфессиональным конфликтом. Своеобразную интригу трагедийного действа представил Майков, однако он настолько усложнил свою восточную историю большим количеством действующих лиц, персонажами-«двойниками», а также тяжело воспринимаемым языком, что его опыт нами воспринимается как менее удачный, чем драматургов-современников. Восточные тексты, как прозаические, так и драматургические являют собой весьма интересный и плодотворный в художественном отношении пласт литературы русского классицизма. Они сыграли немаловажную роль в продлении исчерпывавшей в последней четверти века литературной жизнеспособности художественной системы. В этот период восточные тексты функционировали прежде всего в рамках просветительской философской литературы. Но ориентализм XVIII в. не ушел в историю вместе со «столетием безумным и мудрым». Восточная тема станет самоценной в эпоху романтизма – в начале XIX века. В этом смысле некоторые аспекты содержания повестей Хераскова, Крылова, пьес Ржевского, Николева позволяют засвидетельствовать вызревание в недрах классицистической литературы романтических тенденций. 156 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Акимова Т.И. Жанровые и сюжетные источники «Сказки о Хлоре» Екатерины П как компоненты ее смысла // Вестник Пятигорского государственного лингвистического ун-та. 2009. № 4. - С. 192-195. 2. Акимова Т.И. Роль сказок Екатерины П в литературном процессе конца XVIII – первой четверти XIX века // Эпические жанры в литературном процессе XVIII-XXI веков: Забытое и «второстепенное». Матер. VII Майминских чтений. В 2 тт. Т. 2. Псков: Пск. ун-т, 2011. - С. 13-22. 3. Акимова Т.И. Сказка о царевиче Хлоре Екатерины П: пространство идиллии как поле воспитания и государственного строительства // XVIII век. Вып.8: Литература в эпоху идиллий и бурь. М: МПГУ, 2012. - С. 227 236. 4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII - XVIII веков. М: Искусство, 1958. - 416 с. 5. Батурский М.А. Образ Востока в русском менталитете XVIII начала XIX века // Россия и ислам. М: Прогресс-Традиция, Т.2. 2003. – 349 с. 6. Бегунов Ю.К. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. М: Просвещение, 1983. - 95 с. 7. Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.;Л.: Изд. АН СССР, 1952. - 587с. 8. Берков П.Н. Сатирические журналы Н. И. Новикова // История русской литературы XVIII века. Изд. 3. М.: Изд. АН СССР, 1951. - 616 с. 9. Берков П.Н. Трагедия А.А. Ржевского «Подложный Смердий» // Театральное наследство. М.: Искусство , 1956. - С. 140-158. 157 10. Благодеяние. Восточная повесть // Утренний свет. Ежемесячное издание. Ч. 8. М., 1780. - С. 281-286. 11. Благой Д.Д. Сатирические журналы 1769-1774 гг. Н.И. Новиков // История русской литературы XVIII века. Изд. 3. М.: Наука, 1955. - С. 571602. 12. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII-XVIII веков. М.: Рост. ун-т, 1988. - 528 с. 13. Бочкарев В. А. Жанровое своеобразие исторических пьес Екатерины II // Русская драматургия XVIII – XIX вв. (Жанровые особенности. Мотивы. Образы. Язык) // Межвуз. сб. науч. трудов. Куйбышев: Куйб. кн., 1986. - С. 15-23. 14. Брикнер А. Г. Екатерина II Великая. Ее жизнь и царствование. М.: Эксмо, 2009. - 480 с. 15. Былинин В.К., Одесский М.П. Екатерина П: человек, государственный деятель, писатель // Екатерина П. Сочинения. М., Современник, 1990. - 557 с. 16. Видение Мирзы // Восточная повесть // Утренний свет. Ежемесячное издание. Часть 3. М., 1779. - С. 286-297. 17. Виппер Ю. Б. О преемственности и своеобразии реализма Ренессанса и Просвещения в западноевропейской литературе // Проблемы Просвещения в мировой литературе. М.: Просвещение, 1970. - 354 с. 18. Виппер Ю. Б. Французская литература 30-х и первой половины 40-х годов XVII в. // История всемирной литературы. В 8 тт. Т. 4. М.: Наука, 1987. - С. 112-120. 19. Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М.: Наука, 1983. - 265 с. 20.Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1985. - 272с. 158 20а. Гистер М.А. Русская литературная сказка XVIII века: история, поэтика, источники. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. фил. наук. Москва, 2005. 263с. 21. Гнеушева Р.Д. Н.И. Новиков в литературном процессе 90-х гг. XVIII века: к постановке проблемы // Структура литературного произведения. Владивосток: ДВФУ, 1983. – С. 51-63. 22. Гордлевский В.А Отзвуки Востока в творчестве И.А. Крылова // Крылов И.А. Избранные сочинения. В 2 тт. Т.2. М: Изд. АН СССР, 1961. С. 472-475. 23. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М: Просвещение, 1939. - 453 с. 24. Гордон А. В. Российское просвещение: значение национальных архетипов власти // Европейское Просвещение и цивилизация России. М.; Просвещение, 2004. – С. 91-104 . 25. Гуминский В. Открытие мира, или путешествия и странники. М.: Современник, 1965. - 286 с. 26. Демин А.С. Русская литература второй половины XVII - начала XVIII века. М.: Наука, 1977. - 296 с. 27. Державин К.Н. Вольтер. М: АН СССР, 1946. - 484 с. 28.Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. Сказка о царевиче Февее. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // az.lib.ru. 29. Елистратова А.А. Просветительский роман // История всемирной литературы. Т.5. М.: Просвещение, 1988. - С. 46-63. 30. Западов А.В. Отец русской трагедии. О творчестве Ломоносова. М: Советский писатель, 1961. – 282 с. 31. Западов А.В. Новиков. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 1968. -190 с. 32. Земскова А.В., Моня В.С., Филиппов Э.М. Екатерина II – политик, реформатор и ее эпоха. СПб: Юридич. центр прессы, 2007. - 543 с. 159 33. Ильин О.А. «Каиб» И.А. Крылова как пародия на «восточную повесть» // Писатели-критики. Материалы научн.-теор. конф. «Проблемы писательской критики». Душанбе: Наука, 1987. - С. 155-158. 34. Каменский А.Б. Под сению Екатерины. Вторая половина XVIII века. СПб: Лениздат., 1992. – 448 с. 35. Ключевский В.О. Курс русской истории. М: Мысль, 1987. Ч. 1. – 643 с. 36. Кокшенова К.А. Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. фил. наук. М., 2002. – 21 с. 37. Кочеткова Н.Д. Сатирическая проза Крылова// Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л: Наука, 1975. - С. 75-86. 38. Кочеткова Н.Д. Радищев // История русской литературы. В 4 тт. Т. 1. Л: Наука, 1980. - С. 707-725. 39. Крестова Л.В. «Сон» в главе «Спасская Полесть» «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. Вып. 4. Т. XVI. М., 1957. - 352-358. 40. Крылов И.А. Каиб. Восточная повесть // Русская литература XVIII века. Хрестоматия. Сост. Г.П. Макогоненко. Л.: Просвещение. Ленингр. отд., 1970. - С. 596-609. 41. Кубачева В.Н. «Восточная» повесть в русской литературе XIII начала XIX века // XVIII век. Сб. 5. М.; Л., 1962. - С. 295-316. 42. Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII. М: Высшая школа, 2003. - 418с. 43. Леонтьев А.Л. Чензыя, китайского философа, совет, данный его государю // Трутень. Лист 8, 1770. - С. 209-212. 44. Леонтьев А.Л. Завещание Юнждена, китайского хана, к его сыну // Пустомеля. Лист 2, 1770. - С. 267-269 160 45. Летописные повести о походе князя Игоря // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М: Худ. лит., 1980. - С. 365-371. 46. Лёвшин В.А. Русские сказки. В 2-х тт. Т. 2. М: Тропа Троянова, 2008. - 472 с. 47. Лиманская Ю.С. Произведения М.М. Хераскова «Золотой прут» и «Кадмий и Гармония» в контексте масонской прозы последней четверти XVIII века. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. фил. наук. Сургут, 2007. - 48 с. 48. Ломоносов М.В. Тамира и Селим // Русская литература XVIII века. Трагедия. М., Худ. лит., 1991. - С. 163-212. 49. Ломоносов М.В. Державин Г.Р. Избранное. М: Правда, 1984. – 448 с. 50. Лотман Ю.М. Пути развития русской просветительской прозы ХVIII века // Проблемы русского Просвещения в литературе ХVIII века. М.; Л.: «Искусство-СПБ», 1961. - 618 с. 51. Майков В.И. Фемист и Иеронима // Русская литература XVIII века. Трагедия. М., Худ. лит., 1991. – С. 269-320. 52. Макогоненко Г.П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М.;Л., 1951. - с. 544. 53. Макогоненко Г.П. Радищев и его время. М.: ГИХЛ, 1956. - 773 с. 53а. Моисеева Г.Н. Ломоносов // История русской литературы. В 4 тт. Т.1. Л: Наука, Ленингр. отд., 1980. - С. 523-544 54. Мартынов И.Ф. Книгоиздатель Николай Новиков. М.: Книга, 1981. – 180 с. 55. Мотыльская Д.К. Ломоносов // История русской литературы. Т. Ш. Литература XVIII века. Ч. 1. М.; Л.: АН СССР, 1941. - С. 338-365. 56. Надир. Восточная повесть // Городская и деревенская библиотека. Ч. IV. 1783. – 372 с. 161 57. Нарышкина Л.Н. Повесть М.М. Хераскова «Золотой прут» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. От классицизма к романтизму. Л.: ЛГПИ им. П. И. Герецена, 1976. - С.65-93. 58. Нарышкина Л.Н. Романы М.М. Хераскова. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. фил. наук. Л, 1978. - 32 с. 59. Николев Н.П. «Сорена и Замир» // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М: Худ.лит, 1991. - С. 433-492. 60. Новиков Н.И. Ведомости из Константинополя // Пустомеля. [Электронный ресурс] /n/nowikow_n_i/text_0070.shtml 61а. Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Избр. Соч. М.-Л. ГИХЛ, 1951. С.274-275. 61. Новиков Н.И. Статьи из русского словаря // Русская литература XVIII века. 1700-1775. Хрестоматия. Сост. В.А. Западов. М.: Просвещение, 1979. - С. 366-367. 62. Новиков Н.И. // Русская литература ХVIII века: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и литературно-критических статей. Под ред. проф. О.М. Буранка. М.: Флинта: Наука, 2007. - C. 144-171. 63. Омелько Л. В. В.А. Лёвшин и его «Русские сказки» // Автореф. дисc. канд. фил. наук. Л., 1991. - 36 с. 64. Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М.: АН СССР , 1991. - 318 с. 65. Пахсарьян Н.Т., Саськова Т.В. Историческая поэтика пасторали. // Вопросы филологии. 2001. № 2. - С. 69-81. 66. Повествование Иродота Аликарпасского. Перевел Андрей Нартов. СПб., 1763. Т. 1. - С. 332-348. 67. Приселко Г.П. Просветитель В.А. Лёвшин. Тула: Приок. кн., 1990. – 93 с. 162 68. Прокофьева Е.А. Особенности мифопоэтики исторических пьес Н.П. Николева // Проблема изучения русской литературы XVIII века. Вып. 15. СПб; Самара.: Ас. Гард, 2001. - С. 170-182. 69. Прокофьева Е.А. Русская историческая драма эпохи барокко, классицизма и сентиментализма. Учебное пособие. Днепропетровск: Свидлер А.Л, 2008. - 116 с. 70. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Л., 1984. - 311 с. 71. Рассадин Ст. Сатиры смелый властелин. Книга о Д.И. Фонвизине. М.: Книга, 1985. - 266 с. 72. Ржевский А.А. Подложный Смердий // Русская литература XVIII века. Трагедия. М., 1991. - С. 213-266. 73. Русский и западноевропейский классицизм: проза. М.: Наука, 1982. 208 с. 74. Сантк-Петербургский вестник. 1778, ч. 1, № 4. - С. 318-319. 75. Серман И. З. Императрица и поручик Новиков // XVIII век. Сб. 25. СПб.: Наука, 2008. - . 346-353. 76. Смусина М.Л. Трагедия А.А. Ржевского «Подложный Смердий» и общественно-политическая борьба 1770-х годов // XVIII век. Сб. статей и материалов. Вып. 11. М.; Л.: Наука , 1935. - С. 220-228. 77. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1988. Кн. 1. Т. 2. - 797 с. 78. Стенник Ю.В. Сумароков А.П. // История русской литературы. В 4 тт. Т. 1. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1980. - C. 542- 570. 79. Стенник Ю.В. Степанов В.П. Литературно-общественное движение конца 1760-780 годов // История русской литературы. В 4 тт. Т. 1. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1980. - С. 571-627. 163 80. Стенник Ю.В., Кочеткова Н.Д. Литературно-общественное движение 1780-1790 годов // История русской литературы. В 4 тт. Т. 1. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1980. - С. 673-700. 81. Стенник Ю.В. Драматургия русского классицизма. Трагедия // История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. Л., Наука, 1982. - 230 с. 82. Стенник Ю. В. Роль литературного творчества Екатерины II в развитии русской литературы XVIII века // Русская литература. 1996. № 4. - C. 3-20. 83. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской драматургии XVIII века. Вст. статья // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М.: Худ. лит. - С. 524. 84. Степанов В. П. Екатерина II // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1988. - С. 291-302. 85. Строев А. Ф. Судьбы французской сказки // Французская литературная сказка XVII–XVIII веков. М.: Худ. лит., 1990. – 720 с. 86. Сумароков А.П. Дмитрий Самозванец // Русская литература XVIII века. 1700-1775. Хрестоматия. Сост. В.А. Западов. М., 1979. - С. 169-183. 87. Сумароков А.П. Эпистола о стихотворстве. // // Русская литература XVIII века. 1700-1775. Хрестоматия. Сост. В.А. Западов. М., 1979. - С. 141-150. 88. Татаринов А.В. Сказка Екатерины П «О царевиче Хлоре» и ее архитектурная иллюстрация // [электоронный ресурс] http: //www.ekaterina2.com/koaf103.php 89. Татаринцев А.Г. Сын отечества. Об изучении жизни и творчества А.Н. Радищева. М., Просвещение, 1981. - 127 с. 90. Тысяча и одна ночь. М., 1890. – 875 c. 164 91. Федоров В.И. Ломоносов // Русская литература XVIII века. М., Просвещение, 1990. – С. 79-109. 92. Федосеева Т. В. Художественная функция иронии в «восточной» повести И. А. Крылова «Каиб» // «Филологическая наука», М., 2005, №5. С. 28-35. 93. Херасков М.М. О чтении книг // Полезное увеселение. Кн. 1. М., 1760. - С. 6-15. 94. Херасков М.М. Золотой прут. Восточная повесть. М., 1782. – 145 с. 95. Черная Л. А. От идеи «служения государю» к идее «служения отечеству» в русской общественной мысли второй половины XVII – начала XVIII в. // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. 1. М.: Наука, 1989. -145 с. 96. Шелемова А.О. Слово о полку Игореве: поэтика пространства и времени. М.: Прометей, 2000. - 235 с. 97. Шелемова А.О. Поэтическая универсалия “ратник-ратай”: авторские версии и литературный контекст // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики. Сб. научн. статей. В 2 ч. Ч. 2. Минск, 2007. С. 257262. 98. Шелемова интертекстуального А.О. «Слово анализа. LAP о полку Игореве» LAMBERT и… Academik Опыт Publising. Deutschland, 2012. - с. 135-170. 99. Эйдельман Н.Я. Мгновенье славы настаёт. Год 1789. Л., Лениздат, 1989. - 300 с. 100. Юсупов Т.Ж. Развитие прозы XVIII века (Проблематика, поэтика, восточные мотивы) Дисс. на соиск. уч. ст. док. фил. наук. М., 1995. - 380 с. 165 166 167 168 169 170 171