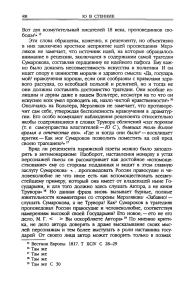Problem of Tragedy and Tragic Consciousness in Russia at the turn
advertisement

Problem of Tragedy and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19th Century Evgueni Vilk Evgueni Vilk Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING DEVELOPMENT ELECTRONIC PUBLISHING PROGRAM Open Society Institute Center for Publishing Development Electronic Publishing Program Október 6. u. 12 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/ep This work was prepared under financial support from the Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation. Research Support Scheme Bartolomějská 11 110 00 Praha 1 Czech Republic www.rss.cz The digitization of this report was supported by the Electronic Publishing Development Program and the Higher Education Support Program of the Open Society Institute Budapest. Digitization & conversion to PDF by: Virtus Libínská 1 150 00 Praha 5 Czech Republic www.virtus.cz The information published in this work is the sole responsibility of the author and should not be construed as representing the views of the Open Society Institute. The Open Society Institute takes no responsibility for the accuracy and correctness of the content of this work. Any comments related to the contents of this work should be directed to the author. All rights reserved. No part of this work may be reproduced, in any form or by any means without permission in writing from the author. Contents Введение............................................................................................................................................................... 1 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития .............................. 4 Примечания ................................................................................................................................................... 20 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма ............................................................... 25 2.1. Основы трагического в религиозно-философской публицистике Сумарокова ...................... 26 2.2. Апория любви к Богу и к ближнему ................................................................................................. 32 2.3. "Хорев": проблема рецепции Сумароковым трагедии французского классицизма ............... 35 2.4. "Синав и Трувор" развитие трагической притчи............................................................................ 45 2.5. Проблемы творческой эволюции Сумарокова-трагика ............................................................... 50 Примечания ................................................................................................................................................... 53 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности.................................. 58 3.1 Трагическая антиномия любви в "Письме графа Комменжа" ..................................................... 58 3.2 "Дидона" возвращение трагедии в лоно традиции XVII века ...................................................... 64 3.2.1 Проблема источников "Дидоны" ................................................................................................. 65 3.2.2 Чувствительные герои "Дидоны" ................................................................................................ 72 3.2.3 Герои трагедии персонажи мифа ................................................................................................. 76 3.2.4 "Дидона" как этап в истории жанра ............................................................................................ 81 3. Эволюция творчества Княжнина после "Дидоны" ........................................................................... 83 3.1 Обеднение трагедии и ее новая проблематика ............................................................................ 83 3.2 "Софонисба" и "Вадим Новгородский" ............................................................................................ 84 Примечания ................................................................................................................................................... 94 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра..................................................................... 100 4.1 Об особенностях масонской метафизики: тринитарная мистика и просветительский рационализм ................................................................................................................................................ 100 4.2 Трагедия Хераскова и масонская метафизика ............................................................................... 105 4.2.1 Начало творческого пути Хераскова: "Венецианская монахиня" и "Мартезия и Фалестра"................................................................................................................................................. 106 4.2.2 "Пламена" первый опыт ипостасной иерархии героев ......................................................... 112 4.2.3 "Горислава": масонская трагедия и традиции сентиментальной драмы............................ 116 4.2.4 Трагедии Хераскова 1790-х годов: конфликт просветительства и религиозно-масонской идеологии ................................................................................................................................................. 120 4.2.4.1 "Освобожденная Москва" радикальный вариант масонской трагедии и предвестие национально-патриотической драматургии.................................................................................. 121 4.2.5 Последний опыт Хераскова-трагика попытка реабилитации трагической страсти....... 128 Примечания ................................................................................................................................................. 129 Глава 5. Трагедия Озерова ........................................................................................................................... 133 5.1 Героида "Элоиза к Абеляру" пролог озеровского творчества .................................................. 135 5.2. Становление Озерова-трагика: от "Ярополка и Олега" к "Димитрию Донскому" .............. 137 5.2.1 "Ярополк и Олег".......................................................................................................................... 137 5.2.2 "Эдип в Афинах" новая структура трагедии ........................................................................... 139 5.2.2.1 "Эдип в Афинах" и его литературные источники ........................................................... 139 5.2.2.2 "Эдип в Афинах": драма эпохи Просвещения и традиция русской трагедии ............ 144 5.2.3 "Фингал" трагедия веры .............................................................................................................. 148 5.2.4 "Димитрий Донской": кризис озеровской трагедии и новые принципы построения характеров ............................................................................................................................................... 156 5.3."Поликсена" вершина трагедии русского классицизма ............................................................... 163 5.3.1 Новации "Поликсены" и традиции русской трагедии ........................................................... 164 5.3.2 Источники "Поликсены" и их смысловая иерархия .............................................................. 168 5.3.2.1 Три слоя источников .............................................................................................................. 168 5.3.2.2 Композиция "Поликсены" и традиция русской трагедии .............................................. 169 5.3.2.3 "Поликсена" и французский классицизм .......................................................................... 170 5.3.2.4 Античные источники "Поликсены": два принципа трагедии ....................................... 175 5.3.3 Персонажи "Поликсены" и античная концепция добродетелей......................................... 182 5.3.4 Конфликт и сюжет "Поликсены": метафизика и поэтика................................................... 187 5.3.4.1 Метафизика трансцендентного ........................................................................................... 187 5.3.4.2 Метафизика пространства и времени ................................................................................ 189 5.3.4.3 Метафизика характеров ....................................................................................................... 191 5.3.4.4 Сюжет трагедии и метафизика жертвы ............................................................................ 200 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии ....................................... 205 Примечания ................................................................................................................................................. 213 Список опубликованных работ автора по русской драматургии ..................................................... 225 Summary............................................................................................................................................................ 226 Chapter 1. Tragedy of classicism: the philosophy of genre and the main landmarks of its development228 Chapter 2. Sumarokov: origins of the tragedy of the Russian classicism. .............................................. 230 Chapter 3. Knyazhnin's drama: from tragic myth to tragedy of a personality....................................... 231 Chapter 3. Kheraskov's tragedy the free-mason version of the genre ................................................... 234 Chapter 2. Ozerov's tragedy........................................................................................................................ 234 1 Введение Введение Трагедия как определенный жанр и "трагическое" как эстетическая категория, реализующаяся в различных литературных жанрах, составляют предмет давнего и напряженного интереса как со стороны наук о литературе, так и философских дисциплин. Пристальное внимание вызывают, соответственно, и те периоды в истории национальных литератур, в которые понятие трагедии приобретало новое содержательное наполнение. Можно констатировать, что для русской культуры в целом плодотворным для развития трагической темы был период XIX-XX веков. Из шедевров русской литературы, получивших мировое признание, понятие "трагического" неизменно связывается с рядом драматических и недраматических произведений Пушкина, с романами Тургенева, Толстого и Достоевского, с драматургией Чехова, с прозой Леонида Андреева, Шолохова, Платонова и Солженицина. Оригинальные концепции "трагического" получили развитие в работах русских философов Л. Шестова, Ф. Степуна, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, А. Лосева, М. Бахтина. Вместе с тем, наряду со значительным числом исследований, специально посвященных элементу "трагического" в творчестве того или иного из русских авторов и работ, включающих крупные произведения русской литературы (чаще всего произведения Достоевского и Чехова) в ряд вершин мировой трагики, не существует специального исследования, посвященного внутреннему развитию трагической проблематики в русской культуре. На протяжении всего советского периода в российской гуманитарной науке тема "трагедии" была периферийной и нежелательной, по крайней мере, не была допустима полемика по этому вопросу, поскольку, согласно официальному взгляду, трагедия понималась только как результат конфликта идеологии, порожденной "прогрессивным" общественным укладом, с идеологией прошлого, "отсталых" форм жизни. Иными словами, трагедия превращалась в драму с подразумеваемым оптимистическим исходом (ср. советскую пьесу "Оптимистическая трагедия" В. Вишневского). В этой ситуации можно видеть, однако, не только установку коммунистической идеологии, т. е. новейшего идеологического феномена, но и новое проявление неких устойчивых для русской культуры стереотипов: существует мнение, что православие, определившее основы традиционной русской ментальности, несет в себе принципиально нетрагическую картину мира. Стоит привести для примера слова одного из русских зарубежных авторов XX века традиционалистской ориентации, А. Позова, высказывавшего общий взгляд на трагедию, применительно к Пушкину: "Но даже самое гениальное выражение человеческих страстей не обладает значимостью, не имеет ни субъективной, ни объективной ценности <..>. Значение трагического -чисто отрицательное. Вот почему пророчески-мудрый Пушкин не останавливался подолгу на этой стороне своего творчества, не уделял ему много внимания..." Столь категоричный взгляд, однако, находится в явном противоречии с отмечавшимся выше "цветением" трагической тематики в русской литературе XIX-XX веков. Налицо, таким образом, серьезная проблема: следует понять, что означает само это сосуществование продуктивного в культуре направления развития трагического творчества и "нетрагических" идеологических установок, и, вместе с тем, в чем состоят фундаментальные особенности трагедии и "трагического" в русской литературе в целом. Именно эту цель ставит перед собой автор данной работы. В предлагаемом исследовании подробно рассматривается при этом только один из этапов развития "русской трагедии", но этап особенно важный в свете сформулированных выше проблем: начальный период становления "трагической литературы" -период XVIII начала XIX веков, когда впервые были восприняты выработанные в западной культуре формы трагического искусства, те формы, в которых "трагическая литература" практически однозначно сводилась к трагедии как драматическому жанру. 2 Введение Существует несколько обобщающих работ, полностью или частично посвященных этому этапу развития русской трагедии. Наиболее ценные и известные среди них -книги Harder H.-B. "Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Tragodie. 1747 1769" (Wiesbaden, 1962). Специальные обобщающие работы по этой теме на русском языке представлены небольшой по объему книгой Ю. В. Стенника "Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма" (Ленинград, 1981) и несколькими монографиями В. А. Бочкарева "Русская историческая драматургия XVII-XVIII веков" (Москва, 1988), "Русская историческая драматургия последней трети XVIII века" (Куйбышев, 1985) и "Русская историческая драматургия начала XIX века (1800-1815)" (Куйбышев, 1959) -монографии эти, правда, как явствует уже из их названий, посвящены не столько вопросам поэтики жанра трагедии, сколько традиционному для советской науки вопросу о "реализме" драматургии (в основном трагической драматургии), т. е. "соответствия действительности" инсценируемых исторических сюжетов. Следует выделить также одно старое, но сохраняющее свое значение исследование, -П. О. Потапов "Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В. А. Озерова" (Одесса, 1915), -будучи посвящено творчеству последнего русского трагикаклассициста Владислава Озерова, оно во многом суммирует материал всей предшествующей традиции и является до сих пор единственным столь подробным монографическим изучением творчества одного из крупнейших трагиков того периода. Значительно более обширный ряд статей и публикаций, авторы которых -Г. А. Гуковский, П. Н. Берков, А. Я. Максимович, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, Л. И. Кулакова, И. Н. Медведева, И. З. Серман, Г. В. Ермакова-Битнер, Ю. В. Стенник, Е. А. Касаткина, Н. Д. Кочеткова, Л. М. Пастушенко, П. Е. Бухаркин, M. Levitt, M. Green и ряд других -занимались исследованием отдельных вопросов поэтики, идеологии, историко-литературным контекстом русской трагедии этого периода, творчеством отдельных авторов, интенсивно работавших в этом жанре. В настоящей работе в той или иной степени учтены результаты этих предшествующих исследований, но в ней избран при этом иной, доселе не практиковавшийся подход к теме русской трагедии. Проблематика жанра трагедии в его конкретном воплощении и развитии на протяжении второй половины восемнадцатого начала девятнадцатого века изучается в связи с вопросом о "трагическом" как философской категории, воспринятой в России XVIII века из опыта современной западной культуры и преображенной по законам воспринявшей культуры. Такого рода подход отразился на структуре и логике построения работы. Предваряет ее глава "Трагедия классицизма: философия жанра и основные вехи его развития", посвященная "трагическому" как культурологической проблеме эпохи XVIIXVIII веков и выработке самого языка описания этой проблематики, применимого как к широким пластам интеллектуальной культуры, так и к трагическому жанру в частности. Особое внимание здесь уделяется французской классицистической трагедии и различным этапам ее развития с точки зрения реализации в них различных аспектов "трагического". Далее в работе исследуется уже русская трагедия XVIII начала XIX веков. Главы последовательно освещают проблематику "трагического" в творчестве ведущих русских драматургов-трагиков этой эпохи: Александра Сумарокова, Якова Княжнина, Михаила Хераскова, Владислава Озерова, Павла Катенина. Разделы эти являются не просто самостоятельными исследовательскими очерками, но составляют единый развиваемый в работе "сюжет" истории русской трагедии: -"завязкой" этого "сюжета" служит глава о Сумарокове, в которой исследуются корни философской проблематики "трагического", определившей специфику русского варианта трагедии классицизма на протяжении всего ее существования; -глава о Княжнине повествует о том, как заложенная Сумароковым традиция привела к разработке универсального сюжета трагедии, определившего 3 Введение композицию и поэтику всех произведений самого Княжнина и многих его последователей, а также о первых в русской традиции и глубоко оригинальных опытах разработки "вечных", странствующих сюжетов мировой трагической драматургии; -раздел о творчестве Хераскова является своего рода "боковой ветвью" в последовательно развивающемся "сюжете" работы: речь идет здесь об ответвлении сумароковской традиции, которая в соединении с кругом масонских идей дала весьма оригинальную модификацию жанра, хотя и не имевшую существенного влияния на последующую трагедию; -глава о творчестве Озерова снова возвращает нас на магистральную линию развития русской трагедии и знаменует ее вершину: именно в творчестве Озерова происходит встреча и взаимодействие глубинных пластов восходящей к античности традиции трагического жанра с новыми компонентами "трагического", возникшими на русской почве. Последняя трагедия Озерова "Поликсена" рассматривается в работе как неоцененная до сих пор вершина русской трагической драматургии; -наконец, завершающий исследование раздел о трагедиях и эстетических возрениях на "трагическое" Павла Катенина служит "развязкой" единого "сюжета", развиваемого в работе: содержанием раздела служит исчерпание сумароковской традиции, отказ от нее, продекларированный Катениным, и выход к новым концепциям "трагического", которые получат развитие уже на последующих этапах истории русской литературы, за пределами избранного для исследования периода. 4 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития Охарактеризуем те общие положения, на которых основывается наше понимание конфликта классицистической трагедии. Прежде всего необходимо остановиться на начальных "архетипических" принципах организации трагического действия, сказавшихся, как можно полагать, на трагедии классицизма, провозгласившей свою прямую ориентацию на античные образцы. Интересующий нас "конфликтный" аспект античной трагедии получил детальное и углубленно-философское освещение в работе А.В.Ахутина "Открытие сознания. Древнегреческая трагедия и философия"1. По концепции А.В.Ахутина, конституирующим принципом греческой трагедии явилась точка "амехании", замирания действия между двумя равными возможностями, определенными некими авторитетными, укорененными в мифологическом предании регуляторами поведения. "В трагическом зрелище этот момент, этот странный момент уже не просто минует вместе с другими минутами жизни наоборот: все предшествующее осмысливается им и оказывается лишь подготовкой к нему, а все последующее "механическим" следствием решения и поступка, преодолевающих на свой страх и риск трагическую "амеханию". По горизонтали жизненного действия зритель доходит до точки, в которой привычное движение мира останавливается, и открывается некое вертикальное измерение. Это и есть ситуация трагической апории (непроходимого места)."2 Герой совершает нечто "на свой страх и риск", полагая новую норму героического поведения, однако его поступок не разрушает начальную двойственность, но возвышает ее на новую степень, открывая ситуацию суда, спора различных начал ("полемос"), которая получает смысл глубинного принципа мироздания и важнейшего условия человеческой деятельности (так в финале "Орестеи" Эсхила оправдание убийства Орестом матери, совершенное по логике одной из мифологических "правд", входит в контекст более грандиозного события установления суда ареопага). Трагическая апория, амехания имеет, таким образом, онтологическое и одновременно личностное измерение: "Трагедия лишь открывает в мире его онтологическое основание загадочную амеханию, ждущую решения, изначальную и вековечную тяжбу. Лишь поскольку сущее стоит в этой тяжбе с собой, возможно в нем такое сущее, как человек сознающий, мыслящий, волящий, свободный, ответственный, сосредоточивающий в себе или представляющий собой саму онтологическую неразрешенность, лежащую в основании сущего"3. "Человеческий индивид не может быть "третьим царством", но благодаря ему образуется это "третье" как царство встречи двух царств, миров, бытий. Мифокосмический горизонт раскрывается в новом онтологическом измерении."4 Таково изначальное "третье", предлагаемое миру трагедией. Трагедия, следовательно, ищет момент встречи неких фундаментальных регулятивов и обретает в нем себя и своего героя, апеллируя к исходной свободе человека, властного переопределить свое бытие; она не дает ему забыть о моменте этого переопределения. Между тем представление об изначальном "онтологизме" трагедии нуждается в уточнении. В греческой трагедии встретившиеся и вступившие в конфликт регулятивы не сводились непременно к неким двум фундаментальным началам, конкретные пары их, возникающие в различных трагедиях, в целом образуют множество, элементы которого определены набором мифологических установлений и запретов, актуализированных по той или иной причине, вероятно, особенно значимой для полиса на момент создания трагедии. Онтологизм трагической ситуации как таковой, т.е. неизбежный, укорененный в мироздании конфликт нравственных принципов, не означал онтологизма самих конфликтных начал, относившихся к "мифологической эмпирии" по крайней мере, такой вывод напрашивается из работы А.Ахутина и других известных нам исследований в этой области, не поднимающих вопрос о генерализации 5 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития оснований конфликта в классической греческой трагедии. Совершенно иная ситуация уже у Сенеки, в драмах которого безусловно проступают общие контуры коллизии логоса и хаоса. Следует остановиться на "персоналистическом" аспекте античной трагедии. То пространство, где становится возможна встреча равных ценностей, основания которых теряются в глубине мифологического космоса, пространство "сознания". Открытие его, согласно А.Ахутину, стало главным событием античной трагедии. Возникает, однако, важнейший вопрос о самом субъекте, в сознании которого разворачивается драма "открытия сознания." "Если трагедия подражает мифическому событию, пишет А.Ахутин, то она уподобляет зрителя Зевсу. Когда боги стоят в ожидании человеческого решения, они тоже всего лишь зрители, а зрители в театре всезрящи и всезнающи как боги. И только такому зрению открыта трагическая апория."5 Важнейший смысл этого утверждения в том, что субъектом "открытого сознания" становился зритель, коллективный зритель трагедии, по сути дела собравшийся на представление полис. Именно этот коллективный зритель должен был восчувствовать трагизм столкновения равных ценностей, открыть для себя ситуацию начальной свободы и предельно ответственного решения героя, пережить последствия этого решения. Между тем сам герой трагедии отнюдь не обладает "божественным зрением". Если процесс душевных колебаний и выбора решения представлен, "озвучен" через героя, то это еще не ведет к формированию внутреннего образа героя. Персонаж античной трагедии это в конце концов только носитель маски, подчеркивающей его принадлежность к силам обобщенно-социального и мифо-космического порядка6. В соответствии с этим индивидуальная ситуация колебания и выбора может легко перейти в спор и тяжбу космических сил (как в "Орестее" Эсхила), или же для воссоздания этой социально-космической коллизии вообще становится необязательна подчеркнутая внутренняя противоречивость героя (что свойственно трагедиям "Софокла"7). "Пространство сознания", таким образом, отнюдь не имманентно индивидуальному бытию героя древнегреческой трагедии. Несколько иная ситуация уже у Сенеки, для персонажей которого характерен скурпулезный анализ переживаемых ими противоречивых страстей8. Хотя пользуясь положениями А.Ф.Лосева, принципиально различавшего "космичность" античной культуры и персонализм христианской эпохи, можно утверждать, что и в данном случае речь идет о борении космических сил, получившем интериоризированное воплощение9. Если античная трагедия совершила акт "открытия сознания", то в классицистической трагедии мы имеем дело с персоналистической приуроченностью этого открытия. Речь идет уже не только о сознании, но и о сознающем. Достаточно указать на ряд широко известных трагических монологов, начиная со стансов корнелевского Родриго до мучительных признаний Федры Расина, фиксирующих состояние выбора, душевного борения, переживаемого персонажем, стоящим перед лицом двух ценностей, двух действенных импульсов. Этот момент осознанного противоречия становится важнейшим для характеристики всех ведущих героев классицистической трагедии. Само столкновение их на поле трагедии обнаруживает коллизию различных персонажей, каждый из которых сознает двойственность собственного бытия, неразрывно связанного с бытием другого. Образуется некое подвижное единство предельно зависимых друг от друга и в то же время предельно самостоятельных и ответственных личностей. В дальнейшем, когда по ходу работы возникнет необходимость в изучении той посредующей роли, которую сыграла французская трагедия при рецепции античных сюжетов Озеровым ("Ифигения" Расина и "Ифигения в Авлиде" Еврипида), будут более подробно освещен сам момент формирования личностного образа героя в результате последовательной переинтерпретации древнегреческой драмы. 6 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития Попытаемся обрисовать теперь то особое онтологическое противоречие, ту двойную систему ценностей, в поле притяжения которых должен был действовать субъект классицистической трагедии, то застывая в "трагической амехании", то принимая решение на свой страх и риск, задавая некую новую в героическом мире норму. Для этого необходим, как нам представляется, краткий культурологический экскурс. *** С.С.Аверинцев, описывая глубинные философские предпосылки смены литературной модели мира на рубеже античности и средневековья, вводит набор параметров, относящихся к онтологическим первоосновам культуры. Доминирование какого-либо из них и их внутренняя соподчиненность, по мнению исследователя, определяет фундаментальные черты картины мира, присущей той или иной эпохе10. Речь идет о трех различных "подходах к вещам", о трех различных по существу способах восприятия впечатлений внешнего мира и различных стратегиях "воздействия" на мир. Эти три типа "отношения к вещам" связаны, по С.С.Аверинцеву, с выделением в структуре мира, во-первых, причинно-следственных связей (того, что по логике Аристотеля квалифицируется как материальная и динамическая причины), вовторых, формы вещей, их "эйдетического" аспекта, и, в третьих, самого их бытия, незримого внутреннего средоточия всех свойств и отношений вещи, "безвидной" инстанции, эквивалентной импульсу творческой воли, вызывающей "вещь" к жизни и удерживающей ее на грани небытия, распада и энтропии11. В таком понимании античность предстает как культура, в которой не был развит каузальный подход к вещам, как не было и повышенного интереса к бытию по ту сторону зримого и осязаемого мира, но получил особое развитие "эйдетический" подход, узрение и созерцание форм. В начале христианской эпохи (в "раннем средневековье") категория бытия стала определяющей в сложном составе духовной жизни, но и наследие античности, культивировавшее "созерцание форм", узрение сущностей вещей не было забыто: "...усматривание эйдосов, как отмечает С.С.Аверинцев, приобретает иной модус перед лицом созерцания бытия. Тщательно культивируемый примат последнего один из важнейших факторов своеобразия средневековой культуры."12 Время же подлинного открытия каузального измерения мира пришло вместе с появлением "новоевропейской научности", т. е. с XVII века, с эпохи Бэкона и Декарта. Такова в схематическом изложении культурологическая схема С.С.Аверинцева. Прежде чем мы попытаемся оценить значимость ее для нашей темы, следует дать некоторые комментарии к понятию бытия, столь странно звучащему в культорологическом дискурсе. Апелляция к бытию в том контексте неоплатонической философии и христианской теологии, в котором оно возникло и было акцентировано, означает указание на атрибут Бога13. Бытием в собственном смысле слова обладает только Бог и сам дискурс о бытии как таковом означает формирование концепций о связи Бога и мира, об участии Бога в сотворенном им мире. Но хотя понятия "бытие" и "Бог" неразделимы, выделение бытия как центрального параметра культуры предполагает нечто более широкое, чем указание на то созерцание бытия, к которому были направлены усилия аскетов и напряженные поиски неоплатонической философии и позднейшей схоластики. Будучи сосредоточено в Боге, бытие пронизывает собой и всю иерархию космоса и социального мира, как она понималась средневековым сознанием. Каждый из уровней этой иерархии несет на себе особую печать причастности к высшему началу, Абсолютному Бытию. Но Абсолютному Бытию причастна и человеческая личность как таковая, ибо человек, в отличие от всего остального мира, создан "по образу и подобию Божию" и несет в себе божественную искру. Взаимодействие личности, осознававшей себя в этой системе координат, и иерархии, восходящей к высшему началу универсума, складывалось, условно говоря, по 7 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития двум основным моделям. Согласно первой из них собственное бытие личности, "искра Божия" должно было быть вручено Другому, мыслимому как иерархически высшая инстанция, преимущественно носящая печать Божества. В беззаветном служении этому Другому личность обретала причастность Божьему миру14. По иной модели чувство изначальной личной причастности Бытию (получавшее дополнительный стимул в случае высокого собственного места в общественной или сословной иерархии), приводило к сознанию личной власти и высших полномочий в некотором данном личности фрагменте Божьего мира. Служение Другому при этом могло приобретать совершенно разные культурные формы: от монашеского служения церкви, от воинского служения государю до куртуазного служения даме. В той же мере и осознание непосредственной божественности собственной личности приводило к разнообразным формам поведения: от строгого отстаивания сословного кодекса чести, защиты собственного доброго имени до непомерной гордыни феодального синьора. Представление о бытии, о незримом средоточии всех форм и энергий жизни определило, таким образом, круг важнейших жизненных отношений, стало основой определенного образа жизни. Следует отметить, что этот круг отношений, включавший императив служенияверности и горделиво отстаиваемое личное достоинство, был безусловно связан и с идеалами до-христианской эпохи. Но из всех до-христианских культур, символика которых вошла в кругозор средневековой и пост-средневековой Европы, совершенно особое, по-видимому, место в формировании идеала служения-посвящения личного бытия сыграл Древний Рим. В предельно кратком изложении мы можем только указать на сам феномен "Вечного города", мыслившего себя как бы земным воплощением бытия (не случайно "римская идея" так глубоко была интегрирована христианством) и на те образцовые примеры верности "римской идее", а также не менее яркие образцы узурпации абсолютной власти, отождествления собственной личности со средоточием бытийственной полноты, которые содержатся в корпусе римской литературы. Пользуясь введенными выше культурологическими параметрами, можно указать на специфические черты эпохи XVII века. Именно в это время оказывается маргинализованным, или по крайней мере существенно преображенным то "созерцание форм", бывшее действенным компонентом европейской культуры со времен античности. Одна из "революционных" сторон философии Бэкона и Декарта решительный отказ от "сущностных форм" аристотелевской традиции15. "Каузальность", столь долго бывшая периферийным моментом культуры, стала определяющим. Последнее очевиднее всего предстает в становлении экспериментальной науки и в функциональном методе описаний, сменившем катологизирование отдельных "форм" опыта16. Но вторжение "каузальности" отнюдь не ограничивается рамками науки, речь идет опять-таки о новом жизнечувствии, наиболее полно выразившемся в понятии природы, занявшем одно из центральных мест в новой системе ценностей. С полной определенностью это понятие, в его новой и полемически заостренной интерпретации, было выдвинуто уже Ф.Бэконом ("Введение к истолкованию природы", 1603). Из пространства, вмещающего совокупность априорно известных самостоятельных форм, природа превратилась в единство сущего, связанного непрерывной преемственностью трансформирующегося вещества и непрерывной циркуляцией энергии (пусть даже и механической, казавшейся универсальной формой энергии). Выдвижение понятия природы глубочайшим образом определило и новую постановку нравственных вопросов и новый ракурс социально-политической проблематики. Понимание человека как субъекта природы, получившей функциональную интерпретацию, мыслимой как необъятно простирающаяся непрерывность материи и энергии, вело к утверждению "онтологического" равенства 8 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития людей. Фундаментально важное для предыдущей эпохи разделение на "свое" и "чужое", закрепленное в символах религиозного и государственного порядка, конечно же, не исчезло, но перешло, по крайней мере теоретически, в разряд "вторичных признаков". В социально-политической сфере наметился тот путь, который в конце концов должен был привести уже в следующем веке к "Декларации прав человека и гражданина". В нравственной сфере выдвижение понятия природы вело к утверждению норм "естественной" морали, "естественных" человеческих отношений. Следует заметить, что "естественные", изначальные, присущие человеку чувства и наклонности, часто рассматривались в ту эпоху, как уже включающие в себя склонность к вражде, пагубный эгоизм (Пуффендорф, Гроций, Гоббс). В этом случае узда закона, надеваемая на человека, вступившего в "общественное" состояние, должна была мыслиться как благотворное начало, сдерживающее глубоко укорененные разрушительные силы, как начало иное, внешнее по отношению к природе (речь шла в конечном итоге об особом начале, ответственном за бытие общества, удерживающем его от распада и прямо или метафорически отждествлявшемся с божественным началом). Но смысловой потенциал нового понятия природы как универсального единства сущего приводил все же к нейтрализации опасений по поводу "семян вражды", посеянных в природе (тем более, что концепция этой вражды была тесно связана с идеей "первородного греха", оказавшейся вне магистральной линии секуляризованной культуры). Не случайно представление о всецело благой человеческой природе стало доминирующим в эпоху Просвещения. Думается, что есть основания связывать онтологический приоритет природы и с глубинными изменениями эстетических запросов и художественных вкусов. Само представление о непрерывном развитии внутреннего ряда человеческих ощущений и внешнего потока событий стало складываться именно в этот период, вместо тех дискретных и, обычно, символически осмысляемых положений, из которых составлялась картина мира души и внешнего мира в предшествующую эпоху17. Возвращаясь к исходной культурологической схеме, напомним, что речь пока шла только о выдвижении "каузального" способа видения мира, наиболее отчетливо выраженного в концепции природы, и сменившего ту картину мира, в которой выделялся прежде всего набор дискретных форм, "эйдетический" аспект. Вместе с тем и доминанта бытия, столь важная для средневековой культуры, продолжает оставаться по-своему значимой в XVII веке. Представления о Боге в самых различных смыслах и модусах остаются важнейшими для культуры. Не случайно следующим шагом Декарта после обнаружения достоверности "мыслящего Я" как первого твердого островка посреди "моря сомнения" (последнее сделалось вполне осязаемой реальностью для мысли, осознанно и последовательно отринувшей веру во всякого рода сущностные формы) стало "доказательство бытия Божьего", без которого сам образ мира, выстраиваемый этим Я (декартовская субстанция мысли), оставался бы гадательным, не имел бы твердого устоя. Утверждение королевского абсолютизма, определившее "политическое лицо" века, реализует идею божественного присутствия, единой воли, пронизывающей все общество в некоторых отношениях даже более явственно, чем власть средневого монарха, разделяемая им с иерархией владетельных вассалов18. Соответственно, служение монарху, сосредоточившему в себе все нити государственного бытия, становилось идеальной нормой личного поведения. В то же время оно мыслилось современниками как продолжение традиционной линии рыцарского служения или же как восстановление римских идеалов преданности государству и императору: в любом случае речь шла об акте посвящения своего личного бытия высшей инстанции. Идеальной нормой личного поведения оставалось и иное служение, основы которого были заложены некогда "ересями" средневековья рыцарское служение даме, 9 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития сформировавшее стиль галантных отношений (удержавший, впрочем, "военную терминологию" в качестве непременной метафоры, изящной перифразы19). Во внутреннем единстве с изменяющимися "светскими" ценностями развивалась и религиозная мысль, получившая особое выражение в янсенизме и философии Паскаля. Отказ от схоластического дискурса, оперировавшего "сущностными формами" аристотелевской философии, во многих случаях вел к отказу от религиозного дискурса как такового, но была и совершенно иная тенденция: подобно тому как королевская власть стала реальностью более осязаемой после того, как была устранена властная иерархия феодального общества, представление о присутствии Бога и его непосредственной, личной обращенности к человеку выходило на авансцену духовной жизни, освобожденной от множества "посредующих" инстанций (от догматов томистского богословия у янсенистов или же от реальной церковной иерархии в протестантизме). Именно это делает понятным острый антиномизм Паскаля, увидевшего человека, как существо, пребывающее в зазоре между природой (подекартовски интерпретируемой) и Богом. Заметим, что для Паскаля эта двойственность означает не холодную констатацию положения человека, а нравственный императив, требование удержаться на грани, не впадая в искушение присвоить себе "божественное величие", но и не предаваясь отчаянию из-за затерянности в бесконечности природы и в то же время не уповая на жизнь по одним лишь природным законам20. Паскаль с его философией трагической двойственности, избравший как будто бы совершенно особый и уединенный путь в своей эпохе, едва ли не точнее кого-либо другого выражает ее глубинные тенденции. Природа и бытие как две противостоящие области, задают особую смысловую перспективу, характерную именно для XVII века. В следующее столетие, ставшее веком Просвещения, произошли уже кардинальные изменения: природа стала мыслиться единственной и тотальной субстанцией. Законы, управляющие ею, были приписаны ей самой; одним лишь проявлением природы стала считаться и человеческая мысль. Вместе с тем бытие, переставшее быть атрибутом какой-либо отдельной субстанции, оказалось теперь соединено с природой. Собственно идея прогресса, ставшая обобщающей идеей Просвещения, задана именно этим соединением природы и бытия: человек и общество в их нынешнем состоянии представлялись далекими от своей истинной и благой природы, опутанными сетью "предрассудков". Возврат к подлинной природе должен был необходимо состояться в будущем, ибо природа мыслилась именно под знаком бытия, единой самоутверждающейся субстанции, воли к благу, сокрытой в человеке и обществе, и неумолимо готовящей час своего торжества, неумолимо стирающей "случайные черты", как бы ни были драматичны отдельные эпизоды на пути истории. На исходе эпохи Просвещения, когда идея прогресса терпит крах, возникает культурная ситуация, для описания которой становятся уже принципиально недостаточны категории природы и бытия в их обобщенном толковании. Вместо всеобщей, равной для всех эпох и культур универсалии природы, возникло представление об "историзме", активно утверждавшее особые "конфигурации ценностей", свойственные различным человеческим мирам. Мир стал мыслиться если не как совокупность "сущностных форм", как было некогда до картезианской революции, то как совокупность отдельных "миров" в социальном, этническом и историческом планах, в каждом из которых заданы свои порядки ценностей. Наряду с этим сам человек, отдельная человеческая личность получила "право" создавать свой уникальный образ жизни и картину мира. *** 10 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития Двойственность природы и бытия, двух начал культуры, специфический контраст которых был свойствен именно XVII веку, послужила, как нам представляется, глубинным импульсом нового рождения трагедии. Новое представление мира как единства элементов, связанных каузальными отношениями, как единой природы служит в конечном итоге обоснованием самой яркой из внешних особенностей классицистической трагедии правил "трех единств" и ряда дополняющих их нормативов. Генезис единств, их постепенное оформление в теоретической мысли и в театральной практике, прослеженные в научной литературе21, отнюдь не решают еще вопрос об их внутреннем основании. Именно непрерывность воссоздаваемого в драме универсума, все события которого связаны отчетливо просматриваемыми каузальными связями, более всего отличает классицистический канон от прежних форм драмы, складывавшихся из самостоятельных эпизодов, из ряда разрозненных сюжетных линий. Единства места, времени и действия создали основы сценического воплощения единства мира как природы, столь остро восчувствованного "эпохой рационализма". Заметим, что еще одним требованием классицистической поэтики, столь же непременным как и "три единства" и во многом их дополнявшим, было взаимное перетекание сцен и эпизодов, их логическая согласованность22. Во всем этом следует видеть, думается, не сведение драмы к логической конструкции, не жесткий каркас, в который по прихотливой воле "рационального века" заключена "живая плоть" художественного замысла, но "живую плоть", впервые представшую как органический сгусток, как целостный фрагмент жизни, пронизанный пульсацией внутренних токов. Близость принципов, предписывавшихся поэтикой и во многом реально воплощенных в классицистической драме, к картезианскому миру логического анализа, пересечение сферы понятий эстетики и логики, продемонстрированное некогда Кранцем, означает скорее тождество субстрата, равным образом лежащего в основе художественной и научной мысли мира как природы но не направлений его освоения. "Подражание природе" эстетическая идея, заимствованная у Аристотеля, но связанная в конечном итоге с антиаристотелевским толкованием природы, вело к воссозданию иллюзии природы, в то время как научное картезианское описание шло от природы к схеме и закону, разоблачающим видимость наличной природы. Не только параметры сценического пространства и времени, общие принципы организации действия, но и образы героев резко отличают классицистическую трагедию от предшествовавшей драмы. Если раньше это были самостоятельные фигуры, предполагающие некоторое отвлекающееся от действия созерцание, то теперь драматурги создают персонажей, максимально подчиненных единому действию. Параллель к этому могут составить описанные Г.Вельфлиным различия образов в живописи XVI и XVII веков23. Не случайно пьесы Корнеля и Расина не оставили в культурной памяти, в отличие от пьес Шекспира, отчетливого набора героев, ставших символами важнейших страстей и свойств человеческой натуры, яркими образцами характеров. Своего рода "единицей культурной памяти" является здесь ряд ярких положений, ситуаций, объединяющихся в целостный сюжет, но не самостоятельный образ24. Все это относилось к тем новациям в поэтическом строе трагедии, которые мы связываем с возникновением специфического концепта природы. Но наряду с ними в трагедии присутствовало и иное начало. Возникшая трагедия была трагедией эпохи Абсолютизма. Ее несменяемое единственное место действия соответствует, как правило, "дворцу". Все действие разворачивается в самом буквальном смысле в виду "высшей власти", будь то сам ее носитель или же стоящее за ним "государство". Отношение к этой власти, преданность ей или отвержение ее со стороны подданного, или же толкование и применение ее правителем становятся важнейшими, очень часто 11 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития центральными проблемами в нравственном мире трагедии. Но существует и другая "инстанция", конкурирующая с "властью" в своем требовании всецелого подчинения, личность возлюбленной (возлюбленного), отношения к которой (которому) строятся по законам абсолютизированной галантной морали. Постоянно присутствующее конфликтное напряжение между служением личности, предмету любви и служением власти оттеняет их общий внутренний принцип всецелое посвящение своей собственной жизни Другому, признаваемому подлинным средоточием бытия. Отношения к бытию, выделение объекта, цели служения, наделяющего высшим смыслом личное существование, определяет неизменную перспективу действия. Но та же самая перспектива может перейти и в "обратную перспективу", ибо сама личность, как отмечалось выше, мыслилась изначально причастной бытию, и в ее воле было свое собственное "я" сделать объектом служения, суверенной территорией бытия. И в этом случае тонкая грань отделяла щепетильное отстаивание чести от самоутверждения посредством мести, подчиняющей себе все другие чувства, галантное служение от "присвоения" себе личности возлюбленного (пленницы Андромаха и Юния у Расина, или Антиох и Селевк в "Родогуне" Корнеля, которых стремятся подчинить их мать и невеста, горящие смертельной враждой), служение государству от узурпации "высшей власти" (балансирование на этой черте одна из ведущих составляющих действия в "Горации" Корнеля). Как бы то ни было, бытие непременно раскрывается как волевое усилие, предельное напряжение, собирающее в себя весь потенциал личности героя, помещенного перед лицом небытия, в то подлинно трагическое пространство, где катастрофа неизбежна, даже если она и устраняется непредвиденным для героя стечением обстоятельств в отличие от драмы, где катастрофа мыслится потенциально устранимой, даже если от нее ничто в данном случае и не спасает. Сама героическая смерть спасает нечто, чему герой остается верен. Незримый сгусток душевной энергии, нечто внутреннее и "безвидное" остается нетленным, оставляя бытие тому принципу, образу или высшему символу, которому герой посвятил свою жизнь. Природа и бытие, определяя различные начала классицистической трагедии, обусловливают в конце концов и ту конфликтную ситуацию, которая по-новому разыгрывается в каждой пьесе. "Чувство" и "долг" понятия, сквозь призму которых обычно осмысляется душевная коллизия героев трагедии, в своем эмпирическом бытовании бесконечно вариативны. Но в глубинном своем основании "чувство" как органическая, без контроля сознания возникшая привязанность всегда соотносится с понятийным комплексом природы, "долг" же как сознательное служение тому или иному объекту или принципу, требующее в идеале полного посвящения себя с семантическим спектром бытия. "Чувство" как реализация природы имеет особый смысловой ореол, резко отличающий его от хорошо известного средневековью эгоистического чувства (с неизбежным оттенком греха), или же от платонической любви, возводящей к высшему бесплотному началу, идеалу, также свойственному средневековью, но с особой силой прочувствованному в эпоху Возрождения. В классицистической трагедии чувство это прежде всего внутренняя неразрывная связь любящих или благоволящих друг к другу людей (следовательно, не нечто эгоистическое, не принадлежность одного), понимаемая при этом исключительно в земном плане. Подобный аспект чувства получает и свое лирическое выражение, но особенно важна в драме его сюжетная функция: связь любящих обнаруживает себя как спасительная связь, природа заявляет себя как благое начало, как забота о единстве мира, о его сохранении перед лицом смерти. Границы и социальный потенциал такого чувства заданы с предельной широтой уже первыми двумя трагедиями Корнеля. Любовь Химены в "Сиде" исключительно личное чувство, казалось бы, совершенно невозможное из-за столкновения с жесткими требованиями долга (не внешнего, но добровольно принятого на себя героиней), прорывается сквозь все запреты и несет спасение ее возлюбленному, Родриго, ею же 12 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития самой как героиней долга обреченному на смерть. В "Горации" же чувство выходит далеко за рамки узколичных отношений: Камилла, Сабина, Куриаций воплощают чувство в самом широком плане, как узы, соединяющие близких, родичей, друзей, народ в целом. Это чувство, требующее спасения всех в междуусобной войне, испытанием и пыткой для него становится "величие Рима", сокровенная мощь и даруемая ею "слава", воплощенные в государстве, потребовавшем разрыва природных связей. Представление о любви как о природной связи любящих оказывается часто справедливым даже тогда, когда речь идет о неразделенной страсти. В этом случае особенно острое и трагическое звучание получает мотив ответственности за чужую жизнь, ответственности, переходящий исключительно в нравственный императив, не подкрепляемый какой-либо надеждой на благодарность со стороны возлюбленного (возлюбленной). "Срывы" безнадежно любящих героев, решающихся в какой-то момент на жестокость и мщение, или даже просто медлящих совершить спасительный шаг, еще более оттеняют основное содержание их чувства. Переход от нравственного срыва к состоянию трезвого самоотчета может быть обыгран по-разному: ср. "недоумение" Гермионы, не признавшей в злодеянии Ореста следствий ее же собственного приказа "убить Пирра" или глубокое раскаяние Федры, узнавшей о гибели Ипполита (ср., с другой стороны, образ Антиоха в "Беренике", отвергнутого возлюбленного, идеально исполнившего нравственный долг). И все же далеко не все "несчастливо возлюбленные" классицизма могут быть охарактеризованы подобным образом. То, что в одном случае оказывается "срывом", в другом составляет нравственную доминанту чувства, сводящегося к тираническому отношению к возлюбленному. Именно это чувство легко перерождается в ненависть и беспощадную мстительность (ср. Клеопатру Корнеля, Роксану, Митридата и Нерона Расина)25. Но в данном случае мы сталкиваемся как раз с тем, что понятия "чувство" и "долг" не точно отражают глубинную перспективу конфликта. Тираническое чувство здесь связано с феноменом личностного самоутверждения, присвоенной себе полноты бытия, обычно и по преимуществу реализуемой в сфере "долга". Соединение в одной коллизии, в одном драматическом сюжете по-новому акцентированных "чувства" и "долга", и, главное, сам парадоксальный баланс этих начал, развилка действия, трагическая "амехания", неустранимо пребывающая в мире драмы, все это было интуитивно найдено в корнелевском "Сиде". Здесь был впервые предъявлен канон новой трагедии, смысл которого выходил далеко за рамки формальных требований эстетики, не нарушая их, но раскрывая их внутренний потенциал26. Нежная привязанность влюбленных, дочерние, сыновние, отцовские и материнские чувства, любовь к "своим", где под "своими" понимается уже целый народ примерно так можно было бы выстроить в порядке "частотности" чувства, которые в рамках классицистической трагедии служат выражением природы. Чувства эти задают определенный порядок отношений, связанный с заботой о Другом, нуждающемся в защите и оберегании. Представления о естественном чувстве, формирующие зрительское и читательское ожидание, провоцируют в то же время и ситуацию "нарушенного ожидания", неожиданную демонстрацию полного омертвения природы, когда наступает чудовищный разрыв естественных связей: мать, обрекающая на заклание сына, или же возлюбленная, требующая от жениха убийства его матери, брат, убивающий сестру ("Пертарит", "Родогуна" и "Гораций" Корнеля). Каждый раз в таком случае естественные чувства оказываются совершенно подавлены иными мотивами, связанными с приобщением героя к бытию, будь то служение некой высшей инстанции или непомерно вознесенному собственному "Я". Герой, полностью и исключительно подчиняющийся требованиям бытийственной инстанции все же редкость в трагическом мире. Но каждый раз, однако, она властно 13 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития диктует свои права, права отца, государя, или же их замещает долг героя перед самим собой, гипертрофированная честь подлинность и достоинство всего этого в трагедии XVII века ни в коей мере не подвергается сомнению. Вопрос для героя всегда заключается в том, как выдержать притяжение двух нравственных полей тяготения. Путь трагического героя пролегает в пограничном пространстве между ними, смерть героя или серия смертей наступает тогда, когда становится неизбежен односторонний выбор. Финальная гибель героя не является все же непременным моментом развязки в том случае, если предельное напряжение продемонстрировано и герои готовы к "последним" решениям (как в "Ифигении" Расина). Но сами эти решения, закрепленные или не закрепленные жертвенной смертью, неизменно соединяют в себе вектора двух нравственных сил, формирующих некую уникальную конфигурацию героической судьбы. В данной работе нет возможности более подробно остановиться на особенностях действия и конфликта французской трагедии. Выделим лишь в тезисном изложении некоторые моменты, особенно важные для последующих судеб русской трагедии. Следует отметить, во-первых, принципиальное различие двух индивидуальных систем трагедии XVII века Корнеля и Расина, не раз привлекавшее внимание исследователей. Оно связано безусловно с изменением социально-психологической атмосферы, приведшим к переносу акцента с политической проблематики на личнопсихологические коллизии. Не меньшую роль сыграло различие образования, личного опыта и "душевной предрасположенности" драматургов Корнеля, получившего юридическую выучку, и Расина, столь многим обязанного влиянию янсенистов, богословие которых включало своеобразное трагическое видение судьбы человека27. Но, вместе с тем, в различиях трагедии Корнеля и Расина можно усмотреть и реализацию двух фундаментальных возможностей, заложенных в самой природе канона классицистической трагедии. Трагедия Корнеля связана с акцентацией элементов, восходящих к принципу бытия. Человек Корнеля прежде всего величественная личность. Его "Я" внутренне сомасштабно тому высшему началу, которому оно служит, либо же само для себя становится объектом высшего служения. Проявлениями этого сверхмогучего "Я" становятся волевые решения, последовательность волевых актов, определяющая порядок действия. Сама завязка трагедии Корнеля, как правило, определяется неким замыслом, непреклонным намерением, полагающим начало последующих событий. Предшествующие события, в той или иной мере освещаемые в драме, предопределяют только необходимые внешние рамки действия, но не силы, непосредственно движущие им. Трагедия Корнеля может быть трактована в связи с этим как трагедия воли. Трагически понятая воля, исходящая из таинственной и могучей глубины личностного бытия, таит в себе амбивалентные начала. Она способна в конце концов стать гарантом гармонии мира, исполнения "прав природы" (так после мучительной борьбы Август из "Цинны" Корнеля готов принести себя в жертву ради внутреннего мира в империи), но она же таит в себе и склонность к ревнивому самоутверждению, вносящему раскол в целостность природы. Организованное подобным образом трагическое действие имеет свой античный прототип. Спонтанный импульс воли, непреклонный замысел (обычно преступный и разрушительный) определяли характер действия в трагедии Сенеки, сильно повлиявшей на общий склад трагедии, возродившейся в период Ренессанса. Вообще история древнего Рима и миф "вечного города", продолжавший существовать в сознании и в реальной символике европейской культуры, давали, вероятно, наиболее благодатный материал для художественного воплощения личной воли, упорства, властной решимости и самого принципа возвышенного служения (и его оборотной стороны чудовищной узурпации власти). Не случайно большинство трагедий Корнеля 14 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития разрабатывают сюжеты римской истории28. Так одно из начал трагической метафизики обнаруживает свою связь с римским культурным субстратом. В трагедии Расина на первый план выходит иное начало, природа. "Настоящее время" его трагедий и все происходящее в нем непременно связано с чередой прошлых событий, исподволь готовивших трагический узел. Переплетение причинноследственных зависимостей, собственно, и представляет собой, как отмечалось выше, важнейшую характеристику природы. Именно поэтому ликом природы выступает в данном случае судьба29. Речь идет не о судьбе, символом которой мог бы служить софокловский Эдип некоем таинственном замысле богов, внедренной в жизнь загадке но о судьбе как рефлексии собственной органической включенности в поток сущего, предшествующие течения и повороты которого привели к нынешнему складу событий. В любом случае интерпретируемая таким образом судьба тесно связана с ее античной греческой концепцией30: судьба Эдипа скорее все же исключительная демонстрация самого принципа судьбы как самостоятельного феномена среди иных констант мифологического космоса; во всех иных случаях судьба только один из модусов античного трагизма, выступающий как сплетение обстоятельств, сложившихся или предопределенных задолго до демонстрируемого события, хотя и проявляющихся и раскрываемых именно в нем. Знаменательно в этом отношении то, что ключевые трагедии Расина воспроизводят сюжеты именно греческой трагедии. Если трагедия Корнеля была трагедией воли, то трагедия Расина могла бы быть названа трагедией судьбы (необходимо только снять при этом с понятия судьбы ореол трансцендентной загадочности, отринуть его непременную связь с мистически "странными" сюжетами связь, получившую распространение в эпоху преромантизма и романтизма и определившую, например, такое явление как немецкая "трагедия рока"). Чем ближе по своему душевному складу герои Расина к корнелевским "великанам духа" (а подобные герои есть почти в каждой трагедии Расина), тем очевиднее разнятся связанные с ними сюжетные линии. Так, могучие натуры Пирра и Гермионы ("Андромаха") способны к властным замыслам и сокрушительным действиям, но "поэтизируется" отнюдь не их успех или героическое поражение, как у Корнеля, а беззащитность обоих перед судьбой, выраженной и во внешнем складе обстоятельств и в неподвластных рассудку движениях души, охваченной страстью. Энергия героя трагедии не ослабевает, но приобретает теперь страдательный характер: речь идет не о своевольном начинании, но об энергичном ответе, которого требует сложившаяся ситуация. Сама трагедия начинается у Расина уже не неким решительным замыслом, как это обычно для Корнеля, но событием, замыкающим цепь сложившихся ранее обстоятельств, становящимся роковым в силу того, что оно вбирает в себя всю полноту судьбы (ср. приезд Ореста-посла в "Андромахе" или получение письма султана в "Баязете"). Теперь уже в глубинах самой природы, в неисследимом переплетении исходных связей возникает таинственная двойственность, проявляющая себя и во внешнем облике событий, в заданной конфигурации положений и характеров и во внутреннем течении индивидуальной душевной жизни. "Внешний" аспект судьбы приводит к появлению "агнцев" и "козлищ", героев, которым дарована благодатная взаимность чувства, но обреченных на невинные страдания, и героев, которым суждена самопожирающая одинокая страсть, становящихся и жертвой, и орудием судьбы, губительным для других. Собственная душа также лишь отчасти подвластна самому герою и в ней сокрыты импульсы более могучие, чем индивидуальная воля (наиболее яркие примеры безжалостная мораль императорского двора, отпечатавшаяся в душе юного Нерона вопреки благим усилиям его наставников ["Британик"], или охватившая Федру тяга к кровосмешению, обусловленная причинами, коренящимися в мифологическом прошлом ). Это приводит героя к неожиданным для него самого поступкам, к взлетам 15 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития благотворной духовной решимости или к темным преступным порывам (ср. наиболее контрастные примеры: внезапный приказ Гермионы "убить Пирра", и спасительное решение Береники принять разлуку с Титом). Смена метафизических доминант трагедии от Корнеля к Расину не может, как уже говорилось, быть объяснена одним лишь различием конкретных исторических, историко-литературных и биографических предпосылок творчества. Но в смене этих доминант можно видеть и историческую предопределенность. Доминирование онтологического принципа бытия у Корнеля связано с тем, что принцип этот имеет в данном случае более глубокие исторические духовные корни, нежели принцип природы, возникновение которого или, по крайней мере, выдвижение на авансцену культуры представляло нечто подлинно революционное. Если вспомнить, что именно видение мира как природы сформировало сами внешние формы классицистической трагедии, то становится понятным некоторое напряжение между реализованными творческими замыслами Корнеля и "формальными нормативами", отступления от которых вызвали ряд упреков со стороны "академиков". Перед нами ни в коей мере не преодоление своевольным гением искусственно навязанных ему условий Корнель в конце концов сам вполне последовательно выступал за единства. В некоторых неакцентированных нарушениях им единств "места" и "времени" проступает особая логика: если принцип бытия получает реализацию в образе величественной личности, то столкновение в пространстве трагедии нескольких автономных могучих личностей, требует некоего суверенного пространства для каждого из них. Действие трагедии классицизма, по справедливому замечанию Р.Барта, разворачивается всегда при дверях "покоя", представляющего место обитания власти, чем бы ни был этот реальный покой комнатой сераля, шатром греческого вождя или палатой королевского дворца31. Но, соответственно, несколько центров власти не могут ужиться в одном и том же покое и место действия необходимо мыслится перемещаемым из комнат Клеопатры в комнату Родогуны (в "Родогуне"), из дома Химены в залы королевского дворца (иногда эти переходы весьма резки так, после тайной беседы с Хименой Родриго вынужден в следующей же сцене выйти в иное пространство, чтобы встретить разыскивающего его отца, появление которого в доме Химены было бы немыслимо). Расин не случайно считается драматургом, наиболее органично усвоившим нормативы классицистической эстетики, ибо метафизический принцип природы, получивший первенствующее место в его творчестве, представляет собой именно то начало, которое определило и сами структурные формы возродившейся в XVII веке трагедии. Творчество Расина обозначило точку в истории жанра, в которой потенциал классицистической трагедии реализовался с наибольшей полнотой, с наибольшим "созвучием" формальных и содержательных элементов драматического мира. Особое значение в этом плане принадлежит последней из "светских" трагедий Расина "Федре". В образе самой Федры сходятся те антиномичные черты, которые в предыдущих пьесах Расина были распределены между различными персонажами. К Федре ведут линии одновременно и "темных" и "светлых" персонажей предыдущих расиновских трагедий, "агнцев" и "козлищ". Виновница гибели Ипполита, она причастна к самой жестокой из всех "казней" расиновского театра, в ее страдании есть многое от неразделенной страсти Роксаны или Нерона, изначально превращающейся в преступление, но в то же время по своему лирическому строю образ ее близок образам невинных жертв Расина. Нравственные метания делают ее временами похожей на Гермиону, готовую в самозабвении уничтожить возлюбленного, но, вместе с тем, из всех персонажей Расина Федра в наибольшей степени наделена "светлым мужеством", внутренней решимостью, приводящей к самопожертвованию. "Соединение противоположностей" становится в конечном итоге возможным благодаря усложненной и утонченной семантике трагического конфликта. "Долг", осознаваемый 16 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития героиней, получает смысл исполнения божественного по происхождению нравственного закона (в данном случае он связан с символикой Солнца и света: Федра внучка Гелиоса, последние слова принявшей яд Федры о возвращении миру света и чистоты), закона, глубоко внедренного в человеческую натуру, хотя и не имманентного ей, исполнение которого дело свободной воли. "Чувство" как погруженность в природу ("леса", в которые стремится Федра вслед за Ипполитом-охотником) вызывает сочувствие и обладает эстетической привлекательностью, но заключает в себе и опасную близость к дикому произволу, к архаическому беззаконию. Незначительный шаг отделяет эту воплощенную на "языческом" материале художественную концепцию от концепции греха, укорененного в человеческой природе наряду с искрой божественной благодати, продолжающей светить падшему человеку. Современники, как известно, сделали этот шаг: создание "Федры" послужило примирению Расина с его бывшими наставниками из Пор-Рояля; лидером янсенистов Арно образ главной героини был интерпретирован в христианских категориях, как пример праведного человека, лишенного благодати32. В этой вершинной точке трагедии XVII века имманентная, "растворенная в трагедии" трагическая философия предельно близко подошла к той родившейся в Пор-Рояле философии Паскаля, которая наиболее точно и глубоко выразила нравственные и онтологические тенденции XVII века, сформировав представление о человеке как существе, находящемся в зазоре между природой и божественным бытием. На этой поистине звенящей ноте практически завершается тот ряд трагедий французского классицизма, в котором трагический конфликт неизменно приобретал онтологические параметры. Трагедия Вольтера, давшая новую разновидность жанра в эпоху Просвещения, отказалась от метафизической заданности конфликта. Природа, многоликая реалия, соседствовавшая в XVII веке с иным, также разнообразным по своим проявлениям, началом, квалифицированным нами как бытие, в эпоху Просвещения стала единственной и тотальной парадигмой культуры. Напряженные драматические коллизии стали трактоваться как следствие определенных исторически укорененных "предрассудков" либо опасных движений личного своеволия, подкрепленных к тому же аппаратом тиранической власти, в любом случае, как бы ни были остры эти коллизии в их конкретном выражении, они изображались как порождение "привходящих" обстоятельств, неких изъянов, порчи, поразившей изначально гармоничную природу. Непреклонная воля властителя, древнее установление или религиозный обычай, ревниво отстаиваемое личное величие, даже вырождавшееся подчас в слепую жажду мести, все это в трагедии XVII века могло вызывать у сочувствующего зрителя скорбь и даже негодование, которые, однако, никогда не переходили в конечное осуждение, не придавали драме смысл идеологического памфлета, ибо за всеми этими реалиями сквозил лик иного, надмирного по своей сути начала, пусть зачастую и искаженного. Соответственно, и момент верного служения, исполнения "долга", требуемого этим "сакральным" началом, в трагедии XVII века приобретал безусловное значение. В трагедии Вольтера "долг" при всем уважении, которым по-прежнему оставалось окружено это понятие, не воспринимался уже как нравственное усилие, соответствующее требованию некой самостоятельной и суверенной реальности. Властная воля или "закон", служившие источником долга, могли быть всегда оспорены в зависимости от их соответствия потребностям человеческой природы, которые сводились как правило к свободной реализации чувства и к безусловной ценности человеческой жизни как таковой. Так, героиня "Танкреда" Аменаида отвергает волю отца, обрекшего ее на нежеланный для нее брак ради политических видов "сицилийской республики". И финал трагедии подчеркивает при этом высокую правоту героини, перед которой в конце концов сознают свою вину и ее отец и "сицилийские рыцари". А героиня другой трагедии, Заира, напротив, повинуется дочернему долгу, когда ее отец требует от нее как 17 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития христианки покинуть своего возлюбленного мусульманина; но и в данном случае финальная катастрофа трагедии ведет к осуждению "несправедливого закона", предстающего здесь как религиозный предрассудок33. Все это не означает, что трагедия превратилась преимущественно в драматическое выражение "чувства". В эпоху Просвещения, как уже отмечалось выше, бытие как внутренний принцип культуры было не просто устранено, но интегрировано в рамки природы, отождествлено с ней. Это легче всего обнаружить в деизме Вольтера в том, сколь важную роль играло для него понятие божественного первотолчка: божественный импульс хоть и без остатка растворился в природе, но все же представляет собой логически отделяемое от нее начало, а Бог, хоть и перестал быть объектом молитвы и поклонения, но все же остался необходимым в операционном отношении понятием и необходимой метафорой34. В рамках трагедии это приводило к отчетливому различению активной и страдательной составляющих героического мира. Появились герои, воплощавшие волевой импульс, направленный на сохранение, оберегание природы или же получавший разрушительное применение, будучи связан с некоторым нравственным злом или идеологическим "предрассудком", и герои, заданные как воплощения самой природы в ее страдательной функции, природы как чувства по-преимуществу35. Трагедия приводила в конечном итоге к органической взаимодополнительности этих начал, либо действительно достигавшейся в финале пьесы, либо оставляемой при "трагическом" исходе событий в качестве идеальной возможности, "онтологически", впрочем, более реальной, чем "драматическая действительность", ибо в самой драме непременно были расставлены знаки той просветительской "веры", которая предполагала прогресс как движение в сторону гармонизации природы. Эти взаимодополнительные начала в едином комплексе природы, начало активности и страдательного претерпевания, очень часто отождествлялись с мужской и женской "партиями" в драме. Соединение это кажется вполне естественным и отвечает, вероятно, в некотором отношении исконному для культуры пониманию социального взаимодействия полов, но все же в его возвращении на авнсцену культуры в этот определенный момент есть свои особенности. Следует заметить, что в трагедии XVII века эта "естественность" как раз весьма часто нарушалась: для Корнеля едва ли не норму представляют "мощные" женские характеры, иногда даже подавляющие персонажей-мужчин, да и в трагедиях "нежного" Расина весьма обычны деспотичноэнергичные женские типы Гермиона, Роксана, Агриппина, отчасти к ним примыкает и Федра. Эту общую особенность можно, вероятно, объяснить опять-таки присутствием особого сверх-природного начала бытийственной мощи, ярко проявляющегося именно тогда, когда оно неожиданно обнаруживается в женском характере, обреченном, казалось бы, самим ходом вещей на пассивно-страдательную роль. "Обратная" тенденция в XVIII веке нашла свое высшее выражение в сентиментальной традиции, где столь акцентирована была роль женщины в эстетическом и этическом отношениях: женщина стала идеальной выразительницей нравственности и художественного вкуса именно потому, что "женское начало" мыслилось как некоторое идеальное выражение природы. Следует остановиться также на соотношении классицистической трагедии с сентиментальной или мещанской драмой. Для творцов последней речь шла не только об отвоевании права для нового независимого жанра из статей Дидро видно, что ведущий теоретик драмы мыслил ее во многом как исправление недостатков трагедии. Не случайно возник особый "гибридный" жанр мещанской трагедии, и даже трагедия, сохранившая круг "высоких персонажей", во многом подчинилась "диктату" сентиментальной драмы. Так же как и эстетика Вольтера, драматургические принципы Дидро были внутренне связаны с его философией. В отличие от Вольтера, Дидро, как 18 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития известно, был последовательным "материалистом", что означало прежде всего отказ от деистической концепции первотолчка и веру в движущую силу, имманентную природе36. Представление об энергии, непосредственно слитой с природой и пронизывающей ее, порождает динамическую картину мира, совершенно иную, нежели представление об энергетическом импульсе, направленном на природу как бы извне, хотя в любом случае природа, тем или иным способом приведенная в движение, мыслится целостной и гармонической реальностью, составляющей весь доступный человеку универсум. "Первичные" динамические отношения служат своеобразной моделью, отражающейся в динамике конкретных сюжетов. Трагедия не удовлетворяет Дидро прежде всего из-за своих неизбежных контрастов, переломов, из-за неясностей и двусмысленностей отдельных эпизодов и в силу этого двусмысленности самих образов трагических героев37. Эти контрасты и двусмысленности (заметим, в трагедии Вольтера лишь временные, скоропреходящие!) являются как раз следствием изначально заданной разделенности "активной" и "страдательной" компоненты природы, что порождает коллизии временного непонимания, рассогласования действующих сил или же уклонения "активных" героев от правильного пути, уклонения, объяснимого тем или иным "временным злом": капризом страсти или некритически воспринятым предрассудком. Одним из важнейших требований к драматическому действию, как его толкует Дидро, становится требование развития, последовательного нагнетания чувств при изначальной ясности и прозрачности всей драматической ситуации. Крайне знаменательно в этой ситуации возникновение в драме мотивов неверности, непостоянства, резко контрастирующих с верностью как обязательной добродетелью героев трагедии, прямо или опосредовано восходящей к представлению о преданном служении, посвящении своего бытия высшей инстанции. Появляется образ слабого героя, изменяющего, совершающего преступления против закона и совести, но приходящего затем к раскаянию. Природа, оставаясь неизменно доброй и разумной в своих основаниях, выступает в своей слабости и изменчивости, способности на уклонение от праведного пути. И в этом своем качестве она становится двигателем драмы. Заметим, что различие трагедии Вольтера и его продолжателей, с одной стороны, и сентиментальной драмы, с другой, (в той мере, в какой она выходила к "высокой" проблематике и становилась вообще сопоставима с трагедией) в определенной мере соответствует различию трагедии Корнеля и Расина с той необходимой поправкой, что речь идет о сопоставлении литературных движений и индивидуальных художественных систем. Последовательному выдвижению активного и страдательного элемента драматического действия, восходивших к онтологическим началам бытия и природы в трагедии XVII века (у Корнеля и Расина, соответственно), отвечает последовательная акцентация "активности" и "страдательности" в едином комплексе природы. Каждый раз проступают очертания некоего внутренне необходимого круга развития драмы. Отметим еще одно существеннейшее различие двух эпох развития жанра. Трагедия XVII века при всей глубине, которая может быть открыта в ней философским анализом, не была в собственном смысле слова философской: то, что мы определили как природа и бытие только импликации, позволяющие лучше понять способ выражения страстей, чувств, мыслей героев конкретных сюжетов, логику нагнетания конфликта, архитектонику драмы. Художественная концепция, развивавшаяся Корнелем и Расином, не будучи исключительно замкнутым эстетическим феноменом, выходила в сферы этики и политики, но ни в коей мере не была напрямую связана с определенной философской концепцией. Ближе всего к философской концептуальности, быть может, "Федра" Расина, но не случайно на ее связь с янсенистскими идеями указали только заинтересованные современники. Творцы и Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития 19 теоретики трагедии и драмы XVIII века сами были его ведущими философами. Трагедия Просвещения стала философской: при всем своеобразии отдельных драм, они были непосредственно вдохновлены общей идеологией. Употребление концепта природы в наших рассуждениях оправдано уже тем, что в XVIII веке он стал расхожей монетой, переходя со страниц философско-публицистических статей в проникновенные монологи трагических героев. Но став "философской", трагедия забыла язык той, никогда с полной ясностью не высказанной трагической философии, которая вдохновляла классиков предыдущего века. В завершении этого обзора заметим, что история жанра в его западном, французском по-преимуществу, изводе, необходима для данной темы в особенности потому, что в русском варианте классицистической трагедии получили развитие практически все основные предшествовавшие тенденции. Век Просвещения здесь встретился с веком Декарта и Паскаля, заново востребованы оказались и еще большие глубины жанровой памяти, а между тем сама трагедия стремилась уже в новое историческое измерение. Все это в полной мере может быть раскрыто в творчестве Озерова. Но специфические черты жанра и его философской проблематики сложились еще у российских предшественников Озерова, творчеству которых следует посвятить самостоятельный раздел работы. Примечания 1. В кн.: Ахутин А.В. Тяжба о бытии. М.,1997. С. 117-160. 2. Там же. С. 133. 3. Там же. С. 139. 4. Там же. С. 151-152. 5. Там же. С. 135. 6. "Грек, смотревший трагедию, не переживал пьесу психологически, как современный европеец, и не ценил ее холодным взглядом как критик, но погружался в поток действия и жил в нем вместе со всем народом: трагедия была глубоким коллективным потрясением, когда тысячи людей дышали и существовали в такт друг с другом. Герой трагедии тоже не индивидуалистическое "я", он в своей судьбе выразитель общих интересов, конечного смысла всего совершающегося в жизни..." Михайлов А.В., Шестаков Д.П. Трагедия // Краткая литературная энциклопедия. Т.7. М., 1972. С. 589. 7. См.: Ярхо В.Н. Трагический театр Софокла // Софокл. Трагедии. М., 1990. С. 487. 8. Ошеров С.А.Сенека-драматург // Сенека. Трагедии. "Литературные памятники", М.,"Наука", 1983. С. 127. 9. Внеличностность, космологизм античной культуры и персонализм, принесенный христианством, одна из стержневых идей "Истории античной эстетики" А.Ф.Лосева. Сконцетрированнное, тезисное ее выражение см. в его работе "Двенадцать тезисов об античной культуре" ( Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. М.,1992. Кн.1. С. 314-323). 10. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 30-58. 11. Там же. С. 46-50. 12. Там же. С. 58. 20 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития 13. Речь идет о категории собственно бытия ens (наряду с которым выделялись и подчиненные ему essentia и existentia, "сущность" и "существование") согласно ведущему авторитету средневековой теологии Фомы Аквинскому. 14. О глубинной связи "веры" и "верности", воинского и вассального долга в средневековье см.: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 128-134. Ср. также концепцию Ю.М.Лотмана о "вручении себя" как средневековой системе отношений, копирующей религиозное служение, и противоположной "договорной" системе отношений: "В основе религиозного акта лежит не обмен, а безоговорочное вручение себя во власть. Одна сторона отдает себя другой без того, чтобы сопровождать этот акт какими-либо условиями, кроме того, что получающая сторона признается носительницей высшей мощи." К последним словам автор сделал примечание: "Имеется в виду именно мощь, а не благость, поскольку возможно религиозное служение и злым силам". "Договор" и "вручение себя" как архетипические модели культуры. // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т.3. Таллин, 1993. С. 345. "Высшая мощь", т.е. потенциальная, непроявленная абсолютная сила ближайшим образом связана с тем, что мы обозначаем в данном тексте понятием "бытия". 15. См.: Декарт Р. Рассуждения о методе // Декарт. Сочинения. Т.1 М., 1989. С.155. 16. "Вместе с аристотелевской космологией оказываются в немилости и категории, принципы и эссенциалистские претензии аристотелевской философии. Галилей пишет:" Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным, а затраченные усилия в равной мере тщетными как в случае с удаленными небесными субстанциями, так и с ближайшими и элементарными <...>. Но если тщетно искать субстанцию солнечных пятен, это еще не значит, что нами не могут быть исследованы некоторые их характеристики..." <...> Начиная с Галилея наука намерена исследовать не что, а как, не субстанцию, а функцию" (Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн.3. С. 46.) 17. О дискретности элементов средневекового искусства см.: Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. С.-Петербург, 1995. С. 73-94; при всем различии концепций искусства эпохи средневековья и Возрождения дискретность, независимое множество элементов были свойственны и последнему преодоление этого момента относится именно к XVII веку, см.: "Множественность и единство" // Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб.,1994. С. 273-334. 18. Заметим, что соединение в политической теории идеи "божественной власти" (парадигмы бытия) и естественного равенства (единой природы людей) порождало своеобразного "монстра" метафора, превращающаяся в буквальнейшую реалию в "Левиафане" Гоббса, наиболее последовательном проекте абсолютистского государства. С одной стороны, Гоббс провозглашает общество, которое строится на основе признания безусловного единства человеческой природы (один из законов в государстве Гоббса прямо предписывает каждому человеку признавать другого равным себе от природы), но вместе с тем носитель высшей власти в этом обществе исключен из "общественного договора", из всеобщего равенства он не подвластен законам, но является гарантом их, определяет устойчивость и стабильность государства и полностью сосредоточивает в себе его волю. На территории подобного государства, соответственно, нетерпимы какие-либо "сущностные формы" социального порядка партии, объединения, даже церковь, автономные по отношению к носителю высшей власти. 19. См.: Кадышев В. Расин. М., 1990. С. 72. 21 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития 20. Приведем только выборочные изречения Паскаля о человеческой двойственности: "Не следует человеку думать ни что он равняется животным, ни что он равен ангелам, и нельзя допускать, чтобы он не ведал ни того, ни другого; следует ему знать и то, и другое одновременно." (Паскаль Б. Мысли. М.,1994. С. 79) Эта максима бесконечно варьируется Паскалем, каждый раз обнаруживая новые грани смыслов, ср.: "... одинаково опасно для человека знать Бога, не зная своего бедственного состояния, ни знать свою беспомощность, не ведая Бога." (Там же. С. 208) 21. См.: Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967. С. 153178. 22. См. "Практику театра" Франсуа д'Обиньяка: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М.,1980. С. 320-325. 23. Так, по поводу одного рисунка Дирка Веллерта, рассматриваемого как характерный для искусства XVI века, Вельфлин отмечает: "Побочные фигуры все еще обладают самостоятельностью. Частности, правда, не заставляют зрителя забывать целого, но каждую из этих частностей можно рассматривать отдельно. <...> Сколько фигур, столько и центров внимания. Главная тема, конечно, выдвинута, но все же не в такой степени, чтобы второстепенные персонажи не могли жить собственной жизнью на отведенных им местах. <...> Но насколько иначе построил бы сцену режиссер XVII века, ограничив ее лицами, непосредственно занимающими зрителя!" (Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. С. 291) "Режиссер" и "сцена" в данном случае у Вельфлина только метафоры. Но этот ассоциативный ряд представляется крайне знаменательным, ибо критики, отстаивавшие классицистические принципы в драматургии XVII века, как раз чрезвычайно охотно пользовались "сравнением с картиной", выделяя как необходимое достоинство последней предельную концентрацию на главных персонажах см.: Ж.Шаплен. Обоснование правила двадцати четырех часов и опровержение возражений. // Литературные манифесты... . С. 266267; Ф.д'Обиньяк."Практика театра" // Там же. 323-325. 24. Принципиальная динамичность образов, интегрированных в целостное действие драмы, заставляет усомниться в правомерности понятия "метафизически неизменных характеров", предложенного для классицистической трагедии Е.Н.Купреяновой. Оно отсылает как раз к дискретному набору драматических типов (аналогии "сущностных форм" схоластической философии), характерному для предшествующей драмы. Говоря о персонажах классицистической трагедии, Е.Н.Купреянова выдвигала концепцию "естественных характеров": "Характеры выражают определенную комбинацию отдельных свойств и "способностей" человеческой природы, и эта комбинация, равно как и образующие ее "способности", так же неизменны, как и сама природа. Характеры это те отдельные величины, на которые расчленяется в процессе ее изучения человеческая природа" (Там же. С.14-15). Думается, что ближе к истине суждение Р.Барта: "Это первобытное действо (речь идет о сюжетах Расина, которые Р.Барт возводит к мифологическим архетипам Е.В.) разыгрывают не персонажи в современном значении слова; эпоха Расина называла их куда точнее: действователи (acteurs). Перед нами, в сущности, маски: фигуры, чьи отличительные признаки вытекают не из их гражданского состояния, а из их места в общей ситуации, в которой они заперты." (Барт Р. Человек Расина. // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 153), "В расиновском театре нет характеров <...> Есть только ситуация в самом строгом 22 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития смысле слова то есть положения. Сущность каждой фигуры всецело вытекает из ее места в общей расстановке сил" (Там же. С. 157). 25. Отметим в этой связи "два вида любви", которые находил у Расина Р.Барт, любовь Роксаны и любовь Андромахи, агрессивную страсть и тихое гармоническое взаимное чувство. Барт Р. Человек Расина. С. 149. 26. Критика академиков, обрушившаяся на автора "Сида", была нацелена именно на двойственность между "долгом" и "страстью", переживаемую героями и являющуюся фундаментальной чертой корнелевских персонажей. По крайней мере, к этому сводится собственно эстетическая сторона критики, конъюнктурная и политическая подоплека которой не раз освещалась историками литературы (См.: Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. С. 218-222.) Вместе с тем, как раз введение принципиальной двойственности мотиваций героев ставил себе в заслугу сам Корнель. "Произведение мое, писал драматург в своем "Разборе "Сида"" (1760), отвечает двум основным условиям, которые, на взгляд Аристотеля, обязательны для подлинно совершенной трагедии, но чрезвычайно редко сочетаются как у древних, так и у новых писателей. В самом деле, страсть влюбленной, которая в угоду долгу добивается гибели возлюбленного и в то же время смертельно боится ее, более неистова и пламенна, нежели чувства, обуревающие мужа и жену, мать и сына, брата и сестру; высокая добродетель пылкой натуры, умеющей смирять свое влечение, не заглушая и не подавляя его в себе, чтобы торжество над ним стало особенно большим подвигом, являет собой зрелище более трогательное, возвышенное и привлекательное, чем заурядная добродетель, переходящая порой в слабости и даже в преступления." (Литературные манифесты западноевропейских классицистов. С. 403.) "...смирять свое влечение, не заглушая и не подавляя его" одна из наиболее точных у Корнеля формулировок трагического парадокса. 27. См. например: Butler P. Classicisme et baroque dans l'oeuvre de Rasine. Paris, 1959. Р. 347-377; May Geurges. Tragedie cornelienne. Tragedie rasinienne. Etude sur les sources de l'interet dramatique. Illinois, 1948. 28. Тринадцать из двадцати одной трагедии: "Медея", "Гораций", "Цинна", "Полиект", "Помпей", "Теодора", "Ираклий", "Никомед", "Серторий", "Софонисба", "Отон", "Аттила", "Сурена". В число "римских сюжетов" мы в данном случае включаем не только сюжеты из истории самого Рима и римской империи, но и "Медею", греческий сюжет, воспринятый Корнелем прежде всего в его сенековской интерпретации (ср. негативное суждение Вольтера: "Corneille, malheureusement, a suivi beaucoup plus Seneque qu' Euripide" цит. по: "Theatre complet de Corneille" Paris, 1942. T.1. Р. 440), а также трагедию "Сурена", действие которой происходит в Парфянском царстве во времена его борьбы с Римом и несет на себе отпечаток "римского мифа". С некоторыми оговорками к числу "римских сюжетов" можно было бы причислить и знаменитую "Родогуну". Хотя действие пьесы разворачивается в эллинистической Сирии до ее римского завоевания, но образ главной героини, Клеопатры, навеян во многом "Медеей" и исторической фигурой соименной ей египетской царицы, непосредственно связанной с римской историей. 29. Это "греческое" понимание судьбы Расин отчетливо выдвигает уже в первой своей трагедии, "Фиваиде", в предисловии к которой он обосновывает отказ от римского источника, трагедии Сенеки, и предпочтение Еврипида (Расин Ж. Сочинения. М., 1984. Т.1. С. 35.). "Андромаха", "Ифигения", "Федра" трагедии на греческие сюжеты, ими отмечены важнейшие этапы творческого пути Расина. Это его первая, в полной мере зрелая трагедия, и две трагедии, завершившие ряд 23 Глава 1 Трагедия классицизма: Философия жанра и основные вехи его развития его "светских" пьес. Но и те трагедии Расина, сюжеты которых имеют римский или восточный источник, также опираются на концепцию судьбы, генетически восходящую к древнегреческим образцам. О значимости мотива "судьбы" для Расина см.: Butler P. Classicisme et baroque dans l'oeuvre de Rasine. Р. 240-245; Кадышев В. Расин. С. 37-40. 30. Подчеркивая в античной "судьбе" тот ее аспект, который делает ее выражением природы, универсального единства мира и пронизывающих его причинно-следственных связей, мы следуем в данном случае за А.Ф.Лосевым. Ср.: "Судьба как эстетическая идея есть не что иное, как обоснование видимой, осязаемой, живописно-пластической и блестящей действительности ею же самой, без возведения ее к каким то еще другим более высоким началам"; "... эстетика судьбы у Гомера есть не что иное, как эстетика его довлеющей себе и блестящей действительности природы, общества и богов <...> возводить к судьбе это и значит обосновывать всю непонятную стихийную действительность на ней же самой." (Лосев А.Ф. Гомер. М., 1960. С. 333) Ср. также суждение В.Г.Белинского, сочувственно цитируемое А.Ф.Лосевым: "Что же такое эта "судьба", которой трепещут люди и которой беспрекословно повинуются сами боги? Это понятие греков о том, что мы, новейшие, называем разумной необходимостью, законами действительности, соотношением между причинами и следствием..." (Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т.5. С. 18). 31. Барт Р. Человек Расина. С. 138. 32. См.: Maunier Th. Lecture de Phedre. Paris, 1967. Р. 52-67; Corpus Racinianum. P., 1956. P. 121. Кадышев В. Расин. С. 191-197. 33. См.: Сигал Н. Вольтер. М.-Л., 1959. С. 25-27. 34. Об особенностях философии Вольтера см.: Кузнецов В.Н. Философское творчество Вольтера и современность. // Вольтер. Философские сочинения. М., 1989. С. 5 69. 35. Ср. то подчеркнутое "почтение к богам", которое неизменно высказывает вольтеровский Эгист, герой "Меропы" речь идет отнюдь не о мистическом мотиве, но о метафоре "естественного разума", "активным агентом" которого является этот герой, в то время как его мать Меропа служит как раз воплощением "страдательного начала" природы. Последние слова Эгиста, восходящего на трон вместе со своей матерью: "Соnfident: O roi! venez joir du prix de la victoire; // Ce prix est notre amour, il vaut mieux que la gloirе.// Egisthe: Ell n'est point a moi; cette gloire est aux dieux;// Ainsi que le bonheur, la vertu nous vient d'eux.// Allons monter au trone, en y placant ma mere" (Voltaire F. Oeuvre completes. T.9. Oxford, 1989. Р. 554). Воцарение Эгиста и Меропы получает смысл установления "божественного" царства разума. 36. См.: Длугач Т.Б. Дени Дидро. М., 1975. С. 145-148. 37. Дидро Д. О драматической поэзии // Эстетика и литературная критика. М.,1980. С. 252, 259. 24 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Творчество Сумарокова, ознаменовавшее начало русской трагедии, начиная с эпохи романтизма, неизменно получало в литературной критике едва ли не самую пренебрежительную оценку. Мнение С.Н.Глинки, напоминавшего еще и в 1841 году о "душевном голосе" сумароковских трагедий1, звучало как странный анахронизм. Даже Мандельштам, оценивший глубину драматического творчества Озерова, в том же стихотворении ("Есть ценностей незыблемая скала...", 1914) выставил Сумарокова в совсем малоприглядном свете: "...жалкий Сумароков пролепетал заученную роль" именно на этом фоне особенно чудесным представало "явление Озерова", уподобленное внезапно расцветшему сухому древу посоху пророка. Между тем, именно Сумароковым были заложены прочные и самостоятельные основы русской трагедии. Прежде всего следует осознать меру самостоятельности Сумарокова. Хорошо известно, что одной из основ сумароковского классицизма была ориентация на образцы жанров, панорама которых представлена была в его программной "Эпистоле о стихотворстве". Сумароков активно отстаивал это подражание как подлинное творчество в согласии с традицией, отличное от плагиата. И вместе с тем для него была крайне важна мера подражания, объем подражания, некая интуитивно понимаемая граница, после перехода которой можно уже говорить о творческой зависимости. Отчетливо демонстрирует отношение к подражанию его ответ на критику Тредьяковского: ""Хорев", говорит он, взят весь из Корнелия, Расина и Вольтера, а паче из Расиновой "Федры". Это неправда; а что есть в ней подражание, а стихов пятьшесть есть и переводных, что я и укрывать не имел намерения, для того что то ни мало ни стыдно. Сам Расин, сей великий стихотворец и преславный трагик, в лучшие свои трагедии взял подражанием и переводом из Еврипида в "Ифигению" *** стихов, в "Федру" *** стихов, чего ему никто не поставит в слабость, да и ставить невозможно."2 Интересно, что в другой статье, "Мнение в сновидении о французских трагедиях", Сумароков раскрывает эти звездочки и более пристрастно оценивает соотношение Расина и его источников: "В "Ифигении" и в сей трагедии (в "Федре" Е.В.) больше третьей части переведено из Еврипида. И ежели бы Расин не имел сего в них предводителя, так бы был он еще славнее, а особливо "Федрою"" (Сумароков, IV, 341). Следовательно, при всем достоинстве и правомерности подражания, минимизация его означала для Сумарокова движение если не от недопустимого к должному, то от хорошего к лучшему, "возрастание в славе". Императив выхода из "прекрасного плена" традиции совершенно ясно опознаваем в самом творческом методе Сумароковатрагика. Действительно, как бы ни были значимы источники тех или иных его трагедий, к котором еще не раз предстоит обращаться в дальнейшем, но ни один из них не становится определяющим, канвой, по которой создавалась бы собственная пьеса, ни один из многочисленных сквозных сюжетов мировой драматургии не воплощен Сумароковым, прекрасно знавшим и греческую, и французскую, и голландскую, и немецкую драматургию. "Гамлет" единственная его трагедия на традиционный сюжет, и Сумароков специально подчеркивал абсолютное несходство ее с "Гамлетом" Шекспира3. Дистанцирование Сумарокова от конкретных образцов было, пожалуй, даже подчеркнутым, что особенно ощутимо как на фоне практики современного французского театра, так и в сравнении с его наиболее крупным преемником Княжниным, ориентировавшимся преимущественно на "вечные" сюжеты. В отзыве современного французского критика на "Синава и Трувора" совершенно справедливо отмечалось, что при самом общем подобии сюжетной ситуации этой трагедии некоторым французским образцам "никакого другого сходства не сыщется в них с "Синавом и Трувором"" (Сумароков, X, 213). Безусловно, все это входило в творческую программу самого Сумарокова. 25 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Отказ Сумарокова от воспроизведения конкретных образцов жанра связан с принципиальной установкой. В своей "Эпистоле о стихотворстве" в разделе посвященном трагедии Сумароков приводит знаменательную характеристику "Ифигении" Расина: "Афины и Париж, зря красну царску дщерь, // Котору умерщвлял отец, как лютый зверь, // В стенании своем единогласны были // И только лишь о ней потоки слезны лили." (Сумароков, I, 338) Пассаж о единстве вкуса Парижа и Афин навеян предисловием Расина к "Ифигении". Об этом предисловии и о самой "Ифигении" впоследствии пойдет речь более подробно в связи с Озеровым пока же достаточно отметить, что утверждения Расина и Сумарокова отнюдь не тождественны, несмотря на всю их близость. За ними стоят разные творческие программы, но отнюдь не концепция вечного повторения, однообразия содержаний драм и зрительских реакций. Для Расина "единство вкуса" означало возможность встречи эпох, предполагало трактовку античного сюжета сквозь призму современной экзистенциальной и психологической проблематики, дополнение образа античного героя, домысливание в нем своего современника. Для Сумарокова это единство вело к возможности абстрагирования от того и другого, от "Афин" и "Парижа", и к вычленению структурной основы трагедии. В качестве такой основы выступала отнюдь не тривиальная "форма", связываемая с "единствами" и прочими регламентациями классицистической эстетики, но концептуальная сущность трагедии, ядро трагической проблематики. Именно подобный подход к трагедии составляет своеобразие Сумарокова. Обоснование этого тезиса имеет смысл начать с анализа религиозно-философских установок Сумарокова, позволяющих понять основы "трагического" в его мировоззрении. 2.1. Основы трагического в религиозно-философской публицистике Сумарокова Совсем недавно появилась статья М.Левитта, посвященная драме Сумарокова "Пустынник" (1757), трактующей коллизию отшельнического ухода из мира4. На первый взгляд по своему пафосу и содержанию она выделяется на фоне обычной проблематики драматурга и выбивается из жанрового регистра его творчества. М. Левитт показал глубокое родство этой драмы с трагедиями Сумарокова, их структурное единство и поставил вопрос о самой основе трагического мира драматурга, сумевшего соединить трагедию с христианской драмой. Традиционно приписываемый Сумарокову философский рационализм слишком далеко отстоит от оправдания монашеского ухода из мира, которому посвящена драма. Гипотетически объясняя этот парадокс, исследователь говорит о пессимистичности Сумарокова в отношении возможностей разума, о характерном для его мировоззрения уповании на помощь высших сил5. В целом принимая эти выводы, мы хотели бы уточнить специфику религиозной мысли Сумарокова, позволяющую понять сам сюжет "Пустынника" и его связь с проблематикой "светских" трагедий Сумарокова. Сумароков как мыслитель безусловно религиозен. Природа этой религиозности однако достаточно сложна. Ее нельзя соотносить с древнерусской книжной мудростью, попытки отстаивать которую в XVIII веке означали бы обскурантизм, отрицание всех элементов знания и рациональной мысли, пришедших с Запада. Сумароков, столь активно выполнявший культуртрегерскую роль, был склонен отождествлять новые формы знания и божественную премудрость: "Но что я наукою вообще разумею? вопрошает он. Грамота есть оныя начало: а снискание Логикою, Физикою и Математикою премудрости суть источники оныя, проливающие реки познания, 26 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма добродетели, пользы, а паче всего познания Божества и человечества. Сего великого знания, отличному человеку какова бы звания, и какой бы он ни был должности потребно много. Монарху еще больше: а в совершенстве они только у единого Бога, создавшего вселенную и обладающего ею" (Сумароков, X, 160). Подобное понимание знания и науки, казалось бы, должно было бы привести к деизму или одному из вариантов естественной религии, широко распространенных в просветительской среде: Бог в этом случае должен был быть вынесен за скобки рацио, оставаясь лишь запустившим мир часовщиком или же началом, неразличимо тождественным природе, гарантом успеха разума и торжества прогресса. Но деизм, как и атеизм, представляет как раз предмет ожесточенных нападок Сумарокова. Сумароков безусловно принимает Бога в его христианском откровении. Часто цитируется его отказ от оперирования терминами веры: "Что же будет по кончине нашей? Добрым доброе; худым худое. Не подумает ли кто, что я сим рай и ад утверждаю? Нет, рай и ад до естественного мудрования не принадлежат: а я пишу не об откровении, но метафизичествую естественно, а то дело духовных" (Сумароков, VI, 268). Здесь речь идет не об осторожном и "политичном" отказе от христианской проповеднической традиции, но об утверждении ее посредством разума, об ином ведении дискурса, имеющем в виду тот же предмет. В другом сочинении "О российском духовном красноречии" сонаправленность усилий самого Сумарокова и христианских проповедников предстает более отчетливо: "Красноречие духовных не в истолковании Священного писания, пишет Сумароков, но в проповедовании оного, и в наставлении добродетели ищется; чего ради оставляя религию и катехизис, дело до моего предложения ни мало не принадлежащее, я во Проповедниках вижу собратий моих по единому их риторству: а не по священству..." (Сумароков, VI, 295). Следует подчеркнуть, что в "риторство" Сумароков включает не только формальную науку построения речи, но и проповедание Писания и наставление добродетели, отличные от прямого толкования священных текстов, это со всей определенностью выступает в его собственной публицистике. То, что проповедь христианского богопочитания действительно мыслилась Сумароковым возможной в светской словесности, ярко проявляется в пассаже, посвященном вольтеровской трагедии "Заира": "Видно, что сию сочиняя драму, автор о том имел попечение, дабы Христианский закон утвердити в сердцах наших, и отвлечи беззаконников, сих заблужденных людей от естественного Богопочитания, которые не приемлют Священного Писания <...> "Заира" никогда из моды не выйдет; Христианский закон не исчезнет никогда, по словам вочеловечившегося Бога. Вы сделали великое, по общему христианскому мнению, дело, проповедывая и утверждая Христианство; хотя и думают безбожники, что вы сею прекрасною трагедиею отвлекаете людей от истинного Богопочитания" (Сумароков, IV, 353). Едва ли не гоголевские ноты из его "Переписки с друзьями" слышатся в этом энергичном утверждении Сумарокова! К смыслу самого этого пассажа в отношении вольтеровской "Заиры" еще предстоит вернуться. Выяснение объема и границ понятий "истинного Богопочитания" является, вероятно, важнейшей задачей дальнейшего исследования духовных основ сумароковского творчества. В этом отношении можно только присоединиться к М.Левитту, указавшему на то, что творчество Сумарокова должно быть изучено в контексте русской религиозной мысли XVIII века, собственную связь с которой открыто декларировал сам Сумароков в упоминавшейся выше статье "О российском духовном красноречии". Но определенные контуры сумароковского "Богопочитания" проступают и при имманентном анализе его философско-публицистического наследия. "Богопочитание" Сумарокова центрировано на этической проблематике. В отличие, скажем, от Ломоносова, для которого бытие Творца связывалось прежде всего с величием и совершенством мироздания, для Сумарокова более всего актуален 27 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма известный еще из средневековой схоластики этический аргумент существования Бога: Бог существует, ибо невозможно допустить, чтобы злодейство на земле оставалось безнаказанным6. Эта уверенность в божественном основании подлинной этики и яростная критика атеизма и деизма отнюдь не ведет к простейшей перспективе "должного" и "недолжного", к набору дидактических установок. В самой сфере религиозной этики для Сумарокова разворачивается двойственная перспектива, постоянно привлекавшая его внимание, любовь к Богу и любовь к ближнему. В цитированном выше отрывке этому отвечала двойная "топография" вершины науки "познание Божества и человечества". Оба начала парадигматически связаны и должны быть по божественному замыслу совместны, именно этому посвящено сумароковское "Слово о любви к ближнему": "Весь закон заключается, по словам нашего Законодавца Христа Спасителя, в любви к Богу и ближнему. А сие исполнити не трудно и не ложны слова сии: иго мое благо и бремя мое легко есть" (Сумароков, VI, с.343). Это "не трудно" означает отсутствие внешних препятствий. Но на пути исполнения данной религиозноэтической максимы встают препятствия внутренние: "Не тяжек нам закон наш, продолжает Сумароков, но тяжки нам испорченные наши сердца, так не закон, но сердца наши исправления требуют" (там же).7 Познание Бога, любовь к Богу и любовь к ближнему способны в реальной жизни совершенно разойтись между собой. Мысль об этом постоянно тревожит Сумарокова, рождая серию его антитетических сентенций. "Человек не познающий Бога, пишет Сумароков в заметке "О безбожии и бесчеловечии", не познавает истины, и не может ни малейшия в сердце своем имети добродетели, и презрения достоин. Человек познавающий Бога и противу совести изгоняющий добродетель из сердца своего, достоин еще большего презрения. Безбожие гадко, а бесчеловечие еще гаже. То происходит от ослепленного разума, а сие от ожесточенного сердца. Тот некоторого достоин сожаления, а сей ни малейшаго. Безбожные вредоносны роду человеческому, а бесчеловечные пагубоносны ему" (Сумароков, X,161). Религиозно-дидактический дискурс Сумарокова о любви к Богу и ближнему постоянно подогревался полемикой с просветительским пониманием "естественной добродетели". Его мысль, пытаясь эксплицировать собственную интуицию, приходит к метафорическому утверждению двух начал как двух берегов познания, на одном из которых находятся люди "естественной простоты", а на другом познавшие "премудрость Божию": "Не пустившиеся в море от брега люди видят единый берег; достигшие другого брега люди знают оба берега; а посреди вод без кормила носимые бурею не видят ни единого брега, и заблуждаяся по глубине морской, о первом бреге не мыслят, а другого не знают, и плывя без кормила ждут ежеминутно своей гибели" (Сумароков, II, 344-345). Очевидно, что сама сила, толкающая от брега "естественной простоты" и человечности в плавание, мыслится им в том или ином модусе необходимости. В то же время "видение обоих берегов" для достигших другого берега представляет результат усилия, должно находиться под внутренним контролем, ибо, как было показано, Сумароков сознавал опасность "бесчеловечия" со стороны "познавшего Бога". Таким образом, два берега, необходимость их связи, удержания в едином кругозоре и принципиальная опасность остаться между ними в пространстве бушующей стихии такова структура этического космоса Сумарокова в его метафорическом представлении. Но Сумароков не ограничивался религиозно-дидактическим дискурсом, он пытался перейти и к философско-метафизической экспликации своей этической доктрины. Важнейшей в этом отношении является его статья "К добру или к худу человек рождается". 28 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Статья эта уже привлекала внимание историков литературы. П.А.Орлов, опираясь на нее, пытался обосновать отличие философских установок сумароковского классицизма от позднейшего сентиментализма. На основании высказываний Сумарокова исследователь делал вывод, что для классицизма характерна ориентация на "злое" естество в человеке, требующее узды внешнего закона8. В действительности мысль Сумарокова гораздо сложнее и напряженнее. Он обосновывает двойственность этических начал, восходящую к его размышлениям о двойственности христианской заповеди любви. Следует учитывать при этом неразработанность и эмпиричность его философской терминологии и приемов ведения дискурса, требующих дополнительного усилия интерпретации для выделения мысли, окутанной не вполне адекватным ей покровом слов. Статья Сумарокова предлагает парадоксальный ответ на поставленный в ее заголовке вопрос: "К добру или к худу человек рождается? На сей вопрос ответствую я: к добру и к худу; не иной к добру, а иной к худу; и не частию иной к тому, а иной к другому; но вдруг и к тому и к другому <...> Сей ответ кажется противным рассудку, ибо нет того, чтобы без смешения два противные содержало свойства" (Сумароков, X, 149). Сумароков смещает смысл понятий "добра" и "зла" ("худа"), в обычной установке составляющих полюсы одной непрерывной этической шкалы. Сумароков утверждает принципиальный разрыв между ними, и даже параллельность их проявления. Образ, которым он подкрепляет каскад своих парадоксов "пьяница, лежа в грязи на улице, дает нищему милостину. Действие действию уступает, когда они единым простираются путем, а когда разными, тогда не только согласные купно идут, но и противные, ежели они разноличны. Вдруг и стоять и ходить нельзя. Вдруг и в грязи валяться и милостину подавать можно" (Там же). Эта ситуация противоположности и "разноличности" добра и худа проецируется далее на метафизическую картину, составляющую наиболее глубокое место сумароковской теории: "Добро и худо толико друг другу противны, что хотя они и смешиваются, но никогда соединиться не могут, и средины между добра и худа нет; ибо добро безстепенно, а худо бесконечно. Все наши участные доброты суть участия совершенного добра, и все они совершенны, и естеству нашему не причастны. Худо восходит к добру степенями и час от часу становяся лучше, должно бы было претвориться в добро напоследок, и быти совершенством; но до совершенства достигнути невозможно; ибо не от худа к добру простирается естественное течение, но от добра к худу, хотя мы от естественного худа к добру искусством несколько и возносимся, просвещаяся и очищаяся. Добро в центре и совершенно, а от центра простираются в худо бесконечные линии. Что дале худо от добра, то хуже оно. Совершенство не имеет степеней. Следственно, ничего нет лучше Бога, ибо совершенства лучше быть не может. Несовершенство степени имеет и бесконечно, следственно нет такова худа, которого не было бы еще хуже" (Там же). В этом логически не до конца последовательном и не выдержанном терминологически пассаже характерен незаметный и неакцентированный переход от "худа" и "добра" к естеству и Богу. "Худо" и "добро" слишком резкие и неточные понятия для того комплекса, к которому апеллирует Сумароков. Им описывается уже не столько этическая, сколько онтологическая картина; в непрерывном, бесконечном, качественно неоднородном и переходящем из степени в степень естестве остается неизменный, однородный, бытийствующий центр. Причем центр этот представляется Сумароковым не в интуитивном и мистическом свете, но облечен в твердые и осязаемые формы морального закона, морального знания, в божественность которого он свято верует: "...добродетелью должны мы не естеству нашему, но сей искре Божества, которую мы моралью именуем <...> Мораль есть познание премудрости Божией и вечного устава, покоющегося на неколебимой славе (там же, с.149-150)9. Но если Мораль, "искра Божества" безусловная ценность, то синонимичность естества и "худа" в этом отрывке далеко не следует понимать буквально. Именно в этом 29 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма сказывается неточность языка Сумарокова, отчасти скрадываемая серией оговорок. Если бы естество действительно мыслилось как зло, это означало бы аскетическое размежевание с ним, что менее всего соответствует пафосу Сумарокова: естество, понимаемое в его чувственной оболочке, также входит в сферу ценностей, но важно то, что ценность естества соединяется с представлением о деградации, о движении в сторону все большего "худа", неупорядоченности и потому все, что связано с естеством, именуется обычно у Сумарокова "слабостью". Ценность этой "слабости" гораздо более внятно заявлена Сумароковым в его программной "Оде о добродетели" (1759), варьирующей тот же комплекс мыслей при том, что "добродетель" называется и здесь единой "красотой" и "славой" ("Божественной славой", как уточняется в статье), противостоящей страстям: "Чувствуют сердца то наши, // Что природа нам дала; // Строги стоики! Не ваши // Проповедую дела. // Я забав не отметаю, // Выше смертных не взлетаю: // Беззакония бегу <...> // Смертным слабости природны, // Трудно сердцу повелеть, // И старания бесплодны // Всю природу одолеть; // А неправда с перва века // Никогда для человека // От судьбины не дана"10 (Сумароков, II, 181). Речь идет в конечном счете об испорченности, греховности естества. Но эта греховность естества хоть и пронизывает его, не отождествляется с самим естеством. Разлад, "разноличие" естества и божественной правды и их таинственное единение открывают глубинный трагизм мысли Сумарокова. Онтологические начала этого раздвоения весьма точно отвечают понятиям "бытия" и "существования", скозь призму которых нами был определен конфликт классицистической трагедии в построении Сумарокова присутствует, с одной стороны, вечно тождественный себе центр человеческой личности ( бытие) и бесконечное поле опыта, в котором человек реализует свое природное существование. Далее в той же статье Сумарокова снова варьируется мотив двойственности в нравственной сфере, появляется разделение абсолютной, сверхприродной добродетели морали, и относительной, основанной на естественных расчетах политики. "Политика есть познание премудрости человеческой и временного устава, покоящегося на неколебимой пользе" (там же, с.149-150). И снова делается явной религиознодидактическая основа его этической двойственности заповедь любви к Богу и человеку, соотносимая на сей раз с моралью (в ее абсолютизированном смысле) и Политикою (под которой понимается, собственно, практическая нравственность): "Мораль без Политики бесполезна. Политика без Морали бесславна. Но оба сии познания толико между собою сопряжены, что никаким образом, одно без потеряния славы, а другое без потеряния пользы, разделены быть не могут; ибо угождение Божеству не может быть без угождения человечеству, а угождение человечеству не может быти без угождения Божеству" (Cумароков, X, 150). "Не может" здесь следует понимать, конечно, как "не должно" Сумароков сознавал, как мы видели, опасную возможность автономии "безбожия" и "бесчеловечия". Этический мир Сумарокова антиномичен. Это антиномичность, найденная рациональным, обособившимся от непосредственной традиции религиозной мудрости сознанием, опирающимся, однако, на модель знания, выдвинутую христианством. Чрезвычайно важна та персоналистическая основа этических построений Сумарокова, на которой вырастает такая антиномичность. Речь идет об атомарности, принципиальной разобщенности людей. Размышляя над странным соотношением добра и "худа" в человеке, Сумароков выдвигает ту самую формулу, которая особенно привлекла внимание П.А.Орлова: "Человек рождается ради себя к добру, и ради всякого другого животного к худу" (Cумароков, X, 149). Это означает, собственно, не фатальную обреченность человека на зло, сдерживаемое только внешним законодательством, но одиночество человека перед лицом внутренне присущего ему морального закона; все внешние, межчеловеческие связи мыслятся порождением его 30 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма эгоистических "естественных" устремлений. Чувство представляет собой ценность исключительно в его внутриличностном бытовании. Забегая вперед, можно сказать, что в трагедиях Сумарокова это приведет к полному отсутствию чувства в его модусе материнской заботы, долга, как ответственности, порожденной органическим единством с другим. Это особенно разительно будет отличать драматургию Сумарокова от последующей драматургии, вобравшей сентиментальные и преромантические мотивы энтузиастического чувства, становящегося основой добродетели и морали. С другой стороны, очень важно, что сфера добродетели, морального долга у Сумарокова построена исключительно на "законнических" основаниях. Милосердие, превышающее требование справедливости, способность безоговорочно простить преступника, мотив чрезвычайно важный для всей послесумароковской трагедии, у самого Сумарокова отсутствует или же существенно модифицирован. Отсутствие его опять-таки принципиально: Сумароков не раз в своих статьях и заметках возвращался к теме наказания преступника, и это наказание видится ему необходимым и даже "божественным" именно как "отмщение за невинных, хотя бы казнию другие беззаконники и не отстращалися" (Сумароков, VI, 279). Это приведет, в частности, к тому, что отмщение у Сумарокова в его "Гамлете" центральный мотив, определяющий долг героя, в других трагедиях маргинальный и преходящий вовсе не мгновенная аффектация, как у Расина, и не демонстрация непоколебимой мощи личного величия, как у Корнеля и, впоследствии, у Княжнина, но просто непреложное требование морали, бесстрастное веление начертанного в сердцах закона. Одиночка, представляющий "человека вообще" основа этических построений Сумарокова. Этот мыслительный концепт открывает путь притчи, равно приложимой к жизненной коллизии любого человека. В герое сумароковской трагедии воплотится именно этот персонаж. Онтологическое одиночество личности, резко заявленное в его публицистике, приведет к отсутствию "валентностей", необходимых для того, чтобы персонаж мог стать героем конкретного сюжета и конкретной эпохи. Но в трагической притче Сумарокова будут открываться различные аспекты, только намеченные в его публицистике и обнаруживаемые самим опытом художественного воплощения трагедии. 2.2. Апория любви к Богу и к ближнему После экскурса в область этических построений Сумарокова имеет смысл обратиться непосредственно к его драматургии, и прежде всего вернуться к драме "Пустынник", проблематика которой вывела нас к религиозно-дидактическим началам сумароковской этики. Основная религиозно-этическая тема Сумарокова любви к Богу и к ближнему впрямую звучит в этой драме, определяет ее конфликт и ее пафос. Для понимания ее совершенно недостаточно представления об уходе ее главного героя Евмения из "мира" как об акте пессимизма, как об однонаправленном движении, которому препятствуют его близкие. Тема мира и Бога в их реальной антитетичности и одновременно внутренней непротиворечивости задана сразу же в начальном монологе Евмения: "Прелестна жизнь; однако и насчастна, // Для нас, не ради бед земля сотворена; // Но нашим промыслом бедам покорена. // Повергли идолов в стране мы сей прехвально; // Однако и поднесь еще живем печально // Нам чистый дан закон, // Но мы не делаем, что предписует он. // Грехами поражены, // Мы в тину прежнюю глубоко погружены." (Сумароков, IV, 283-284) Дело здесь вовсе не в соединении просветительских установок потенциального совершенства мира и "давнишней религиозной темы греховности", как комментирует это место М.Левитт11, предполагая, по-видимому, неосознанную противоречивость 31 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма самого Сумарокова, но в сознательном задании двуполярной перспективы мира, удержание которой становится задачей героя и определяет логику дальнейшего драматического действия. Друзья Евмения, его брат, родители и, наконец, супруга молят его вернуться к прежней жизни. Аргументы их М.Левитт характеризует (правда, с некоторой осторожностью) как деистические12: "Внимая неба глас, внемли ты глас природы; // Сам хочет Бог того и всей земли народы. // Я знаю то и сам, что наше естество // Во основании имеет Божество. // Но что и сам Содетель, // В сердца посеял нам святую добродетель; // Котора к должности безбременной зовет; // Противу строгости на небо вопиет..." (Сумароков, IV, 294-295) В действительности здесь речь идет не о столкновении "деизма" и "аскетической" религиозности, но, говоря словами самого Сумарокова, о "естественной простоте, показующей нам довольно бытие Божие" (Сумароков, II, 344), о первом "береге" человеческого познания и бытия (вспомним приведенную выше цитату). Сам же Евмений познал "чистый закон", пришел, говоря словами той же статьи Сумарокова "О любви к ближнему" "ко ясному о пребывании и величестве Божием понятию", к иному берегу бытия, между которыми простирается бушующее море. Задача Евмения, собственно, в том, чтобы, будучи на "том" берегу, удержать в сердце прежний. Сочетание любви к Богу и ближнему становится основой позиции Евмения. Причем, как и в статьях Сумарокова, речь идет не только о двойственности заповеди любви, но о иерархичности ее составляющих Бог не тождествен природе, не слит с ней (как не слита с любовью к ближним и любовь к Богу), но отделен от природы и иерархически возвышается над ней. Именно вокруг слитности или иерархичноской разделенности этих понятий выстраивается спор Евмения с его близкими. Так, брат Евмения Виссарион упрекает его за его уход: "Творец и ближнего любить повелевает, // И ону в нас любовь природою всевает. // А ты противишься и сердцу и уму // Природе и Ему // Евмений: Противлюся природе // И больше не хочу в коварном жить народе; // А богу никогда не воспротивлюсь я: // Ему посвящена навеки жизнь моя. // Я вас люблю и оставляю в плаче, // Вина тому, что я усерден Богу паче." (Сумароков, IV, 288) Здесь важна одновременность этого "вас люблю" и "противлюся природе" принятие заповеди любви к ближнему, но не смешение ее ни с приверженностью природе (первому берегу), ни с любовью к Богу. Сам уход Евмения в пустыню вовсе не означает скептического пренебрежения, осуждения всей прошлой жизни и оставленного им мира, стремления к забвению его в одинокой молитве. Наоборот, герой не принимает упреков в забвении, с которыми обращаются к нему его друзья и родные: "Афиноген: Пребыти хочешь ты во век неколебим! // Исидор: И хочешь позабыть ту, кем ты толь любим! (отходит), последняя ремарка, не вызванная сюжетной необходимостью, знаменательна по существу, ибо мирской человек, друг Евмения Исидор, остается уверен в правильности своего упрека, не слыша последних слов Евмения, отвечающего ему: Евмений: Хотя не забываю, // Но в мыслях я своих недвижим пребываю." (Сумароков, IV, 286) В дальнейшем этот отказ от забвения повторяется в драме и при встрече героя с родителями. В финале пьесы наступает мгновение, когда дистанция между природой и Богом грозит стать пропастью, "бушующим морем", готовым поглотить героя его супруга Парфения не принимает разлуки и готова поразить себя кинжалом на глазах Евмения, но тот вырывает кинжал, заносит его над самим собой, произнося короткую смятенную речь о внезапной погибели собственной души, свергающей себя во ад. 32 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма На этом заключительном эпизоде стоит остановиться и присмотреться к казалось бы несложным мотивациям героев. Подобное покушение на самоубийство, осуществленное или же отведенное дальнейшим ходом событий, составит сюжетный центр в большинстве трагедий Сумарокова. Мотивы Парфении здесь представляются ясными это отчаяние страсти, столкнувшейся с упорством возлюбленного, от которого она полностью зависит, и, вместе с тем, отмщение, обличение его жестокости. Сложнее обстоит дело с Евмением. Его покушение на самоубийство кажется совершенно искусственным приемом: он абсолютно свободен в своем решении, в его власти либо ответить на призыв супруги, либо, подтвердив свой отказ от нее, оставить ее судьбу на волю Божью. И действительно, отвечая на упреки Парфении, Евмений призывает ее забыть супружеские узы, принимает позицию холодного советчика, утвердившегося в своем аскетическом выборе: "Коль я тебя лишил всея твоей забавы // И мил тебе еще, тебе в том больше славы." На что следует возмущенный ответ самой Парфении: "О коль бесчеловечно // Имеешь сердце ты!" (Сумароков, IV, 299) После этих слов Парфения как раз и поднимает на себя кинжал. Именно здесь опасность "бесчеловечия" и "ожесточения сердца" со стороны "просвещенного Богом разума", о чем писал Сумароков в цитированной выше статье, становится наиболее явной. И именно этой возможности не дает состояться Евмений, рискуя даже спасением собственной души. В системе двоичного выбора по принципу "или-или", или Бог или "естественная" жизнь, попытка самоубийства Евмения абсолютно неадекватная реакция. Понять ее можно только через центральную идею Сумарокова стяжание единства двух начал, предстоящих человеку. Самоубийство это негативный способ утверждения своей особой позиции в уравнивании начал в соответствии с максимой "не могу ни без того, ни без другого". Мгновенно возникший мотив самоубийства тут же сменяется молитвой, внезапно осеняющей и Парфению и Евмения благодатью отчаяние Парфении также сменяется решением покинуть мир, уйти в молитвенное отшельничество. Оба героя соединяют обет отшельничества с обязательством памяти и молитвы друг за друга положительный способ удержания двух начал, "единых в Боге". Тем же разрешается коллизия Евмения и его родителей: "А я хотя вас зреть не буду никогда // Вас буду вспоминать пред Богом завсегда," это последние слова драмы, подводящие ее нравственный итог (Сумароков, IV, 302). Уход героя из мира, т.е. из общества близких и любящих людей, посвящение себя Богу окончательно утверждается как соединение в Боге себя и мира. Интерпретация "Пустынника" с учетом сумароковской публицистики отнюдь не решает еще вопроса о непосредственных причинах обращения драматурга к религиозному сюжету. В этом отношении проблема, поставленная М.Левиттом, остается открытой. Но в любом случае, эта драма, отделенная от первой трагедии Сумарокова десятью годами, помогает понять общий философский контекст его трагической драматургии. "Пустынник" служит как бы соединительным звеном между религиозно-философской проблематикой статей Сумарокова и "секулярной" по преимуществу сферой мотивов его трагедий. Сама возможность подобного перехода от одной сферы к другой и его относительная легкость обусловлены тем, что сфера Бога и "сакрального" для Сумарокова почти однозначно выражается в понятии "закона" столь существенный для христианства момент как различие "закона" и "благодати" явно вне его поля зрения. В этом смысле "закон", служащий источником "долга" в трагедиях Сумарокова, близко подходит к тому "чистому закону", которому посвящает себя Евмений. Важно подчеркнуть, что не Бог и сакральное сводятся Сумароковым к этико- 33 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма правовой категории (это означало бы движение в сторону естественной религии), но, наоборот, закон отчетливо продолжает ощущаться как внеприродная, божественная реалия. Сам конфликт трагедии, конфликт между "законом"-долгом и страстью, чувственной привязанностью, служит у Сумарокова выражением основной дилеммы христианской жизни любви к Богу и любви к человеку. Именно благодаря этому становится понятно парадоксальное на первый взгляд суждение Сумарокова о вольтеровской "Заире", фрагмент которого мы уже приводили: "Вы сделали великое, по общему христианскому мнению, дело, пишет Сумароков, обращаясь к Вольтеру, проповедывая и утверждая Христианство; хотя и думают безбожники, что вы сею прекрасною трегедиею отвлекаете людей от истинного Богопочитания, и уже зараженных людей, еще заражаете. Ежели бы вы были Деист, так бы я в вечном остался неведении, ради чего вы сию Трагедию сочинили. А зная, что вы Христианин, ведаю и то, что вы ее сочинили, умножая нашу ко Христианству верность" (Сумароков, IV, 353). В "Заире", где христианский долг препятствует юной героине вступить в брак с ее возлюбленным Оросманом, гуманным государеммусульманином, трагический конфликт хотя и был лишен утрированной публицистичности, безусловно осмыслялся самим Вольтером как следствие религиозных предрассудков13. Конфликт, как и обычно у Просветителей, указывал на недопустимое и недолжное противоречие, открывающее простор для социальноидеологической критики. Сумароков же интерпретировал его в плане сущностной антиномичности, укоренной в самом христианстве. Заира, падающая от руки ревнивого Оросмана, ослепленного ложной догадкой о ее неверности, сохраняет верность отцухристианину и целомудренную любовь к Оросману. В этом, вероятно, и нашел русский трагик отражение двойственной истины христианства любви к Богу и человеку, сочтенной им вершинным смыслом вольтеровской трагедии. Заметка о "Заире", входящая в его "Мнение в сновидении о французских трагедиях" как нельзя лучше свидетельствует о том высоком религиозно-философской регистре, в котором воспринималась и творилась им трагедия. По публицистике Сумарокова можно заметить, что и к собственным вполне "секулярным" трагедиям он сохранял особое отношение как к сфере освященной, как к сакральной истине. Именно цитаты из собственных трагедий наполняют его статьи, служа комментарием и подтверждением моральных сентенций. Знаменателен при этом сам способ подачи собственных цитат. Ограничимся одним, быть может наиболее ярким примером. Цитированная уже статья "О безбожии и бесчеловечии" завершается таким пассажем: "Неправде свойственно противу естественного устава нападать, а правде свойственно по естественному уставу обороняться <...> От сего часто в мире происходят жестокие раздоры, и еще жесточе, хотя и реже, между друзей и сродников, да сбудутся из "Синава и Трувора" стихи мои: Друзья против друзей, родня против родни, // Восстали разрушать благополучны дни." (Сумароков, X, 152) Нетрудно заметить в экстатическом завершении этого пассажа сознательную параллель с формулами введения в текст евангельских пророчеств ("Сие же все было, да сбудутся писания пророков" (Мф., 26,56)).14 2.3. "Хорев": проблема рецепции Сумароковым трагедии французского классицизма Прежде чем задаться более общим вопросом о мере и границах усвоения Сумароковым традиций французской трагедии, имеет смысл обратиться к первой его трагедии "Хореву", в котором уже во многом сложился его самостоятельный стиль и внутренняя проблематика. 34 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Фабула "Хорева" хрестоматийно известна. Хорев, брат правителя Кия, и Оснельда, пленница Кия, дочь свергнутого им Завлоха, связаны узами любви. Действие начинается с объяснения любовников, над которыми нависла угроза разлуки, ибо к Киеву подступает Завлох, требуя возвращения дочери. Хорев и Оснельда надеются примирить враждующих правителей, вступив в брак, для чего тайно отправляют письмо Завлоху, испрашивая его согласия. Их разговор слышит и превратно толкует Сталверх, вельможа Кия, сообщающий государю об измене Хорева и Оснельды. Кий начинает подозревать Хорева, но посылает его на битву с Завлохом. Подозрения Кия превращаются в уверенность, когда он, опять же через Сталверха, узнает о посланном письме. Кий в гневе подносит Оснельде чашу с ядом; Хорев же вскоре возвращается с победой и с пленным Завлохом. Узнав о смерти Оснельды, он вонзает в себя меч. Кий остается в глубоком отчаянии. Интерпретация "Хорева", сложившаяся в научной литературе исходит из общего представления о дидактичности, прямолинейной нравоучительности русского классицизма. Так, в ряде работ Ю.В.Стенника утверждается, что содержание "Хорева" сводится к предостережению "монархов против слепого следования советам злодеев и льстецов, стоящих у трона." Под последними подразумевается Сталверх, в лице которого, по утверждению исследователя, "воплощены те силы, с которыми должен бороться монарх и которым истинный глава государства не должен дозволять овладеть собой"15. Получается, что причины конфликта сводятся к злой воле Сталверха, подчинившего себе слабого правителя. Текст трагедии не дает, однако, оснований приписывать Сталверху сознательное коварство; из его речей можно понять лишь то, что вводя в заблуждение Кия, он равным образом заблуждается и сам. "Обличаемому" монарху не приписано никаких резких негативных черт и сам он оказывается в положении жертвы. Нельзя сказать, что исследователи не чувствовали здесь противоречия общей концепции и конкретного образца жанра. Многие, начиная с Г.А.Гуковского, отмечали неадекватность этой трагедии дидактической концепции жанра, но подобную несогласованность объясняли, обычно, как несовершенство первого опыта в новом направлении16. Заметим сразу же, что оговорки исследователей о "идеологической нечеткости" будут сопровождать все наиболее интересные трагедии русского классицизма наряду с ранними трагедиями Сумарокова "Дидону" Княжнина и его последние пьесы "Софонисбу" и "Вадима Новгородского", "Поликсену" Озерова. Все это заставляет заподозрить систему, скрывающуюся за "случайностями". Коллизия "Хорева" более отчетливо может быть понята на фоне его непосредственных источников. Сюжет "Хорева" подсказан двумя знаменитыми французскими трагедиями "Брутом" Вольтера и "Митридатом" Расина. Исследователи уже указывали на эти источники, не анализируя, однако, их преломления у Сумарокова17. Оба эти пьесы довольно подробно разобраны им в очерке "Мнение во сновидении...", что дает дополнительные возможности интерпретации "Хорева". "Брутом" задана сама коллизия Хорева и Оснельды. У Вольтера Тит, сын римского консула Брута, влюблен в Туллию, дочь последнего царя Рима Тарквиния, который требует возвращения своей дочери и осаждает город. Сумароков не скрывал того, что многим обязан этой трагедии Вольтера. Высоко оценивая ее в своем "Мнении...", он особо отмечает пятое явление третьего действия: "Восхищение и поражение сим явлением моего сердца, препятствуют устам моим изобразить чувствие души моей, и жертвовати похвалою Французскому Софоклу, Расинову, Метастазиеву и может быть и моему совместнику, которому я еще больше должен, нежели Расину (Сумароков, IV, 351). Стоит обратить самое пристальное внимание на эти слова Сумарокова, имеющие значение как для всего его творчества, так и конкретно для данной трагедии. В сцене, восхитившей Сумарокова, содержится эпизод получения 35 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Туллией письма от отца, требующего ее возвращения, и объяснение влюбленных все это имеет близкую параллель в "Хореве". Тит ввержен здесь в переживание жесточайшей двойственности. Именно эти поэтические формулы особо выделяет Сумароков: "Le sort, dont la rigueur a m'accabler s'attache, // M'a montre mon bonheur, et soudain me l'arrache; // Et pоur combler les maux que mon coeur a soufferts, // Je puis vous posseder, je vous aime, et vous perds" (там же, с.351). ("Судьба, суровость которой неизменно угнетает меня, дала мне увидеть счастье и внезапно вырвала его из моих рук; и в довершении всех бед, которые выстрадало мое сердце, я могу обладать вами, я люблю вас и вас теряю" франц.) Немало схожих моментов можно отметить и в речах сумароковского Хорева, особенно в 3 явлении первого действия и 3 явлении третьего действия, где повторяется ситуация с письмом. Но все же "Брут" отнюдь не определяет даже основных действенных пружин "Хорева". Коллизия "Брута" состоит собственно в преступлении Тита, под гнетом невыносимого выбора принявшего, правда лишь на какое-то мгновение, сторону врагов республики и тем самым заслужившего казнь. Хорев, как и Оснельда, не выбирает между "долгом" и "страстью", но полон решимости соединить их либо своей смертью, либо примирением противников. Причины трагической катастрофы связаны с другими персонажами, Кием и его вельможей Сталверхом, обманувшимися в отношении Хорева и Оснельды. Именно в образе Кия воплощена активность, влекущая действие к трагическому финалу. Все это восходит к комплексу мотивов расиновского "Митридата"18. Митридат Расина восточный деспот, величественный в своих воинственных замыслах, самовластный, подозрительный и коварный в отношении своих ближних. Подозрительность заставляет его видеть врагов в собственной невесте Мониме и в преданном сыне Ксифаресе. Чаша с ядом, которую Митридат отправляет Мониме, эффектный мотив, использованный Сумароковым. Митридат отсылает яд Мониме, будучи убежден , что она и Ксифарес вступили в сговор с его врагами римлянами, не ведая о том, что как раз в это время верный своему долгу Ксифарес отражает натиск Римлян. Все это повторяется в коллизии "Хорева". Можно указать и множество текстуальных параллелей между этими трагедиями. Но Сумароков не принял в "Митридате" самой логики характера понтийского владыки, "темного персонажа" Расина с его вероломством и сознательным провоцированием лояльных к нему героевлюбовников. В разборе этой трагедии Сумароков резко отрицательно отзывается о третьем действии, где Митридат разыгрывает перед Монимой лицемерное согласие на ее брак с одним из сыновей, выпытывая признание в любви: "Сие Действие мне не нравится, пишет Сумароков, хотя стихи и хороши: и вся сия завязка принадлежит Комедии, да и то характерам нижняго рода, а не Трагическим Героям" (Сумароков, IV, 333). Если бы действительно тенденция Сумарокова состояла в морально-политической дидактике, нацеленной на критику правителя-тирана, как обычно представляется в работах по русской трагедии, то нетрудно предположить, какое развитие мог бы получить образ Митридата, далекий от публицистичности у самого Расина, но легко интерпретируемый в ключе просветительской литературы, облюбовавшей "восточную тему". Между тем у Сумарокова все явные и недвусмысленные черты правителядеспота устранены. Драматург отталкивается в то же время от одного периферийного мотива Расина и развивает его. В "Митридате" есть приближенный царя Арбат, верный ему, сочувствующий и Ксифаресу, но сохраняющий осторожность и объективность суждений. Когда в конце IV действия Митридат узнает о приближении римлян и мятеже Фарнака, другого своего сына, он посылает Арбата за помощью к Ксифаресу, но слышит от него предостережение: " J'ignore son dessein. Mais un soudain transport // L'a deja fait descendre et courir vers le port. // Et l'on dit que suivi d'un gros d'amis fideles, // On 36 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма l'a vue se meler au milieu des rebelles. // C'est tout ce que j'en sais."19 ("Мне неведом его замысел. Но охваченный внезапным воодушевлением он спустился [на берег] и ринулся к порту. И говорят, что видели, как он, сопровождаемый большой группой друзей, смешался с толпой мятежников. Вот все, что я об этом знаю" франц.) Неясность этого сообщения тут же толкуется Митридатом как доказательство предательства Ксифареса, он решает казнить обоих сыновей и отдает приказание подать яд Мониме. По-видимому, именно к Арбату восходит образ сумароковского Сталверха. Сумароков воспроизводит как сюжетообразующий этот периферийный у Расина мотив неполного знания и пристрастного и поспешного суждения, возникающего на его основе. Первая русская трагедия стала трагедией дознания, испытания истины. То, что Сталверх и Кий обманываются в отношении Оснельды и Хорева может быть cочтено, с нашей точки зрения, результатом случайности, случайной неполноты информации. Тогда смысл всего трагического действия обесценивается, становится следствием искусственной уловки, призванной создать мелодраматический эффект. Но в собственной философской системе Сумарокова эта невозможность адекватного знания имеет принципиальное значение. "Здравым рассуждением приближаемся мы к центру познания", писал Сумароков, но до самого центра "смертные никогда не могут коснуться" (Сумароков, VI, 317). Это гносеологическое разделение центра познания и рационального пути, направленного к нему, но его не достигающего, служит лишь отражением рассмотренной ранее онтологической и одновременно этической модели Сумарокова (божественная искра, "добро", центр мира и человеческой души и протяженное "естество", восходящее к "добру", но не доссягающее до него.) Этика перерастает в гносеологию и на поле трагедии. Принципиальной становится сама дистанция между двумя суверенными личностями. При всей кажущейся простоте сумароковского рационализма следует учитывать неоднозначность и противоречивость его представлений о любви основе комплекса чувств во всех его трагедиях. С одной стороны, любовь это, по Сумарокову, естественное чувство или, по крайней мере, укорененная в природе и простительная слабость, и Сумароков-трагик, как и Сумароков-автор огромного числа песен продолжает апологию "сладкия любви", начатую еще Тредиаковским20. Но вместе с тем, существует у него и иная сторона понимания любви, ибо "человек рождается ради себя к добру, и ради всякого другого животного к худу". "Дружимся и любимся мы ради самих себя. Другого любим, любя себя, ненавидим, ненавидя его" (Сумароков, IV, 149). В сумароковских художественных текстах эта жесткая концепция любви означает, что любовь, даже разделенная, остается только внутренним переживанием. Неизменно подчеркивается дистанция между двумя любящими, незримая граница и предел взаимного понимания, иногда, как мы увидим впоследствии, играющие важную в сюжетном плане роль. В этом отношении характерна сцена затрудненного понимания в объяснении Хорева и Оснельды: "Хорев: Вещаешь о любви ты, только мне маня! // Оснельда: Как я тебя люблю, люби ты так меня // Или не верь, имей неправедные мысли // И мне еще сию беду к бедам причисли. // Каких ты требуешь свидетелей глазам, // Когда не веришь ты ни стону, ни слезам?! // Хорев: Чего желается и что нам столь приятно, // То кажется всегда нам быть невероятно // И зрится, как во сне. Но, о престрашный сон! // Какое множество в сем счастии препон!" (Сумароков, III, 10) Все это представляет разительный контраст с тем энтуазистиченским ощущением единства природы единства любящих, которым была проникнута драматургия Просвещения. Уже у Княжнина, преемника Сумарокова, мы увидим совсем иное: угадывание несказанного слова и жеста в разговоре, признание в душевном единении, в слиянии всех помыслов и чувств... 37 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Это принципиальное одиночество любящего человека приводит и к специфической логике развития любовного чувства. Так, в третьем действии "Хорева" отчаявшаяся Оснельда, получив в письме запрет отца на ее брак, пытается заколоться. Ее наперсница Астрада, отнимая кинжал, напоминает ей первым делом о том, что Хорев покончит с собой вслед за ней. Но этот аргумент, касающийся другого, который мог бы быть решающим, тем не менее как бы "не расслышан" Оснельдой, задающей Астраде абстрактно-недоуменные вопросы: "Почто мои стези ко смерти препинаешь? // Иль кажется тебе, что мало в жизни мук?" (Сумароков, III, 27) мотив, повторенный потом во многих трагедиях Сумарокова. Следующий аргумент Астрады стыд самоубийства, опять же отклоняется Оснельдой; тогда наперсница апеллирует к терпению, ибо Хорев в конце концов должен наследовать престол Кия и соединиться с Оснельдой. Но Оснельда отвечает на это характерной репликой: "Хорев моим не будет // И, упования лишась, меня забудет, // А честь владычества с иною разделит. // Но ах! не то, не то стонати мне велит. // Не скипетр, не венец мне льстит в отцевом граде, // Я с ним готова б жить была в убогом стаде, // Питаться былием, едину воду пить // Хотела одного чтоб только с ним мне быть" (там же). Иными словами, героиня как бы пренебрегает глубиной чувства Хорева и не терзается даже ревностью, представляя его возможную измену, а единственной причиной своего отчаяния признает крушение своей собственной, автономной мечты о любви. Но если дистанция понимания существенна и между любящими, то тем более глубока она при человеческих отношениях иного порядка, даже между честным и рассудительным правителем и его подданнным. Образным эквивалентом и "резонатором" этической дистанции становится в этом ряду отношений физическая дистанция, пространственная и временная, вызывающая необходимость посредников, которые, в свою очередь, лишены полного знания: Сталверх слышит издали с определенного момента беседу Оснельды и Хорева, не зная о всем ее содержании и выхватывая отдельные подозрительные мотивы; впоследствии Сталверх узнает об отправке письма к Завлоху, не зная его содержания, также не знает его и допрошеный Кием раб передатчик письма; дистанция отделяет от героев и Завлоха, отказывающего просьбе влюбленных. Сталверх, услышав обрывок разговора Оснельды и Хорева, приходит к мысли об их измене начинается цепочка трагических решений. При этом и Сталверх и Кий пытаются действовать исключительно по стратегии разума. "Внемли, что я внимал, и рассуждай бесстрастно, // Правдиво ли мое сумненье иль напрасно" (Cумароков, III, 16), обращается к Кию Сталверх, сам же Кий, завершая разговор, обещает тщательность, непоспешность своего суда, ориентацию только на абсолютную достоверность свидетельства: "Хочу равно и ложь и истину внимать // И слепо никогда не буду осуждать <...> Хоть все б вещали мне, там горы, мели тамо. // Когда не вижу сам, плыву без страха прямо" (там же). Но мы имеем здесь дело с тем самым "здравым рассуждением", которое не может дойти до "центра познания", в данном случае не может распознать подлинные внутренние намерения другой личности. Преградой на пути этого познания оказывается подозрительность. Кажущаяся необоснованной, она может быть оправдана, исходя из собственных сумароковских представлений об испорченности природы. Когда Кий произносит хвалу Хореву, прославляя его прежние воинские заслуги (Д.II, яв.1), Сталверх высказывает свое недоверие: "Но он велик себе.// Коль славен мужеством, толь вреден он тебе" (Сумароков, III, 15). Это может показаться чрезмерным пристрастием, скрывающим тайное своекорыстие Сталверха. Но в действительности это отголосок подлинного сумароковского суждения о пагубоносном эгоизме человека: "Все наши действия происходят от любви к себе и от ненависти к другому". Да, Кий у Сумарокова пристрастен. Им управляет самолюбие, ему тяжка потеря власти (см. Д.IV, явл.III). 38 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Можно вспомнить здесь слова Сумарокова из его статьи "О безбожии и бесчеловечии": "Всего бы удивительнее было, что самое жесточайшее сражение в родстве и дружбе бывает; но нечему удивляться; ибо там то сии подпоры бесчеловечия, самолюбие и сребролюбие, крепче и держатся. <...> Оружие неправды пристрастие, злодеяния источник; оружие правды любочестие, источник добродетели" (Сумароков, Х, 152) Но Кий вовсе не задан Сумароковым как злодей (в отличие от Клавдия в "Гамлете" и Димитрия Самозванца, которые вершат откровенно без-божные дела). Пристрастие Кия трудноотличимо от деяний милосердного, но справедливого и по необходимости сурового правителя. "Принудив власть мою на мщенье правосудно, обращается Кий к Оснельде, // Ты в то меня ввела, что щедролюбцам трудно // И гнусно естеству" (Сумароков, III, 41). Щедролюбие и милосердие Кия действительно подтверждается всем строем его образа пожалуй, ни один правитель не будет больше у Сумарокова изображен столь "нежными", "пастельными" красками (ср.хотя бы извинение Кия перед стражами: "О верные рабы! Вы, дух мой весь томя, // Коль правду донесли, не сетуйте на мя, // Что я о истине, мне сказанной сумнелся" [Сумароков, III, 27] или его милость к невольнику Д.IV, явл.4). Что же касается казни им Оснельды, причем казни, мотивируемой как мщение, то следует напомнить, что сам Сумароков энергично защищал необходимость казни как раз из соображений "мщенья правосудна"21! Собственная вина Кия в том, что он не отошел от стратегии разума, не прислушался к трансцендентному голосу сердца (ср. его слова: "Какую чувствую я в сердце жалость боле!") к той самой искре Божией, источнику добра в центре человеческого естества. Момент внутренней корысти в составе его вины едва намечен Сумароковым, явно не желавшем утрировать преступность Кия, и вместе с тем он носит нравственно определяющий характер. В том дознании, которое Кий устраивает Оснельде, ее ответы вот-вот должны все прояснить и оправдать любовников. Но последнее, что удерживает Кия в его позиции обвинителя это "оскорбление величества", некогда высказанные Оснельдой и переданные Сталверхом упреки самому Кию, которые Оснельда вынуждена признать (Д.IV, явл.7). В комплексе мотивов действий и решений правителя, которые могут быть поняты как следствия объективнобеспристрастной установки, здесь наиболее отчетливо обнаруживается "самолюбие", и именно этот момент становится решающим при вынесении им приговора. В начале V действия Кий произносит свой наиболее "философский" монолог, в котором сконцентрирована вся сущностная двойственность его положения : "Во всей подсолнечной гремит монарша страсть, // И превращается в тиранство строга власть, // А милость винному, преступнику прощенье // Нередко и царю и всем в отягощенье // Но меры правоты всегда ли льзя найти, // По коей к общему блаженству мочь ийти?" (Сумароков, III, 47). Подчеркнем еще раз трагичность этого взыскания правоты: согласно Сумарокову, человек склонен к себялюбию, пристрастию и злу, и даже "общая польза не ослабляет сего доказательства; в ней имеет каждый свой собственный прибыток" (Сумароков, Х, 149). Единение "милости" и "строгости", сердца, божественной искры и естественного разума только в уподоблении божеству "И, если хочет он во славе быти тверд, // Быть должен праведен, и строг, и милосерд, // Уподоблятися правителям природы" (там же). В данном случае это упование остается лишь бессильным пожеланием дистанция между богами и смертными непреходима и единения разделенных начал "в Боге" не происходит (как это случилось с героями "Пустынника"). Убеждаясь в невиновности Хорева, Кий признает себя "тираном" и "варваром", требует от Хорева кары для себя, Сталверх же бросается в Днепр. Но вина Кия, как и Сталверха, существующая в субъективном измерении, внятная самому герою, не может быть полностью объективизирована. Самообвинение героя следующей "древнерусской" трагедии Сумарокова, Синава, будет сразу же скорректировано 39 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма словами мудрого Гостомысла "Тираном, государь, назвать тебя не можно, // А что несчастлив ты, несчастлив ты неложно" (Сумароков, III, 146). Те же слова явно можно отнести и к трагедии Кия, он явил собой общечеловеческую трагедию и трагедию правителя в особенности, не будучи по существу своему злодеем. Конец трагедии для Кия это одновременно свидетельство и нравственного падения, преступления и нравственного подвига, ибо вина полностью признана и принята им на себя, герой совершает акт самоосуждения. Смерть Хорева, завершающая трагедию, также отмечена печатью двойственности. Это прежде всего смерть героическая, утверждающая то необходимое правителю великодушие и правосудие, на которое оказался неспособен Кий. Великодушие Хорева двойное он требует у Кия прощения Завлоха и прощает самого Кия по крайней мере, молчаливо прощает, отказываясь стать его судьей, как того требует Кий. Пафос великодушия соединяется в речах Хорева с отчаянием, что выражено с присущей Сумарокову рациональной формульной ясностью: "На что мне уж и жить на свете сем, стеня? // Уж нет того, уж нет, что льстило в нем меня // Великодушествовать потребно неотложно, // Но мысли горькие преодолеть не можно" (Сумароков, III, 55-56). Отчаяние признак любовной слабости, самоубийство Хорева есть постыдное малодушие. Обе эти оценки не только могут быть подтверждены различными высказываниями Сумарокова, но и присутствуют в самой трагедии. И совершивший преступление добродетельный Кий и пораженный слабостью героический Хорев оба, по сути дела, воплощают, в переводе его в высокий регистр, тот образ "пьяницы, лежащего в грязи и подающего милостыню", который для Сумарокова служил символом парадоксальной двуначальности человеческой природы. *** Охватив в целом коллизии первой русской трагедии, следует еще раз вернуться к ее непосредственным французским источникам, чтобы оценить все своеобразие пути, открытого Сумароковым. "Брут" и "Митридат" две трагедии, определившие в основном комплекс мотивов и драматических ситуаций "Хорева", точно соответствуют приоритетам Сумарокова в отношении образцов жанра. Эти приоритеты отчетливо прслеживаются в его "Эпистоле о стихотворстве", во "Мнении во сновидении о французских трагедиях", в ряде замечаний, рассеянных в его публицистике. Прежде всего они касаются двух вершин классики XVII века, творчества Корнеля и Расина. Сумароков безусловно отдавал предпочтение последнему. Достаточно сказать, что в его "Эпистоле" Корнель упоминается лишь в общем ряду образцовых авторов, но из восьми трагедий, поэтические характеристики которых в эпистоле составляют сам образ жанра , нет ни одной трагедии Корнеля. Рассуждения о двух трагедиях Корнеля вошли в его "Мнение", но за ними следуют разборы восьми пьес Расина и Вольтера. В самих разборах предпочтение выражено также вполне отчетливо: общие похвалы Корнелю чередуются с большим количеством оговорок и указаний на "неудачные" места его пьес. Зато анализ первой же трагедии Расина начинается со славословия "сего Великого Мужа" и указания на Вольтера и самого себя как его последователей. Еще одно упоминание того же ряда литературной преемственности в разбор вольтеровского "Брута" уже приводилось выше. Предпочтение, отданное Расину и Вольтеру, но не Корнелю, означало принципиальный отказ , по крайней мере в начальный момент творческого развития Сумарокова, от типа "величественного героя", самоутверждающейся личности, к воле которой сводились причины трагического конфликта. Расин и Вольтер при всем их различии задают трагический конфликт, по преимуществу как ситуацию страдания, 40 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма втягивающую в себя всех персонажей. Сумароков воспроизводит трагические положения именно такого рода. Глубоко значимы для него при этом сами моменты двойственного неразрешимого напряжения. Характерны уже те эпизоды классических трагедий, которые он приводит в своей "Эпистоле" в основном это самые острые моменты, действия, фиксирующие внешнюю и внутреннюю двойственность ситуации. Ср. его очерк "Андромахи": "Страшатся греки, чтоб сын Андромахин им // По возрасте своем не стал отцом своим. // <......> Пирр хочет спасть его (защита немала!), // Но чтоб сия вдова женой ему была. // Она в смятении, низвержена в две страсти, // Не знает, что сказать при выборе напасти." (Сумароков, I, 389) Два фрагмента в "Эпистоле" посвящает он своей любимой "Ифигении": "Афины и Париж, зря красну царску дщерь, // Котору умерщвлял отец, как лютый зверь, // В стенании своем единогласны были // И только лишь о ней потоки слезны лили." // "Богинин сын против всех греков восстает // И Клитемнестрин плод под свой покров берет." (Там же) Фокусировка на моментах острого конфликта здесь обходит молчанием счастливое разрешение его, благодаря образу Эрифилы, введенному Расином для замены в последний момент обреченной на жертву Ифигении. Такое умолчание не случайно: разбирая "Ифигению" в своем "Мнении...", Сумароков решительно критикует это нововведение Расина.22 Эта же двойственность, тонкий баланс внутренне противоречивых стремлений восхищает Сумарокова, как отмечалось выше, в вольтеровском "Бруте". Между тем, Расин и Вольтер представляют существенно различные этапы в развитии жанра. Различны и воспринятые Сумароковым аспекты трагических систем Расина и Вольтера. Характерен отказ Сумарокова от приемов нагнетания конфликта, развитых в вольтеровском "Бруте" на чувствах Тита, его любви и его честолюбии там откровенно играют враги Рима, приспешники свергнутого царя Тарквиния, подступившего к городу. Причина конфликта предстает как "внешняя" и в онтологическом плане случайная. Сам же герой являет собой торжество человека в его идеальном образе, органично соединяющего свои чувства с долгом. Конфликт в "Хореве" разыгрывается исключительно между "своими", никакую внешнюю силу невозможно обвинить в разжигании вражды. Два центра тяготения трагического сюжета: коллизия Хорева и Оснельды и разгорающаяся вражда к ним Кия, подозревающего их в измене, соответствуют как раз двум центрам действия расиновского "Митридата". Подобно Расину, конфликт трагедии Сумарокова имеет в конечном итоге онтологическую природу, истоки его коренятся в недрах человеческого бытия. Но непосредственная трактовка конфликта у Сумарокова все же глубоко отлична от Расина. Сила, которая порождает конфликт в "Митридате" в конечном счете может быть определена как судьба. Героическая эпопея Митридата, его борьбы с Римом конкретная форма этой судьбы; прежние перипетии этой эпопеи постоянно всплывают в трагедии, ибо они определили весь расклад ее наличных сил; сам Митридат с его историческими чертами жестокого и коварного деспота символ судьбы и первый из ее героев. Финал трагедии Расина как будто бы снимает трагическое напряжение Монима не успевает выпить яд, раскаявшийся Митридат соединяет любовников но это торжество обнаженно-хрупкое: гибель Митридата обрекает героев на безнадежную борьбу с Римом. Судьба есть, в сущности, достоверное прошлое, цепь событий, сохраненных преданием, и продолжающих оказывать влияние на настоящее. В цепи этой событийной связи возникают уникальные коллизии и уникальные фигуры таков 41 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Митридат Расина, выламывающийся из всех рамок галантной и "государственной" этики. Сумароков не принимает самой "фактуры" судьбы, ибо герои его, герои вымышленного сюжета, не знают никакого прошлого. Не принял Сумароков, как уже говорилось, и образа Митридата. Герои его, в том числе и функционально эквивалентный Митридату Кий, "люди вообще", точнее, обобщенные фигуры подлинных героев, достойных трагедии. Другая грань трагического мира Расина связана с глубокой противоречивостью нравственного бытия человека, выводящей к проблематике греха ("янсенизм" Расина). Ярче всего это обозначено в "Федре". Именно "Федра" на ценностной шкале Сумарокова занимала совершенно особое место. Это для него "трагедия трагедий", высшее проявление драматического гения человечества: "доколе не исчезнет род человеческий, никто и никогда лучше сей Трагедии не сделает; ибо в ней Расин дошел до последния границы искусства человеческого" (Сумароков,IV, 344). "Федра" безусловно представала творческому воображению Сумарокова и в момент создания им "Хорева". Объяснение Хорева и Оснельды, как заметили исследователи, включают в себя прямые реминисценции речей Ипполита и Арисии23. Но дело не только в этом частном моменте. Само нерасчленимое единство в центральном герое добродетели и преступления, обличаемого в финале трагедии, восходит именно к "Федре" ни в "Митридате", и ни в одной другой из трагедий классицизма внутренняя двойственность самой человеческой природы не представала с такой остротой как укорененная в человеке (в совершенной героической личности) слабость, неустойчивость, влекущая за собой гибельные последствия, как склонность к совершению зла вопреки собственному хотению и собственной воле. В данном случае религиозно-философские идеи Сумарокова шли навстречу художественной мысли Расина, глубоко воспринявшего переживания исконной греховной двойственности человека, взращенные мыслителями Пор-Рояля. Метафизический план трагедии, открытый Сумароковым, роднит его, таким образом именно с классикой XVII века, в особенности с Расином. Особенно знаменательно, что духовная точка отсчета русской трагедии близка к точке последнего взлета великой классики XVII века, к последней из "античных" трагедий Расина. Но это родство, вместе с тем, связано с жанровым переходом к философской трагедии, переводящей всю проблематику в иную плоскость. И "Митридат", и "Брут" трактуют исторические сюжеты, давно вошедшие в литературу и сопровождающиеся многочисленными ассоциациями. Сумароков открывает "Хоревом" ряд своих древнерусских трагедий, принципиально ориентирующихся на вымышленные сюжеты. В этих вымышленных сюжетах есть, тем не менее, своя историческая логика: они отдвинуты к самому порогу русской истории, ее киевскому и даже до-киевскому периоду. Особенно рельефно "исторический план" неисторических сюжетов проступает в первых древнерусских трагедиях Сумарокова "Хореве" и "Синаве и Труворе". Кий и Хорев легендарные основатели Киева; Синав и Трувор братья и сподвижники Рюрика. Летопись сохранила их имена, но не знает подробно разработанных сюжетов, связанных непосредственно с ними. Однако само это умолчание в цепи летописных событий обретает особый смысл: они оказываются "выпавшими звеньями" истории, предшествовавшими непрерывной династической линии князей потомков Рюрика. Все это как бы располагает к домысливанию сюжета о какой-то катастрофе, прервавшей их правление и отделившей их от самой истории. Именно эта возможность использована Сумароковым. "Пустота" взятых им исторических сюжетов и их "начальность" позволяют ему создать философскую притчу о началах трагического разлада в человеке и обществе. 42 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Можно предположить, что к эпизоду "первых времен" в определенной мере подтолкнул Сумарокова опять-таки вольтеровский "Брут", сюжет которого связан с моментом становления республиканского Рима. Сам философский пафос Вольтера предполагал абстрагирование от конкретных черт исторического героя, замену его образом идеального человека, природа и разум которого находятся в гармонии. Сумароков следует этой абстрагирующей тенденции философской трагедии, но отнюдь не ее содержательному пафосу, снимающему онтологичность противоречий. Вернее, основываясь на его разборе "Заиры", приходится заключить, что он не воспринимал самой дистанции между общими рамками трагического конфликта, унаследованного Вольтером от классики XVII века, и его новым внутренним содержанием. Можно предположить, что реальная творческая полемика с Вольтером не осознавалась самим Сумароковым, посвятившим Вольтеру свое "Мнение". Его отношение к Вольтеру, слишком прямолинейно представлявшееся в научной литературе, как отношение ученика и последователя24, безусловно требует дополнительного изучения. "Философичность" Сумарокова идет тем не менее и формально дальше Вольтера. Вольтер обобщает и трактует реальные исторические коллизии, его мысль устремлена либо на отыскание естественной гармонии в рамках истории, либо на критику всплывающих в ее течении предрассудков, препятствий, мешающих состояться естественному согласию. Сумароков выходит за пределы истории к чистым основам "человека вообще". Это и позволяет в конечном итоге видеть в его пьесах притчу о человеческой трагедии. Давая определение притчи как самостоятельного жанра, С.С.Аверинцев отмечает, что "для определенных эпох, особенно тяготеющих к дидактике и аллегоризму, притча была центром и эталоном для других жанров"25. Русский XVIII век, ознаменованный расцветом жанра басни, культивировавший афористичность, живописную и словесную аллегорию, дидактику во всех ее формах, безусловно относится к такого рода эпохам. "В эти эпохи, продолжает С.С.Аверинцев,когда культура читательского восприятия осмысляет любой рассказ как притчу, господствует специфическая поэтика притчи со своими законами, исключающими описательность "художественной прозы" античного или новоевропейского типа: природа или вещи упоминаются лишь по необходимости, не становятся объектами самоценной экфразы действие происходит как бы без декораций, "в сукнах". Действующие лица притчи, как правило, не имеют не только внешних черт, но и "характера" в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед зрителем не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора. Речь идет о подыскании ответа к заданной задаче <...> Притча интеллектуалистична и экспрессивна: ее художественные возможности лежат не в полноте изображения, а в непосредственности выражения, не в стройности форм, а в проникновенности интонаций."26 Все эти черты в полной мере свойственны поэтике трагедии Сумарокова. Уточнения требует только один из признаков, вводимых Аверинцевым: "подыскание ответа к заданной задаче." Ответ к заданной задаче, казалось бы, непременно предполагает успех, ожидающий на правильно избранном пути. В этом случае автор притчи должен мыслиться обладающим "ключами к истине". По крайней мере, положение это вполне справедливо для притчи, которой оперировал автор века Просвещения, веровавший в нормативную сущность разума, онтологически тождественного природе. Такого рода назидательность традиционно приписывается и Сумарокову-трагику. Между тем Сумароков не узурпирует роль Бога и позицию глашатая абсолютной истины. Правильный выбор его героев сам по себе не дает гарантии успеха. "Правильность" состоит только в удержании ими равновесия между ценностями "долга" (происходящего от сакрального закона) и естественного чувства. В трактовке той и другой составляющей драматург выступает как автор эпохи Просвещения. Именно такого рода фрагменты, взятые порознь, оправдывают традиционную точку зрения о дидактичности, позитивной "учительности" 43 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма сумароковских трагедий. Но целостная притча Сумарокова повествует о том, что само по себе двойственное усилие героя, будучи его непременным долгом, не дает никаких гарантий успеха, но есть лишь безмолвный призыв к божественной инстанции, от неисповедимой воли которой зависит трагическая развязка. Трагедия-притча Сумарокова вбирает в себя и концептуальные моменты церковной учительности, и рационалистическое представление о герое. Само это сочетание безусловно требует дальнейшего специального изучения27. Суммируя наблюдения, можно сказать, что если "философичность" роднит трагедию Сумарокова с Просвещением, то само содержание его трагической философии адресует к классике XVII века, прежде всего к Расину. В этом соединении возник новый горизонт трагической проблематики. В центре драматургии Расина уникальный образ и уникальный сюжет, в котором воплощается трагичность человеческого бытия. Трагедия Вольтера привносит в историю философскую схему, претендующую на всеобщность. Сумароковская трагедия-притча вне конкретики истории, но и вне пафоса привнесения в историю определенной нормы. Представляя собой обобщенный образ человеческой трагедии, притча фокусируется на той или иной структурной черте ее. В случае "Хорева", как уже не раз подчеркивалось, речь идет о познании другого, о фундаментальности дистанции между двумя "Я". 2.4. "Синав и Трувор" развитие трагической притчи Другая "древнерусская" трагедия Сумарокова "Синав и Трувор" (1750) представляет иную организацию трагического действия, симметрично дополняющую "Хорева". Речь идет о внутреннем познании трагического человека, познании трагической ситуации как таковой и себя, помещенного в трагическую ситуацию. Сам Сумароков, по-видимому, достаточно ясно осознавал различные доминанты этих трагедий как доминанты разного рода познания. Введя во второй редакции "Хорева" (1768) монолог Кия в начале V действия, он добился зеркальной симметрии ключевых сентенций в обеих трагедиях28. Кий в этом монологе говорит о необходимости "множества монарху проницанья", имея в виду справедливое решение дел подданных, дел других людей, зависимых от него. Пятое действие "Синава" начинается медитативным монологом Гостомысла, также подводящим итог трагического опыта этого персонажа (Гостомысл, как и Кий, относится к "отцам" и является невольным инициатором трагедии влюбленных). Монолог его тоже о трудности и несовершенстве познания, но имеется в виду самопознание: "Доколе существо в нас живность ощущает, // К познанию себя прийти не допущает, // В невежестве своем иметь премудрость мним // И в самолюбии безумство ею чтим" (Сумароков, III, 113). "Синав и Трувор", с его акцентом на самопознании, на внутренней сущности трагического конфликта, стал своеобразной вершиной сумароковского трагизма. Как и "Хорев", он сыграл особую роль в становлении проблематики русской трагедии. В этой трагедии нет героев, которые подобно Кию и Сталверху были бы дистанцированы от других, пытаясь проникнуть в их намерения. Все взаимные отношения, предпочтения и намерения абсолютно ясны каждому из них, по крайней мере со второго акта. Именно в этой ситуации полной ясности и разворачивается основная трагическая коллизия. Каждый из героев сохраняет причастность двум началам человеческого бытия: Гостосмысл любит свою дочь, скорбит о ее несчастной любви, но сохраняет верность данному им Синаву слову, обрекающему его дочь на невозможный для нее брак, это мыслится под знаком долга перед Синавом избавителем народа. Ильмена не может отречься ни от возлюбленного Трувора, ни от долга перед отцом. Трувор не способен ни расстаться с Ильменой, ни поднять руку на братаправителя. Синав также не может отречься от Ильмены, не любящей его, но боится и нарушения долга правителя собственной вражды с братом. Несмотря на усилия всех 44 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма героев сохранить баланс противоположных стремлений, сюжетные линии Гостомысла и Синава связаны все же с различными тенденциями: Гостомысл склоняется к стоицистической односторонности долга, Синав же более всего действует по логике страсти. Но как бы ни были ясны и понятны друг для друга сами герои трагедии, в них все же остается некая последняя глубина неуловимая для партнера, как это было продемонстрировано и в отношении "Хорева". Можно привести один из характерных примеров подобного "паралича понимания", когда смысл, очевидный для читателя или зрителя, оказывается недоступен для собеседника на сцене: "Ильмена: Не слезы буду лить я, жертвуя любови, // Когда тебя лишусь, польются токи крови. // Трувор: Поняти не могу я сих твоих речей. // Ильмена: Поймешь, когда моих померкнет свет очей. // Трувор: Мне мысль твоя темна, как я ни рассуждаю. // Ильмена: Скончаем разговор, я паче им страдаю." (Сумароков, III, 133) Именно уединенная личность становится в трагедии предметом анализа и познания. Непрозрачность ее для "другого" относится к онтологически определяющим моментам. В "Синаве и Труворе" мы сталкиваемся с тем "раскрытием содержания основной ситуации" в ее значимости для каждого из героев, которое Гуковский определил как характерную особенность сумароковской трагедии29. Никакие непредвиденные события не вторгаются в действие пьесы извне, никаких непредсказуемых решений не принимают сами герои, их взаимные отношения и сам финал определен с первых сцен. По крайней мере, определено самоубийство Ильмены и Трувора, неизбежное в случае брака Ильмены с Синавом, Гостомысл же и Синав, один, движимый иллюзией разума, другой безумием страсти, слепо надеются на благополучный финал. Может показаться, что действие трагедии действительно стоит на месте, меняются только формулы высказываний, имеющих дидактически-прикладной характер. Между тем от действия к действию неумолимо меняются акценты внутри одной и той же ситуации. В этих изменениях проступает действительный сюжет трагедии сюжет испытания и самопознания трагической личности, обнаружения самой сути личного трагического бытия. Главной фигурой в этих испытаниях становится Ильмена, именно через нее проходит основной нерв трагического действия. Сюжет испытания Ильмены, будучи частью общего сюжета трагедии, включает в себя отдельные испытания "чувства" и "долга" ( или "естества" и "разума"), претендующих на тотальное подчинение себе человеческой ситуации, и испытание самой силы сопротивления героя этим двум тотальностям. Содержание первых двух актов может быть определено как "объявление чувств". Хотя двойственность долга и страсти в полной мере представлена и в них, но именно здесь звучат все признания, здесь происходит узнавание героями подлинных чувств друг друга, здесь накапливается сам начальный потенциал конфликта. Третье действие новая ступень конфликта. Также как и первая фаза его, начинающая трагедию, оно отмечено диалогом Гостомысла и Ильмены. Если в первом диалоге Гостомысл призывал дочь скрепиться, полюбить будущего супруга или по крайней мере "привыкнуть" к мысли о необходимости брака, то теперь в речах его появляются новые аргументы: "Но ты мне дочь: бори желание любви // И покажи, от чьей родилась ты крови <...> Когда возможешь ты себя преодолеть, // Я буду образ свой в любезной дщери зреть" (Сумароков, III, 149). Именно борьба, внутреннее преодоление становится главным содержанием третьего действия. Борьба и принятие непреложных решений происходят на фоне резкого ускорения трагического времени ревнивый Синав отменяет вытребованную Ильменой трехдневную отсрочку свадьбы, 45 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Трувор по воле брата должен немедленно отправиться в изгнание. Это не сакраментальная борьба долга и страсти, но борьба с тотальностью претензий того или другого начала. Признавая долг перед Гостомыслом, Ильмена решительно отказывается окончательно подчиниться ему, но также отказывается она и от побега, предлагаемого Трувором, от идиллического уединения в невозмутимом мире взаимных чувств. Зримым выражением человеческой позиции между двумя началами, отказа от признания тотальности одного из них, становится поступок Ильмены в финале третьего действия, когда она встает между обнажившими меч братьями-соперниками. Новая фаза конфликта в четвертом действии вновь определяется диалогом Гостомысла и Ильмены. Акцент теперь перемещается на сам идеал нравственного величия Гостомысл разворачивает перед Ильменой перспективу "иного берега" речь идет уже не об утешении новой любовью или привычкой, не о высоте самой борьбы и преодоления страсти, но о прекрасной роли благодетельной государыни, ожидающей ее: "Лишайся Трувора и вместо ты того, // Возшед на трон, будь мать народа своего <...> Яви ты истину под именем царицы" (Сумароков, III, 163). Нет сомнения в адекватности этой программы собственным представлениям Сумарокова о "божественной истине", проповедуемой в его торжественных одах Елизавете и Екатерине. Между тем, Ильмена, будучи трагической героиней, отвергает выбор этой, раскрывшейся во всем блеске "божественной" перспективы: "Великодушия того ищи в богах, // Какого ищешь ты в девических сердцах" (Сумароков, III, 165). Теперь ситуация внутреннего конфликта и трагической двойственности пройдена и прожита до конца. Далее в четвертом действии следуют сцены прощания, исполненные безнадежности и специфической "сомнамбулической" горечи ибо каждый из героев, как это обычно у Сумарокова, окончательно уверившись в собственной гибели, не видит тех же намерений партнера и не воспринимает его слов. Наконец, в пятом действии, прежде чем разыгрывается трагический финал его, происходит нечто чрезвычайно важное для всей драмы: возникает новый уровень понимания происходящего, обнаруживается сама перспектива познания, очерчиваемая начальным монологом Гостомысла: прожитая уже героями ситуация выбора порождает теперь философскую рефлексию по поводу человеческого бытия. В речах Гостомысла и Ильмены предельно четко различены две стороны этой рефлексии. Гостомысл предстоит пред лицом природы, жизни: "Наполнен наш живот премножеством сует," первая установочная фраза его монолога; он единственный из героев трагедии, которому суждено остаться в живых. Ильмена произносит свою речь на пороге смерти, в той точке бытия, где время соприкасается с вечностью. "Время" и "вечность" оппозиция, дополняющая и по-новому раскрывающая антитезу жизни и смерти. Время, в его тройном делении, объект рефлексии Гостомысла: "Прошедше время ввек не возвратится к нам, // Которо есть, то лишь единый миг очам; // Которого мы ждем, тем мы не обладаем // И, может быть, его напрасно ожидаем." (Сумароков, III, 173) Вечность, открывающаяся по скончании времени, предстает внутреннему взору Ильмены: "Преходит время то, в которо я была. // Отверста вечность мне, иду...куда?..не знаю." (Там же, 177) Непрерывный поток времени, всецело захватывающий человека, и покой вечности контрастные понятия, открывающие путь к антитезе "земли и неба", "природы и богов". Смыслы, связанные с каждым из этих персонажей на протяжении всей пьесы, концентрируются в их последних монологах. Каждый из них не просто исповедует свой принцип поведения, но, входя в зону познания, формулирует его и соотносит с законами высшего порядка природы и богов. Смыслом деяний Гостомысла было привнесение истины, высшего закона в земное бытие. Вместе с тем, само это стремление предполагало уверенность в знании истины, отождествление себя с истиной. Сейчас, в пространстве познания, на границе времени, все еще не отпускающего от себя, и смерти-вечности (эта граница задана и 46 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма престарелым возрастом героя, имплицитно вводимым драматургом: "Пред всею вечностью лет осмьдесят иль сто // Одна минута, миг, или совсем ничто," и нагнетаемым предчувствием гибели юных героев, которая должна состояться в этом акте на глазах Гостомысла и уже подготовлена всем ходом трагедии) обнажается неуверенность героя в собственном обладании истиной: "Доколе существо в нас живность ощущает, // К познанию себя прийти не допущает. // В невежестве своем иметь премудрость мним // И в самолюбии безумство ею чтим" (Сумароков, III, 173). Речь идет не об отчаянии, перечеркивающем все предшествующие стремления героя, но об обнаружении сущности этих стремлений как движения к пределу, к никогда не достижимой, но непреложной цели пути: "Нет счастья на земли: на небесах оно // Оставлено богам и смертным не дано. // Дано, но мы его страстями разрушаем, // Друг друга общего спокойствия лишаем. // Где только человек печется о себе, // Жилища тамо нет, о истина! тебе" (там же). Движение к пределу задано именно в этом характерном сбое рассуждения о счастье "не дано дано": "небо" и "земля" разделены в афористически четком высказывании и тут же смешаны вновь. За этим противоречием стоит известное уже нам представление о божественной искре в человеческой душе, о начале, трансцендентном миру, и в то же время присущем человеку и центрирующем его бытие. То же построение будет впоследствии воспроизведено и Евмением, который покидает мир, утверждая одновременно, что "Нам чистый дан закон, но мы не делаем, что предписует он". Смыслом трагического бытия Ильмены было отстаивание своего чувства, "природы" перед лицом долга, законность и святость которого она полностью признавала. Теперь она предстоит перед ликом божественной вечности, перед "жизнью будущего века", сосредоточивающей в себе всю высоту духовных ценностей, проповеданных Гостомыслом, их онтолгические истоки: "Там воля разуму престанет быть преслушна, // Сердца там твердые и мысль великодушна." Но ее упование попрежнему в том, что в "новой природе", "возобновленном человечестве" она не утеряет свою любовь к Трувору, неразрывную с ее земной природой. Отсутствие гарантии этой встречи влюбленных в новой природе, сущность которой "превыше страстей", приводит к утверждению "тайны" как последней глубины мироздания: "О тайна! от ума ты скрыта нам богами // И в непостижности оставлена судьбами" (Сумароков, III, 178). Два монолога Гостомысла и Ильмены демонстрируют две стороны трагической метафизики, два героических стремления, не способных по самому своему существу прийти к завершению: от "природы" к вечному закону и от "вечной истины" к "природе". В точке встрече этих усилий обретается героическая личность, здесь обнаруживается стихия ее обитания и ее свободная воля, и здесь же эпицентр ее страданий. В пятом акте сумароковской трагедии этой средней точке с геометрической точностью соответствует рассказ вестника о кончине Трувора, занимающий промежуточное положение между монологами Гостомысла и Ильмены. Трувор не произносит речей ни о человеческой природе в целом, как Гостомысл, ни о вечности и богах, как Ильмена, но поглощен переживанием своей личной коллизии. Он находится в той же ситуации, что и Ильмена перед самоубийством, взор его, однако, обращен не в грядущее таинство, но назад, на покинутый город ( "Со колесницы сшед, он очи взвел назад <...> жалостно взглянув на отдаленно зданье"), где осталась Ильмена. Трувор, удержавший в себе ту же двойственность императивов чувства и долга, что и Ильмена, запечатлевает своей смертью именно страдание героя в его личностной уникальности, не растворимой во всеобщих понятиях "природы" и "закона" ср. его последний завет к Ильменю-озеру: "А ты, где озеро ни будешь глашено, // Которо именем драгим украшено, // Повсюду возвещай мою несносну муку // И именем своим тверди мою разлуку." (Cумароков, III, 176) 47 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма Последние слова Трувора позволяют отметить общий метафорический план, объединяющий "Синава и Трувора" с последующими сумароковскими статьями о безбожии. Речь идет об уже приводившемся образе моря, бушующего меж двух берегов и готового поглотить безбожника, оттолкнувшегося от брега естества, но не достигшего брега божественной истины. Тот же образ берегов и пучины для "Синава" имеет важнейшее значение. Впервые он возникает в речи Ильмены в IV действии: "Влекущий днесь меня к великолепну сану, // Мой случай бурному подобен океану: // Свергаюсь в ярости воюющих валов // В пучину страшную с высоких берегов." (Сумароков, III, 165) Связь Ильмены с пучиной и водной стихией имеет необычную, казалось бы, для поэтики классицизма метафорическую глубину. Имя Ильмены эпоним новгородского озера, которое, в свою очередь, метонимически заменяет сам Новгород: братья-князья "Великодушием геройским восхищенны, // И славою одной к Ильменю провожденны". Метафоричность имени героини обнаруживается в полной мере в последнем акте, когда Трувор вонзает в себя меч "близ устья Волхова", вытекающего из Ильменя и обращает к Ильменю свои последние слова. Это вхождение природной стихии в условный мир классицистической пьесы многократно усиливается в самом финале трагедии, когда исступленный Синав призывает пучину поглотить его и весь град. Ужас Синава вызван не просто сознанием моральной вины, вернее, сама эта вина не так проста, как кажется на первый взгляд. Смерть Трувора связана с героическим актом, героическим усилием соединить оба метафизических берега. Оба берега остаются для него неизменными ориентирами. Неудача его попытки лишь свидетельство того, что она превыше человеческих сил, боги же в трагедии остаются молчащими. Синав, в отличие от своего брата, теряет оба берега со смертью Трувора он лишается прежде всего своей причастности истинеправосудию-разуму, с гибелью Ильмены того, что было для него средоточием природы. Две эти темы неразрывны, но все же различимы, составляют две сплетающиеся нити в его финальном монологе. Синав, в отличие от Ильмены и Трувора, лишается самих метафизических границ личности. В этом отношении особое значение приобретает образ пучины-Волхова, который предстает едва ли не как вселенский хаос, поглощающий Синава: "О солнце! для чего еще ты мною зримо! // Разлей свои валы, о Волхов! на брега, // Где Трувор поражен от брата и врага, // И шумным стоном вод вещай вину Синава, // Которой навсегда его затмилась слава! // Чертоги! где лила свою Ильмена кровь, // Падите на меня, отмстите злу любовь! // Карай мя, небо, я погибель в дар приемлю, // Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!.." (Сумароков, III, 182-183) Следует напомнить, что Синав отнюдь не фатальный злодей. Не случайно его самообличение корректируется словами Гостомысла: "Тираном, государь, назвать тебя не можно, // А что несчастлив ты, несчастлив ты не ложно." Так же, как и Кий, он совершает преступление, выявляя не свою злодейскую сущность, но греховную слабость человеческой натуры. Различие Синава и Трувора не столько в принципиальной полярности их нравственных установок, сколько в различии положений, за которым, в свою очередь, предстает различие искушений. Над Синавом нет высшей внешней инстанции, определяющей его долг: он надеется не на безнаказанность, но на согласование своей страсти с долгом, не замечая разверзающейся между ними пропасти. Синав и Трувор братья и во многом герои-двойники. В отличие от Гостомысла и Ильмены, причастных философской рефлексии, "открывающих" высший план мироздания, они по преимуществу герои действия, существующие в средоточии собственно личностной трагической ситуации. Трагизм человеческой слабости и трагизм героического усилия таковы полюсы нравственной шкалы Сумарокова, 48 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма наглядно представленной в этих персонажах, имена которых определили имя всей трагедии. 2.5. Проблемы творческой эволюции Сумарокова-трагика Анализируя трагическую систему Сумарокова, мы ограничились по сути дела двумя пьесами из девяти его трагедий и близкой к ним драмой "Пустынник". Две первые "древнерусские" трагедии представляют сам момент рецепции трагедии классицизма в России, дают возможность уловить и измерить изначальную дистанцию между русской и западной традицией. В то же время эти трагедии представляют уже зрелую, сложившуюся систему сумароковской трагедии и едва ли не ее вершину. Кроме того, "Хорев" и "Синав и Трувор" обнаруживают глубинную содержательную взаимодополнительность, в них очерчены два аспекта парадигмы "познания" абстрактно смоделированной трагической ситуации, две реализации трагической притчи. В любом случае для понимания всего творческого пути Сумарокова-трагика недостаточно привлечения только этих пьес, хотя бы потому, что собственно трагические финалы катастрофы "Хорева" и "Синава" не повторяются больше ни в одной из трагедий Сумарокова. Это не означает радикального пересмотра им всей системы трагедии. Негативный акт трагического баланса двух начал, связанный с собственно человеческим усилием, может сменяться их положительным единством "в Боге", как было показано на примере "Пустынника". Между "Хоревом" и "Синавом" Сумароков создает своего "Гамлета", в котором герои-любовники Гамлет и Офелия избегают гибели, но это непосредственно связано со скрытым присутствием Бога. То, что действие сумароковского "Гамлета" происходит в христианские времена, имеет глубокое значение для внутренней проблематики трагедии: появляется возможность раскаяния, избавляющего от груза трагической вины, и сама задача трагической героики соединение несоединимых, онтологически разнородных начал становится разрешимой благодаря незримой божественной помощи. В сюжете трагедии участвуют теперь носители прямого зла Полоний и Клавдий, отказывающиеся от молитвы и раскаяния. В то же время Гертруда раскаивается, снимая с себя груз трагической вины (заметим, что в последовавшем за "Гамлетом" "Синаве", раскаяние Синава будет им самим названо "раскаяньем бесплодным",состоявшееся раскаяние привнесено именно христианским контекстом "Гамлета"). Гамлет и Офелия переживают внутренний конфликт она между любовью к принцу и преданностью отцузлодею, он между долгом мщения Клавдию и Полонию и любовью к Офелии, умоляющей пощадить отца. (Напомним, что в этике Сумарокова справедливое мщение есть исполнение божественного закона). Гамлет после длительной борьбы решается простить плененного уже Полония, оставляя его на волю Божью. Но тут же приходит весть, что Полоний в тюрьме покончил с собой Божественная справедливость исполнена. Разрешение конфликта произошло благодаря самоограничению героической воли и принятию скрытой помощи Божественного Провидения. Так в первых трех трагедиях Сумарокова складываются два типа конфликта и его разрешения, условно говоря, христианского и языческого. В трагедиях пятидесятых-семидесятых годов "Аристоне", "Ярополке и Димизе", "Вышеславе", "Мстиславе" благополучный финал не связан напрямую с включением христианских мотивов. Момент разрешения коллизии здесь обеспечен введением фигуры правителя, который обладает теперь как бы сакральным статусом. "Что разум мой велит, я только то творю"-, утверждает царственный герой "Вышеслава". Его возлюбленная подхватывает его слова: "Необходимо то бессмертным и царю, // И тем, которы им во мнениях подобны; // А прочи люди все неправедны и злобны" 49 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма (Сумароков, IV, 43). Все это очевидно контрастирует с "Хоревом" и "Синавом", где правитель по своим нравственным способностям был поставлен как раз в один ряд с "прочими людьми". "Сакрализация" правителя ведет к изменению целого ряда прежних ситуаций и мотивов. Так, в "Аристоне" (1750), созданной вслед за "Синавом и Трувором", воспроизводится очень схожая коллизия. Государь опять-таки оказывается соперником в любви своего подданного и соперником, отвергнутым его избранницей. Но на сей раз дева, принуждаемая к браку, не мыслит о самоубийстве, она готова подчиниться священной воле государя, хотя и продолжает его увещевать. Возлюбленный ее, удаленный в ссылку подобно Трувору, участвует в мятеже, поднятом его возмущенным несправедливостью отцом, но спасает жизнь государю-сопернику и в конце концов отдается в его руки. Тронутый великодушием подданных, государь прощает мятежников и воссоединяет влюбленных, подтверждая тем самым справедливость упования Аристоны. Такое внезапное разрешение нравственной коллизии представляется, конечно, искусственным: оно лишь формально мотивировано особым статусом государя. Сюжетный потенциал сумароковской трагедии-притчи оказался этим во многом исчерпан. Непосрдственные причины и смысл творческого поворота Сумарокова в этой серии трагедий нуждаются в специальном изучении. Но, видимо, и сейчас можно констатировать, что основные конструктивные основы его трагедий остались здесь прежними, хотя пафос их снизился, уступив место прямому морализму и драматической развлекательности, требующей неизменного happy end'a, что, впрочем, предопределило малую популярность этих трагедий. Особняком в наследии Сумарокова стоят еще две трагедии, "Семира" и "Димитрий Самозванец", в которых драматург явно пытался нащупать новые принципы организации действия. В отличие от первых "древнерусских" трагедий Сумарокова в "Семире" (1751) отсутствует изначальная консолидация общества, представителями которого были персонажи драмы. Консолидация, единство общественной иерархии приводили к единству толкования героями принципов взаимного долга, независимо от того, твердо ли соблюдал герой свой долг, или же нарушал его, но приходил в конечном итоге к самообличению. В "Семире" речь идет о двух соперничающих династиях Киевских правителей Оскольде, прежнем владыке, и Ростиславе, сыне Олега, захватившего Киев, о двух благородных честолюбцах. Источником конфликта становятся две воли к власти, равным образом этически обоснованные. Сумароков пытается построить конфликт на корнелевских принципах. Семира, сестра свергнутого Оскольда, влюбленная в Ростислава, несмотря на привязанность к врагу, воодушевляет брата на восстание и сетует на невозможность разделить славу его победы: "Природа! для чего я девой рождена? // Я тщетно к бодрости теперь возбуждена: // Хоть с вами в равные вдаюся я напасти; // Не буду в храбрости имети с вами части" (Сумароков, III, 262). Мечта о стяжании славы, превышающей непосредственное требование долга черта корнелевских величественных героинь, нигде более не встречающаяся у Сумарокова. Конфликт равных и по доблести и по добродетели героев, признающих друг друга и даже друг ко другу благоволящих, разрешается, когда Оскольд, умирая, вручает руку своей сестры победителю Ростиславу. В целом это опыт скорее упрощения, чем радикального изменения трагической системы Сумарокова. Конфликт, продолжающий осмысляться как конфликт долга и страсти, заменен здесь внешней конкуренцией двух абсолютно тождественных доблестей. Не случайно впоследствии П.А.Плавильщиков, в своей статье "Театр" ратовавший, в русле идей Дидро, за устранение всякой двусмысленности в трагической коллизии в качестве примера приводил именно "Семиру"30. 50 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма По-видимому, еще одной попыткой обновить трагедию было создание "Димитрия Самозванца" (1771). Трагедия эта примечательна прежде всего значительно более тесной, чем раньше, связью с историческим сюжетом. Знаменателен тот факт, что к изданию трагедии Сумароков приложил портрет Лжедмитрия, как бы претендуя и на портретность главного героя. Если остальные герои этой трагедии Георгий, Ксения и Шуйский близки к прежним сумароковским персонажам, то Димитрий выпадает из этого ряда. Сам образ Димитрия связан с разнородными источниками: его "демонизм" во многом восходит к шекспировским хроникам31, аналитизм самообличающих речей Димитрия порожден просветительскими антитираническими установками, но вместе с тем, в образе Димитрия можно обнаружить и черты корнелевского величественного героя, законом для которого является его собственная воля. Обращение к образу величественного злодея в 1771 году заставляет вспомнить впечатлившую современников фигуру Ярба из только что появившейся "Дидоны" Княжнина. Можно предположить, что знакомство с первой трагедией Княжнина и ее пристрастное изучение Сумароковым, о котором свидетельствуют современники32, послужило одним из стимулов для создания им образа Самозванца. "Димитрий Самозванец", при всей особости его религиозно-философской проблематики, требующей также отдельного освещения, не стал все же началом нового этапа в истории русской трагедии, которым в действительности явилась первая трагедия Княжнина. Трагический мир Сумарокова, несмотря на его попытку разработки исторического сюжета в "Димитрии Самозванце", оставался до конца определенным принципами трагедии-притчи с ее героями, представляющими всеобщность человеческой природы, и специфическими смыслами, раскрываемыми самой притчей. Поэтика притчи, если вспомнить определение С.С.Аверинцева, не знала ни психологического углубления образа, ни элементов культурно-исторической определенности самого мира, в котором разворачивается действие, репрезентирующее некий фундаментальный этический пример-образец. Будучи глубоко связана с традицией французской классики, трагедия Сумарокова представила собой своего рода "выжимку", экстракт трагической философии, для образования которого были значимы как поэтический мир классики XVII века, прежде всего Расина, с его имплицированной религиозно-философской проблематикой, так и религиозноэтические построения самого Сумарокова, подготовленные, по-видимому, спецификой русской религиозной ментальности XVIII века. Вместе с тем трагедия Просвещения санкционировала сам принцип "философичности", обращение к этико-политическим схемам и примерам, активную разработку в драме философско-публицистических идей. Княжнин в своем творчестве сделает следующий шаг, открыв широкие горизонты трагического мира, традиционных сюжетов, образов и типов. Но этот мир, в свою очередь, будет включать в себя религиозно-философские начала, выявленные и структурно упорядоченные Сумароковым. Следует еще раз подчеркнуть, что при всей значимости для Сумарокова предшествующей традиции и при всей важности самого творчества Сумарокова для последующей русской трагедии между ним и Княжниным обнаруживается дистанция, которая может быть понята как дистанция между драмой, ориентированной на притчу, и драмой, хотя и вобравшей в себя философские смыслы притчи, но выстраивающей уже иной универсум, более близкий предшествующей западной традиции по самой поэтической фактуре. Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма 51 Для театралов и литераторов начала XIX века, не подвергших еще классицизм огульному осуждению, но уже весьма критически и избирательно относившихся к непререкаемым ранее авторитетам, дистанция эта была, по всей видимости, достаточно ощутима. Не случайно Вяземский, практически отрицавший талант Княжнина-трагика, в своем предисловии к трагедиям Озерова заявлял все же, что "Княжнин первый положил твердое основание как трагическому, так и комическому слогу"33, в то время как драматургия Сумарокова находится для него уже за пределами эстетического восприятия. Условно-схематический мир драматургии Сумарокова стал восприниматься "поздними потомками" как свидетельство его творческой беспомощности и подражательности. Смысл же трагедии как притчи перестал восприниматься вместе с отходом литературы от принципов притчи и забвением религиозно-философской проблематики, вызвавшей ее некогда на свет. Примечания 1. Глинка С.Н. Очерки жизни и избранные сочинения А.П.Сумарокова. Ч.I. СПб., 1841. С. 21. 2. Сумароков А.П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. Тт. I-X. М., 1782; Т. X. С. 117 ( далее ссылки на это издание в тексте, с указанием тома и страницы). 3. "Гамлет мой, кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на шекспирову трагедию едва-едва походит" (Сумароков, X, 117). 4. Левитт М. Драма Сумарокова "Пустынник". К вопросу о жанровых и идейных источниках русского классицизма. // XVIII век. Сб. 18. СПб.,1993. С. 59 74. 5. Там же. С.71; Ср. мнение М.Левитта о религиозности Сумарокова с суждением Гуковского, впоследствии не пересматривавшемся: "Что же касается вопросов религии и церкви, то и здесь Сумароков усвоил некоторые достижения передовой европейской культуры, хотя пределы его религиозного либерализма были не широки. Он не стоит на позициях традиционной церковности, он в вопросах религии "вольнодумец", но он не пошел дальше Вольтера, понятого при этом умеренно. Он деист и без бога обойтись не может." ( Гуковский Г.А. Сумароков и его литературно-общественное окружение. // История русской литературы. Т.III. М.-Л., 1941. С. 366) Заметим, что вполне объяснимая условиями времени тенденциозность этого суждения сочетается все же с осторожным подходом, фиксирующим несовпадение позиции Сумарокова с общим потоком просветительского "свободомыслия". "Деизм" как определение позиции Сумарокова представляется все же неудачным сам Сумароков, как будет показано, энергично отрицал деизм. 6. Левитт М. Драма Сумарокова "Пустынник". С. 67. 7. Размышление над двумя евангельскими заповедями было и одним из побудительных мотивов, породивших антиномизм Паскаля, хотя и далеко не основным из мотивов: "Двух законов достаточнее для упорядочения всего христианского государства, чем всех законов политических (любви к Богу и ближнему) <...> Бог, чтобы оставить за Собой одним право просвещать нас и чтобы сделать нам недоступным понимание нашего собственного существа, скрыл от нас завязку тайны так высоко или, вернее, так глубоко, что мы не в состоянии достигнуть ее, и не работой своего ума, а только покорностью его можем мы действительно познать самих себя" (Паскаль Б. Мысли. М.,1994. С.240). 8. Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977. С.20-22. Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма 52 9. Ср. с этим одно из описаний нравственной двойственности по Паскалю: "Истинная и единственная добродетель заключается в самопрезрении, так как мы достойны презрения за свою чувственность, и в отыскании истинно достойного предмета нашей любви. Но как мы не можем любить того, что вне нас, приходится любить существо, которое в нас, но которое не мы. А таково только Единое Существо. Царство Божие внутри нас (Лук. XVII, 21); всеобщее благо в нас самих, но не есть мы" (Паскаль Б. Мысли. С.250). Повторяется, как можно заметить, хотя и несколько с иными акцентами, идея внутреннего присутствия Божественного блага в человеческой природе, но при этом радикально разделенного с самой природой. 10. Ср. суждение Гуковского: "этика Сумарокова скорее приближается к стоическому учению отречения от страстей и благ" (Гуковский Г.А. Сумароков и его литературно-общественное окружение. С.366). 11. Левитт М. Драма Сумарокова "Пустынник". С. 66. 12. Там же. С. 70. 13. "Переживаемый Заирой психологический конфликт в значительной мере приближается к расиновской манере.<...> Однако Вольтер вносит в эту манеру новые черты: гибель героини происходит не из-за ее внутренней слабости ("трагической вины"), а из-за несправедливости, неразумности и религиозного фанатизма ее близких" (Сигал Н. Вольтер. М.-Л., 1959. С.49). 14. Как "сниженную" форму сакрализации собственных трагедий можно расценить, по-видимому, и такой феномен как "Любовная гадательная книжка", практическое пособие по гаданию на предмет "нежной страсти", составленное Сумароковым из двустиший, взятых исключительно из его собственных трагедий. 15. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л., 1981. С. 40. Ср. также мнение Е.А.Касаткиной: "Трагическая гибель Оснельды и Хорева, происшедшая по вине Кия, является осуждением его как деспота, а вместе с тем и правительственного деспотизма вообще" (Касаткина Е.А. Сумароковская трагедия 40-х 50-х годов XVIII века // Ученые записки Томского гос. пед. ин-та. 1955. Т.13. С.219). 16. "Наименее отчетливой в идеологическом отношении приходится признать трагедию "Хорев". В этой первой своей трагедии Сумароков поставил перед собой по-преимуществу чисто литературные задачи создания нового типа классицистической драмы." (Гуковский Г.А. Сумароков и его литературнообщественное окружение. С.393); такого же рода оговорки содержатся и в исследованиях Ю.В.Стенника: указывая, что "подлинный конфликт в трагедиях Сумарокова заключается в нарушении монархом своего долга", исследователь оговаривает, что "перипетии борьбы долга и страсти в душе влюбленных затемняли основную идею ранних пьес Сумарокова, лишали трагедийное действие целенаправленности" (Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. С.42). Неправомерность однозначной интерпретации Сталверха как злодея отмечается в недавно опубликованной статье П.Е.Бухаркина: "...совсем необъяснимо поведение Сталверха в "Хореве". Думается несправедливо видеть в нем злодея, олицетворяющего силы зла. Этому противоречит его кончина, о которой мы узнаем со слов одного из воинов <...>. Кроме того, в пьесе совершенно отсутствуют даже самые беглые указания на причины, заставившие Сталверха оклеветать Хорева и Оснельду. <...> В конечном счете все его поступки и действия оказываются немотивированными" [Бухаркин П.Е. Автор в трагедии классицизма (Предварительные замечания) // Автор и текст. Сб. статей. СПб., 1996. С.89] В Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма 53 дальнейшем исследователь снова возвращается к этому моменту и из постулированной прежде "немотивированности" поступков Сталверха делает вывод о многозначности его образа, в котором принципиально задана возможность прочтения его как злодея и как искренне ошибающегося верного слуги (Там же. С.91). Последнее нам представляется уже чрезмерным усложнением творческого задания образа, не свойственным прямолинейной, "называющей" поэтике Сумарокова. 17. О "Митридате" упоминается в цитированной выше статье Е.А.Касаткиной; о "Бруте" см.: Стенник Ю.В. Драматургия петровской эпохи и первые трагедии Сумарокова (К постановке вопроса) // XVIII век. Сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1975. С.246; здесь отмечается также "Заира" Вольтера, как подсказавшая Сумарокову мотив перехваченного письма. Мотив этот, однако, относится к широко распространенным в драматургии, непосредственная же разработка его имеет мало общего с вольтеровской "Заирой". 18. Ю.В.Стенник выделяет в качестве специфического недостатка "Хорева" наличие в нем двух центров драматического интереса коллизии влюбленных, с одной стороны, и коллизии власти, т.е. Кия и влюбленных, с другой, ссылаясь при этом на полемическое мнение Тредьяковского о несоблюдении Сумароковым единства действия (Стенник Ю.В. Жанр трагедии.... С.42). Нам представляется, что полемическую пристрастность Тредьяковского не стоит в данном случае объективизировать: двойственность драматического интереса здесь идет непосредственно от классического "Митридата" и не приводит к двум автономным линиям действия, что действительно противоречило бы драматическим канонам классицизма. 19. Racine J. Oeuvre completes. T.1. Paris, 1950. Р. 650. 20. О связи трагедии Сумарокова с любовной лирикой см.: Серман И.З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л.,1973. С. 97-120. 21. Неоднозначность и глубина образа Кия отмечались Е.А.Касаткиной: "В манере Сумарокова изображать правителя одновременно как человека с его страданиями и сомнениями, с его высокими намерениями и в то же время как тирана, сказывается реалистическая тенденция в раскрытии образа. От этой манеры раскрывать личность героя идет линия к пушкинскому "Борису Годунову"" (Касаткина Е.А. Сумароковская трагедия. С.247). 22. "Удар теятральный был бы чрезвычайно хорош, ежели бы не было на теятре противной мне, или паче несносной Ерифилы <...> только Ерифилина ролля меня отвлекает от настоящей истории" (Сумароков, IV, 336). 23. Стенник Ю.В. Комментарий // Драматургия Сумарокова. Л., 1992. С. 448. 24. Гуковский Г.А. Сумароков и его литературно-общественное окружение. С.366; Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. С.41. 25. Аверинцев С.С. Притча // Краткая литературная энциклопедия. Т.6. М.,1971. Ст. 21. 26. Там же. 27. Особый интерес в этом отношении имеет вопрос о роли автора в трагедии Сумарокова. Этой проблеме посвящена цитированная уже статья П.Е.Бухаркина "Автор в трагедии классицизма. (Предварительные замечания)". В той перспективе, которая намечена в этих "предварительных замечаниях", представляется чрезвычайно существенным положение о близости автора в 54 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма трагедии Сумарокова к героям, наличии единой системы ценностей, общей для всех героев и автора. Речь идет о человеке и человеческой ситуации "вообще", по отношению к которой автор находится в той же позиции, что и его герои. Вместе с тем, другое положение этой работы, дополняющее первое положение о полноправной вершинной и интегрирующей роли автора в трагедии Сумарокова нуждается, на наш взгляд, в коррекции. Суждение это исходит из представления о дробности универсума классицистической трагедии, сведении ее метафизики к метафизике "сущностных форм", утверждавшейся некогда Е.Н.Купреяновой. Антиномизм ценностей и устремлений героев, в действительности генерализованных и собранных в определенные группы, толкуется здесь как разрыв психологической структуры, как "механическая сумма" разнородных этических и психологических элементов, иллюстрацией чему служат в данном сучае сумароковские "Хорев" и "Синав и Трувор". Сам же автор, скрыто присутствующий в трагедии, мыслится началом организующим весь хаос разнородных элементов, сопоставимым в этой своей роли в трагическом универсуме с Богом: "Так же, как Бог в окружающей жизни, так и автор трагедии придает миру смысл; без автора, та же как без Бога в действительной жизни, все становится хаотическим, случайным и непонятным" (Указ. соч. С.91). Авторский образ, настойчиво сопоставляемый исследователем с незримым божественным центром, представлен носителем идеальной нормы, по отношению к которой обличается искаженность идеала в трагическом мире: "...трагическое действие <...> начинает восприниматься лишь как искажение высшей реальности, заключенной в авторе, становящейся в связи с этим критерием оценки героев, и мира трагедии вообще. Именно по сравнению с ним герои начинают восприниматься как неидеальные, как своеобразное искажение нормы; трагическая вина героя становится особенно очевидной" (Там же. С.100-101). Нам представляется, что следует все же разотождествить образ автора и божественную инстанцию в универсуме сумароковской трагедии. Автор, единый со своими героями, остается здесь в границах "только человеческого". Дистанция между автором и безмолвным Богом как раз и приводит к формированию собственно трагического мира, "высшая реальность" которого включает антиномию, разрешение которой остается прерогативой Бога. Заметим, что представление об образе автора, соответствующем инстанции "абсолютной истины", сформулированные в статье П.Е.Бухаркина, не есть нечто совершенно чуждое классицизму XVIII века. Вполне адекватно, как нам представляется, это положение может быть отнесено к трагедии Вольтера. Суждение исследователя обусловлено вполне эксплицированной историколитературной параллелью: "Данное представление находит свое соответствие в этике просветительской философии. Стоит напомнить, что русский классицизм, даже в том случае, когда его представители и не могут быть названы просветителями по своим философским взглядам (как Сумароков), с Просвещением связан неразрывно. Если говорить о трагедии, то очень важным здесь окажется ее ориентация на Вольтера, трагедии которого несут на себе явный отпечаток просветительских представлений" (Там же. С. 101). Именно разотождествление драматических принципов Вольтера и Сумарокова позволяет прийти к иным представлениям об образе автора у последнего. 28. Факт двух редакций ранних сумароковских трагедий давно известен в научной литературе. Изменения, внесенные в 1768 году в "Хорев" (самые существенные из которых относятся к монологу Кия в начале V действия) П.Н.Берковым были расценены как привнесение в трагедию злободневного политического смысла см.: Берков П.Н. А.П.Сумароков. М.-Л., 1949. С.47. Думается все же, что нет оснований видеть в новой редакции концепцию, радикально отличающуюся от предыдущей. 55 Глава 2. Сумароков - Истоки трагедии русского классицизма В статье Ю.В.Стенника, специально посвященной двум редакциям "Синава и Трувора" (Стенник Ю.В. Две редакции трагедии А.П.Сумарокова "Синав и Трувор" // XVIII век. Сб. 6. Эпоха классицизма. М.-Л., 1964. С.247-257), показано, что изменения, внесенные драматургом, носили прежде всего стилистический характер. В связи с этим нами рассматриваются именно вторые редакции трагедий, как наиболее адекватно отражающие концепцию драматурга. 29. Гуковский Г.А. О сумароковской трагедии // Поэтика. Л.,1926. Сб.1. С. 69. 30. "Трагедия "Семира" вся составлена из свойств добродетельных <..> трагедия сия останется навсегда венцем славе ея сочинителя, и честию Российского театра<...> тут нельзя никого ненавидеть; <..> каждого добродетель привлекательна, и каждый раздирает сердце зрителей," Плавильщиков П.А. Сочинения. Ч.IV. СПб., 1816. С. 50. 31. Ср. слова Сумарокова в пистме Г.В.Козицкому:"эта трагедия покажет России Шекспира." (Письма русских писателей XVIII века. // Л., 1980. С.133) О влиянии Шекспира на Сумарокова см.: Алексеев М.П. Первое знакомство с Шекспиром в России // Шекспир и русская культура. М.-Л., 1965. С.18-34. 32. См.: Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С.83. 33. Вяземский П.А. Сочинения. Т. 2 М.,1982. С. 68. 56 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Общее мнение современных исследователей о Княжнине-трагике может быть выражено словами Л.И.Кулаковой: "Княжнин выступает как продолжатель лучших традиций русского классицизма и намечает новые пути"1. Под "лучшими традициями" подразумевается сумароковская трагедия. Продолжение этих традиций видится в сохранении Княжниным общей нормативной основы классицизма и его гражданского пафоса. "Новые пути" связаны с более глубоким изображением страсти, с одной стороны, и с радикальной политической остротой последних пьес Княжнина. И то, и другое соотносится с "духом времени" литературной "чувствительностью" и республиканскими публицистическими идеями эпохи Великой революции. Все это не подлежит сомнению. Вопрос в том, является ли Княжнин представителем литературы "второго ряда", повторяющим общие мысли и литературные схемы, выработаные "первопроходцами", в том числе и Сумароковым, или же сам принадлежит к их числу? Вопрос этот, по крайней мере в отношении его драматургического наследия, казалось бы, давно и окончательно решен. Хрестоматийное закрепление за Княжниным пушкинского эпитета "переимчивый" привело к тому, что последними обзорами источников его трагедий остались работы Стоюнина и Галахова2 авторы эти утвердили мнение о том, что трагедии Княжнина полностью лишены всякой самостоятельности. "Вадим Новгородский", ставший в ХХ веке предметом наиболее пристального внимания, в основном изучался не как образец трагического жанра, а как самостоятельное публицистическое высказывание. Между тем, Княжнин сделал, по нашим наблюдениям, совершенно самостоятельный шаг в развитии жанра на русской почве. Именно с этой точки зрения представляется особенно значимым вопрос о его преемственности по отношению к Сумарокову. 3.1 Трагическая антиномия любви в "Письме графа Комменжа" К сожалению, в наследии Княжнина почти не осталось материалов, позволяющих судить о его философской и эстетической позиции, исходя из его программных публицистических высказываний. В этой связи поэтическая разработка Княжниным религиозной темы, которая была определяющей для концепции трагедии Сумарокова проблемы любви к Богу и любви к ближнему получает исключительно важное значение. У истоков княжнинского творчества мы встречаем знаменательное обращение к этой теме в лирической поэме "Письмо графа Комменжа к матери его". Имеет смысл охарактеризовать ее достаточно подробно и, в частности, определить дистанцию между оригинальным замыслом Княжнина и его непосредственным источником. "Письмо Комменжа" написано по мотивам французского романа "Записки графа Комменжа" (1735), переведенного Княжниным в 1771 году под названием "Несчастные любовники, или Истинное приключение графа Коминжа". Поэма также написана не позднее 1771 года3. Княжнин к тому времени только входил в литературу. Первая трагедия его, "Дидона", была создана, по разным источникам, то ли за два, то ли за четыре года до 1771-го. "Записки графа Комменжа" роман мадам де Тансэн, хозяйки известного салона первой трети XVIII века, написанный ею в сотрудничестве с племянниками д'Аржанталем и де Вейлем4. Произведение это, впоследствии полузабытое, было весьма благосклонно встречено современниками, сравнивавшими его со знаменитой "Принцессой Клевской" мадам де Лафайет, положившей начало целому ряду женских психологических романов. 57 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Роман, переведенный Княжниным, трактует сюжет, завязка которого близка истории Ромео и Джульетты: враждующие отцы препятствуют соединению влюбленных, юных графа Комменжа и Аделаиды. После различных романтических перипетий Комменж, уверенный в смерти возлюбленной, уходит в монастырь. Аделаида, случайно узнав его в одном из послушников, переодевается в мужское платье и поступает в тот же монастырь. Несколько лет, пребывая рядом с Комменжем, она не открывается ему. Через три года Аделаиду постигает смертельная болезнь, и на смертном одре она исповедуется вслух всей собравшейся братии, принося покаяние. Безутешный Комменж, второй раз потерявший возлюбленную, уходит в уединенную пещеру и предается горести, покорно ожидая смерти. Сходство с "Принцессой Клевской" особенно ощутимо в конце романа. Мы находим здесь ту же ситуацию, когда волею судьбы устранены внешние препятствия, мешавшие соединению влюбленных, но героиня тем не менее отказывается от своего безупречного по "земным меркам" возлюбленного. На мотивах этого решения имеет смысл остановиться более подробно, рассмотрев и поэму Княжнина, и роман де Тансэн, и его литературный образец, и внелитературный религиозно-нравственный фон. Именно концовка романа де Тансэн пребывание влюбленных в монастыре служит основой лирической поэмы Княжнина. Но замечательно кардинальное изменение им мотиваций действий и переживаний героев. Поступки "несчастных любовников" французского романа продиктованы сознанием безусловной ценностной полярности веры и связавшей их любви. Религиозные переживания их отнюдь не становятся самостоятельным сюжетом, мы явно имеем здесь дело с клише, порожденным католической ментальностью и эксплуатируемым для создания мелодраматического эффекта в финале романа. Герой романа поступает в монастырь, будучи поглощен тоской по возлюбленной. "Нечувствительность моя в сем случае, говорит он, принята была знаком моей ревности (т.е. ревностного религиозного рвения Е.В.), и я был в число трудников принят"5. В монастырь его вело лишь твердое упование, что слезы его "никем помешаны не будут"6. В этом меланхолическом расположении духа он и пребывает все три года до внезапного саморазоблачения Аделаиды. Аделаида на смертном одре также вспоминает о порыве чувств, приведшем ее некогда в монастырь, но прошлое видится ею теперь как испытание и искушение, определенное ей Провидением: "Какое положение души моей принесла я с собою к толь святым упражнениям вашим? Сердце, исполненное страсти, не мыслящее ни о чем больше любезного ему зрака. Всевышний Творец! Хотя меня самое себе оставить, подать больше причины к унижению себя пред оным в надлежащее время, дозволял мне без сумнения сии удовольствия напоенныя ядом чувствовать"7. Все время пребывания в монастыре Аделаида находилась, по ее признанию, в двойственной и неопределенной ситуации: издали следуя повсюду за Комменжем по зову чувства, она в то же время не решалась ему открыться, боясь смутить его душу, всецело отданную, как она полагала, Богу. Кризис наступил по прошествии трех лет, когда она внезапно увидела Комменжа, проливающего слезы над медальоном с ее портретом. Этот кризис осмыслен ею тепрь как шаг на пути к окончательному прозрению: "Наконец, наступил благополучный миг, приуготовленный Вышним к обращению меня в послушание его воли"8. Убедившись, что Комменж также страдает от неразделенной страсти, Аделаида восчувствовала собственную греховность и страх перед Божьей карой. Она удалилась в келью, принося жаркую молитву за себя и "об обращении" своего возлюбленного. "С самого того времени, говорит она собравшейся братии, почувствовала я покой души, бывшей уже с Ним неразлучной, и никого кроме Творца своего не искавшей. Он меня еще хотел очистить терпением; и я чрез несколько дней занемогла"9. Умирая, Аделаида 58 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности действительно не видит уже "никого, кроме Творца", к которому обращено ее внутреннее зрение. Она прощается со всей братией и желает раскаяния и спасения души своему возлюбленному "если он слышит меня". Комменж бросается к телу Аделаиды но жизнь уже покинула ее. Он остается безутешен, просит настоятеля отпустить его в пещеру и впоследствии похоронить их в едином гробе, надеясь, что "любезная Аделаида" исходатайствует у Бога отпущение его грехов. В сем месте, заключает Комменж свою историю, "живу я уже несколько лет, не имея другого упражнения, кроме непрерывного пролития слез о невозвратной моей потере"10. Путь Аделаиды преодоление любовного влечения к Комменжу (в современных категориях можно было бы говорить о сублимации влечения, о переключении его на иной, возвышенный объект). Комменж остается в узах чувственной любви, но надеется, что заслуги пред Богом, которые стяжала его возлюбленная, станут залогом и его спасения. Все это лежит в рамках чувственного отношения к святости, свойственного опять-таки католической ментальности. Вместе с тем, здесь продолжаются и литературные тенденции "Принцессы Клевской", отразившей характерные особенности эпохи классицизма. Героиня этого романа, ставшего образцовым, отказывается от своего возлюбленного после смерти ее мужа, ибо не приемлет непостоянства мира. Речь ни в коем случае не идет о разочаровании в мире, о встрече с реальной неверностью возлюбленного и о принципиальной верности памяти мужа. Острота ситуации в том, что она не любила умершего мужа, а возлюбленный оставался ей безупречно верен и ничем не задел ее чести. Принцесса Клевская совершает именно сверхдолжный поступок, опасаясь возможной измены возлюбленного (возможность эта обусловлена просто природой мира как такового) и оставаясь верной памяти мужа не в знак личной верностипривязанности, но полагая его образцом верности, который остается таковым именно в силу того, что более не принадлежит миру11. Героиня решает осуществить в своей жизни пардигму бытия-постоянства, уводящего за пределы света и общежития. Ее отказ от света, очерченный в самом общем виде, носит наполовину религиозный, наполовину философский характер. "Наполовину" следует понимать в самом буквальном смысле: "Мирские страсти и занятия стали казаться ей такими, какими они являются в глазах людей, имеющих более широкие и отвлеченные взгляды," (с другой стороны, принцесса признается своему бывшему возлюбленному, что "она не помышляет больше ни о чем, кроме другой жизни", имея в виду загробную жизнь) "Под предлогом перемены воздуха она удалилась в одну святую обитель, не высказывая, впрочем, определенного намерения навсегда уйти от двора," "Часть года она проводила в упомянутой обители, другую же часть у себя, но и здесь она жила в полном уединении и предавалась занятиям еще более благочестивым, нежели в самых строгих монастырях."12 Отречение Аделаиды, героини романа де Тансэн, носит более последовательный религиозный характер, нежели у ее литературного прототипа. Но по сути дела и здесь задействована парадигма бытия-постоянства, внутренней твердости, уже секуляризованная и служащая предметом эстетического восхищения. Подчеркнем при этом непреложность самой схемы движения "от -к" , от возлюбленного к Богу (или самодостаточной твердости). Этапы этого движения в романе де Тансэн непосредственно заданы ее образцом: период колебаний героини, кризис, сопровождающийся болезнью, в результате которого Абсолют вытесняет в ее сердце земную привязанность, отказ от последнего свидания и пожелание (мольба) "чтобы ему передалось то же настроение"13, безутешная скорбь оставленного возлюбленного, окончательное удаление (смерть) героини. 59 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Княжнин в своей лирической версии истории Комменжа и Аделаиды изменяет само соотношение взаимной любви героев и их веры. Возникает двойственная конфликтная система ценностей: любовь, сердечная привязанность к другому не хочет быть поглощена чистым созерцанием Божественного и в то же время земная любовь не заменяет любви к Богу, остающейся отдельным ценностным феноменом. Характерно уже изменение самой хронологии событий. Смерть Аделаиды наступает не через три, но через шесть лет после ухода в монастырь: "Шесть лет жизнь горестну я в сих местах терплю" (Княжнин, 621), повествует Аделаида на смертном одре. Это удлинение времени не случайно, оно потребовалось Княжнину для введения дополнительной перипетии, которая начинается в тот момент, как Аделаида встречает Комменжа, проливающего слезы над ее портретом. Аделаида Княжнина также убегает в смятении, но между тем с ней не происходит еще никакого внутреннего переворота. Зато медленные изменения с этой минуты начинаются в душе самого Комменжа. С ним происходит как раз нечто подобное тому, что случилось с Аделаидой французского романа. "Творца лишь оскорблял я в сей стране святой // <...> // И клятве страсть моя всечасно изменяла", признается герой, но "в три года наконец спокойство ощутил // И, бедством отягчен, почти бесчувствен был // <...> // И уж забвенный мной вселенныя творец // В мой дух, где зрак драгой единой лишь вмещался // К спасению меня помалу преселялся" (Княжнин, 619-620). Комменж у Княжнина, правда, не отказывается от своего чувства, как Аделаида у дэ Тансэн. Любовь его не остывает, но образ Аделаиды в его сознании отрешается от земных черт и сливается с образом Бога: "Я помышлял, что та, которой я прельщен, // Которой чистый дух на небо восхищен, // Котора на меня с превыспренних взирает, // Уж ныне от меня чистейших жертв желает. // Я, ободряясь тем, усердье возжигал // И к долгу сам себя святому подвигал, // Алкаючи скорей с любезной съединиться, // Котора в небесах мне только возвратится." (Княжнин, 620). Последняя встреча Комменжа с Аделаидой заставляет, однако, героя вновь ощутить несводимость земного чувства к молитвенным восторгам, согласующимся со "святым долгом". Аделаида Княжнина, в отличие от своего прототипа, не испытывает иллюзий относительно состояния души Комменжа и причины его печали. "Я, грусти зря твои, отраду зрела в них, // Вкушала, плачучи, я сладость слез твоих", так описывает она свое первоначальное состояние. Двойственность ее чувств объясняется не ложной боязнью смутить возлюбленного, чувство его она сознает и втайне разделяет,но благоговением перед "святостью места": "Сих святость мест, тебя включающих со мной, // Всегда претила мне открыться пред тобой" (Княжнин, 621). Ясно осознаваемая "святость" и любовь к Комменжу составляют две ценности, проявленные одновременно и не замещающие одна другую в сознании Аделаиды. Именно успокоение Комменжа и обращение его исключительно к Богу по прошествии трех лет становится для Аделаиды, опять-таки в отличие от героини романа, причиной ее скорби и в конце концов смертельного недуга: "Но долг исхитил мя из сердца твоего, // По крайней мере, я страшилася того. // В средине твоего несносного терпенья // Твой зрак не изъявлял уж прежнего мученья" (Там же). Поведение Аделаиды в этой связи нельзя толковать как продиктованное одной только страстью. В ее обращении на смертном одре к Комменжу, поочередно сменяясь, звучат обе темы: любви к Богу и к возлюбленному. Она обращается вначале к братии, прося о жалости к "грешной", затем к самому Комменжу, объявляя ему о своей не угасшей любви: "Узнай... которая тобой еще сгорает; // И не страшись ее, она уж умирает // Шесть лет жизнь горестну я в сих местах терплю; // Одним терпеньем сим измерь, как я люблю," это ее мягкий укор Комменжу за его "остывание". Затем речь ее прерывается жаркой молитвой к Богу, раскаянием, мольбой о милости и наказании. Последний жест умирающей Аделаиды, уже безмолвной, снова обращен к Комменжу: "возлюбленну свою увидел я, // Борящу 60 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности смерть, чтоб зреть в последний раз меня, // И отворяющу уж с нуждою зеницу, // И подающу мне трепещущу десницу" (Княжнин, 622). Комменж, уже прошедший определенный путь отречения, клянется умирающей Аделаиде в любви и верности. Но и здесь речь идет не об отказе от веры и не о попрании монастырского устава после смерти возлюбленной Комменж горестно мечтает, как о несбывшейся возможности, о жизни в обители вместе с Аделаидой в чистом молитвенном устремлении к Богу. Неуспокоенная череда скорбных мыслей о любви и обращений к Богу находит временное утешение в явлении герою тени Аделаиды, удостоверяющей его, что вся двойственность и муки земного бытия разрешаются в запредельном мире, что подлинный Бог не тождествен Богу закона и наказаний, понимаемых в земном плане: "Сей Бог, которого нам грозным представляют, // Есть Бог благотворящ, но хочет быть любим, // Ты не страшись его быть молнией сразим. // И смертных всех творец их слабость оставляет // И, мною умолен, тебя благословляет. // Чтоб быть тебе со мной, остался только час" (Княжнин, 625). Это благовестие о запредельном единстве человеческой и Божественной любви освещает реальную внутреннюю драму Комменжа, но отнюдь не снимает ее: идеал остается трансцендентным и не подменяется всеразрешающим знанием, полученным в видении. Сетования Комменжа возобновляются. Дерзновение его достигает высшей точки, он требует от Бога разрешения той двойствености священного долга и любви, которую сам Бог заставил его пережить: "О, мысли тщетные! Уж дух мой возмущен // От ига крестного стал ныне отвращен. // Творец, ты побеждал во сердце сем любезну, // Тобою услаждать я начинал жизнь слезну // <...> // Но ты возлюбленну в сии места вместил! // Почто жизнь кончащу ее ты мне явил..." (Там же). Он ощущает хрупкость равновесия сил земной любви и молитвенной веры, боится ввержения во грех и требует себе смерти, возвещенной тенью Аделаиды, как избавления от мучительной односторонности: "Уж время, время нас во гробе съединить, // Уже не достает мне более терпенья, // Спаси от слабости и твоего отмщенья, // Который гневает тебя, всем сердцем чтя." (Княжнин, 626) В отличие от героя романа, герой Княжнина предельно активен в своем выборе смерти и в своем движении к спасению. Две темы, неразрывно сплетенные в лирической исповеди Комменжа, земная любовь и священный долг перед Богом выражают полноту человеческого бытия, включающую в себя и собственное "я" со сферой его привязанностей, и высшее начало, полноту, подразумевающую не фиксацию наличного состояния, но непрерывную волевую активность, соединение расходящихся сторон, гармония которых угадывается лишь в запредельном мире. Предложенная интерпретация "Письма Комменжа" может показаться неожиданной на фоне традиционного понимания подобной тематики в поэзии XVIII века как антиклерикальной, антидеспотической, стоящей под знаком чистой апологии чувства14. В этой связи к приведенным соображениям следует добавить, что страдания, на которые обрекают себя Аделаида и Комменж в монастыре, приняты ими по собственной воле: "страх божий", удерживающий их от нарушения монашеских правил, не связан с внешним принуждением. Характерно выстраиваемое в поэме соотношение между ними и монастырской братией, в которой воплощен как раз образ односторонней веры, попирающей все природные чувства: "Печально зрелище в них мудрости сея, // Котора, суеты мирские презирая, // И бури всех страстей ногами попирая, // Всяк час близ алтарей святых служа Творцу, // В невинности свою приводят жизнь к концу. // <...> человек к живущу выше звезд // Всечасно близится, себя позабывая, // Его лишь одного предметом почитая" (Княжнин, 617). Эта формула религиозности как раз и не устраивает героев Княжнина, не забывающих "человека" в своей вере в Творца, но и не отождествляющих оба начала. Сами "пустынники" при этом не враждебны героям, но, скорее, преклоняются перед ними и их страданиями: "Со частию своей мою сравнив 61 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности часть люту, // В кровавых все трудах томяся и стеня, // Себе казались быть счастливее меня." (Княжнин, 618) Главные герои остаются совершенно свободны и самостоятельны. Княжнин опускает даже присутстующее в романе упоминание о настоятеле, о высшей власти в монастыре, которой подчинены герои. "Пустынники" и герои-влюбленные это два типа отношения к религии, второй, разумеется, подан как подлинный. В обоих случаях речь идет о религии, признающей трансцендентного Бога, с его особой сферой святости, но не о "естественной религии", с ее имманентностью божества миру, представляющей только оправдание рациональной схемы "естественных чувств". Истина, которая начинала было тускнеть для Комменжа, и к которой возвратила его умирающая Аделаида это истина, означающая не успокоенное знание, но волевой акт, проживание трагической разделенности человека и Бога, освященной предвестием трансцендентного единства земных антиномий. Перед нами, безусловно, трагическое мировидение, близкое к началам трагического мировоззрения Сумарокова. Но интерпретация того же самого трагического единства человека и Бога в существе своем глубоко изменилась. Вечный моральный закон и чувственная привязанность таково было в конечном итоге выражение трагического противоречия у Сумарокова. И женские, и мужские персонажи, входящие в сферу трагического, восходили к одной и той же модели человека, построенной на опорных понятиях чувства и морального долга. Новаторство Княжнина, лежащее в плоскости сентиментальной поэтики, в том, что чувство приобретает характер непрерывного развития, превращаясь в стихию, и в этой стихии мужские и женские персонажи, хотя и оказываются в сходном нравственном положении, тяготеют к различным началам. С оппозицией "мужского и женского" корреспондирует важнейшая для всей поэмы антитеза "человеческого и божественного". Собственно человеческое начало неразрывно соединено с чувством, с природными узами, неизменно связывающими "чувствительного" героя. В женском персонаже оно открывает дополнительный уникальный смысл заботы о другом, о любимом. Этот мотив дважды повторяется: в фигуре матери Комменжа ("Воспомни время то, как ты о мне страдала", обращается к ней Комменж) и в образе самой Аделаиды в поле ее бережной незримой заботы находится на протяжении шести лет Комменж, актом заботы является и обращение Аделаиды к нему на смертном одре, и последующее утешение из посмертия. Сущностная отделенность Комменжа от этих "женских персонажей" уже в том, что он дважды оказывается несостоятельным в ситуации заботы и утешения, несмотря на его нравственные усилия. Ср. момент смерти Аделаиды: "Коль весть сия тебя возможет оживить, // Так знай: вовеки я не преставал любить. // На горестны слова усмешкой отвечала. // Я оживлен... Но, ах, надежда вмиг пропала! // И сердце уж ее престало трепетать" (Княжнин, 622). Констатация невозможности утешения завершает и все порывы Комменжа успокоить мать: "О, мысль прегорестна! О ты, вершина бедства... // Так мне утешить мать нималого нет средства" (Княжнин, 627). В то же время в Комменже акцентировано иное качество верность, фундаментальное постоянство, центрирующее мир. Любовь его к Аделаиде это увиденное сквозь призму сентиментальной поэтики и романной сюжетики рыцарское служение даме, обретенное мистическое постоянство бытия. Комменж совершенно в особом смысле приближен к Богу, что выражается и в его впадении в молитвенную односторонность, и в дерзновенном обращении к Богу. Наконец, в его исповедании любви к отцу "Коль любит он тебя, то для меня он Бог" выступает признание любви в ее мужской ипостаси, как модуса Божества. Комменж и его отец, при всей конфликтности их отношений, составляют такую же зеркальную пару, как Аделаида и его мать. Здесь может быть обнаружено то глубинное разделение "бытия" и "существования", приводящее к 62 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности коллизии "верности" и "ответственности", которое мы обозначили как основу трагического конфликта классицизма. Психологическая коллизия "Принцессы Клевской", послужившей образцом для романа де Тансэн, традиционно сопоставляется с трагедиями Расина: сходство видится в борьбе "долга" и "страсти", разворачивающейся как на поле трагедии, так и в романе. Но о сходстве с трагедией можно говорить все же лишь до определенного момента: героиня романа совершает в конечном итоге онтологический выбор, отсекая от себя "природу". Роман в его технике XVII века предполагал исключительно позицию созерцающего описания, динамическая двойственность диалога героев оставалась достоянием драмы, не транспонируемым в прозаические жанры. Установка на созерцание изображаемого, вместо "подражания действием", свойственного трагедии, несла в себе изначально философский потенциал. Внутренние движения героев не только получали в романе эксплицированное рациональное выражение, но и выступали в понятийном оформлении, будучи соотнесены с суждениями о сущности общества и высших принципах человеческого поведения. Сам же "философский аппарат" романа XVII века не знал иного выражения онтологической двойственности кроме как переключения с "природы" на "бытие", обнаруживая внутреннюю связь с католическим томистским сознанием, утверждавшим иерархические ранги бытия. Лирическая поэма Княжнина с ее прерывистой эмоционально-взволнованной линией ведения рассказа, предполагающей не столько созерцание и описание, сколько суггестивное воздействие, подготовила иные выразительные возможности для воплощения конфликта. Сама же философская установка поэмы, еще более демонстративная, нежели в романе клубок нравственно-религиозных тем здесь и дополнен и уплотнен непосредственно выражает трагическую двойственность. В этом отношении поэма Княжнина может быть соотнесена с его трагедиями. Религиозный подтекст конфликта, обнаруживаемый в рамках недраматического жанра, поможет лучше понять тот собственно трагический мир, который будет воплощен уже в первой трагедии Княжнина, "Дидоне". И в то же время эта религиозная тема обладает и своим "дальнодействием": ее необходимо учесть и при интерпретации "Вадима" последней трагедии драматурга, заканчивающейся знаменательными словами о "мести богам", оставшимися вне поля зрения большинства интерпретаторов. 3.2 "Дидона" возвращение трагедии в лоно традиции XVII века Первая трагедия Княжнина "Дидона" резко отличается от сумароковских пьес уже тем, что представляет собой разработку одного из классических драматических сюжетов мировой драматургии. Вместе с тем, подобно первым трагедиям Сумарокова, эта трагедия с трудом укладывается в рамки представлений о дидактической направленности русского классицизма. По словам Л.И. Кулаковой, " произведение лишено четкой тенденции: проведя своего героя сквозь долгие колебания (гораздо более долгие, чем те, которые проходили герои Сумарокова), Княжнин принуждает Энея выйти победителем из борьбы со своими страстями, но страдания Дидоны и ее трагическая гибель заставляют зрителя сомневаться в необходимости этой победы "разума" или "долга"."15 Сам сюжет "Дидоны", едва ли не первый из крупнейших сюжетов западной традиции, апеллирующих к борьбе долга и чувства, безусловно таил в себе огромное богатство смыслов: от предельно обостренной личной психологической коллизии, до историософской проблематики, обусловленной тем, что герои были причастны одному из важнейших моментов мифологической истории Рима. Речь шла о герое-основателе и о сюжете, который объяснял зарождение вражды к Риму его самого знаменитого и опасного противника Карфагена. 63 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Но прежде чем определять меру реализации Княжниным потенциала вергилиевского сюжета, следует оценить непосредственное соотношение его с традицией драматического воплощения этого сюжета. 3.2.1 Проблема источников "Дидоны" Существует целый ряд "Дидон", созданных в XVI XVIII веках. Он начинается двумя трагедиями на этот сюжет итальянских гуманистов XVI века Дж.Чинтио и Л.Дольче. Активно разрабатывался он и во французском доклассицистическом театре XVII века к этому времени относятся "Дидона" Ж. Де Скюдери и две "Дидоны, приносящие себя в жертву" (Didon, se sacrifiant) Этьена Жоделя и Александра Арди. В XVIII веке "Дидоне" Княжнина предшествовали опера "Покинутая Дидона" Метастазио, трагедия "Дидона" французского драматурга Лефрана де Помпиньяна и одноименная трагедия немецкого классициста Иоганна-Элиаса Шлегеля (дяди Августа и Фридриха Шлегелей). Все эти пьесы (за исключением ранних итальянских трагедий), которые могли попасть в поле зрения Княжнина, были просмотрены нами16. Сравнение с трагедией Княжнина позволяет выделить из всего этого ряда две драмы, безусловно повлиявшие на замысел русского драматурга, "Покинутая Дидона" Метастазио и "Дидона" Лефрана де Помпиньяна. Трагедия Лефрана де Помпиньяна фигурирует уже в воспоминаниях о Сумарокове С.Н.Глинки17, другая пьеса была указана как источник еще в критике XIX века18. Между тем, изучения действительного соотношения этих источников с трагедией Княжнина до сих пор не предпринималось. Имеет смысл кратко охарактеризовать каждую из этих пьес, чрезвычайно популярных в XVIII веке, но в настоящее время забытых и, как в случае с пьесой Помпиньяна, с трудом доступных даже специалистам. "Покинутая Дидона" (1724) первая из опер Метастазио, снискавшая ему общеевропейскую известность и определившая его "новую манеру", которая обусловила кардинальные преобразования итальянской оперы. Именно Метастазио направил этот жанр от чисто барочной пышности и демонстративности к классицистической упорядоченности. Итоги реформы выразительно описал С.С.Мокульский: "Своей музыкальной драме Метастазио сообщил пропорции классицистической трагедии. Отвергая три единства, соблюдению которых мешала эстетика оперного спектакля, с ее установкой на зрелищное разнообразие, Метастазио усвоил из классического канона сравнительную простоту драматургической формы, близость завязки к катастрофе, небольшое количество персонажей, стремление к симметрии построения и, главное, разработку излюбленного французскими классицистами (особенно Корнелем) конфликта между любовью и долгом с конечным торжеством нравственной силы над страстью"19. Заметим, что "конечное торжество нравственной силы над страстью", неизбежная "победа долга" распространенное, но несправедливое положение в отношении французской классической трагедии, с ее двойственной шкалой ценностей. Однако в отношении опер Метастазио оно зачастую оправдывается буквально. Вообще же у Метастазио связность классицистического спектакля, внешние "пропорции" его не преобразили до конца барочную природу итальянской оперы. Это касается прежде всего драматических образов, остающихся замкнутыми сущностями, устойчивыми ролями и амплуа "мира театра" (см. об этом в I главе). Промежуточность между барокко и классицизмом в полной мере, как мы увидим, свойственна и "Покинутой Дидоне". Метастазио воплотил в драматической форме ту имеющую очень отдаленное сходство с Вергилием версию сюжета, которая впоследствии отразилась у Помпиньяна и в значительно более близкой к Метастазио форме заимствована Княжниным. Итальянский драматург отчасти контаминировал историю Дидоны и Энея Вергилия и сюжет о Дидоне и Ярбе, восходящий к римскому историку Юстину, но дополнил их 64 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности оригинальным домыслом, нигде более не встречающимся. В "Энеиде" коллизия разворачивалась собственно между Дидоной и Энеем: Ярб нумидийский царь, отвергнутый строительницей Карфагена, с героями не встречается, он фигурирует лишь в одном эпизоде, где приведена его мольба своему отцу Аммону Юпитеру об отмщении Дидоне, которая предпочла ему чужеземца. Дидона Вергилия, как известно, закалывается, всходя на сложенный ею жертвенный костер, проклиная покинувшего ее Энея и пророчествуя о грядущей вражде Рима и Карфагена. Юстин передает версию мифологического сюжета, в которой Ярб, преследующий своим сватовством Дидону, угрожает разрушить Карфаген; Дидона, ненавидящая его, всходит на жертвенный костер, избавляясь от преследователя и спасая своих подданных. В каждой из этих версий явно важен этиологический аспект сюжета-мифа объявление начала вражды двух держав, в одном случае, и миф о "закладной жертве", положенной в основание града, в другом20. Для Метастазио совершенно не важны эти историософские аспекты он воспроизводит и мелодраматизирует исключительно личную коллизию. Ярб у него проникает в Карфаген под личиной собственного посла, которую потом сбрасывает, требует руки Дидоны, сражается с ненавистным ему Энеем, будучи побежден и отпущен им, снова врывается в Карфаген после отъезда Энея и, в ярости на презревшую его Дидону, зажигает город. Дидона, проклиная Энея и отказываясь от спасения своих подданных, гибнет в пламени. Эта дополнительная разработка линии Ярба и нагнетание ужаса финальной катастрофы служит в целом созданию демонстративно однолинейных образов, представляющих одну господствующую страсть, одну сущность. От классицистической трагедии здесь только некоторые элементы внутренего конфликта, связанные с драматическим воплощением образа Энея, но они задают лишь дополнительные черты, оттенки этого образа, не составляя его ведущей характеристики. Энею у Метастазио присущ тип героического поведения: его решение об отъезде остается неизменным от первой до последней сцены, несмотря на смущение его перед лицом Дидоны и на его многочисленные заверения в искренности своих чувств. Здесь нет ничего подобного долгим колебаниям Энея, которыми отмечены его диалоги с наперсником у Помпиньяна и у Княжнина, нет и перипетии: согласия на брак после уже принятого решения об отъезде и нового отказа от него мотив, также введенный Помпиньяном и использованный Княжниным. Сомнения, внутренние колебания Энея составляют содержание отдельной монологической сцены, завершающейся его арией (18 явл., I д.), но они мало отражаются в его последующих речах и в действенных намерениях. Манифестацией героичности Энея служат и два его сражения с Ярбом, в которых он выходит победителем и великодушно отпускает противника, возвращая ему оружие. Дидона движима одной лишь любовной страстью. Это предельно эмоциональный персонаж, безусловно созданный с расчетом на зрительское сочувствие. Вместе с тем страсть ее задана как чрезмерная, граничащая с пагубным исступлением, приступ которого охватывает героиню в сцене гибели Карфагена. В последней сцене Дидона призывает мщение на главу Энея, она не внемлет словам своих поданных, умоляющих спасти их от ярости Ярба; она упрекает богов в "несправедливости", а затем отказывает им в самом существовании: "Они суть ничто, как токмо тленныя имяна, и сии боги суть или Химеры, развращенным воображением выдуманные, или неправосудные существа"21. Последние оставшиеся ей верными приближенные покидают царицу, устрашенные ее богохульствами. В заключающем пьесу монологе Дидона ужасается собственному богохульному исступлению, но не отрекается от мстительного отношения к Энею: "Ах! что я изрекла? О нещастная! До какого исступления приводит меня моя ярость! <...> Неужели умру я, не возбудя ни малейшей к себе жалости? Но за что же 65 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности душа моя толикия скорби ощущает? Нет, я прекращу свои бедствия! плачевная моя кончина да будет ужасным предвестием всех Энею предстоящих ужасных бедствий. Карфагена и чертоги мои да превратятся огнем в прах и пепел; да будут оные моим гробом"22. Очевидно, гибель Дидоны трактуется Метастазио как акт отчаяния, как безысходность самодовлеющей страсти. Ярб Метастазио дополняет традиционную для итальянской оперы группу центральных персонажей, включающую две центральные фигуры, мужскую и женскую, и героя-протагониста23. Ярб отмечен чертами гордеца и одновременно низкого злодея. В отличие от самозабвенного и яростного княжнинского Ярба, он способен на коварный расчет, подговаривает своего приближенного Араспа тайно напасть на Энея и т.п. В основное действие "Покинутой Дидоны" вплетается несколько дополнительных линий, что создает пестроту и дробность событий, свойственные барочной драме. Здесь и сестра Дидоны Селена, тайно влюбленная в Энея, и ее вельможа Осмида, сам мечтающий о престоле, и наперсник Ярба Арасп, спасающий Энея от тайного удара Ярба исключительно из соображений чести своего собственного государя, и т. д. Действие оперы собственно и состоит из многочисленных интриг, узнаваний героев, объяснения чувств, составляющих ясно очерченную фабулу, но не ведущих к внутреннему изменению персонажей. Для нашей темы важно, что в драме Метастазио воплощены два различных по самому существу героических типа Эней и Дидона хотя различие их в финале приводится в соответствие с традиционной морально-ценностной шкалой, противопоставляющей слепоте самодовлеющей страсти твердость героического духа. Историко-мифологические реалии служат только необходимым антуражем развития этой коллизии, на них не фокусируется внимание и они не создают дополнительного смыслового пласта. Совсем по-другому решен сюжет "Дидоны" Лефрана де Помпиньяна (1734), создание которой было явно стимулировано оперой Метастазио. Французский драматург также использовал момент пребывания Ярба при дворе Дидоны в роли посла. Однако финал на сей раз совсем иной: Ярб, угрожавший Карфагену, сражен Энеем, и войско его разбито. Дидона закалывается, не вынеся разлуки с Энеем, но отказываясь от всякой вражды к нему. Историко-мифологический контекст событий занимает здесь достаточно важное место: вся трагедия начинается с обширной экспозиции, в которой Ярб и приближенный Дидоны Мадербал повествуют об истории Дидоны, о ее бегстве из Тира и основании ею Карфагена, о ее любви к Энею и о готовящемся их браке; во втором действии Эней как бы продолжает экспозицию, дополняя ее рассказом о бедствиях троянцев, спасенных Дидоной. Этот исторический фон необходим для создания образов героев государей, каждый из которых не только выступает в качестве благородного любовника, как персонажи Метастазио, но и несет груз ответственности перед своими подданными. "L'amour a ses moment, l'Etat a ses besoins"24, эти слова Дидоны применимы ко всем троим царственым героям. Впрочем, значение в драме исторического контекста не приходится преувеличивать. Конкретика истории и исторического мифа у Помпиньяна мало связана с действием достаточно сказать, что сама тема Трои, ее восстановления, столь важная, как мы увидим, у Княжнина, здесь совершенно маргинальна. Эней побужден к разрыву с Дидоной абстрактной честью героя-воина "Non, ce n'est point l'amour, c'est la guerre, seigneur, // Qui seul d'un heros doit payer la vаleur"25. К этому вскоре прибавляются соображения ответственности перед его спутниками-троянцами, недовольными пребыванием на чужбине. Даже прямое веление богов, которое в концеконцов слышит Эней Помпиньяна, содержит лишь невнятное указание на судьбу, 66 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности требующую разлуки с Дидоной. С другой стороны, и сам сюжет гибели Дидоны лишается историко-мифологической определенности: она, правда, незадолго перед концом проклинает Энея и предвещает вражду Рима и Карфагена, но последние ее слова, исполненные нежности к Энею, снимают всякий смысл неотмщенной обиды. Герои Помпиньяна переживают ситуацию двойственности, непрестанных колебаний, выявляющих невозможность выбора, необходимость удержания двойного горизонта ценностей. Это отвечает внутреннему принципу классицистической трагедии, какой она сложилась в XVII веке, но в данном случае речь может идти только о поверхностном и шаблонном воспроизведении типа поведения персонажей и их конфликта. Эней при первом же появлении на сцене уступает давлению своего соратника и конфидента Ашата, решаясь покинуть Дидону. Но его решение последовать "бесчеловечной славе" сопровождается вздохом и уверением в признательности Дидоне: "Eh! C'est ce que je crains // Je ne trahirai point cette gloire inhumaine; // Mais mon coeur sait aussi ce qu'il doit a la reine"26. С теми же примерно словами Эней впоследствии окончательно покидает Карфаген: "Plein d'un amour malheureux et constant, // Je l'adore et je cours ou la gloire m'attend"27. Наиболее существенное из внутренних колебаний Энея в действительности мимолетно: сохраняющий галантную учтивость, но непреклонный в своем решении в присутствии Дидоны, он потрясен ее последней угрозой умереть в случае его отъезда и, оставшись один, снова решает остаться. Вмешательства Ашата, напомнившего Энею уже слышанную им самим волю богов, оказывается достаточно, чтобы Эней вновь обрел былую "печальную решимость". Последним испытанием для него становится внезапное известие в IV акте, что его отъезд предает Дидону в руки мстительного Ярба (до этого момента он о Ярбе ничего не знает и на сцене с ним ни разу не встречается). Из этого затруднения герой с легкостью выходит, тут же устремляясь в сражение, где он разбивает Ярба, о чем повествует вестник. Двойственен и противник Энея Ярб. Отвергнутый любовник, он до некоторых пор сдерживаем чувством чести. В третьем акте фиксируется момент, в котором слепая мстительная страсть в нем, наконец, берет верх, хотя он и сознает всю постыдность своего поступка: "Sans dout, et de mes fеux je dois rougir peut-etre; // Mais la raison nous parle, et l'amour est le maitre"28. С этого момента Ярб перестает быть героем трагедии и в переносном и в буквальном смысле: более он не появляется на сцене. Дидона также оказывается перед лицом двух ценностей: ее любви к Энею и ответственности перед своими подданными, которым угрожает Ярб в случае отвержения его сватовства. Но тучи, сгущающиеся над Дидоной Помпиньяна, не разражаются грозой, от жестокого выбора ее спасает Эней, сражающий Ярба. Само чувство ее к Энею, бывшее у Метастазио (как и у Вергилия) самодовлеющей страстью, превращавшейся из любви в ненависть к "изменнику", здесь остается нежным постоянством: кратковременные вспышки гнева Дидоны неизменно завершаются признанием в любви к "неблагодарному": "Je devrois te hair, ingrat, et je t'adore"29. 67 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности В балансе нравственных сил значимо в этой трагедии еще одно обстоятельство неверность Дидоны ее погибшему мужу Сихею. Этот мотив, лишь обозначенный в первом акте, внезапно становится актуальным в последнем действии, где смятенная Дидона, ожидающая известия о битве Энея с Ярбом, сообщает о явлении ей тени Сихея, упрекавшего ее в неверности и предвещавшего ей скорую смерть. Все это несомненно смягчает эффект самоубийства Дидоны. Когда карфагенская царица, уже поразившая себя кинжалом, восклицает: "Vous voyez ce que peut une aveugle foiblesse: // Mes malheurs ne pouvoient finir que par ma mort..."30, в этом есть некоторое сходство с Дидоной Метастазио, признававшей гибельность своей страсти, хотя Дидона Помпиньяна переживает уже не слепое отчаяние, но грустное сознание справедливой кары за несоблюдение высокой нравственной нормы, предписывавшей хранить память мужа. Все это не мешает героине завершить свою предсмертную речь, в умиротворении призывая на покидаемый ею мир благословение богов, возвещая любовь к Энею, свободную от мстительных порывов и забывающую обиды: "Que n'ai-je pu, grands dieux! maitresse de mon sort, // Garder jusqu'au tombeau cette paix innocente // Qui fait les vrais plaisirs d'une ame indifferente! //<...>// ...adieu, mon cher Enee! // Ne crains point ma colere... elle expire avec moi, // Et mes derniers soupirs sont encore pour toi"31. Спасение Карфагена и чувство Дидоны к Энею гармонически объединяются в этом завершающем аккорде. Следует отметить, что сам Лефран де Помпиньян по своим взглядам, по крайней мере в более поздний период, шел вразрез с либерализмом Просвещения. Он известен своими антивольтеровскими памфлетами, направленными потив атеизма Вольтера, и собственными опытами религиозной поэзии, в свою очередь осмеивавшимися Вольтером32. В его "Дидоне", по-видимому, нет подчеркнуто полемических мотивов, но нет в ней и характерных для современной ей вольтеровской трагедии идеологических моментов сведения конфликта к некоему предрассудку, политическому злу или же пафоса "естественного чувства", единения чувства и разума, преодолевающего все внешние препоны. Тем не менее тотальность рационализма Просвещения вполне свойственна и "Дидоне" Помпиньяна, только рационализм этот имеет основание скорее в традиционной идеологии, не терпящей эпатажа страсти, способного поставить под сомнение монополию морали и героического этикета. Две "Дидоны", Метастазио и Помпиньяна, по типу коллизии, по трактовке образов Энея и Дидоны образуют достаточно характерный контраст: в одном случае речь идет о воплощении в героях-любовниках различных и прямо противоположных начал, в другом о внутреннем морально-типологическом единстве персонажей, различных по индивидуальным жизненным ситуациям. В обоих драмах, однако, конфликт, обретая в отдельных точках мелодраматическую остроту и напряженность, не выходит в метафизическую сферу, оставаясь в пределах четкой морально-оценочной перспективы: в "Покинутой Дидоне" в конечном итоге предстает антитеза героического долга и чрезмерности страсти, приведшей к отчаянию и преступлению; в "Дидоне" Помпиньяна торжествует моральный этикет, которому соответствуют оба героя любовника. В первом случае можно говорить о барочной драме, с ее героямисущностями, но драме, вобравшей в себя некоторые моменты классицистической трагедии. Во втором о рядовой, в целом, трагедии XVIII века, сохранившей внутренние регулятивные принципы классицизма Корнеля и Расина, но потерявшей его метафизическую перспективу. Принцип одновременности двух ценностных рядов перешел в ней на уровень литературного приема, воплощающего принцип поведенческого этикета. 68 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Прежде чем определить соотношение с ними "Дидоны" Княжнина, следует представить общую картину заимствований из этих пьес и их "отражений" в трагедии русского драматурга. Отчетливых моментов, связывающих "Дидону" Княжнина с трагедией де Помпиньяна, не так много, но они вполне ощутимы. Безусловным свидетельством их связи служит такая второстепенная деталь, как имена наперсниц Дидоны Елизы и Арсины (Elise и Barcee)33, введенных французским драматургом. К нему же восходит и мотив объявления брака Дидоны и Энея, а также перипетия двукратной перемены Энеем своего решения о браке (аct III, sc.VI, VII и действие II, явл.7 у Княжнина). Открывающая трагедию Княжнина сцена признания Энея своему соратнику Антенору в угрызениях совести, которые мучают его посреди приготовлений к браку, внутренняя борьба Энея и увещевание Антенора в той же сцене в самом общем виде навеяны первой сценой второго акта де Помпиньяна. Но параллели на этом, по сути дела, и заканчиваются. Основной сюжетный материал Княжнина имеет мало общего с сюжетной линией французской трагедии. Даже в указанных близких по содержанию сценах практически нет параллельных текстовых фрагментов. Поэтика французского драматурга и сюжетно-смысловые акценты его пьесы оказались важны для Княжнина только в одном определенном отношении, связанном с самой сутью трагического канона классицизма. Речь идет о внутренней двойственности и внутреннем выборе главных героев. Душевная двойственность героев имеет примерно тот же рисунок, что и у Помпиньяна. Это упоминавшееся уже двукратное изменение Энеем решения о браке, забота Дидоны о подданных, сочетающаяся с переживанием любовной страсти, последние обращения друг к другу Энея и Дидоны и ряд других моментов. Однако рациональная стилистика французского драматурга, сводящая отношения трагических любовников к автоматизму галантного этикета, нивелирующая метафизические основы трагического мира, остается чужда Княжнину. Основной сюжетный костяк трагедии Княжнина чрезвычайно близок к драме Метастазио. Параллели с Метастазио весьма обширны и на текстуальном уровне. Приведем перечень наиболее очевидных параллельных мест: д. I, явл. 2 у Княжнина первая встреча Дидоны и Энея и 2 явл. I действ. Метастазио, многие стихи буквальный перевод последнего; успокоительная догадка Дидоны о ревности Энея в 3 явл. I д. восходит к тому же мотиву в 3 явл. I д. Метастазио; разговор Ярба с Гиасом и встреча Ярба с Дидоной, монолог отвергнутого Ярба, составляющие II д. У Княжнина, заданы у Метастазио, варьируются у Помпиньяна, но в княжнинской трактовке ближе к Метастазио; угроза Дидоны согласиться на брак с Ярбом в конце III действия представляет собой редукцию того "испытания ревностью", которое устраивает Дидона Энею в 11 явл. II действия у Метастазио; из Метастазио заимствованы и общие контуры мятежа Ярба предавший Дидону вельможа Тимар соответствует Осмиде Метастазио, в эпизоде нападения Ярба на Энея в храме, победы Энея и возвращения им противнику меча контаминированы два эпизода Метастазио: стычка Энея с Ярбом в храме Нептуна (д.I, явл. 15, 16) и новое нападение его на Энея во 2 явл. III д.; ряд мотивов внутренней борьбы Энея в 13 явл. IV д. повторяет соответствующие мотивы монолога героя в 18 явл.Iд. "Покинутой Дидоны"; наконец, именно оперой Метастазио инициирована сцена гибели княжнинской Дидоны в пламени Карфагена. Таким образом, даже этот краткий обзор реминисценций и параллельных фрагментов свидетельствует о преимущественной ориентации Княжнина на Метастазио. В виду того, что в жанровом отношении эти пьесы все же кардинально различны, и поэтика Княжнина, о которой еще пойдет речь, никак не может быть сведена к оперно-барочному миру Метастазио, сам факт такой ориентации требует уяснения. Трагедия Помпиньяна в жанровом отношении ближе к Княжнину в этом смысле вполне естественно известное по рассказу С.Н. Глинки обращение к ней Сумарокова для сравнения и оценки. Нам представляется, что в создании трагедии по мотивам Метастазио проявился специфический руссоизм 1760-х годов. 69 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Существует достаточно поздняя, 1841 года, статья С.Н.Глинки о трагедиях Княжнина, где он дает краткие характеристики каждой из них, иногда затрагивая общие эстетические темы. Знаменательно, что коснувшись "Дидоны" Княжнина, Глинка переводит разговор на эстетику Руссо: "Основа ея ("Дидоны"Е.В.) в "Энеиде" Вергилия; но это основа лживая, а потому и все драматические Дидоны неудачны. Вергилий представляет, что Купидон в виде Аскания, юнаго сына Энея, резвясь на коленях Дидоны, воспламеняет в ней жар страсти к Энею. <...> Истина необходима и в любви. Древние, как будто мимо души человеческой, все относили к какому-то внешнему влиянию. Добрый Жан-Жак Руссо говорит, что "он дал бы юному Эмилю, когда он достигнет лет семнадцати, для развития чувствительности его, прочитать четвертую тетрадь Энеиды". Но там не любовь, а изступление страсти. И Руссо в "Новой Элоизе" своей, выдумывая любовь, в лице Сен-Пре, говорит: "Могущество небесное! Ты дало мне душу для ощущения скорбей; дай мне другую душу для чувствования блаженства". Это любовь по воображению"34. Далее Глинка противопоставлял этому "воображаемому" чувству Руссо чувства героев Шекспира, изображавшего "подлинную природу". Хотя сам Глинка оставался "последним из могикан" классицизма, отстаивая театр Сумарокова и Княжнина, в отзыве этом чувствуется взгляд уже иной эпохи, для которой приоритет Шекспира в сфере трагедии бесспорен. Связь "Дидоны" Княжнина с Руссо кажется ассоциативной и косвенной. Важен, однако, сам ход этой ассоциации. От сюжета Вергилия Глинка переходит к Руссо, оценившему педагогические потенции этого сюжета, и, далее, к самой концепции чувства, заданной как бы еще у Вергилия и воплощенной Руссо. Чувство представляется как неистовая страсть, кажущаяся внешней по отношению к ее носителю. Пассаж о страсти "по Руссо", заменяя авторское суждение о первой трагедии Княжнина, выступает как выражение и оценка ее эмоционального настроя. Не исключено, что эти слова отголосок каких-то давних речей самого Княжнина-педагога, сохранившихся в памяти С.Н.Глинки, одного из его учеников в первом кадетском корпусе. Между тем обусловленность "Дидоны" русского драматурга художественными открытиями Руссо и его своеобразным трагизмом действительно представляется весьма существенной не столько в связи с выбором сюжета, восходящего к Вергилию, сколько в связи с обращением к Метастазио и с самим способом прочтения и драматической интерпретации его. Творчество Метастазио чрезвычайно значимо для Руссо. Будучи музыкантом и активно пробуя свои силы в жанре оперы, Руссо с вниманием и восхищением относился к реформе итальянской оперы, совершенной Апостоло Дзено и его учеником Пьетро Метастазио. Шедевры итальянской оперы оценивались им сквозь призму собственной нравственно-философской теории, выдвинувшей самостоятельную ценность страсти, волевого порыва: "...энергия всех чувств и пылкость всех страстей вот главная цель оперы. <...> Таковы основные принципы новейшей оперы. Апостоло Дзено, итальянский Корнель, и его нежный ученик, Расин этой страны, открыли и усовершенствовали новое направление"35. Далее, подводя итог реформе оперы, Руссо отмечает: "...убедились, что в опере излишне все холодное и рассудочное, все оставляющее зрителя настолько спокойным, что он способен размышлять о нелепости слышимого именно в этом основное отличие оперы от простой трагедии. Политические рассуждения, проекты заговоров, экспозиции, рассказы, назидательные сентенции словом, все, обращенное только к разуму, было изгнано из языка сердца вместе с каламбурами, мадригалами и другими чисто рассудочными вещами"36. Для Руссо характерно постоянное сближение и в то же время противопоставление оперы и трагедии. Итальянские оперные либреттисты ставятся им в один ряд с французскими трагиками-классиками, но опера видится как жанр, отвергающий все рассудочные экспликации "простой трагедии", под этой "простой трагедией" Руссо, по-видимому, подразумевает прежде всего современную ему французскую трагедию, к классике XVII века он сохранял неизменный пиетет, хотя иногда его недовольство распространялось и 70 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности на нее. Восхищение Метастазио не осталось достоянием только Руссо-мыслителя и теоретика музыки оно передано и его героям. Едва ли не чаще, чем кого-либо другого, Метастазио цитируют Юлия и Сен-Пре. В список самых необходимых книг, составленный Сен-Пре "для образования сердца Юлии", также вошел Метастазио вместе с Корнелем и Расином. Черты критикуемой Руссо "простой трагедии" могут быть легко узнаны в трагедии Помпиньяна с ее обширнейшей экспозицией, подробными рассказами о внесценических событиях, рационально-этикетным кодексом поведения персонажей. Как раз по сравнению с ней в пьесе Метастазио открываются непосредственность, импульсивность и спонтанность чувств, которые остались чужды французскому трагику. Метастазио избегает ретроспекции в начальных репликах героев и Эней, и Дидона с первых же явлений ввергнуты в бурю страстей, Дидона не произносит длинных этикетных речей, наоборот, она как бы стремится вырваться за пределы речевой коммуникации ср.: "Какие клятвы! Я их от тебя не требую. Единый взор твой, единый вздох, удовлетворить меня удобны"37. Чувства Дидоны Метастазио мгновенно вспыхивают и меняются: ее осеняет ложная догадка о ревности Энея к Ярбу, она решается сама угрожать Энею согласием на брак с Ярбом; наконец, она впадает в погибельное исступление, не только отвергая Ярба, но и обрекая своих подданных на смерть в горящем Карфагене. Порывист и страстен и Эней Метастазио, доходящий в своих метаниях до кощунственного желания вторичной гибели Трои и троянцев (в том самом 18 явл. I д., которое одно представляет внутреннюю борьбу Энея) . Все эти моменты, не укладывавшиеся в этикетный строй французской трагедии, воспроизведены на сюжетном и текстуальном уровнях Княжниным. Можно говорить о том, что именно Руссо, поэтика "в духе Руссо" определили меру усвоения Княжниным текста Метастазио. По сути своей, это было исключительно выборочное усвоение и использование текста "итальянского Расина", ибо от всех моментов барочной демонстративности и дробности действия, свойственных ему, Княжнин отказался. Страстные движения, пылкие эмоции героев Метастазио вошли в состав новой драматической поэтики Княжнина, воспроизводящей внутренний сюжет, психологическую коллизию и движение души, которые отсутствовали у Метастазио. Вместе с тем, принципиальное сущностное различие героев Метастазио значимо для Княжнина. Но у него оно переходит в метафизическое различие нераздельных и неслиянных начал, по-новому раскрывающих основное содержание трагического канона. В связи с этим имеет смысл отдельно разобрать новации поэтики и образного строя "Дидоны" Княжнина, а также выраженный в поэтике ее метафизический план. 3.2.2 Чувствительные герои "Дидоны" В "Дидоне" Княжнина предстает прежде всего новая поэтика трагического диалога. Новизна эта ощутима как на фоне Сумарокова, так и на фоне современной французской трагедии, что отчетливо видно при сравнении с "Дидоной" Помпиньяна. Одним из средств самовыражения героев Сумарокова была прерывистость речи, передающая эмоциональную взволнованность. Но слово в его прямом значении оставалось главным и доминирующим выразителем внутреннего состояния. Коммуникация героев современной французской трагедии происходила на значительно более изощренном этикетно-речевом уровне, но опять-таки слово было единственным и главным выразителем сердечного движения. У Княжнина эта ситуация существенно меняется. В наборе коммуникативных средств, используемых персонажами, появляются жест, мимика, выражения лица, косвенно заданные в текстовом строе их реплик и опознаваемые их партнером, реагирующих уже не столько на прямой смысл слова, сколько на подразумеваемое эмоциональное содержание его. Многие элементы этой поэтики заимстсвованы у Метастазио. Сам принцип перехода от слова к жесту 71 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности предстает в одной из уже приводившихся реплик Метастазиевой Дидоны: "Какие клятвы! Я их от тебя не требую. Единый взор твой, единый вздох, удовлетворить меня удобны". Ср. у Княжнина: "Я клятвами твоей горячности не мерю; // Я вздоху твоему единому поверю" (Княжнин, 69). Но Метастазио послужил только отправной точкой. Его герои, хоть и не связанные речевым этикетом французской трагедии, все же остаются самотождественными, следуют неизменным решениям, демонстрируют свою неизменную сущность. Герои Княжнина погружены в "расплавленную" стихию переживания, каждый раз ставящую их перед проблемой выбора, мгновенно меняющую их эмоциональные реакции. Достаточно привести короткий, но очень выразительный фрагмент диалога Дидоны и Энея: Дидона: Беги и удались несчастнейшей царицы! // Сокрой противный взор неверных ты очес, // В которых видела я прежде дар небес! // Сокройся, удались... О чем ты помышляешь? // Эней: Я мышлю, что ты гнев невинному являешь... // Итак, уж ты меня из сердца своего... // Я мышлю, что... ах, нет! Не мышлю ничего! // Дидона: Чтоб я, неверностью твоею огорченна, // Жалеть изменника была бы униженна! // Чтоб я... тиран! Узнай, могу тебя забыть. (Княжнин, 90) Каскад упреков Дидоны, внезапно прерванный вопросом к Энею, свидетельствует о напряженном внимании к мимике, о стремлении прочесть в движении черт движения души собеседника. В то же время становится очевидно, что внутреннее ожидание героини, ее психологический настрой противоположны ее словам, ибо она готова мгновенно оставить свой гнев при малейшем обнадеживающем знаке со стороны Энея. Эней трижды пытается начать свой ответ, но оказывается, что речь его эмоционально блокирована, и в конце концов он констатирует невозможность самооправдания. Несостоявшаяся речь Энея угадывается и домысливается Дидоной. В обрывках ее Дидона улавливает смысловые обертона и, в соответствии с ними, толкует всю непроизнесенную речь как просьбу о жалости и сострадании. Это тут же приводит к изменению эмоционального настроя героини: гнев, уступивший место мгновенно возникшей надежде ("О чем ты помышляешь?"), прорывается с новой силой, получив дополнительный импульс презрения к слабости. Поэтика внесловесного и косвенного выражения эмоциональных реакций героя не столько следует какому-либо из направлений современной Княжнину драмы, сколько привносит в драму открытия и чаяния Руссо. В трагедии Княжнина Метастазио и Помпиньян (точнее, опыт классической трагедии, стоящий за последним) увидены сквозь призму критических оценок Руссо и опыта его психологической прозы38. С миром, открытым Руссо, трагедию Княжнина роднит прежде всего энергия действия. Внутреннее действие у Княжнина напряжено до предела и образует определенный сюжет, что проявляется особенно отчетливо, если сравнить его трагедию с пьесами Метастазио и Помпиньяна. Достаточно проанализировать одну только линию Энея. У Метастазио к ней относится ряд эпизодов, демонстрирующих неизменную доблесть Энея, но вовсе не выстраивающих перспективы его внутреннего пути. Эней Помпиньяна проходит определенный внутренний путь, прежде чем он решается покинуть возлюбленную, но, как было показано выше, сомнения и колебания персонажа Помпиньяна в сущности являются этикетными моментами, прикрывающими неколебимую внутреннюю уверенность, ту же, что и у Метастазио, неизменность героической позы. Княжнин заимствует у Помпиньяна перипетию отказа-согласия и нового отказа Энея от брака, составляющую внешний контур "энеевского" сюжета, но наполняет его действительным внутренним содержанием. Линия Энея у Княжнина начинает трагедию, мгновенно достигая высочайшего накала. Она имеет три кульминационные точки, это начальная сцена беседы с Антенором, решительное объяснение с Дидоной в третьем действии и диалог с Антенором в четвертом действии последнее появление Энея в трагедии. Каждый раз внутреняя борьба Энея разгорается с новой силой, ситуация 72 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности выбора развертывается во всей двойственной открытости. Глубокое значение имеет при этом последовательность этих трех моментов, в каждом из которых сохраняется импульс предыдущего. Первая беседа с Антенором происходит в преддверии свадьбы Энея и Дидоны. Антенор здесь почтительный подданный, он скрывает свою скорбь, вызванную изменой Энея делу троянцев, внимательно следит за реакцией Энея на его слова и, приступая к обличениям, возвышает голос лишь по мере выяснения внутренних стремлений Энея. Активность в этом диалоге принадлежит Энею. В его речах предстают образы небесных знамений, которые требуют от него продолжить путь. Только что, "минувшей ночью", ему являлся Анхиз, а затем, явившись в храм с требованием знамения, он слышал глас богов, подтвердивших волю отца. И как раз сейчас, выведенный из "бессловесного оцепенения", Эней обретает возможность облечь происшедшее с ним в слово. Речь героя фиксирует сам момент осознания им предстоящего разрыва с Дидоной и возникновения мучительного комплекса двойственных переживаний. Встает вопрос о встрече с Дидоной, о том, как сохранить решимость перед лицом возлюбленной. Первая встреча, сразу же вслед за беседой с Антенором, оканчивается бегством Энея. Объяснение не удается ему, он оставляет Дидону в сомнении и с ложной догадкой о его ревности. Знание приходит к Дидоне помимо воли Энея как известие об уже совершающемся событии: троянцы готовятся к отплытию. Это происходит только в третьем действии. Если у Помпиньяна Эней сам являлся к недоумевающей Дидоне с решительным признанием (у Метастазио же подобной сцены просто не было), то у Княжнина инициатива принадлежит Дидоне, это она отчаянно молит Энея о встрече, хотя Эней, как можно понять из текста, идет на встречу с ней и без призыва ее наперсницы (д. III, явл. 4-6). Инициатива и в самом диалоге попеременно переходит от Дидоны к Энею, но лидирует в нем Дидона, все более подчиняющая себе Энея, пока он, наконец, не ввергается в полную внутреннюю немоту, лишенный речи и мысли (эпизод, разобранный выше). Именно в этом диалоге пауза, подразумеваемый жест, внесловесные средства коммуникации играют особенно значимую роль, организуя сложную и тонкую картину "страстного шантажа" Дидоны. Здесь происходит первый перелом сюжета герой вновь соглашается на отвергнутый им уже брак с Дидоной. Но между этой сценой и последней решающей встречей Энея и Антенора происходит столкновение в храме Энея и Ярба. Наступает следующий перелом действия, отсутствующий в источниках Княжнина. Картина мятежа Ярба построена на энергичной метафорике морской стихии, Ярб принимает образ инфернального чудовища (д.IV, явл.8). Основной источник этого стихотворного фрагмента рассказ Терамена из расиновой "Федры" о мифологически реальном явлении морского чудовища Ипполиту (следствие отцовского проклятия и гнева Нептуна)39. Это знак судьбы, который еще не ясен самому Энею, но он будет впоследствии прочтен Антенором и станет последним аргументом, окончательно переломившим ситуацию:"Богов, Эней! Богов уже ты огорчаешь; // Иль гнева их еще доднесь не ощущаешь? // Воспомни меч, в сей день на грудь твою взнесен, // Ты для раскаянья от смерти свобожден" (Княжнин, 104). Третий кульминационный момент сюжета связан с переходом инициативы к некогда смиренному Антенору. Эней, волей случая (точнее, судьбы) избежавший брака, подавлен и покорен "нежной" власти Дидоны. Антенор обрушивает на него поток обличений. Эней переживает кризис страсти, проклиная Трою и Италию затем наступает "опамятование", он молит о прощении и возвращается к прежнему решению. Но и тогда, когда решение уже выражено на словах, голос страсти не умолкает, симптомы "болезни" возвращаются, побуждая героя к самообману и самогипнозу, которые изобличает настойчивый и беспощадный Антенор (д. IV, явл. 13). 73 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Духовный путь Энея, каким он предстал в "Дидоне" Княжнина, может быть сопоставлен с духовным путем Комменжа. В обоих случаях герой, теряющий возлюбленную, находит успокоение или хотя бы относительное утешение в Боге (богах), но встреча с возлюбленой вновь возвращает его к ценностям земной любви; причем само возвращение это трактуется не как возврат к чистому чувству, но как исход в новое состояние, в мучительное и героическое удержание двух различных начал душевной жизни. (Напомним, что в лирическую поэму о Комменже этот сюжет привнесен самим Княжниным.) Однако история Энея, как и история Комменжа, составляет только часть общего сюжета, касающегося двух любовников. Напоминая Комменжу о своей любви и одновременно о верности Богу, Аделаида спасается сама, и одновременно спасает Комменжа, свидетельствуя в своем посмертонм явлении о том, что он прощен Богом. Дидона Княжнина тоже мыслит свой шаг в небытие как шаг к спасению и совершает его ради Энея. В этом едва ли не самое глубокое расхождение сюжета княжнинской "Дидоны" с ее источниками. И у Метастазио, и у Помпиньяна карфагенская царица была жертвой обстоятельств, она несла на себе тот или иной груз собственной моральной вины, но она погибала из-за Энея. Дидона Метастазио, отождествляя с Энеем причину своих страданий, проклинала его, вслед за героиней Вергилия, Дидона Помпиньяна сдерживала свои проклятия, перелагая вину с возлюбленного на судьбу, но ни одна из них не мыслила свой шаг к смерти, как совершаемый добровольно и ради Энея. Смерть Дидоны ради Энея абсолютно неожиданна и парадоксальна в этой перспективе. Окончательное решение Дидоны созревает между двумя явлениями к ней Ярба, зажегшего Карфаген и умоляющего Дидону о браке, который может стать единственным спасением для нее самой и для ее подданных. Мотив спасения настойчиво звучит с первых же реплик Ярба ("Постой, тебе еще осталося спасенье," "Спасися... должно ли, чтобы тебя избавить" Княжнин, 113), и с предельной поэтической остротой вновь возникает в финальном явлении. Карфаген уже весь в огне но еще сохраняется возможность избежать гибели, ответив согласием всемогущему Ярбу. При этом время для принятия решения стремительно исчезает: за тот маленький его отрезок, пока Ярб произносит свои двенадцать строк, круг пламени трижды сужается сначала град "весь пламенем объят", затем "вихри пламени теперь вблизи ревут" и, наконец, "храмина уже сия пылает": "Уж нет спасения, и твой плачевный град // О, страшно зрелище! весь пламенем объят, // И дымом солнца луч, как мрачной тучей, тмится, // Смягчись, жестокая, и пламень потушится! // Спеши... или чтоб грудь противну растерзать, // Ты хочешь все с собой погибели предать? // Услышь народа стон и треск падуща зданья. // Не медли окончать ты Ярбовы страданья. // Уж вихри пламени теперь вблизи ревут. // Все жители со мной к ногам твоим падут. // Спасись! Уж Ярб себя впоследни унижает. // Спасись! Се храмина уже сия пылает." (Княжнин, 115) Характерно здесь изменение самого модуса активности, присущего Ярбу, яростный и деятельный, он как бы отстраняется от совершенного и совершаемого им действия, пламя течет уже помимо его воли, он сам в ужасе перед ним и соединяет свой голос с голосами подданных Дидоны, деяние теперь должна совершить именно она. Настойчиво повторяемый призыв к спасению подхвачен Дидоной, но "спасение" теперь радикально меняет свое содержание: "Мне есть спасение, хочу себя спасти. // Мне с Ярбом гнусен свет; драгой Эней, прости! // Весь град, кончаяся, падет с своей царицей. // Да будет Карфаген Дидониной гробницей!" (Княжнин, 116) Последний экстатический порыв Дидоны выходит уже за рамки психологического строя конкретного образа. Соединение "прощальной нежности" героини Помпиньяна, умиравшей в мире, избавленном от угрозы уничтожения, и неистовства отчаянной 74 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности героини Метастазио не находит эквивалента ни в сфере чувств, ни в сфере рациональных принципов героического поведения. "Спасение" обретает здесь мистические и сверхличные обертона. Дидона, погибающая вместе со своим градом, приносящая его в жертву Энею, отсылает к мифологическому образу Дидоныосновательницы, развивавшемуся на протяжении драмы. Под психологическими покровами, созданными новыми средствами сентиментальной поэтики, проступает ядро образа, интерпретация которого требует символического ключа. Необходимо проанализировать символический строй трагедии в целом, чтобы еще раз вернуться к ее парадоксальному финалу. 3.2.3 Герои трагедии персонажи мифа Три героя, три самостоятельных правителя, Эней, Ярб и Дидона, воплощают в себе совершенно определенные метафизические начала. И Ярб, и Эней связаны с "божественным" уровнем мироздания: оба они ведут от богов свой род, что акцентировано в трагедии. Но Эней исполнитель воли богов, а Ярб, сын верховного божества Юпитера, восстает на него и противопоставляет ему собственную сакрализуемую личность. Дидона принципиально отлучена от богов-небожителей и представительствует за иное начало. Она верит в милость богов ("Не может божество невинную карать") но от нее скрыта их воля, она испытывает ее: "Се час, в который я рабов познаю верность, // <...> // Узнаю смертных я, узнаю и богов" (Княжнин, 107). Итог испытания смутен см. слова, которые Дидона бросает в лицо Ярбу: "Яви, злодейством сим умножив тьму грехов, // Неправоту или бессилие богов" (Княжнин, 114). Это дерзновенное непризнание высшей правды, но вовсе не та хула на богов, которая звучала из уст Дидоны Метастазио: у Метастазио героиня отрицала богов и осмысленность мироздания, впадая в полное отчаяние, у Княжнина она сохраняет веру в нравственный порядок, предрекая всеобщее осуждение Ярба в "предбудущие веки". Боги доступны Дидоне только через Энея он "ее Бог", без которого рушится ее бытие. И это нечто большее, чем галантная метафора. Близость Энея к богам связана не только с его мифологической генеалогией. Он воплощает собой само начало бытия, самотождественности и постоянства мира40, и именно в этом качестве он храним богами и сам являет собой нечто божественное в мире. Включение героя в семантическую сферу бытия определяется каноническим для трагедии классицизма мотивом верности, означающим всецелое посвящение своей жизни той инстанции, которая служит для героя источником бытия. Этот аспект совершенно определенно выступает уже в первой сцене. Эней оторван от Дидоны не капризом богов и судьбы (как у Метастазио) и не рационально понимаемым долгом перед подданными (как у Помпиньяна) гнев Анхиза и гнев богов настигает Энея как нарушителя прежней клятвы: "Зевесу клятву дав, дерзает изменить" (Княжнин, 65). К этому мотиву многократно возвращаются впоследствии и Антенор, и сам Эней. Упреки Дидоны в неверности и клятвопреступлении бессильны перед иной клятвой и иным обязательством верности, которыми изначально связан Эней. Клятва Энея не просто его слепое доверие богам, вручение им высшей власти над своей судьбой. Посвятив себя Трое, он становится теперь хранителем самой субстанции Трои, той первоосновы града, которую не уничтожили завоеватели-греки и которая теперь должна быть перенесена Энеем на новую землю Италии. Эта функция Энея многократно подчеркивается по ходу трагедии: "Но Трои больше нет, и Троя вся с тобою", "Не пал наш град тогда се Троя днесь падет" (Княжнин, 63, 102). Эней тот герой, "кем должна воздвигнута быть Троя" (Княжнин, 100), он именно восстановитель, но не строитель нового града, подобно Дидоне. Заметим, что эта функция Энея восходит непосредственно к Вергилию и римскому преданию. Эней мифа мистически 75 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности соединяет Трою и Рим, вывозя на новое место сакральную святыню, таинственных пенатов. Эта мифологическая подробность в данном случае не сохранена, но Эней Княжнина задан как живое воплощение мистического средоточия града. Наконец, третий аспект образа Энея, уводящий к той же онтологической перспективе бытия, это слава. Слава мыслится как божественная субстанция, стяжаемая героем в жизни, но существующая независимо от жизни. Эней скорбит о потере "славы", о том, что он не перешел окончательно в ее сверхъестественное измерение: "Покрыт бы лаврами, в тень гроба ниспустился; // Мой с блеском жизни луч, навеки преломясь, // Отстал бы от меня, со славой съединясь" (Княжнин, 64). Вместе с тем, роль Энея в том, чтобы быть "проводником" славы на землю; знаменательна евангельская тема сеятеля, семени и бесплодной почвы, возникающая в божественном призыве к Энею: "Где мужество души девалося твоей // Тебе вручено мной троян оставше племя, // Чтобы посеяти несметных лавров семя; // А семена сии, на дерние упав, // Бесплодны для меня, без пользы свету став" (Княжнин, 65). Эней становится своеобразным апостолом славы, хранителем врученного ему нетленного зерна. Его божественность ему передана, вручена и требует возвращения сторицей. Ярб антипод Энея, он занимает противоположный полюс в той же онтологической парадигме бытия. Ярб царь и даже "царь царей" "престол на многих мой престолах утвержден". В нем, так же как и в Энее, воплотилось мистическое средоточие царства. По словам Дидоны, "он ваш бог... Ярб все в странах своих". "Ярб, к владычеству богами в свет рожденный", царь и владыка по преимуществу, по мистической харизме. Характерно, что хотя он и гордится своими воинскими победами ("Ярб, никем не побежден"), он склонен различать славу воина и особое величие царя. Именно последнего он не находит в Энее, которого презирает: "Он храбро в брани час на грозну смерть дерзает, // Он воин. Но царя сие не отличает. // Иной велик в боях, но на престоле слаб, // На поле властвует, а под короной раб" (Княжнин, 77). Ярб как и Эней, несет печать божественного происхождения но он отмежевывается от сыновства богам и присваивает себе сакральную роль: "Еще б сказал, что кровь богов во мне течет, // Когда б мой род мне был достоинства предмет; // Но я сию мечту Энею оставляю, // А сам собою лишь прославиться желаю. // Гетуллии моей предел распространен, // Престол на многих мой престолах утвержден; // Без помощи богов меня к богам возносят. // Народы многие тьму жертв ко мне приносят." (Княжнин, 77) В начале четвертого действия, когда его замысел мщения окончательно созревает, Ярб уже не только отстраняется от богов, присваивая себе славу, жертвы и поклонение, но претендует на роль верховного бога, его "божественность" из потенциальной величины переходит в актуальную, он начинает действовать "как бог": "Великий Юпитер, держащий страшный гром! // Зри сыну твоему творенные досады! // Впервые для своей молю тебя отрады: // Когда ты мой отец, яви, что я твой сын. // Из мрака грозных туч, природы руша чин,// Мне сей ужасный день в ночь темну претворяя,// Не солнцем, молнией всю землю озаряя,// Вселенну потряси и громом поражай; // Низвергни ж город сей, блистай, греми, карай... // Но что! Слова мои напрасно я теряю // И своего отца без пользы умоляю.// Когда ты не разшь, тебя отцом не чту // И только тщетную в тебе я зрю мечту: // Бессилен ты смягчить души моей мученье! // Мне боги фурии; отец мой отомщенье!" (Княжнин, 92-93) Месть субстантивируется и сама становится божеством, которому служит герой, отождествляясь с ним и усыновляясь ему. Ярб принимает на себя образ богагромовержца, бога-мстителя. И этот образ выдержан до конца трагедии. Разрушение Карфагена, о котором он тщетно молил Юпитера, свершается самим Ярбом, принимающим атрибуты громовержца: "Ты можешь укротить мое ожесточенье // И грома моего удар остановить" (Княжнин, 113),молния Зевса-Юпитера функционально заменяется огненными стрелами Ярба. Последние слова трагедии, принадлежащие 76 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Ярбу, фиксируют поражение его именно как самозванного громовержца: "Дидона!.. нет ее!.. Я, злобой омрачен, // Бросая гром, своим сам громом поражен" (Княжнин, 116). В драматических характерах Ярба и Энея явственно влияние корнелевской системы трагедии, хорошо известной Княжнину, ведущему в XVIII веке переводчику Корнеля на русский язык41. Речь идет не столько о прямых перекличках с Корнелем, сколько о внутренней логике образа, о принципе величественного героя, посвящающего свое бытие высшей инстанции и становящегося воплощением ее воли, либо присваивающего себе полномочия высшей инстанции, отстаивающего собственное "онтологическое первенство". Два корнелевских типа героя с их различным отношением к бытию, примерами которых могут служить Гораций и Клеопатра (образы обоих воссозданы Княжниным-переводчиком), встают за фигурами княжнинских антагонистов Ярба и Энея. По логике сюжета, предзаданного Княжнину и заново им осмысленного, оба эти персонажа встречаются в одном и том же драматическом пространстве. Метафизический и психологический феномен "величественного героя" Корнеля был явлен в ряду исторических сюжетов. Те общие черты корнелевского героя, о которых шла речь в первой главе, характеризуют в своей совокупности специфический способ прочтения исторического сюжета и выстраивания сюжетной линии, связанной с конкретным действующим лицом его. Вместе с тем и каждый из сюжетов накладывал на героев собственные краски, привносил специфические черты в их облик. Два типа героев, два принципа характеров, представленных выше, отнюдь не означали предзаданной концепции полярности, вносимой в каждую из пьес. Полярность эта может быть выявлена только как тенденция в ряду корнелевских образов. Конкретным персонажам было свойственно часто сложное, трудноразличимое, сочетание обоих начал: в том же Горации пафос служения Риму неотделим от личных амбиций гордеца. Все это составляло как раз притягательную тайну корнелевских характеров, вызывавших то ужас, то почтительное восхищение, и каждый раз воплощавших собой ведущую силу в историческом космосе трагедии, таинственный перводвигатель и личной и исторической коллизии. Между персонажами Корнеля и героями первой трагедии Княжнина безусловно пролегает дистанция. Но сама эта дистанция может быть понята не только как свидетельство далекой связи, опосредованной рядом более современных и актуальных тенденций, но и как результат движения "назад" в сюжетотворчестве от исторического сюжета к мифу эксплицирующему ту же онтологическую проблематику на ином уровне. В героях мифа предстали в чистом, "беспримесном" состоянии действенные начала корнелевских героев. В "Дидоне" воспроизведены образы мифологической праистории, относящиеся к римскому мифу, послужившему грунтом, основой большинства трагедий Корнеля, развивавших сюжеты римских историков. Именно римский миф предоставил адекватные формы для реализации художественно-философской интуиции Корнеля42. Под "римским мифом" в общем смысле следует понимать большую совокупность героических сюжетов, частью легендарных, частью вполне исторических, варьирующих тему служения "Вечному городу", посвящения ему собственной жизни или же, наоборот, узурпации всей полноты власти, связанной с этим сакрализованным центром мира. Сюжет Энея исходный пункт всей римской легендарной истории, "архетип" римского мифа. Вместе с тем, движение вглубь традиции, к истокам корнелевских образов сливается в трагедии Княжнина с новейшими тенденциями Просвещения с одной стороны, с философско-публицистсческой экспликацией ведущих сил истории, с другой с сентиментальной поэтикой чувств. Ни Ярб, ни Эней у Княжнина не являются носителями одних только мифологических функций. 77 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности О психологической природе образа Энея уже шла речь. Средствами психологической поэтики обрисован и образ Ярба. Хотя в символическом контексте драмы фигура Ярба связана с комплексом мести в его богоборческом и инфернальном обличии, Ярб сам по себе не тождествен злу, разрушительному и деструктивному началу как таковому. В этом принципиальное его отличие от Ярба Метастазио. В оперной трактовке Метастазио не было установлено дистанции между Ярбомчеловеком, Ярбом-несчастным любовником и неистовым африканским варваром разрушителем Карфагена; образ его отнюдь не расчитан на зрительское сочувствие. Вместе с тем, само богоборчество, хотя и задано в ряде реплик Ярба ( все они сохранены и развиты Княжниным), отнюдь не является поэтическим камертоном этого образа, которому вообще присущи не столько величественные черты, сколько антигероические, сниженные, иногда доходящие до грани комизма. Ярб Помпиньяна, избавленный от буффонных черт его оперного прототипа, введен в разряд героев, имеющих право на сочувствие. Но в утонченно-выверенной гамме переживаний, страстей и нравственных притязаний, бесконечно далеких от мощных корнелевских образцов, страсти Ярба не досягают до богоборческого величия. Для образа его значим только момент нарушения долга под действием любовной страсти и это верх того, что могла включить в себя рафинированная галантная поэтика Помпиньяна (напомним, что Ярб у него сходит со сцены после рокового решения о мести). Образ княжнинского Ярба, выросший из словесной ткани Метастазио, совершившего главное деяние, вымышленное итальянским либреттистом сожжение Карфагена несравненно перерастает своих предшественников по пафосу своего "сакрального самочувствия". Ярб Княжнина подлинно оживает как герой мифа43. И вместе с тем, Ярб как титаническая фигура оказывается лишь гигантской тенью Ярба-человека, страдающего и заслуживающего сострадания. При всех его гневных и мстительных порывах, повторяющихся в разных вариациях почти в каждой сцене с его присутствием, он непременно переживает и состояние внутреннего смятения: "Без склонности к нему злодейства я страшусь; // Но, ах! К злодействию неволею влекусь // <...> // Но мщенье ли меня сюда влекло, Гиас? // Надежды звал меня сюда сладчайший глас, // Которая меня доныне утешает" (Княжнин, 76). Напряжение между двумя поэтическими планами острее всего чувствуется тогда, когда тема "демонизма" Ярба достигает предельной полноты в той самой последней сцене, процитированной выше, где он, отступая перед свершенной им "страшной местью", соединяет свою мольбу с голосом подданных Дидоны. Два поэтических плана соединяютсяи и в образе карфагенской царицы. Страстная и страдающая женщина, она в то же время и мифологическая царица-основательница. С Дидоной связано иное онтологическое начало: само существование экзистенция, стихия жизни, отнюдь не только в ее психологически-чувственном выражении. Дидона воплощает созидательную силу стихии, ее премудрость. Именно это начало вызывает восхищение Ярба и рождает его страсть: "Доколе Ярбово желанье изъяснится, // Внемли сие, что он делам твоим дивится, // Которыми царей ты многих превзошла. // Там дикие места, пустыню ты нашла, // Где пышный град, твоей премудростю творенный, // Несется к облакам на зависть всей вселеннной:// Град создан, кажется, небесною рукой, // Обуреваемым надежда и покой..." (Княжнин, 78). Заметим, что строительство Карфагена преподносится здесь как чистый созидательный акт, творение "нового города"44. Княжнин сознательно создает ощущение этой первичной простоты, отбрасывая два усложняющих обстоятельства, восходящих к Вергилию и достаточно детально обыгранных Метастазио и Помпиньяном: предшествующую историю Дидоны, ее бегство из Тира от преследований жестокого брата, и тот момент, что сама земля Карфагена куплена Дидоной у Ярба. Эти обстоятельства вводят дополнительную историческую эмпирию в 78 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности коллизию Дидоны и Энея, Дидоны и Ярба. Умолчание о них у Княжнина создает эффект абсолютного единства Дидоны и Карфагена, их слитного бытия. Забота и попечение заданы как важнейшие функции Дидоны, передающиеся и ее граду ("Обуреваемым надежда и покой"). Эта забота испытана на себе Энеем и его спутниками, к которым царица "жалостней богов на помощь притекла." Речь идет о той самой форме ответственности за мир, нераздельно слиянный с человеком, которая свойственна герою, включенному в экзистенциальный план45. Но сотворенный "премудростью" и гостеприимный град Дидоны лишен опоры, к нему неприменима категория "бытия", относимая к Трое и к царству Ярба. Внутренняя непрочность Карфагена подтверждается предательством "вельмож" (Д.II, явл.1) и финальным падением города, оказавшегося беззащитным, от внешней силы. Эта непрочность свидетельство отсутствия центра и средоточия сил, но не их малочисленности или истощенности: ср. слова Дидоны о том, что в ответ на просьбу Ярба о помощи в справедливой войне она "Стеснила б множеством пучину кораблей, // Поля покрыла б тьмой блистающих мечей." (Княжнин, 79) Метафизика бытия и существования-экзистенции задана и самим соотношением имен двух градов, Трои и Карфагена. Оба града связаны поэтическим образом пожара. Пожар Трои, о котором постоянно вспоминают герои, отзывается гибельным пожаром Карфагена. Неистовый Ярб с самого начала угрожает уравнять их судьбы: "Узрим все зданье здесь в пылающем огне // И, Трою сотворя вторую в сей стране, // Мы Карфагену всю в троянско ввергнем горе!" (Княжнин, 81). Функциональное неравноправие имен двух градов проявляется уже по частоте их употребления. Огромное количество раз употребляется имя Трои, как и производные от него "трояне", "троянский", и всего четырежды упомянут Карфаген (Карфагена), вовсе отсутствуют производные от него. Здесь отчетливо проявляется функция имени как средоточия бытия вещи. В отношении к имени Трои это в большинстве случаев имяпризыв, имя-заклинание и напоминание о вос-становлении предмета носителя имени. Отсутствие имени Карфагена приобретает в этом контексте смысл недостачи бытия, умаления "самости" самого персонифицированного объекта. Особенно ощутимо нехватка имени в рассказе о создании Дидоной града (Д.II, явл.2), в воспоминании Энея о своем спасении (д.I, явл.1). "Уравнивание" онтологического статуса Карфагена и Трои происходит только к концу трагедии, когда Карфаген поглощается огненной стихией, как некогда Троя. Возникающее здесь, в последней реплике Дидоны, имя Карфагена получает совершенно особый смысл. В этот момент происходит дарование бытия граду. Произносится классическая формула творения "Да будет": "Весь град, кончаяся, падет с своей царицей. // Да будет Карфаген Дидониной гробницей". Бытие получает гробница, сам след экзистенции-существования Дидоны и Карфагена. В этом финальном аккорде трагедии, к которому снова подошел наш анализ, сходится вся ее метафизическая проблематика. Формула "Да будет" в последней реплике Дидоны восходит непосредственно к Метастазио: "Нет, я прекращу свои бедствия! Плачевная моя кончина да будет ужасным предвестием всех Энею предстоящих ужасных бедствий. Карфаген и чертоги мои да превратятся огнем в прах и пепел, да будут оные моим гробом" ("Precipiti Cartago, // Arda la Reggia; e sia // Il cendere di lei la tomba mia")46. Но "да будет" Метастазио прямо противоположно по смыслу тем же словам у Княжнина: там это предел отчаяния, отказ от мира и уход в ничто "в прах и пепел", у Княжнина это акт спасения, обретения некой парадоксальной прочности. 79 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Дидона поставлена в безвыходное положение между двумя полярными "бытийствующими" героями. "Великая власть" Ярба, владыки "множества престолов", "известного всей Африке", как бы прижимает Карфаген к морю, так что уход Энея должен вести к немедленному столкновению с Ярбом. Союз с одним из них необходим Дидоне и ее граду, лишенным метафизической опоры. Речь идет именно не о капризе галантного чувства, но о глубокой необходимости, коренящейся в самой природе локуса, связанного с Дидоной. После построения града и создания самого прецедента "царской власти" должно произойти дополнительное событие утверждения града, приведение его к бытию: то, к чему подталкивает Дидону Ярб (говоря о себе в третьем лице): "твой скипетр в руках твоих им будет утвержден." Но, вместе с тем, и Ярбу, и Энею Дидона необходима как начало жизни, экзистенции, вос-полняющее их бытие. Сам брачный союз обретает полноту мифологического первосмысла. В союзе с Энеем Дидоне отказывает судьба. Союз с Ярбом, к которому подталкивают ее обстоятельства, ненавистен ей; он означал бы торжество богоборческого начала, самоутверждающегося бытия отпадения самой природы от богов. Но акт жертвы, который совершен героиней и к которому приобщен "весь град" ("Весь град, кончаяся, падет с своей царицей") приводит к совершенно иному итогу, непредусмотренному в жестком раскладе судьбы. Стихия существования, порыв, страсть Дидоны и ее внутренняя разумно-созидательная сила, ее попечительная забота вводятся в сферу устойчивых ценностных комплексов, они спасены от смерти как чистой аннигиляции. Не изменяя себе и богам (союз с Ярбом) и не отчаяваясь в себе, не превращая себя в чистое ничто (смерть в отчаянии и проклятиях, обращенных к Энею), Дидона и ее град получают нетленное бытие в гробнице-памятнике, посвященной Энею. Разделенные судьбой, Дидона и Эней, остаются нераздельны. И в то же время это окончательное ускользание героини из-под власти Ярба. Именно Ярб остается в абсолютном небытии: пораженный Энеем, дарящим ему жизнь и, следовательно, отрицающим его претензии на самодостаточное бытие, он теряет теперь основы самой жизни, не только не соединяющейся с ним, но даже не поддающейся его уничтожению. Победа над Ярбом, неудавшимся громовержцем, поражающим себя собственным перуном, становится вторым важнейшим смыслом жертвы Дидоны и финалом трагедии. 3.2.4 "Дидона" как этап в истории жанра Следует вспомнить две системы классической трагедии XVII века, Корнеля и Расина, с их ориентацией на имманентную личностную активность и судьбу, диктующую героям свои условия. В "Дидоне" Княжнина оказались воплощены одновременно оба принципа. О корнелевском начале в ней, касающемся прежде всего образов Ярба и Энея, уже шла речь. Именно линия Ярба знаменует предельный накал спонтанно-личностной активности. Сам Эней в этом отношении предстает в двойственном свете как вершитель божественного замысла и как его жертва. Если конфликтное противостояние Энея и Ярба может быть прочтено в рамках корнелевских принципов, то сюжетная линия Дидоны и Энея реализует коллизию судьбы. Подлинной "героиней судьбы" предстает Дидона. Вполне правомерно говорить и о расиновской подоплеке образа карфагенской царицы и самой коллизии Дидоны и Энея. В данном случае можно указать и конкретную драму Расина. Речь идет о еще одном варианте "римского мифа", получившем специфически расиновскую трактовку, трагедии "Береника". Сама история иудейской царевны Береники и императора Тита, отказавшегося от своей любви ради Рима, запрещающего гражданину брак с чужеземной царицей, представляет собой историческую параллель вергилиевскому преданию о Дидоне и Энее. Классическая разработка этого сюжета Расином служила, по-видимому, ориентиром уже ближайшим предшественникам Княжнина, по крайней мере, Метастазио. Начало "Береники" определяет ход первых сцен "Покинутой Дидоны" Метастазио: встреча 80 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности влюбленной царицы, чающей скорого брака, с ее героем, неожиданное смятение его и бегство, недоумение героини, ее ошибочная догадка о ревности, на время успокаивающая ее тревогу, все это восходит к Расину и переходит в пьесу Княжнина. У Княжнина эти элементы, очищенные от оперного барочного антуража Метастазио, непосредственно приближаются к психологической поэтике Расина47. Не только отдельные мотивы и реминисценции, но и само драматическое осмысление судьбы напоминает о "Беренике". Трагическая героиня Расина, сопротивляющаяся судьбе, упрекающая возлюбленного, отказывающаяся верить искренности его высоких мотивов, приводящая Тита и его соперника Антиоха на грань отчаяния и гибели, становится максимально активным лицом в трагедии. Преследуемая судьбой, она совершает в конечном итоге акт жертвы, меняющей весь расклад возможных исходов. Любовь, "нежная связь" (относящиеся в данном случае к экзистентной гамме отношений), которой предписано погибнуть, обретает бытие в самой гибели, запечатлевает себя: "за любовью остается последнее слово, слово прощания, именно ей дано право конечного выбора совершить акт высшего самопожертвования и тем вопреки всему сохранить себя, стать как бы над временем, уйти в легенду."48 В то же время Береника совершает свою жертву ради возлюбленного, подтверждая возвышенную правоту его долга. Именно эта жертва служит предтечей жертвы княжнинской Дидоны, столь разительно отличавшейся от ее предшественниц. Нравственный поступок, неизменно квалифицируемый как "жертва" всеми критиками Расина, переходит здесь в реальную жертву мифологических времен и, соответственно, исключительно духовные мотивы, превращавшие героев Расина в символы различных начал человеческой личности, переходят в символику различных мифологических миров. Соединение корнелевского и расиновского вариантов организации трагического действия знаменовало важнейший момент формирования жанра трагедии в русской драматургии. Различие спонтанной активности и судьбы, лежащее в их основе, соответствовало доминированию начал бытия и экзистенции, определявших в своей совокупности всю онтологическую перспективу трагического универсума классицизма49. Сами эти начала оставались неявленным, имплицированным основанием драмы. Соединение обоих принципов стало возможным только потому, что онтологические доминанты из общих структурных основ трагического мира превратились в образы-архетипы, получили свое конкретное воплощение. И сама философия трагедии также обнажилась в этом архетипичном сюжете. Обращение к событиям "первых" времен, сознание двойственности человеческого бытия было свойственно и Сумарокову. Но его антиномия, выражаемая понятиями естественного чувства и закона, имела умозрительно-конструктивный характер, носителями ее оказывались тождественные по своей внутренней структуре персонажи. В центре внимания помещался вымышленный сюжет, развивавший моральную и философскую проблематику. Княжниным в его "Дидоне" были уловлены сами типы сюжетного и персонажного воплощения онтологических начал трагедии. Иными словами, о трагизме Сумарокова можно говорить как о структурном трагизме, о внутренне противоречивом соотношении понятий, сквозь призму которых должна пониматься коллизия персонажей. Именно внутренняя модель трагических отношений была сформирована Сумароковым. В "Дидоне" Княжнина трагическое слово обрело семантическую глубину: содержанием его стала коллизия героев, за которыми стоят различные миры, отношения которых формируют историческое предание. Общность же Сумарокова и Княжнина , положивших начало русской трагедии классицизма, прослеживается в решительном отказе от тотального рационализма Просвещения и в воспроизведении ими основ трагического конфликта, 81 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности открытого XVII веком, который не знал тем не менее их философской и архетипической экспликации. 3. Эволюция творчества Княжнина после "Дидоны" 3.1 Обеднение трагедии и ее новая проблематика Глубина и самостоятельность решения Княжниным сюжета "Дидоны" совершенно уникальны на фоне предшествующей традиции и позволяют говорить о новой точке самоосмысления трагического жанра. Между тем, трагическое творчество Княжнина далеко не исчерпывается "Дидоной", и потому обширность посвященного ей фрагмента работы и обобщенность выводов, опирающихся исключительно на ее анализ, может вызвать недоумение. Все это отвечает, однако, реальному месту "Дидоны" в наследии Княжнина и в последующей судьбе русской трагедии. Схожая ситуация может быть отмечена в отношении драматургии Сумарокова, первые опыты которого ярче всего выразили глубинную сущность его трагедии. Контраст между "Дидоной" и последующими драмами Княжнина еще разительнее. Ни одна из его позднейших пьес не поднимается до обширности и глубины проблематики первой трагедии. Княжнин не обращался более к мифологической сюжетике, не пытался более воплотить в героях некие архетипы. Даже поэтическая тонкость диалогов, прочерченность линий внутреннего развития персонажей не поднимаются в других трагедиях на уровень "Дидоны". От сферы мифологии Княжнин переходит к "горячим", политически актуальным сюжетам. Идя по этому пути, он создает на протяжении 1770-1780-х годов явно слабые, односторонне демонстративные пьесы, такие как "Ольга", "Владимир и Ярополк", "Владисан", "Росслав", "Титово милосердие", но конец его творческого пути отмечен взлетом. Речь идет о "Софонисбе" и "Вадиме Новгородском". Первая из этих трагедий незаслуженно забыта (в нашем веке ни разу не переиздавалась), а вторая получила столь же незаслуженную исключительную известность. Как бы ни были далеки по своему уровню от "Дидоны" княжнинские трагедии 1770 1780-х годов, они самым непосредственным образом связаны с ней, наследуют ее проблематику и, вместе с тем, образуют самостоятельную линию развития, результаты которой явственно сказываются в двух последних трагедиях драматурга. В 70-80-х годах Княжнин создает вереницу героев, варьирующих образы Энея и Ярба, величественного мстителя-богоборца и героя, посвятившего свое бытие отечеству и богам. Сформированный в "Дидоне" сюжетный блок, связанный с фигурой мстителя, с удивительным постоянством переходит из трагедии в трагедию, вплоть до "Вадима". В этот сюжетный блок обязательно входит признание героя-мстителя, утверждающего собственное "я" как высшую этическую инстанцию, его клятва отомстить противнику, восстание мстителя, его поражение и обезоруживание, провозглашение им своего несмирения перед лицом врага, готового его помиловать, возвращение ему его противником оружия (меча) и его самозаклание и/или убийство другого (врага или близкого ему персонажа)50. В "Ольге", "Владисане", "Росславе", "Софонисбе", "Вадиме Новгородском" этот комплекс мотивов воспроизводится с незначительными вариациями, во "Владимире и Ярополке" и "Титовом милосердии" он редуцирован до отдельных ключевых мотивов. Этот круг мотивов приобретет особую семантическую насыщенность в последних трагедиях Княжнина. Именно ими будет определен особый ракурс трагической проблематики, воспринятый В.А.Озеровым, и, во-многом, литературой 1810-1820-х годов, откликнувшейся на "республиканскую" тему "Вадима Новгородского". 82 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 3.2 "Софонисба" и "Вадим Новгородский" В отношении "Софонисбы" можно отметить то же недоумение исследователей, которое отмечалось ранее применительно к первым трагедиям Сумарокова и "Дидоне" Княжнина. Однозначная дидактическая тенденция, приписываемая трагедии классицизма в целом, здесь опять-таки не обнаруживается. "На общем фоне творчества Княжнина, писала Л.И.Кулакова, эта пьеса представляет некоторый интерес как попытка создания трагедии, лишенной какой бы то ни было морализующей тенденции."51 Собственно те же слова можно было бы отнести и к вызывавшему постоянно столь пристальный интерес "Вадиму Новгородскому". Посвященные ему стихи А.Ф.Воейкова "И нерешенною осталася борьба // Величья царского с величьем гражданина" точно отражают завершающую трагедию ситуацию, хотя подобный вывод и не принят исследователями, страстно развивающими длящийся уже на протяжении двухсот лет спор княжнинских героев и не оставляющими попыток выявить преимущества той или иной стороны.52 В "Софонисбе" (1787) и "Вадиме Новгородском" (1789) снова возникает композиционная схема, сближающая их с "Дидоной". В обеих трагедиях предстает героиня, за которую борются двое героев, образы которых, при всей их новизне, восходят все к тем же фигурам Энея и Ярба. В обоих случаях в финале трагедии происходит самоубийство героини, инициирующее и смерть одного из героев (в "Дидоне" эквивалентом этого служит "духовная" смерть Ярба "бросая гром, своим сам громом поражен"). Если в отношении "Софонисбы" может еще идти речь об объективной схожести двух сюжетов, обусловленной сходством источников, то "Вадим Новгородский", сюжет которого плод авторского вымысла, не оставляет сомнений в сознательном воспроизведении определенной художественной концепции. Связь с "Дидоной" "Софонисбы" не ограничивается композиционным сходством. "Софонисба" трактует ту же историческую тему вражды Рима и Карфагена. Если "Дидона" апеллирует к мифологическому моменту начала этой вражды, то "Софонисба" к одному из завершающих ее исторических эпизодов. Княжнин снова обращается к сюжету, неоднократно использованному в итальянских и французских трагедиях. Непосредственным же источником Княжнина, как показал еще А.Д.Галахов, явилась одноименная трагедия Вольтера53. Софонисба, племянница великого Ганнибала, влюблена в африканского полководца Массинису, но отдана замуж за Сифакса, который становится царем и провозглашает непримиримую вражду к римлянам. Массиниса, горя гневом и мщением, вступает в союз с римлянами и вместе с ними осаждает Цирту, карфагенский город, в котором укрываются Сифакс и Софонисба. С этого и начинается трагедия, основная коллизия которой разворачивается между Массинисой и его другом, римским полководцем Сципионом. Победив в открытом бою Сифакса, Массиниса получает возможность соединиться с Софонисбой, и становится царем, союзником Рима. По воле римского Сената Сципион должен привести Софонисбу в Рим как пленницу для триумфа. Массиниса, возмущенный намерениями римлян, не желающих считаться с чувствами своего союзника, начинает тайно готовиться к новой вооруженной борьбе с Римом. Сципион, однако, упреждает его планы, окружая Массинису в его дворце. Он стремится сохранить дружбу и союз с ним, но тверд в решении о пленении Софонисбы, ссылаясь на долг перед Сенатом и Римом. Массиниса притворно смиряется, прося последнего свидания с Софонисбой. Во время этого свидания он тайно передает ей кинжал, и гордая Софонисба закалывается. Вслед за ней, уже на глазах у Сципиона, закалывается и Массиниса, произнося пророчество о гибели Рима. 83 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Пылкий Массиниса, мститель, самовластный и самоуправный владыка, и Сципион, преданный воле Рима, наследники Ярба и Энея. Но однозначность высшей справедливости теперь установить невозможно: если Массиниса своеволен и мстителен, то в то же время на его стороне естественное человеческое чувство, разделенное Софонисбой. Сципион предан высшим идеалам, он сохраняет и человеческую чуткость к другу, но во имя этих идеалов он губит Софонисбу и ее любовь. Понять тенденцию Княжнина помогает сравнение с первоисточником, трагедией Вольтера. Сущностные отличия их, сводящие воедино большинство смысловых нитей каждой из драм, проявляются в предсмертыных речах Массинисы, в обеих трагедиях предвещающего конец Риму. Заключительные слова Массинисы Вольтера: "Detestable Romain, si les dieux qui m'entendent, // Accordent les faveurs que les mourants demandent, // Si, devancant le temps, le grand voile du sort // Se leve a nos regards au moment de la mort, // Je vois dans l'avenir Sophonisbe vengeе, // Et Rome, qu'on immole a la terre outragee; // Je vois dans votre sang vos temples renverses, // Ces temples qu'Annibal a du moins menaces; // Tous ces fiers descendants des Nerons, des Camilles, // Aux fers des etrangers tendant des bras serviles; // Ton capitol en cendre, et tes dieux pleins d'effroi // Detruits pour des tyrans moins funestes que toi.// Avant que Rome tombe au gre de ma furie, // Va mourir oublie, chasse de ta patrie. // Je meurs, mais dans la mienne, et c'est en te bravant; // Le poison que j'ai pris dans ce fatal moment // Me delivre a la fois d'un tyran et d'un traitre.// Je meurs cheri des miens qui vengeront leur maitre. // Va, je ne veux pas meme un tembeau de tes mains."54 Ср. У Княжнина: "О Рим! Прими мои последние обеты: // Да все цари, твоей жестокости предметы, // Унижены тобой, почувствовав себя, // Совокупя свой гром, низринут на тебя! // С Востока, с Запада восставшие народы, // Со пламенем, с мечем, ища своей свободы, // Да съединятся все тебя разрушить в прах!// Да гордость вся твоя преобращенна в страх, // Пред коей алтари вселенныя курятся, // Униженна у ног гнуснейших пресмыкаться, // Увидит в рабстве всех твоих надменных чад! // Да истребится твой мучителей сенат! // Да Капитолия и все твои вертепы, // Исчезнут и падут во адовы заклепы! // Поросший тернием и прахом покровен, // Из смертных памяти да будешь истреблен! // Вот все, чего тебе, желая, предвещаю; // И с сим предвестием спокойно умираю."55 Примечательно, что именно эти речи приводил в своей статье Галахов. По его мнению, сравнение их должно демонстрировать беспомощность Княжнина-трагика, заменяющего реально-психологические моменты вольтеровского монолога и исторические реалии его абстрактной риторикой56. Между тем, соотношение их открывает принципиальное различие установок двух драматургов. По концепции Вольтера, сюжет "Софонисбы" превращается в обличение Рима и, шире, деспотизма республики, противопоставленного "просвещенной" монархии. В речи Массинисы у Вольтера этому соответствует, во-первых, "объективный" характер предсказания о гибели Рима, которое открыто Массинисе богами, во-вторых, то, что судьбу осужденного Рима разделяет, как подчеркивается у него, и сам Сципион это к нему (detestable Romain) обращена речь Массинисы и это его будущее изгнание (Va mourir oublie, chasse de ta patrie) провозглашает торжествующий в своем предсмертном озарении африканский герой. Сципион и Рим оценены равно негативно. У Княжнина сама речь Массинисы обращена исключительно к Риму, о наказании Сципиона не упоминается. О каре, которая должна постигнуть Рим, сказано не как об "объективной" неизбежности, удостоверенной божественным откровением,но в модусе страстного желания, личного провидческого порыва: Массиниса, "желая, предвещает". И сам образ Рима и причины вражды к нему у Княжнина по существу своему иные. Гибель Рима у Вольтера это "Sophonisbe vengeе" месть за поругание Софонисбы, деяние, толкуемое расширительно, как прецедент, проливающий свет на нравственную 84 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности сущность римской, республиканской политики. У Княжнина Рим карается за богоборческую гордыню подобного мотива нет у Вольтера. Пророчество Массинисы у Вольтера совпадает с реальной историей Рима, хотя и проинтерпретированной в соответствии с идеологическими установками драматурга. У Княжнина оно в рамки исторической реальности не укладывается: если гибель Древнего Рима так или иначе свершилась, то его "истребление из памяти смертных", о котором говорит Массиниса, не произошло, и это было особенно очевидно для культуры конца XVIII века, ориентированной на героический римский идеал. Последняя речь Массинисы, подводившая у Вольтера объективный итог трагедии, у Княжнина служит индивидуальной характеристике героя и не остается завершающим драму аккордом, но корректируется заключительной репликой Сципиона: "Кто смерти не страшась, страшится униженья, // Достоин римских слез, достоин тот почтенья". Рим, трактуемый его антагонистом как прибежище абсолютной гордыни, готов сердечно скорбеть о своем противнике, чтить искренне его память. Впрочем, это опять-таки только мнение о Риме, характеризующее самого Сципиона и высказанное в ответ на реплику его соратника Леллия, в которой утверждается прямо противоположное: "За дерски толь слова достоин умереть // Кто Риму хощет зол, не стоит солнце зреть."57 Этическая двойственность этих персонажей связана с принципиально иной онтологической картиной, выстраиваемой в драме. Эней, Ярб и Дидона символизировали строго различавшиеся уровни мироздания: "богов", "антибожественный" или "демонический" план и, соответственно, "природу". В том "реальном" мире "Софонисбы", где боги молчат, для человека невозможно уже ни посвящение себя богам, ни восстание на богов. Оба героя-антагониста, Сципион и Массиниса, возобновляющие сюжетные линии Энея и Ярба, принадлежат теперь "природе", полностью включаются в план земного существования и ведут спор-тяжбу о принципах устройства земного мира. Этому соответствует и семантика места действия трагедии. Энею, Ярбу и Дидоне были даны в удел различные "царства", различные области, поэтические образы которых были нераздельны с мифологизированными образами их владык. Сам Карфаген был территорией "природы", на которой разворачивалась коллизия и которая так и не слилась ни с Римом, царством "божественной славы", ни с "демоническим" царством Ярба. Теперь тот же КарфагенЦирта, наследие Софонисбы, воплощающей, подобно Дидоне, начало природы, естественного чувства, в руках римлян и воинов Массинисы; своеобразное "двоевластие" воцаряется в городе до тех пор, пока "меры" Сципиона не приводят к гибели его недавнего союзника, но тот, в свою очередь, пророчествует о близкой гибели Рима. В горизонте "природы", объединяющем теперь антагонистов, изменяется онтологическое содержание их образов. Массиниса отстаивает автономию и самостоятельность своего "я", личное бытие, но это уже личное бытие, соотносимое не со сферой богов, но с неким человеческим обществом. В свою очередь, Сципион посвящает себя обществу, символизируемому Римом и римским сенатом, имея своим антагонистом не носителя сакрального зла, но самоутверждающуюся личность. Было бы неправомерно сделать из этого вывод, что онтологическая ситуация подменена теперь социальной, что художественный дискурс перешел к новому кругу идей. Наоборот, за различными социальными системами, к которым принадлежат антагонисты, предстают первичные онтологические отношения, конституирующие образ героя и связанные с посвящением своего бытия либо имманентной личностной инстанции, либо так или иначе конституированной всеобщей инстанции. Между социальной маской героя и онтологическим ядром его образа остается дистанция. Остановимся на двух принципиальных моментах, делающих наглядной эту ситуацию. 85 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Две последние трагедии Княжнина, "Софонисба" и "Вадим Новгородский", обнаруживают, что один и тот же тип драматического поведения, восходящий к сюжетным линиям Энея и Ярба и определяющийся онтологической доминантой образа, может принимать различные политические воплощения. В обеих трагедиях речь идет о коллизии "республиканца" и "монарха", но соотнесенность этих политических масок с тем или иным по сущности своей героем меняется "с точностью до наоборот". В одном и том же социальном строе различные по типу герои будут выделять и различные защищаемые ими и отвергаемые моменты. Так, республика может выступать и как реализация свободы суверенных личностей, и как манифестация "общей воли" (согласно Руссо), требующей от личности полного подчинения. С другой стороны, монархия может трактоваться как реализация верховного импульса индивидуальной свободы (так для Массинисы), либо как воплощение консолидирующего общество высшего начала, проводником благой воли которого выступает правитель (так для Рюрика). Такова двойственность положительных коннотаций и "царства", и "республики", которые выдвигаются их сторонниками в каждой из драм. Но вместе с ней реализуется и двойственность отрицательных коннотаций, провоцируемых в той или иной мере действиями защитников "монархии", либо "республики" и формулируемых их противниками. Республика в этом отношении предстает либо легализацией произвола, хаоса враждующих "я", либо предельным подавлением личной свободы; "монархия" же либо зависящей от страстной прихоти владыки (таков результат правления Массинисы в глазах римлян), либо опять-таки отрицающей личную свободу (оценка монархии Вадимом и его сторонниками). Все эти оценочные тенденции можно представить в виде следующей схемы: "монархия" "республика" "Софонисба" Массиниса ("царь") ¦ ——————————-+——————————¬ ¦ ¦ реализация личной свободы подавление личности Сципион ("республиканец") ¦ ————————————+———————————¬ опасный произвол согласие "общей воли" "Вадим Новгородский" Рюрик ("царь") ¦ ————————————-+————————————-¬ ¦ ¦ согласие "общей воли " произвол и всеоб(подобие власти богов) щая вражда Вадим и его сторонники ("республиканцы") ¦ —————————————+—————— ——————-¬ ¦ ¦ подавление личности реализация личной свободы Республиканец Вадим близок, таким образом, к монарху Массинисе, а Рюрик к республиканцу Сципиону. Общей в обеих драмах оказывается сама пара тенденций: к апологии собственного строя и критике иного политического мира построенная на одних и тех же приоритетах онтологического порядка. Ситуация "онтологического героя" и "политической маски" имеет и другой аспект. Каждый из героев обвиняет своего противника в гордыне (нет необходимости приводить многочисленные примеры из обеих трагедий). Тень гордыни сопровождает теперь не только героя "ярбовского" типа, но и его антагониста ибо гордыня теперь может мыслиться не только как поставление самого себя кумиром и центром вселенной, но и как служение высшему кумиру, незаконно стяжавшему сакральную власть (ср. приводимую выше речь Массинисы о Риме). Вместе с тем каждый из героев надеется на то, что его гражданская позиция соответствует божественной правде, является гарантом "божественного устройства" социального мира. Ср. слова Вадима: "И се те славные, священные чертоги, // Вельможи наши где велики, будто боги, // Но ровны 86 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности завсегда и меньшим из граждан <...> Трепещущим царям законы подавали" (Княжнин, 252); и Рюрика: "Когда властителя в сиянии корон // Величия богов подобие неложно, // Сравняться должно им и духом непреложно. // Хоть слабы смертные погружены в порок // <...> Но боги <...> на злобу не смотря, лиют щедроты в мир." (Княжнин, 287) Речь идет при этом не об отождествлении своей собственной личности через служение той или иной идеологии с "божественным величием", но об идеале, требующем от героев постоянных усилий для соответствия ему "сравняться должно им и духом непреложно". "Политическая маска" становится, таким образом, посредующей инстанцией между героем и тем истинным центром бытия, которому он посвящает свою жизнь. Не собственному имманентному "я", противопоставленному вселенной, посвящают свое бытие Вадим и Массиниса, но тому образу "свободного новгородца" или "свободного африканца", который они хранят в своих душах. Соответственно, Рюрик и Массиниса посвящают себя не богам, но "подобию богов", образу высшей сакральной инстанции, отождествляемому первым из них с монархией, а вторым с республиканским Римом. На трагическую сцену вышел новый тип героя это уже не "естественный" человек Сумарокова, равным образом узнаваемый в каждом из его персонажей, не герой "Дидоны", соединявший "естественные" психологические черты с мифологическим воплощением предельных уровней мироздания, но именно определенный тип человека, носитель характерного внутреннего образа. Поскольку сам образ этот связан исключительно с политической концепцией, может идти речь о политическом человеке, вступившем в мир трагедии. Следует, однако, напомнить, что этот "политический человек" развивает только одну сторону трагического мира классицизма, в полноте своей представленного некогда в "Дидоне". Речь идет о "мужской" активности, выражающейся в утверждении мира, установлении и охране его незыблемых границ, тем, что связано собственно с семантическим спектром бытия, в специально оговоренной нами формулировке. Именно на этом поле разворачивается соперничество двух героев, в каждом из которых воплощен определенный модус бытийственной активности. Каждый из них устремлен к высшему началу различными путями. Ценности, отстаиваемые обоими антагонистами, совместимы в одной плоскости, так как личность и общество в их суверенном бытийственном статусе ценности взаимно признаваемые и взаимнокоординируемые. Это двойственный фокус бытия, обретаемый в социальной перспективе, не тождественной космической перспективе мира-мифа в "Дидоне", где противостоят друг другу абсолютные зло и благо. Политическая система, наложившая печать на каждого из героев, предстает глубоко амбивалентным феноменом. Каждый из героев, служа своему идеалу (идолу), оказывается в опасности, ибо сам этот идол может обернуться своим темным ликом, привести к отпадению от гармонической полноты. Меру этой опасности демонстрирует система политических двойников. Массиниса, с его разрушительными мстительными порывами, сам во многом является "темным двойником" сраженного им Сифакса, которому свойственно постоянство в заботе о царстве; тенью Сципиона служит Лелий, живой образчик римской гордыни. Рядом с Вадимом выступают его сподвижники Пренест и Вигор, оказывающиеся соперниками в любви. Между ними разгарается вражда, которая должна перейти и в чаемое "свободное будущее" (последние слова Вигора в трагедии "когда отрадныя луч вольности проглянет, // Тогда Вигор тебе твоим врагом предстанет // И жить кому из нас оружие решит!" д.III, явл.6; Княжнин, 284) Это свидетельствует о зернах мятежа и о нестабильности республиканской вольности. Рюрик единственный, кто не имеет подобного двойника, но риторика республиканцев вызывает, безусловно, убедительный ряд ассоциаций, напоминающих о вырождении монархии в тиранию. 87 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Создается эффект "центробежной тенденции", приводящей к пониманию трагедии как демонстрации двух расходящихся "неправд", двух враждебных принципов, в каждом из которых заключено разрушительное зерно, неизбежно прорастающее и дающее дурные всходы. Но само действие трагедии связано именно с "центростремительным" эффектом, обнаруживающим взаимную нужду этих социальных начал. Враждебные стремления антагонистов, восходящие к конфликтному противоборству Энея и Ярба, сочетаются с устремленностью героев друг к другу: в "Софонисбе" Сципиона и Массинису связывают и политический союз, и личная дружба, которую стремится сохранить Сципион; в "Вадиме" Рюрик мечтает вступить в "семейные отношения" со своим политическим врагом, наречь Вадима своим отцом. Но подлинную роль медиатора, соединительной связи между ними играет женский персонаж. Софонисба и Рамида персонажи, наследующие Дидоне, воплощающие саму субстанцию жизни, ее энергийность. Но, в отличие от Дидоны, сюжетная роль их иная. "Божественные" герои, как уже отмечалось, сами переведены теперь в план "природы". Героиня не выступает теперь главой и хозяйкой целого самостоятельного мира, как это было в "Дидоне", мир, в который она помещена, принадлежит героями-протагонистами и оспаривается ими. С ними неразрывно связано само бытие героини. Она не может "удержаться в жизни", не будучи поддерживаема той или другой стороной. Представляя "природу", т.е. онтологический уровень существования-экзистенции, героиня потеряла специфические самостоятельные черты личности. Стержнем ее драматической роли оказывается сама энергия соединения разошедшихся "половин" в ее мире. Заботаответственность, одна из сторон классицистического долга, доходит здесь до своего рода "абстрактного максимума". В полной мере эта роль героини получила разработку в "Вадиме Новгородском." Но и в "Софонисбе", где выбор между сторонами можно считать совершенным героиней Софонисба предпочитает смерть с возлюбленным римскому плену ее предсмертная реплика, рисующая загробный идеал, вносит совершенно иную расстановку акцентов: "Злодейства хищного гоненье недостойно, // Не может где до нас достигнути вовек: // Где Римлянин не бог, такой же человек, // Где скипетры, венцы, те гордости утехи, // Во прахе смешанны, без славы, без успеха; // Под игом тяжким где невинность не стенет. // Где все равны коль есть, где все ничто, коль нет..."58 "Римлянин" не проклят ею, как впоследствии и умирающим Массинисою, она грезит о запредельном преображении, где римлянин разотождествляется с Римом и его политическими атрибутами. Собственно, в посмертном мире преображение касается не только римлянина, но и "царя", ибо атрибуты, смешанные во прахе, "скипетры, венцы" равным образом относятся к царскому достоинству Массинисы. В "том" мире снимается сама инстанция посредничества, все то, что делает "естественного человека" "политическим человеком". Идеал носит в этом случае онтологически зыбкие очертания, колеблясь между "ничто" и "есть", между верой в новую за-предельную природу, в которой "все равны" и всеобщим равенством в чистой пустоте смерти. В "Вадиме Новгородском" причастность Рамиды обеим сторонам, вступившим в конфликт, предстает уже совершенно определенным качеством этого персонажа, отстаиваемой ею парадоксальной добродетелью, высшей точкой которой становится ее самозаклание. Ее последние слова обращены к отцу: "Смотри, достойна ль я быть дочерью твоею". Но это вовсе не посвящение себя исключительно отцу. Ситуация Рамиды полностью определена в ее монологах в начале пятого действия: "И Рюрик, и Вадим убийственной рукой // Друг в друге жизнь мою в сей час отнять стремятся // <...> // В пучине горестей, смятений, колебаний // Мой дух трепещущий, обоих вас любя, // В 88 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности сей час желал бы сам убегнуть от себя" (Княжнин, 294). Самоубийство Рамиды и представляет предание себя обеим враждующим сторонам: она отказывается принять их разрыв. И в то же время в этот момент наиболее отчетливым делается отсутствие самостоятельного личностного образа Рамиды отсутствует последний монолог, роль не получает завершающего словесного оформления, необходимого по канону трагедии, неукоснительно соблюденному еще в "Софонисбе". Словесный образ сменился немым жестом. Эта нехватка будет отчасти компенсирована заключительной речью Рюрика, как бы вбирающей в себя и невысказанную речь Рамиды. В самом общем виде это связано с тем, что герой последних трагедий Княжнина перешел на "территорию природы", сделавшись причастным сущностным чертам образа героини. Это взаимопроникновение ролей в "Вадиме Новгородском" приобретает совершенно конкретные очертания. Рюрик наследует не только линию Энея первой трагедии Княжнина, но, как это ни странно, и линию Дидоны. С другой стороны, ситуация Рамиды оказывается до некоторой степени эквивалентна ситуации Энея. Это наиболее явственно в начале второго действия. Первое появление Рамиды задано по модели первого действия "Дидоны". Диалог Рамиды и Селены близок к диалогу Энея и Антенора, как видно уже по начальным репликам наперсника и наперсницы. Ср.: Антенор:"Се день уже настал, желаемый тобою, // В который будешь царь над здешнею страною. // Дидона свой венец Энею отдает, // И ваши брак сердца навеки сопряжет // Готовый к торжеству, весь город веселится." (Княжнин, 63) Селена: "Се приближается тот час, тобой желанный, // В который твой отец, победою венчанный, // Вадим, прибытием обрадовав сей град, // <...> Который, общества спокойствие устроя, // Приходит из своих победоносных рук // Отдать ее в венце пылающему ею." (Княжнин, 261) В дальнейшем Рамида, подобно Энею, перечисляющему Антенору благодеяния Дидоны, напоминает своей наперснице о том, чем ее сограждане обязаны Рюрику. Рюрик, как и Дидона, выступает в роли спасителя погибающих. Ср. соответствующие описания: Эней: "Воспомни, Антенор, как алчный Понт ревел, // Как волны до небес, свирепствуя, вздымались, // Спасенья не было, богов тогда мы звали, // А боги в помощи несчастным отрицали // <...> Прекрасная Дидона // К спасенью нашему подвиглася со трона // И, жалостней богов, на помощь притекла // Трояне, боги, я неблагодарны будем, // Когда Дидонины щедроты позабудем". (Княжнин, 66) Рамида:"Вообрази себе сие чело геройско, // Престол божественных его души доброт, // Надежду будущих властителей щедрот, // <...> Когда, смирив он здеь смятенья страшны волны, // Народ признательный привлек к своим ногам. // Коль может человек подобен быть богам, // Конечно, Рюрик им единый только равен. // Воспомни ты, как он победоносен, славен..." (Княжнин, 262) Высшей точкой этого восхваления как Дидоны, так и Рюрика становятся однотипные гиперболические сравнения, к которым прибегают Эней и Рамида: Эней: "В ней зрит вселенную пылающий Эней. // О боги! Истину ль о ней теперь вещаю? // Я ею благости все ваши ощущаю. // Не чувствовал бы я, не знав Дидоны ввек, // Как может счастлив быть на свете человек!" (Княжнин, 67) Рамида:"Скажи: когда б тебе вселенная подвластна // С подобострастием у ног твоих была, // Иль власти б ты своей ему не отдала? // И мира к радости, против себя правдива, // Под власью Рюрика ты как была б счастлива!"(Княжнин, 263) 89 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности Далее Селена, подобно Антенору, напоминает о долге, противостоящем любви (пока речь идет только о предположении, о том, что Вадим может вознегодовать на брак Рюрика с Рамидой). Гнев отца Рамиды по своей сюжетной функции уподоблен гневу Анхиза. Как и Эней, Рамида говорит о своей готовности к смерти (в случае, если отец воспрепятствует ее браку). Зеркальное подобие "Дидоне" возникает и в следующем явлении того же действия, где нетерпеливый Рюрик, ожидая скорого брака, входит к Рамиде, требуя подтверждения искренности ее чувств. Этому соответствует тот момент, когда беседу Энея с Антенором прерывает страстная Дидона59. С образом Рюрика связан пафос "природы", обновленной в сентименталистском понимании. Создается впечатление, что он стоит перед лицом абсолютно иного начала, представляемого Вадимом: "великой души" в ее корнелевских ригористических рамках (ср. его фразу, интегрирующую весь смысл его страстных призывов к Вадиму: "В великой ты душе почувствуй глас природы" Княжнин, 301). Между тем и Вадим причастен в определенном смысле к образу Дидоны, перенимая ее функциональные особенности. Подобно карфагенской царице он лишен своего града, загнан "в ловушку" могущественным противником, все его ценности потерпели, казалось бы, окончательный крах; и подобно Дидоне, он совершает шаг, меняющий весь смысл ситуации. Вместо принятия или непринятия отказа новгородцев от его идеалов (т.е. либо согласия с Рюриком, либо отчаяния и бесконечной скорби) он сам отказывается от изменившего народа, утверждая сокровенный образ своего идеала, непричастный изменчивой стихии общественного согласия. Этому образу он и приносит в жертву свою жизнь. Его экстатическая предсмертная речь от слов "О, радость! Все, что я, погибнет в сей стране!" до "Что ты против того, кто смеет умереть?" выражает именно онтологическое утверждение своего идеала (заметим еще раз, что "все, что я" не тождественно безмерно разросшемуся имманентному "я" гордеца). Но и Рюрик в своей последней речи утверждает нечто равновеликое поступку Вадима (и прообразующему деянию Дидоны): "О рок, о грозный рок! О праведные боги! // За что хотели вы ко мне быть столько строги, // Чтоб смертию меня Рамиды поразить? // Умели в сердце вы меч вечный мне вонзить, // Лиша меня всего и счастья, и отрады!..// За добродетель мне уж в свете нет награды!.. // В величии моем лишь только тягость мне! // Страдая, жертвой я быть должен сей стране, // И, должности моей стонающий блюститель, // Чтоб быть невольником, быть должен я властитель!... // Я буду, и себя с пути не совращу, // Где, вам подобен став, вам, боги, отомщу!" (Княжнин, 304) Идеал Рюрика, идеал природной гармонии, также оказывается неосуществим на земле. И он также посвящает себя своему идеалу, приносит себя в жертву, умирая для него на земле. Его идеал это тот образ божества, который вбирает в себя природу, воплощает ее целостность и единство. Но "реальный" мир богов, волю которых он опознает в происшедшем, не таков: боги отвернулись от природы, допустив в ней непоправимый разлад. Посвящая себя своему идеалу, Рюрик мыслит об экстатическом соединении с ним, о переходе от образа к первообразу, о действительном переходе в мир богов (уподоблении им) в неопределенной предельной точке своего пути, своего жертвенного подвига. Его месть богам это несмирившаяся воля к гармонии божества и природного начала, дерзающая на переустройство божественного универсума и переводящая осуществление своего идеала в эсхатологическую перспективу. 90 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности *** Последние трагедии Княжнина позволяют сделать выводы о наметившемся к концу XVIII века тенденции развития русской трагедии. Трагедия-притча, трагедиясхема Сумарокова, создавшая умозрительный образ онтологического трагизма человеческой ситуации княжнинская "Дидона", трагедия-миф, запечатлевшая трагический образ мира, коллизию героев, "человечность" которых не отделена от символической образности космических начал, наконец, трагедия, персонажи которой вошли в собственно исторический, "человеческий" мир, приняв на себя образ определенных политических идеалов. От трагедии мира к трагедии человека таков смысл последнего этапа этого движения, реализовавшегося в творческом развитии Княжнина. Речь идет, собственно, только о тенденции: "политическая маска" не тождественна тому образу человека, той его полноценной внутренней форме, которая связана с характером, с некой совокупностью индивидуализирующих черт. Внутренняя незавершенность последнего этапа эволюции Княжнина-трагика наметит путь дальнейшего движения жанра, по которому пойдет его ученик Озеров, и в то же время вызовет специфическую инерцию этого движения, неадекватность образной формы, которую придется преодолевать Озерову и которая приведет к кризису трагедии 1800-х годов. Положительный потенциал княжнинского опыта состоял в том, что индивидуализированный образ героя стал не просто результатом перехода к другой системе жанровых норм, не выходом в драматический мир "сущностных форм" (см. об этом главу 1), возрождение интереса к которому было уже не за горами60, но был изначально интегрирован в онтологическую проблематику классицизма. Идеал, исповедуемый героем, получил смысл посредующей инстанции в акте посвящения героем своего бытия высшему началу. Вместе с тем был утрачен определенный баланс образа. Ситуация эта проявляется наиболее отчетливо в "Вадиме Новгородском" и требует особой экспликации. Проблематизм образного строя "Вадима Новгородского" обнаруживается в сравнении с современной ему драматургией. Наиболее показательно в этом отношении творчество П.А.Плавильщикова. Его трагедия "Рюрик" (1791) стала, как известно, своеобразным "Анти-Вадимом": Вадим здесь представлен коварным и властолюбивым заговорщиком, но в финале трагедии он принимает прощение милостивого монарха и трагедия завершается лучезарной гармонией без всяких диссонирующих мотивов61. Дело, однако, не только в политическом сервилизме Плавильщикова: в его драме обнаруживается эстетическое несогласие с принципами княжнинской трагедии с точки зрения сентиментальной драмы, выдвигавшей идеал осуществленной гармонии природы и высших законов бытия. "Рюрик" Плавильщикова может быть понят как своеобразная сентиментальная пародия на "Вадима Новгородского". Но если фабула трагедии изменена и переинтерпретирована Плавильщиковым, то образы центральных героев ее, Рюрика и его возлюбленной Пламиры, во многом продолжают тенденции самого Княжнина. Так, Рюрик Плавильщикова многократно и без промедления прощает оклеветанных Вадимом Пламиру и Вельмира. Даже малейшие признаки недоверия и сомнения правителя растворяются в выражениях благости, сверхчувствительной совестливости монарха: "Готов признаться я всегда в моей вине, // Чтоб только был блажен народ любезный мне. // Представь преступников, я с ними изъяснюся, // Друзьями будем мы потом, надеждой льщуся. // Едва причину к злу откроет мне их глас, // Ее уж более не будет в тот же час."62 Образ Рюрика овеян при этом ореолом святости: ср. слова Пламиры: "Мне все твердит: всесильно божество // Творений зрит своих во князе торжество // Помыслить зло ему все смертны ужаснуться, // И омертвеет смерть, дерзнув ему коснуться."63 Последняя строка здесь варьирует духовные песнопения о смертию смерть поправшем Христе. В то же время Пламира, Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 91 возлюбленная Рюрика, предстает чистым воплощением природы. Но природа и высшие законы общества непременно мыслятся героиней согласованными: "Природа царствует в Пламириной крови. <...> Мой князь и мой отец любезны мне равно, // Любовь, природа, долг вещают мне одно."64 В свою очередь, сам Рюрик, "божественный" герой, мыслит "природу" как источник своего вдохновения и в то же время свою роль видит в "обожении" природы: " Я, добродетелью твоею подкрепленный, // Законы кроткие отечеству подам, // Источник в них отрад пребудет всем сердцам <...> // Ты большее иметь достойна приношенье: // Душа моя тебе приносит обоженье."65 Тенденции единства, взаиморастворения "природы" и "божественной активности" были свойственны, как было показано, и "Вадиму Новгородскому" Княжнина. Ими определялись словесные портреты персонажей, их чаяния, их представление о самих себе, но отнюдь не их целостный образ, ибо в какой-то момент действия эта гармоничность обнаруживала свою несостоятельность и обличалась их онтологическая особость, их жертвенная предопределенность. Но герой, ядро образа которого определялось самим чаянием гармонии природы и божественной истины, не имел своего лица. Герой, "вступивший в историю", надевший маску "политического человека", в качестве своего основного внутреннего содержания получал только абстрактно-всеобщую веру в единство мировых начал. Та особая мифологическая индивидуальность, которая была свойственна персонажам "Дидоны", ушла в прошлое, но новый род индивидуальности еще не обрел определенных очертаний. С точки зрения взаимодействия литературных стилей и художественных концепций можно говорить о том, что трагедия Княжнина "уступила" натиску образов и идеалов сентиментальной драмы, но отнюдь не перестроилась по ее принципам, как это произошло, в частности, у Плавильщикова. Подобное соединение элементов трагедии и сентиментальной драмы обнаруживало внутреннюю двусмысленность. Эти особенности структуры трагедии перейдут в драматургию В.А.Озерева. Именно им будет совершен следующий шаг по пути, намеченному Княжниным, и специфической проблемой всей его творческой эволюции станет размежевание классицистической трагедии с просветительской и сентиментальной драматургией. Примечания 1. Кулакова Л.И. Жизнь и творчество Я.Б.Княжнина // Княжнин Я.Б. Избранные произведения. Л.,1961. С.39. 2. Стоюнин В.Я. Княжнин писатель // Исторический вестник. 1881. Т.5. N7. С. 157168; N8. С. 162-176; Галахов А.Д. Сочинения Княжнина. Две части. Спб., 1847 // Отечественные записки. 1850. Т. 69, кн.4, отд.V. С. 245-273. 3. Княжнин Я.Б. Избранные произведения. Библиотека поэта. Л., 1961. С.745; далее ссылки на это издание в тексте с указанием страницы. 4. Les femmes philosophes. Paris, 1881; Nicolaus M. M-me de Tencin (1681 bis 1749) (These), Leipzig, 1903. 5. См.: [пер. Я.Б. Княжнина] "Несчастные любовники, или Истинные приключения графа Коминжа, наполненные событий жалостных и нежные сердца чрезвычайно трогающих" СПб., 1771. С.128; См. также французское издание: de Tencin, K.-A. "Memoires du comte de Comminge" Amsterdam, Paris, 1786. Перевод Княжнина представляет собой практически подстрочное переложение французского образца. В связи с этим, здесь и далее будет цитироваться только перевод Княжнина. 6. Там же. Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 92 7. Там же. С.134. 8. Там же. С.137. 9. Там же. С.139. 10.Там же. С.142. 11. Героиня не идеализирует при этом умершего мужа, но сознается, что сама его верность была вызвана во-многом ее собственной холодностью, заставлявшей принца вновь и вновь завоевывать свою собственную жену. 12. Лафайет М.-М. Принцесса Клевская. М.,1959. С. 160-162. Представляется принципиально неверным и неполным взгляд на "Принцессу Клевскую", выдвигавшийся в отечественных курсах истории французской литературы и в предисловии Н.Сигал к единственному изданию романа на русском языке, предполагающий социально-психологическую подоплеку поступков героини. Ее поступок определяется не отвержением порочного общества и не следованием долгу как субъективно усвоенной норме, но выдвижением сверхъ-должного идеала. Этот идеал генетически восходит к католическим формам монашеского служения, но низводит религиозный абсолют в светскую сферу, делает его доступным и подчиняемым человеку, подразумевает его философскую кальку. 13. "Принцесса Клевская". С. 161. 14. "Основная тема романа и "Письма" Комменжа, тема зла, причиняемого деспотической властью родителей, калечащих судьбу детей, переплетается с весьма характерным для века Просвещения отношением к религии и монастырям. <...> монастырское уединение рисуется писателем не как путь к духовному возрождению, а как подготовка к смерти, если не как сознательное самоубийство" (Кулакова Л.И. Жизнь и творчество Княжнина // Княжнин, 18). 15. История русской литературы. Т.IV. М.-Л., 1941. С. 237. 16. Уникальные экземпляры изданий XVII века сохранились в составе собрании А.Лобанова-Ростовского в фонде Петербургской театральной библиотеки: Didon, Se sacrifiant, tragedie. Le Theatre D'Alexandr Hardy, Parisien. Paris, 1624; Didon, se sacrifiant, tragedie D'Estienne Jodelle, Parisien (б.г.); Didon, tragedie par Monsieur De Scudery, Paris, 1637. Во всех этих трагедиях драматизируется вергилиевская история любви Дидоны и Энея. Барочный театр адаптирует повествовательную фабулу с такими ее элементами как совместная охота Дидоны и Энея и их брак в сокрытой пещере, на сцене постоянно присутствуют хоры, партии которых прерывают драматические эпизоды. Ярб появляется только в драме А.Гарди, но исключительно в вергилиевском контексте: т.е. продемонстрирован эпизод его моления отцуЮпитеру о мести Дидоне, избравшей себе Энея,сцена эта происходит в ином "месте", в "мавританском" царстве Ярба. Еще в одной музыкальной трагедии на тот же сюжет, сохранившейся в собрании Лобанова-Ростовского,Didon, tragedie. Representee par l'Academie Royale de Musique. L'An 1693. Les Paroles de Mad Xaintogn, Ярб, уже вопреки Вергилию, встречается с Энеем, угрожая ему местью, но являющаяся богиня Венера (в этой пьесе вообще обильно представлены боги и мифологические существа) останавливает его. Сюжет с тайным посольством Ярба к Дидоне и битвы Ярба с Энеем, выдвинутый Метастазио и по-своему претворенный в трагедиях де Помпиньяна и Княжнина, отсутствует во всех ранних французских драмах. Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 93 Влияние мотивов, введенных Метастазио и Помпиньяном, явно чувствуется еще в одной вариации "Дидоны", предшествующей трагедии Княжнина, принадлежащей перу Иоганна-Элиаса Шлегеля: Dido, ein Trauerspiel // Schlegel Joh. Elias. Werke. Erster Theil. Kopenhagen und Leipzig. 1761. S. 69 136. (Год создания трагедии 1739). Пьеса И.-Э.Шлегеля сюжетно более всего связана с трагедией Помипиньяна: в отличие от оперы Метастазио, Ярб здесь не сжигает Карфаген, но погибает от руки Энея, покидающего свою возлюбленную, но спасающего ее и ее подданных от ярости африканского владыки. Но если для Помпиньяна важны тонкие колебания между "долгом" и "чувством", испытываемые всеми его героями и Ярбом, и Дидоной, и Энеем то Шлегель создает откровенно героическую драму, возвышающую твердость и благородство Энея. Он опускает весь метастазиевский сюжет сватовства Ярба, скрывающегося под личиной собственного посла. Ярб появляется только в третьем действии, сообщая Дидоне об отъезде Энея, о котором знает уже "весь город" и, разгневанный ее отказом, бросается вслед за троянцами, еще медлящими на берегу. Дидона закалывается со словами проклятия Энею, так и не узнав о победе Энея над Ярбом и не услышав ликования своих подданных. И сама трактовка сюжета, и подробности, внесенные Шлегелем, имеют мало общего с трагедией Княжнина, воссоздававшего в полной мере трагическую двойственность персонажей. В архиве С.-Петербургской Национальной библиотеки сохранилась незаконченная трагедия "Дидона" четырнадцатилетнего М.Н.Муравьева (начата в 1772 году, третье, последнее, действие написано в 1774) (ф.499, N37). Муравьев перечисляет во введении к своей трагедии известные ему французские вариации сюжета, трагедию И.-Э.Шлегеля и трагедию Княжнина. Сам Муравьев пытается построить драму как историю любви Энея и Дидоны от их первого объяснения до разлуки, придавая ей приторно-сентиментальную тональность. 17. Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С. 83. 18. Галахов А.Д. Сочинения Княжнина. С. 257. 19. Мокульский С.С. Итальянская литература. М.,1966. С.168169. 20. "Сколько долго Карфаген ни от кого завоеван был всегда ее за богиню почитали," Юстин, древней универсальной истории Трога Помпея сократитель. Пер. Н.Попова. Спб.,1768. Кн.18, гл.6. С.321. Княжнин мог, таким образом, ориентироваться не только на драмы Метастазио и Помпиньяна и на "Энеиду" как их общий первоисточник, но и на значительно менее известного Юстина, переведенного как раз в момент его работы над трагедией. 21. Метастазио П. Оставленная Дидона. Спб., 1766. С. 57. 22. Там же. С.59. 23. Мокульский С.С. Итальянская литература. С. 158. 24. Theatre des Auteurs du second ordre. Tragedies. T.III. Paris, 1808. Р.187. 25. Ibid. Р.169. 26. Ibid. Р.173. 27. Ibid. Р.217. 28. Ibid. Р.183. 29. Ibid. Р.195. Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 94 30. Ibid. Р.219. 31. Ibid. 32. См.: Brunetier F. Etudes critiques sur l'istoire de la litterature francaise. T.3. Paris, 1892. Р. 153-154. 33. Имя Elise, по-видимому, связано с Вергилием, у которого это второе имя самой карфагенской царицы. Наперсницей ее у римского поэта, как и в большинстве драматических версий, выступет ее сестра Анна. 34. Глинка С.Н. Я.Б.Княжнин // Репертуар рус. театра, 1841. Т.1. Кн.2. С. 65. 35. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. Т.1, М.,1961. С. 278. 36. Там же. 37. Метастазио П. Оставленная Дидона. С. 7-8. 38. Вместе с тем все эти моменты остановки речи, подразумеваемого жеста представляют собой не нечто абсолютно новое, привнесенное в классицистическую трагедию, но возобновление ее собственных органических выразительных средств. "Потеря речи" элемент поэтики Расина, которому уделяет специальное внимание в своей работе Р.Барт: "Самое эффектное ( то есть самое подходящее для трагедии) волнение то, которое затрагивает главный жизненный центр расиновского человека: его язык. Лишение дара речи <...> очень частый случай в расиновском мире: оно прекрасно выражает стерильность эротических отношений, их статичность. Желая порвать с Береникой, Тит превращается в афатика: тем самым он одновременно и отходит от Береники и извиняется перед ней; один знак здесь экономно передает два противоположных сообщения "я слишком люблю Вас" и "я недостаточно люблю Вас". Расстаться с речью значит расстаться с отношениями силы, расстаться с трагедией: достичь этой границы могут лишь герои крайнего типа (Нерон, Тит, Федра), причем трагедийные партнеры этих героев спешат вернуть их с этой границы назад, так или иначе вынуждая их вновь обрести дар речи (Агриппина, Береника, Энона)" (Барт Р. Человек Расина. // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 160-161). Р.Барт в этом пассаже приводит пример из "Береники" Расина как наиболее выразительный образец потери дара речи. Но именно "Береника" определила, по-видимому, ход первых сцен Метастазио: смятение Энея, не решающегося признаться возлюбленной, ее недоумение после его неясных речей и ухода, ее ошибочная догадка о ревности. У Княжнина все эти моменты переданы еще ближе к Расину, чем у Метастазио. И вместе с тем "Береника" с ее нежными сценами, отсутствием трагического преступления стоит особняком в творчестве Расина. И именно она вызвала особенно высокую оценку Руссо (см.: Кадышев В. Расин. М., 1990. С. 118). 39. Стихи эти имеют, собственно, два источника, контаминированные Княжниным. Кроме рассказа Терамена из "Федры", это рассказ вестника о Мамае в трагедии Ломоносова "Тамира и Селим". Ср.: "Незапно восстает вдали смятенный крик.// Весь движется народ, от звука храм трепещет// Как волны страшные к брегам вихрь сильный мещет // И извергает в них чудовище из вод,// Таков, во ужасе волнуяся, народ, // Разверзшись, вдруг посла гетульска открывает.// Как молния остр меч в руках его блистает,// Как углие глаза кровавые горят,// От ярости уста безмолвные дрожат" (Княжнин, 97). У Расина: "Un effroyable cri, sorti du fond des flots, // Des airs en ce moment a trouble le repos; // Et du sein de la terre une voix formidable // Repond en gemissant a ce cri redoutable. // Jusqu'au fond de nos coeurs notre sang s'est glace; // <.....> Cepandant sur le dos de la plaine liquide // S'eleve a gros 95 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности bouillons une montagne humide; // L'onde approche, se brise, et vomit a nos yeux, // Parmi des flots d'ecume, un monstre furieux. // <.....> Le flot qui l'apporta recule epouvante. // Tout fuit........." (Racine J.OEuvres completes. t.1, Paris, 1950. Р.799) ("Ужасный крик, возникший из глубины волн,// Смутил в этот миг покой пространства;// И чудовищный голос из глубины земли// Содрогаясь, ответил на это грозный крик.// Кровь застыла в глубине наших сердец;// ...// Тем временем на поверхности гладкой влаги// Поднялся огромный пузырь, водяная гора// Волна подступила, разбилась и извергла на наших глазах// Посреди пенящихся гребней ужасное чудовище//...// Волна, принесшая его, отхлынула в ужасе.// Все бежало....") У Ломоносова: "Сверкнули острые и дали звук мечи;// Как туча мрачная Мамай ярясь смутился, // От глаз был блеск, как вал морской горит в ночи" (Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т.8. М.-Л., 1952. С.327) В той же трагедии Мамай не раз именован "чудовищем" : "И дам себя жива чудовищу во плен" (Там же. С. 299). Одическая поэтика Ломоносова определяет и саму конструкцию этого поэтического сравнения, вводимого формулой "как.....так" и оперирующего образами стихийной энергии, концентрирующимися вокруг определенного центра: "Корабль как ярых волн среди, // Которые хотят покрыти, //<...>// К российской силе так стремятся, // Кругом объехав, тьмы татар," "Как в равных разбежась свирепый конь полях, // Ржет, пышет, от копыт восходит вихрем прах //<...>// Так Север, укротясь, впоследни восстенал // По усталым валам понт пену расстилал", "На очевидну смерть россияне дерзают //<...>// Как волны на крутой теснятся дружно брег; //<...>// И скачущих верхи кудрявые крутятся." (Там же. С. 98, 115, 225 ). Образные и семантические ряды, определяемые поэтикой Расина и Ломоносова, чрезвычайно значимы в этом переломном моменте трагедии. Образный ряд Расина подчеркивает смысл этого эпизода для Энея морское чудовище это прежде всего знамение гнева богов, что впоследствии раскроет Энею Антенор. Ломоносовская поэтика формирует образную характеристику самого Ярба, подчеркивая его стихийную мощь и гордыню (именно чудовищная гордыня, "кичливость" составляет доминанту ломоносовского Мамая, образ которого соприроден аллегорическим персонажам драмы петровской эпохи). 40. О философской терминологии, используемой в данной работе, см. первую главу, с. 19-39. 41. Список переведенных Княжниным пьес Корнеля включает "Сида", "Цинну", "Смерть Помпея", "Родогуну", "Горация" (обзор переводов Княжнина см.: Кулакова Л.И. Жизнь и творчество Я.Б.Княжнина. С. 10 11). 42. См. первую главу, с. 64-68. 43. Речь идет о мифе вновь рожденном. Ничего подобного сожжению Карфагена Ярбом в античных источниках не содержалось. Это вымышленное деяние предстает тенью будущего сожжения Карфагена римлянами. В исторической перспективе Ярб оказывается двойником римлянина Энея. Эта скрытая двойственность главных героев в перспективе княжнинского творчества переходит в проблемную двойственность героев его последних трагедий, наследующих черты Энея и Ярба. 44. Заметим, что "Карфаген" в переводе с финикийского означает как раз "новый город" см.: Топоров В. Эней человек судьбы. М.,1993. С.18. 45. См. первую главу, "Конфликт трагедии классицизма", с. 47-63. 96 Глава 3. Драматургия Княжнина: от трагического мифа к трагедии личности 46. Метастазио П. Оставленная Дидона. С.58; Opere del signor abate Pietro Metastasio. T.3. Parigi, 1780. Р. 105. 47. См. примечание 37. 48. Кадышев В. Расин. С. 126-127. 49. См. первую главу, с. 64-72. 50. Если фигура героя-мстителя в целом восходит к Корнелю, то непосредственно сам этот сюжетный блок, ставший у Княжнина своеобразным приемом, присутствовал в "Покинутой Дидоне" Метастазио, хотя Ярб был там не столько величествен, сколько низок. Сюжет в его княжнинской трактовке возник в результате осмысления фабулы оперы Метастазио в эмоциональном и метафизическом ключе классицистической трагедии в ее корнелевском изводе. Возможно, однако, что генезис этого сюжетного комплекса имеет и еще какие-то стадии. Обращает на себя внимание тот факт, что очень схожий комплекс мотивов был воплощен в трагедии Хераскова "Пламена" (1761). Коллизия языческого князя Превзыда, его дочери Пламены и христианского князя Позвезда во многом близка коллизии "Вадима Новгородского" Княжнина (см. Приложение. С. 477487). 51. История русской литературы. Т.IV. М.-Л., 1941. С. 240. 52. Свод полемических мнений о трагедии приводит Л.И.Кулакова (см. ее примечания в Княжнин, 734-737). Из концепций, появившихся в недавнее время, следует особо отметить принадлежащую А.П.Валагину (Валагин А.П. Кто смеет умереть... // Княжнин Я.Б. Избранное. М., 1991. С. 5-28), который энергично отстаивает приоритет линии Вадима. 53. Галахов А.Д. Сочинения Княжнина. С. 38-45. 54. Voltaire. Oeuvres completes. Oxford. T. 12. Р. 440. 55. Княжнин Я.Б. Сочинения. Т.2. СПб., 1787. С. 335. 56. Галахов А.Д. Сочинения Княжнина. С. 34. 57. Княжнин Я.Б. Сочинения. Т.2. С. 340. 58. Там же. С. 327. 59. О связи "Вадима Новгородского" с "Дидоной" кроме всех указанных параллелей свидетельствует еще и имя наперсницы Рамиды Селена (имя наперсницы Дидоны у Метастазио). 60. Заметим, в этой связи, что трагедия Княжнина была своеобразным ответом на "Историческое представление из жизни Рюрика", дилетантскую драму Екатерины, построенную, однако, по образцу шекспировских хроник. В 1787 году вышел уже перевод Карамзина шекспировского"Юлия Цезаря". 61. См.: Кулакова Л.И. П.А.Плавильщиков. М.-Л., 1952. С. 60-63. 62. Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М.,1991. С.631. 63. Там же. С. 618. 64. Там же. С. 626. 65. Там же. С. 601. 97 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Среди оригинальных русских трагедий XVIII начала XIX безусловно значимое место должно быть отведено произведениям М.М.Хераскова. Пьесы Хераскова исполнялись не часто и отнюдь не составили эпоху на театральной сцене, оставаясь в основном предметом чтения. Между тем, Херасков, один из крупнейших русских литераторов XVIII века, настойчиво осваивал трагический жанр практически на протяжении всей жизни, и его имя в этом отношении может быть поставлено в один ряд с именами Сумарокова и Княжнина. Но в этом ряду наследие Хераскова стоит все же особняком. Творчество Сумарокова, Княжнина, Озерова, да и менее значительные опыты в трагическом жанре Плавильщикова, Николева, Майкова образуют при большем или меньшем своеобразии их творцов общую линию развития русской трагедии. Каждый из них усвоил те или иные тенденции, восходящие к единому фонду классицистической традиции, оказали на них влияние и новейшие веяния философской и эстетической мысли, определившие смену вех в современной европейской литературе. В общих обзорах русской литературы и драматургии в этот же ряд помещают и пьесы Хераскова, отмечая в них черты классицизма и сентиментализма1. Это, безусловно, имеет основание в самом творчестве Хераскова. И все же понимание проблематики его трагедий требует привлечения еще одного специфического мировоззренческого контекста масонской мысли. Связь Хераскова литератора, государственного и культурного деятеля с масонством общеизвестна. В работах дореволюционного и советского времени не раз указывалось на присутствие масонских элементов в его творчестве2. Однако специальное исследование их долгое время не проводилось и опыты такого рода начаты сравнительно недавно3. Драматургия Хераскова в этой связи привлекала пока незначительное внимание4. Между тем, целый пласт драматургической поэтики Хераскова природа конфликта, типажи героев, сюжетные коллизии не находят соответствия в классицистической и сентименталистской поэтике, но могут быть поняты с привлечением масонского материала. Обращение к онтологическим началам художественного мира позволяет, как нам представляется, провести достаточно четкую грань между драматургией Хераскова и "сумароковской" традицией русской трагедии, не упуская в то же время их безусловной связи. 4.1 Об особенностях масонской метафизики: тринитарная мистика и просветительский рационализм Идеология и философия русского масонства тема, изучение которой, начатое в дореволюционной науке5 и надолго оказавшееся впоследствии под запретом, привлекает в настоящее время все большее внимание. Появляются статьи и даже монографии, увязывающие масонскую проблематику с творчеством тех или иных писателей рубежа XVIII-XIX вв6. Сложность этой темы заключается в крайней неоднородности и эклектичности масонского литературного и философского наследия. Позиция дореволюционных исследователей масонства может быть проиллюстрирована характерной цитатой из статьи Т.Соколовской:"Масонская идеология не была чем-либо своеобразным. Этические начала, проповедуемые вольными каменщиками, являются принадлежностью и других нравственных учений. Своеобразность учения вольных каменщиков заключается в том, что оно проводило в жизнь свои гуманитарнофилософские идеи, воплощая их в целый ряд символов и обрядов."7 Идеология и метафизика масонства XVIII века рассматривались, таким образом, исключительно как эклектический набор этических и мистических постулатов, не требующих особой спецификации по отношению к мистике и религиозной этике предшествующей и последующей эпох. Система символов, выстроенная масонством, представала единственным ярким отличием, практически не имевшим внутреннего содержания. Эта 98 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра установка безусловно нуждается в переосмыслении. Усилия в этом направлении сделаны в ряде указанных выше современных работ, но между тем целостное понимание религиозно-идеологического феномена масонства до сих пор не сформировалось. Все это вызывает необходимость формулирования собственного понимания проблемы для исследователя, обращающегося к теме масонства. Чрезвычайно трудно провести однозначную границу между популярными идеями века и собственно масонской идеологией. Если ориентироваться на факт членства в масонских ложах, то к сфере масонства можно отнести и Вольтера, и Дантона, и Робеспьера, всех основных энциклопедистов и будущих деятелей Французской революции8. Широко распространено прямое и косвенное отождествление с просветительством русского масонства. Особенно это касается деятельности Н.И.Новикова и его круга9. С другой стороны, хорошо известны антипросветительские демарши масонства, самоидентификация масонства, в том числе и русского, с христианством, его претензия на статус подлинной, "внутренней" религии, противостоящей секулярному духу Просвещения. Думается, что эта двойственность есть объективное свойство самого масонства как уникального идеологического образования, возникшего в XVIII веке. Начало историческому масонству дали, как известно, английские средневековые цеховые организации каменщиков, утратившие к началу XVIII века свой прагматически профессиональный характер и превратившиеся в благотворительные общества, включившие представителей различных сословий, но сохранившие при этом атрибутику и своеобразную мифологию, разработанную в средневековье10. В самом происхождении масонства можно можно обнаружить различные обстоятельства социально-психологического и идейного плана, приведшие к двойственности мировоззрения последующего масонства и к внутренней дифференциации масонского движения. Следует отметить, во-первых, сам социальный феномен "масонского братства", открывшего широкие возможности для внесословных и внебюрократических коммуникаций. Идеалы подобного "братства" шли навстречу просветительским чаяниям единства человечества в перспективе торжества разума. Сам дух "братства" стимулировал не только особый тонус группового самоощущения, но непосредственно выливался и в отношения масонства и мира, приводя, прежде всего к широкому распространению благотворительности к братству, проецируемому на все человечество. Подобный взгляд на масонство как социальную общность особенно свойствен крупным деятелям Просвещения, принимавшим участие в этом движении11. Вместе с тем и мифологемы, изначально воспринятые масонством, несли в себе элементы, легко интерпретировавшиеся в ключе просветительской философии или метафорически соотносившиеся с ней. Устойчивое ядро собственной мифологии масонства связывало его со строительством иерусалимского храма. Предполагалось дарование строителям особой сакральной функции и сакрального знания, позволявших соединить природный материал и божественный замысел. "Храм Природы и Благодати" стал одним из характерных и емких символов внутреннего совершенствования масонов и их социально-утопических проектов. Таинство соединения Природы и Благодати, завещанное ордену, находило соответствие и в другой мифологеме, пришедшей из писаний Беме, Пордеджа, анонимных "розенкрейцеров" и других авторитетов европейской мистики XVI-XVIII веков в мифологеме "священного брака", мыслившегося как в недрах божественной инстанции, так и в отношениях Божества и Природы и, кроме того, интерпретируемого как чаемый брак адепта с Софией Премудростью Божьей12. Концепция соединения-слияния божественного и природного могла вести к мистическим экстазам, но в контексте "экзотерической" мысли XVIII века она имела явную тенденцию к превращению в метафорическое выражение собственно просветительской идеологемы союза Разума и 99 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Природы, сферы естественных чувств и "естественного закона", изначально заданного человеческому обществу, но потерянного в века невежества и заново обретенного усилиями "подвижников Просвещения". Соответственно и религия, с которой соотносило себя уже раннее масонство, несла узнаваемые черты "естественной религии": "в наше время человек свободно выбирает себе веру,декларировалось в масонской "Конституции" 1721 года, и лишь одна религия действительно обязательна для всех, это всеобщая, всех людей объединяющая религия, которая состоит в обязанности каждого из нас быть добрым и верным долгу, быть человеком чести и совести, каким бы именем ни называлось наше вероисповедание и какие бы религиозные догматы не отличали нас от других людей."13 Вместе с тем, миф о Хираме и строительстве Соломонова храма и санкционированный им масонский ритуал с самого начала несли в себе смыслы, несводимые к просветительскому толкованию. Миф и ритуал внушал представление о иерархии земных и небесных сущностей, несводимой к универсальному единству природы. Сам путь, проходимый адептом, состоял из последовательно возвышающихся уровней, ступеней знания и посвящения в тайну. На место рационального единстванепрерывности мира, выстроенного рациональной философией XVII века, выдвигалась иерархия сущностей, порожденная средневековым сознанием и апеллировавшая к еще более ранним концепциям гностических сект14. Бурный рост мистического масонства, начавшийся с 1730-х годов сопровождался, соответственно, и разрастанием умозрительной системы мистических сущностей и градаций, соединявшей разнообразные мистические концепции, и стремительным увеличением числа ритуальных степеней посвящения. В свою очередь, мистические настроения вызывали отпор внутри самого масонства: все более возраставшая кастовая замкнутость ощущалась многими адептами как измена истинному "братскому духу" масонства наиболее полным опытом описания этих процессов, шедших на протяжении XVIII века как в русском, так и в зарубежном масонстве, остаются до сих пор статьи давнего двухтомника "Масонство в его прошлом и настоящем". В настоящей работе нас интересует прежде всего принципиальная двойственность масонских мировоззренческих установок, соединение в них рациональнопросветительских начал с логикой мистической иерархии и вытекающая из этой двойственности возможность сочетания внутренне конфликтных смыслов в системе масонского универсума, возможность семантической переакцентации, резких и плавных сдвигов. В самой мистической иерархии, о которой идет речь, наиболее существенное место занимала схема трех уровней бытия, остававшаяся неизменным основанием причудливо разраставшихся мистических систем. Имеет смысл проиллюстрировать это положение на материале русской масонской печати XVIII века, включавшей как переводы "классики" европейского мистицизма, так и собственные концепции русских авторов. Русское масонство, начавшее развиваться с 1740-х годов было вначале достаточно индифферентно к мистическим теориям и только с конца 1770 начала 1780-х годов началась достаточно короткая ( до екатерининских гонений 1792 года) эпоха расцвета "розенкрейцерства" с его теоретическими и алхимическими штудиями. Мистикометафизические основы масонства той поры можно изучить по новиковским журналам "Утренний свет", "Московское издание", "Покоющийся трудолюбец", "Вечерняя заря", по многочисленным отдельным изданиям типографий Новикова и Лопухина. Представление о тринитарности, тройственной архитектонике человеческого существа проходит красной нитью в масонской литературе, иногда входя в разряд проповедуемых истин, иногда служа подразумеваемым фундаментом дальнейших построений. Так, Иоанн Масон в книге "Познание самого себя", приступая к ответу на свой центральный вопрос "Что мы?", первым делом уведомляет, что "человек есть 100 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра существо, многосложное [trimeraes ipostasis тройственный ипостась (так!)] или из трех различных частей сложенное творение, как то из тела, которое есть земная или смертная часть его, из души, которая есть часть животная и чувствующая, и из духа или мысли, яко из разумной и бессмертной его части"15. Тринитарность по масонским представлениям, определяла не только природу человека, но и всего мироздания в его статическом и динамическом аспекте. В масонских изданиях приводились целые таблицы тринитарных соответствий16. В целом, в историческом и космологическом планах это было выделение Натуры, Закона и Благодати, как иерархически возвышающихся областей. По мере продвижения по своему духовному пути человек и человечество последовательно проходят эти области. Терминологически многозначно представленный Иоанном Масоном в цитированном выше определении, антропологический аспект тринитарности тут же разъясняется им в примечании: "сие учение не только по опытам, но и по важности своей есть неоспоримо. Оно почти всеми древними философами принято было <...> стоиками, как то видно из Антонина, который говорит ясно: три вещи принадлежат к человеку: тело, душа и дух; и если по оным сделать различие свойств, то чувствие будет принадлежать телу, желание душе, а ум духу. soma, psihe, nus"17. В человеке выделялись, таким образом, сфера чувства, душа, как отдельная сфера желания, т.е. чистой волевой интенции, и сфера высших ментальных ценностей, ума или "духа" (nus), понятия, употребляющегося, как правило, синонимично "уму". Соответственно, и ритуал посвящения в масонство включал в себя три символические ступени. Так, И.В.Лопухин в своем "Искателе премудрости или Духовном рыцаре" описывает три ритуальных беседы с посвящаемым, сопровождаемые определенными обрядовыми действиями. Во время первой беседы "вводителя" с "кандитатом" "кандитат" мыслится пребывающим в лоне помраченной природы, которой доступны только искры божественного света, что символизируется облачением его в мантию "темного цвета, на левой стороне которой изображено змием обвитое сердце, посреди коего как бы находился малый свет, не покрываемый тмою, помрачающею все сердце."18 "Вводитель" объясняет на этом этапе неофиту, "что всякое рождение сопровождается болезнию, гниением и разрушением", сопровождая свои слова "токмо примерами от Натуры почерпаемыми."19 Смысл этой беседы сводится к указанию выхода из мрака естества посредством ритуальной смерти, которая в масонских моральных увещаниях часто отждествлялась с "сораспинанием Христу". Во время второй беседы звучит уже новая тема: "Вводитель вручает Ищущему меч, говоря: "Постоянно желающим Света, и мужественно противу тмы борющимся, посылается вящщая от Востока сила для подкрепления на подвиг спасительного их течения."20 Далее перед принимающим посвящение зажигался светильник, символизировавший открывшийся ему свет Премудрости, но светильник вскоре гасился и "кандитату", держащему по-прежнему в руках меч, завязывались глаза и возвещалось вступление его на путь испытания: "Премудрость скрывает свой свет для испытания, но никогда не лишает она силы соблюсти к Ней верность во время и самых жестоких нападений. В таком состоянии испытательные слепоты страшиться должно отчаяния, яко величайшего искушения в сем степени, и могущего повергнуть в бездну тмы. Страдательное, безропотное покорение себя святым Уставам Премудрости есть надежнейшая опора во время оного слепотствования, могущего быть предтечею величайшего Света."21 Эти предостережения и ритуальные действия относятся к этапу активности второй ипостаси, к прохождению второго уровня бытия. Семантика мотивов испытания включает в себя все основные смыслы "второй ипостаси": волю, душевную силу, автономная сущность которой подчеркивается окружающей тьмою, отсутствием опознаваемого разумом ориентира; разум-рассудок, хранящий впечатление от истины, но не саму истину; наконец, "Закон", "Уставы Премудрости", служащие в этом состоянии внешним принудительным регулятивом. Во время третьей беседы одеяние 101 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра вступающего в ложу переменяется на светлое, на котором изображено "сердце очищенное, кровоточивое и окруженное лучами света", с глаз снималась повязка, возжигался свет и возвещалось вступление в "полное сияние Света Премудрости"22, иначе говоря, достигался уровень третьей ипостаси, "духа". После этого неофиту сообщался ряд сведений, составлявших своего рода "символ веры" масонства. Среди сообщаемых догматов важнейшее место опять-таки занимают положения о тринитарности мира и человека: "В.-Что нужно, дабы познать составление Малого Мира? О.-Познать себя самого в тройственном существе своем. В.-Что есть человек? О.-Малый мир, ибо он есть извлечение, Екстракт из всех существ: и потому подобится Великому Миру. Богу же самому он подобен разумною душею, которая божественна влита в живый небесный дух, управляющий человеческим телом, сооруженным из стихий."23 Масонская тринитарность преподносилась как апология церковного догмата о Троице, "коего всякий человек (сотворенный по образу Божию) некоторый род символа в трегубом разделении собственного своего существа в себе имел"24. В 0действительности это учение имеет очень далекое отношение к церковному догмату, утверждающему отсутствие иерархии в ипостасях Божественной Троицы, хотя и разрабатывает материал тринитарной антропологии, бытующей и в католической и в православной традициях25. Ближе всего эта антропологическая тринитарность к традиции древних гностиков, разделявших человеческий род на неравноправные ступени "соматиков", "психиков" и "пневматиков", среди которых только последним и отчасти "психикам" было уготовано спасение26. Именно гностицизм явился, как уже упоминалось, и одним из исходных оснований для масонской мистики в целом. Активно пропагандируемая с начала 1780-х годов в масонской периодике, тринитарная концепция человека воспринималась как полемическая по отношению к двойственному декартовскому делению. Характерно высказывание одного из оппонентов масонства (похоже, впрочем, что образ его иронически синтезирован самими издателями "Утреннего Света"): "упоминаете вы о духе, душе и теле в нас человеках. Есть ли полно в вас разум? Я читал едва ли не все сочинения славнейших и великих нашего времени философов ............ (так в оригинале Е.В.), но нигде не находил таких положений. Признаться ли вам по совести. Доселе я был такого мнения о душе, что не знал куда ее употребить; и вы прибавляете и третие еще менее понятнейшее существо. К чему сии новости, когда и старое еще великому сомнению подвержено."27 Оппонент масонства, настоящий или фиктивный, представляет точку зрения тривиального сознания эпохи, колебавшегося между декартовской двойственностью субстанций и новейшей Просветительской концепцией единства природы, отрицавшей субстанциальную особость души, нематериального начала. Двойственность, приписываемая человеку, часто тем не менее появлялась в масонских текстах, но эта двойственность неизменно оборачивалась не антиномией, а различением иерархически подчиненных ступеней, входящих в более общий тринитарный расклад. Так, русский автор, скрывшийся за инициалами Д.I.П., писал в обширном предисловии к книге Пордеджа "Божественная и истинная метафизика": "в нас есть вечный Божественный, также и временный натуральный Дух, откуда происходят два разныя человека в одном, внутренний и внешний (...).Оба сии Духа суть чувствующие, познающие, мыслящие существа, каждый в своей мере"28. Далее автор говорит о совместном действии обоих "духов", "как бы один только был" и снова вводит уточнение, разделяющее их: "Автор же наш ( имеется в виду Пордедж Е.В.) нашел опытом существенную разность сих обоих познающих Духов в нас. Вечного называет он для разности Смысленным, Verstandigen, натурального Разумным, Vernunftigen, Духом"29. Речь идет,таким образом, о философском различении "разума" и "рассудка", 102 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра резервуара вечных идей и смыслов и операционной способности суждения, обычно принимающих в масонско-гностической классификации имена "разума" и "ума" (здесь: Разумного и Смысленного Духа), как, соответственно, второй и третьей ипостаси в человеке. Воля, или сила желания, которая в ином аспекте тринитарной раскладки представляла саму сущность второй ипостаси, теперь предстает еще и неотторжимой от рассудка Разума. Именно между второй и третьей ипостасью завязывается определенная коллизия. Первая ипостась, тело, "сома", подлежит преодолению и либо устраняется из актуального расклада, либо мыслится в преображенном виде пассивным вместилищем "духа" и души. Последняя, дух, "пневма" являет собой божественное начало в человеке, которое может указать правильный путь душе. Средняя "психе"душа воля рассудок есть необходимый проводник и помощник "Вечного Духа", если она , конечно, не увлечена назад, к телу, к чувственной природе. "Сильнейший из сих обоих ("духов" в человеке Е.В.) обладает другим, и влечет его за собою; и так слабейший действует по мысли, желанию, движению и состоянию сильнейшего"30. Нельзя не заметить аллегорическую антропоморфизацию, приписываемую здесь самим ипостасям. Соединение в совместном порыве "психэ" и "пневмы" становится вожделенным состоянием ипостасей, эквивалентом "подлинного" мистического "просвещения": "Когда наш смысленный, или интеллектуальный, дух освещен Светом Божественным, а Разум соединен с ним и послушен ему, то можно в некотором истинном смысле называть его просвещенным Разумом. Иначе же, какое бы мы познание ни получили натуральным прилежанием, есть и пребывает он всегда темным Разумом"31. "Душа" и "дух", таким образом, были хотя и связанными в ипостасное единство, но самостоятельными решающими инстанциями. Они могли выражать собой как противоборствующие начала, так и согласованные и со-действующие. Согласование их как раз и требовалось для гармонии ипостасной иерархии. Но это был сюжет, развивавшейся при условии пассивности, подчинения и преодоления "природы". Естественно, что просветительская логика миропонимания, рассматривавшая природу как единую субстанцию, включавшую в себя разум, не соответствовала мистическиипостасным трактовкам. Природа подчиненное начало в одной системе, была активным и утверждающимся в другой. С другой стороны, как уже упоминалось, и сама масонская мистика включала в себя мифологему союза, слияния Духа и Природы, открывавшую возможность прямого и метафорического взаимодействия с просветительской мыслью. Все это позволяет понять существенные особенности структуры и динамики смысловых связей в художественном мире, выстроенном литератором-масоном, анализу которых посвящена данная глава. 4.2 Трагедия Хераскова и масонская метафизика В своем драматическом творчестве Херасков прошел достаточно специфический путь развития. Он не привлекал к себе до сих пор значительного внимания исследователей и как правило характеризовался суммарно в обобщенных обзорах или по отдельным произведениям. В 1974 году он стал, правда, объектом специального исследования Л.М.Пастушенко, сделавшей ряд важных наблюдений и уточнившей хронологию отдельных пьес32. Но, к сожалению, все определения драматургии Хераскова строились исследовательницей практически без учета масонской парадигмы, отразившейся в его трагедиях. На понимании драматургии Хераскова сказывается еще и игнорирование текстологических проблем: не учитывается, обычно, что редакции херасковских трагедий 1750-1780-х годов принципиально отличаются от тех, что были включены в его собрание сочинений 1798 года. 103 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Основная тенденция в интерпретации драматургии Хераскова связана с обнаружением в ней сентиментальных тем и мотивов, которые связываются с магистральным направлением его творческой эволюции и определяют, по мнению исследователей, его место в истории драмы и трагедии XVIII века33. Именно это представление, опирающееся на безусловно верные наблюдения, нуждается, тем не менее, в существенной коррекции. К этой проблеме придется еще не раз возвращаться в ходе дальнейшего анализа. Для нашего исследования чрезвычайно важно установить начальную общность трагического миропонимания Хераскова с тем особым пониманием "трагического", которое установилось в русской традиции, начиная с Сумарокова. Вместе с тем, интерес представляет именно особый путь Хераскова. Особость его, как будет показано, совершенно иная, нежели индивидуальные различия Сумарокова, Княжнина и Озерова, значительно превосходивших Хераскова по силе творческого дарования, путь Хераскова связан не с развитием возможностей, заложенных в трагическом каноне классицизма XVII века, но с выходом из его сферы, выходом из рационального единого пространства трагедии в драму, выражающую отношения образов-сущностей, типизированных героев, связанных с ипостасной типизацией гностической традиции. Драматургия Хераскова будет разбираться нами в основном в имманентном ряду. Это связано, отчасти, с неразработанностью вопроса об источниках трагедий Хераскова. Но вместе с тем, этот подход позволяет сосредоточить внимание на внутренних проблемах эволюции Хераскова-трагика, на особенностях различных редакций его пьес, что чрезвычайно важно для уяснения общей тенденции развития драматурга. 4.2.1 Начало творческого пути Хераскова: "Венецианская монахиня" и "Мартезия и Фалестра" Из девяти трагедий Хераскова наибольшую известность в научной литературе получила первая из них "Венецианская монахиня" (1758). Стало едва ли не общим местом характеризовать ее как одно из ранних веяний сентиментализма в драматургии, ей давались определения первой русской "мещанской трагедии" и т.д. Основания для этого исследователи видели в присущем ей якобы антиклерикализме, манифестации идеалов чувства в противовес "классицистическому рационализму"34. Между тем, нет оснований приписывать этой трагедии однозначную апологию "естественного чувства" и религиозный протест34а. "Венецианская монахиня", написанная вслед за сумароковским "Пустынником" (1757), воспроизводит ту же коллизию монашеского ухода из мира, что и сумароковская драма. Столкновение "любви к Богу" и любви земной также не имеет в ней однозначного разрешения. Но эта двойственность ценностей уже в первой редакции трагедии была задана в ином контексте, нежели у Сумарокова. Завязка "Венецианской монахини" предопределена уходом в монастырь невесты юного венецианца Коранса Занеты; Коранс, возвратившись из дальних странствий в родной город, требует от невесты верности ее прежним обетам. Коллизия усугубляется несчастным стечением обстоятельств: не ведая тайны ночного свидания Коранса, городская стража подозревает его в измене, в тайных сношениях с иностранным посольством, что по строгим венецианским законам влечет смертную казнь. Стража, захватившая юношу, подчинена Мирози, отцу Коранса, внезапно обретающему давно отсутствовавшего сына в столь трагической ситуации. Мирози становится третьим действующим лицом пьесы. Напомним и основные ее перипетии: Коранс, сохраняющий тайну своего свидания, предан отцом городскому суду; Занета открывает Мирози невиновность Коранса, но, полагая, что казнь уже свершена, обвиняет себя в его гибели и в глубокой горести удаляется в монастырь; Коранс между тем помилован судом и 104 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра возвращен отцу, но тут снова появляется Занета, уже при смерти и лишившая себя зрения она прощается с бывшим женихом, предавая себя в последний час Богу, Коранс же в тоске по невесте убивает себя кинжалом. Конфликт между Корансом и Занетой это конфликт между "естественным чувством", которому отвечает и "естественная религия", исповедуемая Корансом ("Не с тем произведен на свете человек,// Чтоб он безвременно отсюда в вечность тек;// Упорным чувствиям души своей казаться -//То благодатию господнею гнушаться"35), и мистической любовью к Богу, религией откровения, которой покорна Занета. Коллизия "любви к Богу" и любви земной проходит через всю драму и остается неразрешенной Коранс умирает верный своей возлюбленной, а Занета своему монашескому долгу. У Сумарокова сам конфликт этих ценностей входил в сверхрациональные и сверхъ-естественные основы мироздания. Герой был подлинно героем в той мере, в какой он принимал на себя предзаданный конфликт и устремлялся к единению этих начал это была его священная обязанность, но осуществление ее зависело уже не от его личных усилий, но от божественной благодати. Херасков с самого начала не принимает этой сверхрациональной парадоксальной нормы мироздания. Коллизия, оставленная им неразрешенной, взывает к рациональному разрешению. В первой редакции драматург останавливается именно на стадии трагического вопрошания. Занета разрывается между Богом и любовью к Корансу, но высшая истина, сама подразумеваемая позиция Бога в этой тяжбе остается неясна. Последние слова умирающей Занеты обрываются на характеной двусмысленности: "Я вижу смерть свою, Корансу вы скажите, // Чтоб он не плакался, узнав, что я мертва: // Угодно Богу так, чтоб он... сии слова // Глас умирающей Занеты заключили,"36. Требуется ли от Коранса обращение к Богу и раскаяние, забвение прежней любви, как к тому призывала его ранее Занета, или же Богу "угодно", чтоб он оставался таким, каков есть? так можно эксплицировать эту двусмысленность, но не решить ее. Трагическое недоумение, тягостность иррациональной ситуации, породившей конфликт, выступает тем отчетливее, что он задан (в первой редакции!) на фоне примиряющего рационального сознания, носителем которого является Мирози. Этот персонаж проповедник "рационалистического оптимизма" в духе вольтеровского Панглоса, прозревающий снятие всех конфликтов и противоречий в перспективе Божественного промысла. Один из фрагментов монолога Мирози в первой редакции прямо связан с известным местом из вольтеровского "Задига", где ангел, убивший на глазах у героя невинного человека, объявляет изумленному герою о предусмотрительном промысле, покаравшем будущего злодея и убийцу; ср. скорбящего о сыне Мирози: "Ты видишь с горних мест людей своих сердца, // Грядущее творец предвидит до конца. // Грозящий свету дух злодейством истребляет, // Незлобливых людей жить в свете оставляет; // Так может быть его ты живота лишил, // Чтоб в чемнибудь он впредь ужасней не грешил, // Тем может быть народ от гибели избавил,// И за грехи его молить меня оставил" (1798, с.40). Рациональный оптимизм, соединенный с верой в Бога, служит лейтмотивом всех речей Мирози в первой редакции, его увещаний, обращенных к героям-любовникам. Так, именно он напоминает о Боге унывающей Занете: "Тебе так как и мне претяжек сей урон, // Но помнить надлежит в сей крайности закон. // Открой духовный свет слепому рассужденью, // В нем Бога щедрого найдешь ты к утешенью" (1758, с.45) Заметим, что рассудок, закон, духовный свет и Бог даны здесь в одной плоскости. Диффузия понятий светского закона и "божественного устава" присуща вообще всей первой редакцию трагедии. Ср. обращенные к Богу сетования Мирози, ожидающего известия о казни сына: "Я сеял семена доброт в душе его, // И воспитал путем закона Твоего, // Он в честности возрос отечеству слугою." (1758, с.39); ср. также приговор 105 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра светского суда относительно Коранса: "Чтоб он на несколько из града удалился, // И о грехе своем там Господу молился" (1758, с.49). Отождествление закона в его светском понимании и священного закона, заповедей веры черта сумароковского драматического мира (см. главу 2). Но если у Сумарокова за этим стояло приложение принципов "священного закона" к закону гражданскому, который мыслился уже имеющим сверхрациональную природу, то у Хераскова гражданский закон, опираясь на рациональное, "естественное" основание, стремился вобрать в себя и осмыслить "священный закон". Так или иначе, в первой редакции конфликт естественного чувства и веры (тождественной предписанию гражданского закона) спроецирован на плоскость рационального оптимизма и приводит к "жалостной" развязке, вызывающей "трагическое" недоумение. Последние в трагедии слова Мирози, ставшего свидетелем гибели Коранса, исполнены горестными, но безинтенциональными сетованиями: "Что делать? Нет его отчаянью конца.// О! как несчастливы влюбившися сердца" (1758, с.61), "Вот сила какова, вот плод любовной страсти" (там же). Строго говоря, финал следовало бы определить как "мелодраматическое" недоумение. Речь идет не о раскрытии ситуации принципиального трагизма, как это было, например, в "Синаве и Труворе" (ср. функционально близкую Мирози роль Гостомысла), но о горестном сожалении по поводу события, которого могло бы и не быть, и отношение к факту свершения которого неясно импульсы сочувствия и осуждения глубоко переплетены и удержаны в неопределенном внутреннем равновесии. В редакции "Венецианской монахини" 1790-х годов концовка несколько меняется. Заключительные реплики теперь несут сдержанное осуждение Коранса как отчаявшегося грешника: "О Боже! нет его отчаянью конца.// Опомнися, мой сын, не раздражай Творца!", "Вот действие любви, вот плод безмерной страсти!" (1798, с.80) За этим сдвигом акцентов в последних репликах пьесы стоит достаточно старательно и тонко проведенное Херасковым изменение всей образной структуры драмы. "Подправлен" прежде всего сам образ Занеты. В первой редакции героиня, будучи монахиней, еще оставалась "нежной возлюбленной", чувство которой сдержано "долгом", но не устранено из горизонта ее духовных ценностей. Во второй редакции героиня поставлена в жесткую оппозицию к испытанному ею некогда чувству. Так, в первой редакции Занета повествует о своей прошлой любви вполне нейтрально: "Ты вобразишься мне, я ослабею вновь, // Все стало грустно мне, прискорбно, слезно, жалко: // И словом заключить тебя любила жарко" (1758, с.13). В окончательной редакции любовь оказывается изначально "дефектной": "Все стало скучно мне, прискорбно, горько, мрачно, // Любила жарко я, но слезно, неудачно"(1798, с.17). Абстрактное сожалениение Занеты по поводу Коранса: "К чему приводишь ты людей любовна страсть" (1758, с.37) заменяется прямым осуждением: "Колико ты вредна сердцам любовна страсть" (1798, с.38). Изменение отношения Занеты к страсти в поздней редакции явствует и из последовательной смены эпитетов: "сердце (...) очищено от страстного огня", ("от вредного огня"-1798); "Прости и истребляй сердечное желанье" ("развратное желанье"-1798). Характерно изменение акцентов в словесном поединке между Занетой и Корансом, доказывающим ей, что любовь это простительная слабость: "Занета: Кто служит Господу, тот слабостью грешит. Коранс: Такие слабости не ставит он пороком. Занета: На чистые сердца он щедрым смотрит оком" (1758, с.12). Последняя реплика Занеты в издании 1798 года:"На грешные сердца // Он зрит свирепым оком" (1798, с.16). Таким образом упование на Бога, отдающего преимущество монашеской чистоте, но не исключающего из сферы божественного покровительства и чувство, даже "греховную" слабость, сменилось осуждением чувства от лица Бога. 106 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Узнав о мнимой смерти Коранса, Занета в первой редакции впадает в отчаяние, обвиняя себя в его гибели, ужасаясь тому, что лишилась посмертной встречи с возлюбленным и спасения души. Отчаявшуюся Занету пытается укрепить и успокоить Мирози. Характерен итог самообличающей речи Занеты: "О! вы несчастные несчастную простите,// И зло мое не злом; но случаем почтите."(1758, с.46) Иначе говоря, несмотря на религозное содержание своей жизненной коллизии, героиня рассматривает себя прежде всего в "естественной" ситуации, перед человеческим судом. Кроме того, вся коллизия в целом оказывается "случаем", не нарушающим принципиально рациональную гармонию мира. В окончательной редакции изменена и гамма чувств, переживаемых героиней в этот критический момент, и, соответственно, структура самой сцены. Мирози уже нет необходимости утешать Занету, ибо она, признавая собственную вину и грех, не впадает тем не менее в отчаяние: "Как можно небесам преступницу простить!..// Однако надлежит всегда Творца просить." (1798, с.27) Она мыслит себя теперь исключительно перед судом Бога, а в ее отношении к возлюбленному господствуют мотивы религиозного спасения: "А ты, надежды всей навек меня лиша, // Сияй пред Господом, любезная душа! // Чтоб честь спасения с тобой соединилась, // Которой я своим несчастием лишилась." (1798, с.28) Факты, касающиеся содержательного изменения образа Занеты от первой к заключительной редакции трагедии можно приводить и далее. Все они сводятся в целом к выдвижению на первый план религиозного начала и к строгому разграничению его с областью чувства. Теперь в последнем своем монологе Занета требует от Коранса, "чтоб он своей любви сопротивлялся", и говорит о своей прошлой любви к нему, как о главной причине постигшего ее наказания. Изменилась и последняя предсмертная реплика Занеты (первоначальный вариант которой приводился выше): "Корансу вы скажите, что я у смертного о нем вздохнула рва, // Что мной он был любим; но Бог..."(1798, с.79). Противительный оборот фиксирует конечное предпочтение Занетой Бога и однозначный порядок ценностей, утверждаемых этим актом перед лицом смерти. Неполнота высказывания, оборванного многоточием, ведет в данном случае не к двусмысленности, но служит передачей "сверхсмыслового" содержания, открывающегося за понятием "Бог" на пороге смерти. Существенно изменился и образ Мирози. Эволюция его связана с более общим моментом разграничения сфер действия "закона" и "веры". Характерно в этом отношении удаление религиозного мотива из приговора суда, который в новой редакции требует от Коранса, " чтоб только он отсель на время удалился,// Потом бы паки в град к родителю явился" (1798, с.64). Мирози представитель закона и его воплощение. Из его речей последовательно устраняются апелляции к Богу, претензии на знание божественного промысла, высказывания, обличавшие в ранней редакции тождество "веры" и "закона". Так, в приводившемся уже фрагменте "Я сеял семена доброт в душе его, // И воспитал путем закона твоего, //Он в честности возрос отечеству слугою"(1758, с.39) во второй редакции исчезает упоминание о божественном законе: "Рача о нем я все старанье приложил. // Я в нем отечеству, а он во мне служил"(1798, с.51). Ср. также изменения в других фрагментах: "Во всем ты на меня, о! сын мой положись, // Но Бога ты проси, его во всем держись" (1758, с.49), так первоначально наставлял Мирози сына; во второй редакции: "Но будь в рассудке тверд, в несчастиях крепись" (1798, с.71); "Она монашеску рвалась теряя честь, // А ты в бесчестие себя сам хочешь весть,// Что в страсти ей к грехам служило ослепленьем,// В том просвещалася духовным рассужденьем" ( 1758, с.52), так в первой редакции трагедии Мирози упрекает сына, представляя ему Занету как пример "духовного просвещения". В редакции 1798 года два последних стиха изменены, теперь Мирози ставит в образец Корансу только волю Занеты : "Стыдися сам себя, стыдися предо мною, // Что духом меньше ты пред слабою женою" (1798, с. 69). Апелляция к Богу, к "духовному рассуждению" сменилась, таким 107 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра образом, обращением к рассудку и воле. Устранены во второй редакции и элементы вольтеровского "рационального оптимизма", отмечавшиеся выше. Исключение религиозных мотивов из речей Мирози тем более заметно, что отнюдь не отражает, как было уже показано, общую тенденцию новой редакции, связанную с ценностным приоритетом религиозных мотивов. Речь не идет и о полном исключении Мирози из сферы религиозных отношений. Отсутствие религиозного наставничества в речах Мирози не означает новой трактовки его образа во внерелигиозном ключе. Религиозность теперь приписывается ему в новом модусе модусе волевого подчинения, служения, не претендующего на знание путей Провидения, в отличие от Занеты, непосредственно обращенной к Богу, знающей божественную истину. Так, в окончательной редакции слова Мирози о парадоксах благого Промысла заменены формулой подчинения Богу, отождествления себя именно с ипостасью "божественной воли": "Я плачу слезы те суть действия родства; // Но дух мой волей весь исполнен Божества // Над сыном пусть моим свершает смерть свирепость: // Родительской душе лишь дай, мой Боже, крепость" (1798, с.52). Занета, Мирози и Коранс во второй редакции становятся воплощениями трех ипостасей, о которых говорила масонская литература. С Занетой соотносится высшее знание, соединенное с веянием благодати, божественной любовью, заботой о спасении других, с Мирози уровень Закона, реализация потенций рассудка и воли, с Корансом Натура, чувственный уровень человеческой личности. Все это не означает полного устранения первоначального конфликта. Авторская правка в данном случае только привносит новые смысловые акценты в первоначальный сюжет, но не изменяет его радикальным образом. Занета и Коранс все еще функционально сближены в их роли страдающих любовников, финал все еще производит мелодраматический эффект, но введена все же сдержанная этическая поляризация персонажей. "Вы оба любите, и малодушны оба, сетует Мирози в последнем акте драмы, обращаясь к сыну, Но в ней одна любовь, в тебе любовь и злоба." (1798, с.70) "Любовь и злоба" помраченное состояние, свойственное Натуре, пренебрегающей высшими духовными степенями, которым причастна чистая любовь Занеты, превратившаяся в стремление к спасению бывшего возлюбленного. "Трагическое недоумение", сгущавшееся к финалу первой редакции, характеризует финал трагедии и в ее окончательном варианте. Но вместе с тем в ней ощутимы уже контуры новообретенной рациональности: формируются три типа героев, три метафизических сущности, каждая из которых получает свое место в раскладе целого, в едином сюжете. Сам этот сюжет будет наиболее явственно обрисован в последующих трагедиях Хераскова, начиная с "Пламены." До перехода к новому этапу творчества драматурга имеет смысл кратко остановиться еще на одной ранней его трагедии, "Мартезия и Фалестра", в которой также можно отметить первоначальную структуру конфликта, схожую с сумароковской, и радикальную ее переработку во второй редакции. При этом обнаруживаются несколько иные акценты, нежели в предыдущем драматическом опыте. Если в "Венецианской монахине" выступают противоборствующие герои, соотносимые впоследствии с ипостасями "чувства" и просветленного "разума", то коллизия "Мартезии и Фалестры" (1767), в раннем варианте предстающая как неразрешимая двойственность долга и страсти, приближается в новой редакции к коллизии страсти и рассудочно-волевого начала. 108 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Действие трагедии разворачивается в дохристианские времена, в вымышленном "Славянском граде", где единая любовная коллизия сталкивает "князя древних славян" Славена, "амазонок" Мартезию и Фалестру и возвращающегося из-под Трои Аякса. Любовный конфликт с четырьмя участниками имеет некоторые общие черты с расиновой "Андромахой" и ломоносовским "Демофонтом". Здесь перед нами "интимная" коллизия, явно восходящая к традиции галантной литературы: так, сюжетная линия Славена определена рыцарственным преклонением перед возлюбленной, ведущим к выполнению любых ее требований, даже при полном с ее стороны пренебрежении поклонником. Вместе с тем, герои-государи постоянно апеллируют и к принципам долга как стоицистической неподвластности страстям, требуемой для идеального государя. В раскладе персонажей Славен и Фалестра являют собой стоицистически сдерживаемую страсть, Аякс и Мартезия героев, предавшихся неистовой страсти. Аякс, влюбленный в Фалестру и любимый ею, не может соединиться с ней браком и увезти ее, ибо та, движимая долгом, не желает покинуть свою сестру и государыню Мартезию, которая сама влюблена в Аякса. Славен, любящий Мартезию, по долгу государя и галантного любовника покровительствует всем троим гостям "славянского града". Трагедия в первоначальном варианте заканчивалась гибелью Аякса и Фалестры и исступлением Мартезии, в чем косвенно оказывался виновен Славен: его воины, охранявшие Фалестру, вступают в бой с воинами Аякса, вознамерившегося увезти возлюбленную силой; в этой битве Фалестра непрестанно "рвется" между страстью к Аяксу и "долгом" перед сестрой, призывающим ее остаться, но, наконец, Аякс, поняв безнадежность собственных усилий, поражает себя мечом, а вслед за ним закалывается и Фалестра. Мартезия же, подобно расиновой Гермионе, обвиняет Славена, исполнявшего ее же собственную волю, в холодной жестокости. Погибает от исступленной страсти Мартезия, отчаивается в своем холодном рассудке Славен, покидающий сцену со словами, напоминающими сумароковского Синава: "Стремитесь небеса весь гнев свой воружить, // И выньте дух мой вон, я не желаю жить."37 Двойное самоубийство одних дублируется двойным отчаянием другой пары героев, знаменуя трагический диссонанс страсти и разума. Ситуация "трагического недоумения", возникающая под занавес трагедии, опятьтаки имеет своим источником Сумарокова, но отнюдь не ведет к экспликации сверхрациональных основ конфликта (как в том же "Синаве и Труворе"). Трагизм в данном случае не имеет онтологического основания. В издании 1798 года Херасков решительно перестроил весь этот каскад самоубийств и исступлений. Аякс теперь становится непосредстаенным виновником смерти Фалестры, случайно поражая ее мечом в сече, и затем закалывается, обвиняя себя при этом в неверности Мартезии и в "пороках", за которые принимает кару богов. Самообвинение Славена теперь исключено в своей последней реплике он обвиняет Аякса. Последние же слова в трагедии отданы Мартезии. Она осуждает Славена: "Ты наших горестей, ты наших бед содетель; // Твоя язвительна нам стала добродетель" (1798, с.262), но это саморазоблачительное осуждение. Все действие как бы выстраивает мифологему самоистребления "страстного" рода перед лицом Славена, некоего предка славян, представляющих в данном случае добродетельное рассудочно-волевое начало, и в то же время развязка трагедии оттеняет недостаточность этой автономной добродетели. Речь идет только об иерархии двух ипостасей, третья, высшая, отсутствует в картине языческого мира. 109 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра 4.2.2 "Пламена" первый опыт ипостасной иерархии героев Вступление М.М.Хераскова в масонство произошло, по-видимому, около 1775 года38. Можно, однако, предполагать, что знакомство его с историческими и антропологическими схемами, порожденными масонской мистикой относится к значительно более раньнему времени. Привлекает внимание в этом отношении его поэма "Плоды наук" (1761), посвященная будущему Павлу I. Поэма, разделенная на три песни, рисует три условных этапа истории, проецируемой на историю мира, и в особенности на историю России, что призвано служить непосредственному научению будущего монарха. Первый из этих этапов "Ужасны времена и дикость древних лет", когда "врожденный ум исчез, невежеством затмен,"39 времена бесчиния и безначалия, забвения изначального закона, соотносимые с мифологическими временами восстания Гигантов, а в плане истории России с периодом стрелецких бунтов. Второй этап явление героя-основателя, "просвещенного мужа", установившего законы и правила общежития:"К трудам их приводил, и град обвел стенами; // Законы предписал, чтоб наглость удержать."40 С этим героем в русской истории соотносится Петр I. Наконец, третий период, представленный как время Елизаветы, состоит в процветании всех наук в благоустроенном обществе. Историческая схема построена на комплементарном приложении к русской истории просветительской идеи движения от невежества к торжеству разума, и сам закон, о торжестве которого пишет поэт, недвусмысленно назван "законом естества". Но сама четкость тройственного деления этапов и их специфическая характеристика заставляет подозревать использование концепции мистической тринитарности. В трагедии "Пламена", написанной в том же 1761 году41, речь пойдет уже о истории победы христианства и тринитарные мотивы в ней получат собственно религиозное основание. По сюжету "Пламены", Мстислав и Позвезд, сыновья князя Владимира (оба имени взяты из истории), требуют обращения в христианство пленного язычника Превзыда. При этом Позвезд и дочь Превзыда Пламена любят друг друга. Превзыд замышляет и поднимает восстание. Позвезд и Пламена оказываются в ситуации конфликта "долга и чувства", усугубляющегося тем, что Пламена принимает христианство, а Превзыд, узнав об этом, обрекает дочь на казнь. Позвезд побеждает Превзыда и великодушно прощает его, но упрямый язычник не раскаивается и во второй раз собирает мятежные силы. Позвезд снова разбивает его и снова, проявляя великодушие, отдает ему меч не смирившийся Превзыд в ярости поражает им самого Позвезда. В этой трагедии чрезвычайно значима парность героев как в стане христиан Позвезд и Мстислав, так и язычников Превзыд и его сообщник Вирсан. Двое братьев в целом идут одним путем, обозначенным как путь христианского правления, но различие их функционально если один, Позвезд герой-любовник и, вместе с тем, проповедует любовь и великодушие к врагу, то второй, Мстислав сопротивляется любовной "слабости" брата и требует справедливой, законной казни врага. Ведет действие собственно Позвезд, речи Мстислава служат своеобразным проблематизирующим фоном. Между двумя братьями не возникает конфликта, но обозначена дистанция, иногда достаточно напряженный зазор понимания: Мстислав: И ежели себе яснее ты представишь // Что варварку любя, ты род свой обезславишь, // Забудешь красоту, изгонишь страсть свою, // Котору слабостью единой назову. // Позвезд: О! Суемудрие людей ожесточенных, // Подобие сердец из камня изсеченных, // Любовь единою мечтою почитать! // И что она как сон удобна пролетать; // < . . . . . . . . > Любезный брат хоть ты препятства не являй, // Отцу Пламенину себя не подобляй"42 Конкуренция двух точек зрения на любовь в трагедии достигает остроты, поскольку правота любви и великодушия Позвезда дважды испытывается мятежом 110 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Превзыда. Однако уподобление Мстислава "отцу Пламены" Превзыду в цитированном фрагменте носит не только смысл предостережения, но и объективной близости. С Превзыдом связана вполне определенная нравственная установка, соотносимая с предшествующей христианству стадией, понимаемой как главенство Закона (как антитезы Благодати), именно мотив "Закона" стоит на первом месте в обращении Превзыда к сообщникам: "За что вступаемся, о! Други? за Закон, // За похищенную отцев моих державу, // За кровных, за друзей, за нашу прежню славу." (1765, с.33) Сам Превзыд, несмотря на свою нераскаянность и стойкое отрицание христианства, изображен не как фатальный злодей, но героический защитник язычества: "Похитив мой Престол, лиша меня градов, // Хотите вы лишить меня моих богов, // Чтоб совести моей и сердцу был изменник, // Я телом пленник ваш, но духом я не пленник. // Не льстись его своим советам покорять, // Он в том неколебим, кто знает умирать." (1765, с.14) Здесь предстает комплекс мотивов, сводящихся к волевому началу, мужеству, свойственным второй ипостаси в ее антропологическом плане. Языческая религиозность Превзыда подчеркивает метафизическую основательность его позиции. Усиленная риторика его монологов рисует его едва ли не как языческого аскетамученика: "Я благо все мое к богам в любови чту,// Земное счастие я ставлю в суету." (1765, с.14) Чрезвычайно важно, что "законничество" Превзыда не остается только в рамках условно-языческого комплекса. Апология язычества в его устах перерастает в обличение "беззаконного" света, придворной лести и "неправды" на тронах: "За бедства, коих здесь я много перенес, // Могу ль отчаяться я жительства небес. // Среди горящих звезд беседуя с богами, // Увижу скипетры и троны под ногами. // Земной увижу круг, лишенный тишины, // Мучительства на нем, злодейства и войны; // Поверженных царей увижу на колени; // Их славу гибнущу, как облачные тени. // И подлой лестию отравленны сердца, // Теснящися кругом фортуны и венца. // < . . . . . . . . . . > Где правды не видать, лукавство где живет, // Где наглость бодрствует и где премудрость дремлет,// Где царствует порок и шар земной объемлет: // Где честный странствует, ликует где злодей, // Прибыток собственный друг первый у людей. // Рабы, начальники, главы самодержавны, // Природою своей и бедствиями равны." (1765, с.52) Перед нами обличения от лица "закона", порожденного уже не языческой архаикой, но имеющего "вечный" статус, в результате чего возникают аллюзии на современность. Все это не означает, однако, что в образе Превзыда выдвигается вторая вечная истина, конкурирующая с христианской. Опасная двусмысленность снимается благодаря дополнительному персонажу Вирсану, сообщнику Превзыда, играющему в целом эпизодическую роль. Вирсан вместе с Превзыдом развивает риторику "закона" и оказывается даже более твердым, чем сам Превзыд, поддерживая вождя, внезапно унывшего при мысли о дочери-заложнице. Когда Пламена неожиданно предстает перед заговорщиками, отпущенная из заложниц, и объявляет о своем принятии христианства, Превзыд, колеблясь некоторое время между "природой и законом" (1765, с.39), ( для масонского сознания за этим предстает не только типовая трагическая коллизия, но две первые ипостаси), обрекает Пламену на казнь, которую поручает Вирсану. Но с Вирсаном, ревностно принявшимся за исполнение приказа, внезапно происходит перемена: войдя случайно в христианскую церковь, он восчувствовал благодать и возымел жажду креститься. Более Вирсан не участвует в действии. Заметим, что само имя Вирсан, вероятно, относится к разряду "говорящих", представляя собой условно славянизированный вариант имени (ср. Владисан, Велесана в трагедиях XVIII века), 111 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра производного от французского глагола virer поворачивать, что указывает на внезапное обращение, перемену веры этого языческого "апостола Павла". Вирсан просвещается светом христианства, приобщая к нему все сущностноположительное из ипостаси закона или рассудочно-волевого начала. Превзыд в этом плане являет собой "помраченный" рассудок, пребывающий теперь, после ухода Вирсана, в чисто негативном "превозношении" (реализуя этимологию своего имени). Внутри же самого христианства остается двуипостасное деление закона и благодати, воспроизводящееся в паре правителей Мстислав ( изофункциональный в этом отношении Вирсану) Позвезд. В ипостасном раскладе персонажей Пламена представляет собой натуру и собственно чувство. Именно в трактовке этого "чувства", как и общей коллизии героевлюбовников, проходит резкая граница между первой и второй, радикально переработанной, редакциями трагедии 1761 и 1798 года. Именно эти моменты позволяют обнаружить и переходный характер "Пламены" 1761 года в ряду драматических опытов Хераскова. Причем совершающийся здесь переход выявляет внутренне противоречивые тенденции: с одной стороны, осуществляется отказ, хотя еще далеко не окончательный, от сумароковской поэтики, способов организации трагического действия, с другой стороны, то, что приходит им на смену, может быть охарактеризовано как компромисс принципов сентиментально-просветительской драмы и религиозно-масонского сюжета. В трагедии все еще подчеркиваются признаки сумароковской неразрешимости конфликта "долга и страсти". Сама Пламена принуждена к жестокому выбору между любовью к Позвезду и долгом перед отцом. Внутренний конфликт драматизируется сначала ее готовностью подчиниться Превзыду, предлагающему ей двойное самоубийство, а затем покорным принятием определенной им дочери-вероотступнице казни. Вместе с тем, Пламена требует от своего возлюбленного Позвезда пощадить отца-мятежника, применяя тактику "нежного шантажа" угрожая собственным отчаянием и смертью в случае гибели отца. Позвезд же, в свою очередь, переживает муки неразрешимого конфликта долга и страсти, отчасти в духе Сумарокова, отчасти в духе французской классики мешая страсть к Пламене с упреками ей: "Во всей моей душе является премена. // Все сделать из меня умела ты, Пламена: // Умела мне пути ко славе затворить, // Умела в пленника героя претворить; // <. . . . . . . .> Но где могу искать отъемлемых лучей, // Окроме дорогих Пламениных очей. // Без ней и скипетр мне и слава бесполезна, // И мне с отечеством равно она любезна. // Я много для нея на свете сем гублю, // Но бедственну красу как душу я люблю." (1765, с.30-31) Борьба в душе Позвезда продолжается на протяжении всей трагедии. Причем с внутренним голосом долга совпадает позиция Мстислава, претендующая на абсолют. Но уже в цитированном отрывке проступают смыслы, отсутствовавшие у Сумарокова: сумароковский герой исповедовал, собственно, не любовь к отечеству, но долг подданного и государя. Человеколюбие, понимаемое как любовь к отечеству и приравненное к любви юноши к его избраннице это уже рефлекс сентиментальнопросветительской поэтической темы гармонии природы. Усилия Позвезда направлены не на удержание в равновесии требований "долга" и "чувства", как бы извне предстоящих герою Сумарокова, но на доказательство их единства, гармоничности. Характерно отсутствие в трагедии высшей инстанции отца и/или государя, диктовавшего требования долга, действие в "Пламене" происходит в момент отлучки Владимира, вручившего всю власть сыновьям, самостоятельно устанавливающим параметры должного. Коллизия Позвезда и Пламены может быть интерпретирована в двух планах: как коллизия "пламенного" чувства (Пламена) и героического мужского начала (Позвезд), 112 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра воплощающего разум, справедливость, устойчивость общества, оба начала стремятся к гармонии в единой субстанции "природы"; или же как коллизия разума, просветленного христианством и исполненного благодатью, милующей любовью (Позвезд) и природы, принимающей от него дар крещения, дар благодати (Пламена), в этом случае пространством их соединения становится пространство веры. Просветительские чаяния принимают религиозную окраску и, вместе с тем, религиозно-мистическая коллизия внутренне структурируется по принципам просветительской драмы. Но представление о мистической иерархии привносит свои смыслы, не позволяющие состояться безоблачному гармоническому единению. Скрещение всех этих тенденций происходит в финале трагедии. Правота любви, защищаемой Позвездом перед своим суровым братом, торжествует, но это торжество наступает уже на территории веры, о ней возвещается на пороге смерти. Рассказ вестника о Позвезде приобретает черты повествования о христианском мученике. Милосердие, всепрощающая любовь к врагам (функция третьей ипостаси) и земная любовь поставлены здесь в один ряд и самой их совокупности придан статус божественного предопределения, последней истины, провозглашаемой праведником перед лицом смерти: "Но захватя Позвезд своей рукою рану, // Колеблясь подходил к убийце и тирану. // И на плеча взложа и руки и главу, // Сей агнец говорил сему свирепу льву: // Не ты, Превзыд, моей кончины стал причина, // Не ты! несчастная отъемлет жизнь судьбина. // Мой рок уже ничем не будет отвращен, // Так Бог определил; ты должен быть прощен, // Но смертию моей почувствующим трату, // Будь Христианин ты, и буди другом брату." И далее вестнику: "... проси, чтоб брат Пламену не оставил, // И чтоб отца ее во всем простил, проси; // А ей последнее прощенье отнеси! // Скажи: что смерть моя была необходима; // Несчастна тем она, что мной была любима." (1765, с.6869) Сама Пламена, объективно виновная в смерти Позвезда, оправдана как его предсмертными словами, так и ее собственным заключающим трагедию решением. Отчаяние из-за смерти любовника, повторяющее опять-таки сумароковские мотивы (ср. Ильмену в V действии "Синава и Трувора"), переведено в русло религиозного поведения и приводит к решению героини об уходе в монашеское отшельничество: "Погибли от меня отец мой и любезный, О! небо грянь в меня и кончи век мой слезной. Мне жизнь мучительна, противен здешний свет... Увы! Позвезд меня... Позвезд к себе зовет! Сыскать кратчайшую к любезному дорогу: В пустыню скроюся, и посвящуся Богу." (1765, с.72) Различие и иерархическая дистанция ипостасей "духа" и "природы" приводит к разлуке влюбленных, но, вместе с тем, вся эта сцена пронизана "нежнейшими" мотивами оправдания любви в ее небесном и земном образах, надеждой на встречу. Разлучение "духа" и природы выглядит чем-то мимолетным, скоропреходящим. Логика ступенчатой иерархии трех начал, уже заданная в раскладе персонажей, перебивается и нечувствительно переходит в логику соединения вершины и основания иерархии, целостного единства мира. Многочисленные изменения второй редакции трагедии направлены как раз на то, чтобы полностью исключить весь пласт смыслов, связанных со смешением духа и природно-чувственного начала. При сохранении общей фабулы полностью изменился характер внутреннего конфликта, испытываемого Пламеной и Позведом. Пламена не смеет теперь столь настойчиво тревожить своими упреками влюбленного в нее князя. Все прежние сцены "нежного шантажа" заменены безадресными ламентациями Пламены. Соответственно, и в парных к ним монологах Позвезда отсутствует прежнее раздвоение. Приведенный выше его монолог из второго действия приобретает, например, совершенно иной вид: "Она смущается, вздыхает, слезы льет, // Страдает в ней душа, в ней совесть вопиет; // Конечно умысл ей родителев известен, // Лукавством весь его исполнен разговор, // Его мне страшен вид, его ужасен взор; // Жду, жду я от 113 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра него всеобщей нам напасти. // О небо! не тревожь с Пламеной нашей страсти; // Дай способы, ея мне душу просветить, // От идольства отвлечь и к Богу обратить..." ( 1787, с.123) Устранено, как мы видим, смятенное "я" героя, разрывавшегося между любовью и долгом остаточный элемент сумароковской принципиальной двойственности. Теперь Позвезд вещает из уверенной в себе позиции высшего знания знания Бога. Пламена не имеет над ним никакой роковой власти, наоборот, он, хотя и сострадательно, но все же обличает ее. Сама любовь Позвезда к ней предстает как снисхождение и долг высшего начала перед низшим. Устраняется сумароковская двойственность, но вместе с ней уходит и сетиментальная гармоничность. Новый абрис отношений Пламены и Позвезда привел к тому, что в новой редакции стал уже невозможен прежний конец. Чувствительная сцена прощения Позвездом Превзыда и умиротворение Пламены изменены. Позвезд умирает теперь от рук Превзыда прямо на сцене без каких-либо слов, и вся трагедия завершается двумя короткими репликами: "Пламена: Ах! я его убила! Мстислав: Зловредная любовь! ты всех нас погубила."(1798, с.177) Не затмевая великодушия и духовной доблести Позвезда, новая концовка всю ответственность возлагает на ставшее автономным чувственно-природное начало, отождествляемое с Пламеной, теперь уже не получающей христианского прощения. Последнее слово теперь принадлежит Мстиславу герою, олицетворяющему уровень, пограничный между высшим и низшим началами. От его лица произносится обличение неправомерного смешения этих начал. 4.2.3 "Горислава": масонская трагедия и традиции сентиментальной драмы В творчестве самого Хераскова после "Пламены" общепросветительская вера в гармонию природы и мистический принцип ипостасной иерархии долгое время существовали бок о бок. Первое предопределило, по-видимому, приятие Херасковым жанра слезной драмы, несколько образцов которой он создал в 1770-е годы. Одну их этих драм, "Гонимые", Л.М.Пастушенко даже по преимуществу связывала с масонской моралью "единого семейства" и "общечеловеческой радости"43. Между тем, ничего специфически масонского в "Гонимых" не содержится. Можно говорить лишь о том, что сама масонская идеологема братского единения посвященных здесь вполне изоморфна просветительской идее "единства природы", на которой зиждились мораль и поэтика слезной драмы. Благодаря слезной драме Херасков усваивает специфическую сентиментальную и преромантическую стилистику: формулы ламентаций, нежного страдания, многократное подчеркивание слабости героев и сюжетику: истории разрозненной и воссоединяемой семьи, недоразумений между супругами (которые приобретают больший вес, нежели обычные в классицизме отношения несоединенных любовников), многочисленные узнавания, потерянные и найденные дети и родители. Несмотря на прозаический характер чувствительной драмы, эти элементы легко транспонировались и в поэтический строй трагедии. После слезных драм 1760-70-х годов просветительская идеология в творчестве Хераскова обрела свое "второе дыхание" в новой поэтике, вошла в плотный контекст драматических формул и устойчивых ходов, воссоздававших строй "природы" в ее сентиментальной трактовке. Свидетельство этому прежде всего его трагедия "Идолопоклонники или Горислава" (1782). Сумароковские приемы и способы организации действия в ней практически исчезают. И вместе с тем в полной мере обнажаются противоречия сентиментально-драматической поэтики и логики мистической иерархии. Коллизия этих двух начал в полной мере проявилась в переходе от первой ко второй редакции. 114 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Эта пьеса продолжает линию трагических сюжетов из начальной российской истории. Горислава имя, данное полоцкой княжне Рогнеде, против ее воли взятой в жены Владимиром. Но сам сюжет трагедии, в основе которого лежит летописное повествование, вымышлен и обнаруживает очевидные приемы сентиментальнодраматического сюжетосложения. Рогнеда-Горислава, несмотря на то, что Владимир явился виновником гибели ее близких, остается верной и преданной супругой киевского князя. Владимир, однако , охладевает к Гориславе, он принимает христианство, задумывает истребить идолов и решает жениться на греческой царевне Анне. Против него строят козни языческие жрецы, пытающиеся внушить Рогнеде долг мщения и ненависть к Владимиру. Это служит источником страдания и слез для Гориславы, не способной отказаться от любви к царственному супругу. Ситуация мелодраматизируется еще более, с одной стороны, тем, что жрецы спекулируют и на ее чувстве к Изяславу, их с Владимиром сыну, которому теперь угрожает бесчестие или прямая опасность, с другой, тем, что сам Владимир верит наветам на Горисаву, проникается к ней ненавистью и решается ее казнить. Еще один участник интриги, явно напоминающей коллизию мещанской драмы Святополк, мнимый сын сраженного Владимиром Ярополка, в действительности же сын Владимира. Святополка также пытается использовать в своих целях главный жрец. В финале трагедии рассеиваются все недоразумения. Сын узнает отца и происходит общее примирение. Язык героев, мотивировка их поступков приближены к сентиментальнодраматическим канонам. В качестве примера можно привести фрагмент эмоционально насыщенного диалога из первого явления пятого действия трагедии, где Горислава предчувствует готовящуюся ей Владимиром казнь: Изяслав: "Я вижу во твоих очах источник слезный. // Горислава: Или ты не привык еще к слезам моим? // Ты повседневный был, мой сын, свидетель им: // В слезах мы светлый день, в слезах луну встречаем. // Мы только ими грусть сердечну облегчаем. // Изяслав: Я чаял, что твоим бедам пришел конец, // Что с нами сжалился Владимир, мой отец // Святополк: Страдающих сердец едино облегченье, // О слезы! Наших бедств и грусти уличенье, // Вы бедных питие непользующе им, // Когда свирепый рок для них неукротим; // Но камни твердыя ток водный умягчает,// И плачем укрощен жестокий нрав бывает. // Иду. Царю внушить невинность вашу я."44 Между тем весь структурный костяк трагедии обусловлен масонскими идеологемами. Здесь опять-таки присутствует пара христианских правителей Владимир и его "сродник" Добрыня, представляющие ипостаси закона и благодати. С установочного разговора между ними и начинается трагедия. Причем, в отличие от "Пламены", иерархия здесь с самого начала незыблема: Добрыня, представитель "закона", может сомневаться в необходимости христианства, но остается верным подданным Владимира. В стане же язычников Святополк и главный жрец Золиба представляют собой два модуса "закона": темное, оставшееся нераскаянным язычество Золиба, и мужественная воля, способная просветиться светом истинной веры Святополк. При этом коллизия ипостасной иерархии, жесткого субординационного подчинения типизированных героев дана в гораздо более отчетливом и напряженном виде, чем в "Пламене". Это приводит, в частности, к концовке, которая с учетом всех сентиментально-драматических элементов трагедии воспринимается как эффект нарушенного ожидания. Горислава, верная супруга, столь много пострадавшая, оклеветанная и оправдавшая себя, наконец, в глазах мужа, так и не воссоединяется с ним, что должно было бы составить традиционную концовку драмы. Состоявшееся в итоге примирение далеко разводит супругов. "Но благодати днесь коснулась мне рука, // И мой смягчился дух: вражду мою забудьте,// Владейте Полоцком и мне друзьями будьте," этими словами Владимира завершалась трагедия в первоначальной редакции. 115 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Неожиданность финальной сцены, устанавливающей субординационную дистанцию между супругами, особенно бросается в глаза, если сравнить "Гориславу" с ее непосредственным источником трагедией Ф.Ключарева "Владимир Великий" (1779). Несмотря на то, что сам Ключарев был причастен к масонству45, в трагедии его отсутствует и христианская тема (события происходят в языческом Киеве) и иерархически-ипостасное распределение героев. Владимир здесь действует, воплощая милосердный "закон природы" и волю "богов", за которыми предстают узнаваемые очертания естественной религии. "Владимир" Ключарева не только впервые открывал сюжет супружеского конфликта Владимира и Рогнеды, к которому обратился Херасков, но и подсказал ему ряд сцен и эпизодов. Особенно близки к Ключареву последние сцены "Гориславы", откуда Херасков заимствовал мольбу малолетнего Изяслава, окончательно склоняющего князя к прощению супруги. Но в соответствии с обыкновениями семейной драмы все завершается воссоединением княжеской четы. Разделение супругов у Хераскова, исторически подкрепленное реальной женитьбой Владимира на Анне, в символической структуре пьесы объясняется тем, что Рогнеда представляет чувственное начало просвещенное и склонившееся перед духом и благодатью, но не слившееся с ним. Любопытная деталь, открываемая во второй редакции, но, по-видимому, независимо от различия редакций, присутствовавшая изначально в сознании драматурга: Полоцк, отдаваемый в княжение Рогнеде, мыслится вне России: "В России, в Полоцке, где жить ни буду я"восклицает Рогнеда. Это еще резче обозначает границу между Владимиром и Рогнедой, как несводимыми началами, хотя и вошедшими в единый иерархический ряд. Иерархичность, смиренно признаваемая "снизу" и милостиво игнорируемая (но не устраняемая!) сверху особенно отчетлива во второй редакции: Горислава:" В России, в Полоцке, где жить ни буду я,// Клянусь быть верная везде раба твоя." Владимир (обняв Гориславу): "Тебя я не рабой, супругой называю " (1798, с.435). (После этого все же состоялось определение Рогнеды в Полоцкий удел.) Но несмотря на дистанцированность Владимира от Рогнеды, в первой редакции в самом акте "смягчения" Владимира и прощения им Рогнеды, природа и благодать действуют все-таки совместно, отвечая просветительской вере в единение природы и разума. Святополк подвигает Изяслава, сына Рогнеды, просить о милости сурового отца, надеясь, вполне в русле сентиментальной традиции, пробудить "природу" в нем: "Владимира его печальный голос тронет; //Увидя здесь, его природа в нем восстонет!" (1782, с.73) Эффект этот вполне удается. Владимир, умилившись при виде сына и растрогавшись его мольбами, восклицает : "Ах! кто тебя мой сын, сим нежностям учил?// Меня твой взор!.. твой вид! твой голос умягчил!" Далее с теми же интонациями обращается он к Гориславе: "Вся жалостью моя наполнилася грудь?// Нашли твои слова и очи к сердцу путь!" (1798, с.75-77). Повисший риторический вопрос "кто тебя сим нежностям учил?"подразумевает в сентиментально-драматическом контексте ответ "природа, естество." У Ключарева в аналогичной сцене это было выражено со всей отчетливостью: ср. Владимир:"Сильнейший мне закон природа вопиет,// И верх над всем она теперь уже берет;// Всегда я человек: иль то забыть возможно"46. У Хераскова этот ответ подразумевается тоже, но дополняется спиритуалистически-религиозным, заключающим трагедию: "Святополк: Премену такову какой соделал Бог? // Горислава: Кто сердце, князь, твое смягчить мгновенно мог?// Владимир: Закон, который нас душевно просвещает, // Закон сей и врагам прощение вещает. // Я долго правды зрел лучи издалека, // Но благодати днесь коснулась мне рука." (1798, с.77) В последних словах Владимира формула перехода от уровня закона к восчувствованию благодати и вместе с тем, из всего контекста трагедии и из этого двойного вопрошания: "кто", "какой Бог" следует, что "благодать" и "природа" соединяются в акте милости Владимира. 116 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Трагедия "Горислава" в ее первой редакции явилась, пожалуй, предельным выражением компромисса между системой масонской трагедии и сентиментальнодраматическим каноном. 1790-е годы вплотную поставили вопрос о несовместимости двух идеологических схем. Чувствительные мотивы обнаружили свою явную связь с просветительской идеологией, разоблачившей себя в глазах "благонамеренных" русских масонов своею связью с французской революцией. Известен ряд антиреволюционных выступлений Хераскова в иных жанрах47. Именно теперь, при подготовке собственного собрания сочинений, Херасков пытается устранить из своих прежних трагедий все то, что нарушает однозначную иерархию духовных ценностей, поколебленную и в современном ему литературном и во внелитературном пространстве. В этом непосредственная причина пересмотра им своего прежнего трагического репертуара, пересмотра, результаты которого уже отмечались выше. Переделке подверглась и "Горислава". Она предстала максимально очищенной от всех стилистических формул чувствительной поэтики. Во многих сценах изменилась в связи с этим вся структура диалога. Так, в частности, совершенно переиначена и характерная сцена из пятого действия, приведенная выше. Из нее оказались целиком устранены развивавшиеся прежде чувствительные мотивы. Смысл эмоций Гориславы остался тем же, но это теперь только сетования, приближенные к лапидарной стилистике сумароковской трагедии, полностью исчезло превозношение "слезного дара". По-иному строится и разговор Святополка с Гориславой он ведет речь теперь не о сострадании Владимира, но о принятии Гориславою христианского закона и об ожидаемом от Владимира милостивом прощении супруги. Соответственно, изменился и завершающий акт трагедии. Устранены слова Святополка, апеллирующие к "природе" во Владимире. Увидя супругу и сына, Владимир прощает их , но уже не произносит слов об их "жалостном" виде. И на прежний вопрос "кто скоро так смягчить твою суровость мог?" дается решительный ответ: "Небесный вышний Бог! // Премудростью своей Он всюду пребывает // И нам своих врагов любить повелевает: // Присутствие Его я в сердце ощутил, // Смягчился, сжалился, Рогнеду я простил." (1798, с.435-436) Торжествующим началом теперь выступает чисто "пневматическая" добродетель, глас "Премудрости" , которым вещает Владимир, и которому покоряются все герои, пребывающие на нижних ступенях ипостасной иерархии. 4.2.4 Трагедии Хераскова 1790-х годов: конфликт просветительства и религиозно-масонской идеологии Новая позиция Хераскова проявилась не только в переработке прежних пьес, но прежде всего, в претворении новых трагических сюжетов. Речь идет о созданных в 1790х годах трагедиях "Юлиан Отступник" и "Освобожденная Москва". В "Гориславе" комплекс мотивов "естественного чувства", воплощавший претензии просветительской мысли на достижение гармонии мира, был связан с пассивным поведением персонажей; речь шла о смиренной мольбе и тайной обиде страдающих героев. В трагедиях 1790-х годов сентиментально-просветительская мысль приобрела активный, наступательный характер на новом витке вернулась тема несмирившегося Коранса. В фокус трагического сюжета теперь вводится поединок между просветительской идеологией "естественного закона" и духовной христианской добродетелью в ее масонском понимании. 117 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра В "Юлиане Отступнике" даны две резко размежеванные и непримиримые концепции добродетели: одна воплощена в императоре Юлиане, противнике христианства и в его наперснике Леоне, другая в христианах, в Меланте, любимой Юлианом, и в ее отце "градоначальнике" Никандре. Сама коллизия "Юлиан христиане" читается в плане столкновения ипостасей разума-рассудка и духа (или "закона" и "благодати"). Юлиан исповедует терпимость и стоическую добродетель; единственное, чего он не допускает, это поклонение единому Богу христиан. Юлиан постоянно твердит о естественном законе, заменяющем божестенное откровение: "Не должно проникать нам в тайны божества, // Довольно познавать законы естества, // Довольно если мы исправим наши нравы,// Храним природою предписаны уставы". (1798, с.105) Это рассудок, останавливающийся на уровне натуры, "помраченный разум" по масонской квалификации. Субъективное благородство намерений Юлиана, определяемое положительной сущностью ипостаси закона, не дезавуируется до конца. Здесь, как и в предыдущих трагедиях Хераскова, присутствуют пары персонажей на обеих ступенях ипостасной иерархии. Коварным и окончательно падшим двойником Юлиана выступает здесь его наперсник Леон. Но и сам император в своем исповедании естественного закона проникается гордыней "Мой бог моя мне слава! //А я вниманья став народного предлог,// Есмь ради Греции и Царь и зримый бог!" (1798, с.99) Собственно царь и Бог становятся здесь в ряд ипостасных именований, воплощая смыслы закона и благодати. И именно за нарушение иерархии карается Юлиан, пораженный молнией: "Уверься целый мир при наказаньи строгом,// Что сильные цари бессильны перед Богом". (1798, с.165) Характерно, что сам мотив брака принимает вид отчетливо сакрализованного единения начал и связан здесь с осуждаемым "естественным" сознанием, которое трактует воцарение Меланты супруги Юлиана как будущий золотой век: "На троне узрит Царь дни радостны с тобою. // Все Греки ко твоим подвержены стопам, // Твоим воззрениям, твоим одним очам, // В их будут совести, в сердцах повиноваться, // Ты будешь божеством востока называться; // Возставится во всей державе тишина, // Златые потекут для Греков времена?// С тобою утвердит Царь брачные союзы, // Сплетенны из цветов носити будет узы, // И разделит с тобой всея вселенной трон: //Ты будешь для него и вера и закон." (1798, с. 92) Последняя формула опять-таки означает смешение ипостасей. Этот "космический брак" христианкой Мелантой воспринимается как соблазн и решительно отвергается. Время создания "Юлиана Отступника" первая половина 1790-х годов. Это дает основание предполагать, что и выбор темы, и трактовка ее явились ответом на екатерининские гонения на масонов, затронувшие и самого Хераскова48. Весьма вероятно в этом случае, что отвержение Мелантой союза с неправедной, хотя и просвещенной властью служило косвенным упреком русской императрице, принявшей подобный соблазн: формулы, которыми живописуется будущее правление Меланты, как будто составляют выжимку из многочисленных стихотворных восхвалений Екатерины. 4.2.4.1 "Освобожденная Москва" радикальный вариант масонской трагедии и предвестие национально-патриотической драматургии Последняя из трагедий Хераскова, венчающая его творчество 1790-х годов "Освобожденная Москва". На ней следует остановиться подробнее ввиду сложности и многозначности ее проблематики, во многом предвосхищающей драматическую героику следующего десятилетия "Димитрия Донского" Озерова, "Пожарского" Державина и "Пожарского" Крюковского. 118 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра В "Освобожденной Москве" действительно есть элементы сентиментальной поэтики, как это не раз отмечалось в научной литературе, но поданы они в совершенно определенном специфическом ключе. Если в "Гориславе" сентиментальная поэтика служит языком выражения для драматурга и привносит ценности, исповедуемые им, то в "Освобожденной Москве" это предмет изображения и язык ценностей, в целом отвергаемых. Масонская иерархия антропологических ипостасей и соответствующих духовных ценностей выступила в наиболее жестком и чистом виде. Как и "Юлиан Отступник", "Освобожденная Москва" полемически противостит просветительской идеологии. И там и здесь в центре оказывается тема царя и царства, но семантическое наполнение их совершенно различно. В "Юлиане" царь представляет земную власть, провозглашающую просветительские идеалы и потому противопоставленную божественной власти. В "Освобожденной Москве" "царь" знаменует спиритуалистическую ценность, исповедуемую героями наравне с Богом: "Как Бога чтим, не зря его у алтаря,// Невидимого чтить нам должно так царя. // Лишенны мы хотя священна царска лика,// У верных подданных всегда в сердцах владыка." (1798, с.192-193) Исповедание мистического идеала царства противопоставлено революционно-просветительскому идеалу "вольности"; так, произнося пророчества о судьбе Польши, умирающий польский гетман Желковский предостерегает соплеменников: "Безумной вольности тщетой не ослепляться, // Мятежною против Росии не являться // Мятеж есть язва царств, а вольность в царстве яд!" (1798, с.273) Аллюзионно здесь представлен двойной антифранцузский и актуальный для 1790-х годов антипольский пафос (о разделе Польши пророчествует тот же умирающий Желковский). Между тем, слова о "безумной вольности" слабо согласуются с реальными политическими намерениями героев трагедии: поляки, засевшие в Москве, которую штурмует русское ополчение, требуют признания царем своего ставленника Владислава, которого отвергают русские князья, отстаивающие свободу русской земли, лелеющие мечту о богоизбранном владыке. "Вольность", таким образом, отсутствует среди предъявленных на сцене политических программ ( в отличие, скажем, от "Вадима Новгородского" Княжнина и множества "республиканских трагедий" французской сцены). Но "вольность" ассоциативно связана с сентиментально-энтузиастическим ореолом, в котором предстают "поляки". Средоточием его становится София, сестра князя Пожарского и возлюбленная Вьянко, сына гетмана Желковского. Этот сентиментально-энтузиастический идеал, основанный на единстве природы и разума, на гармонии мира, достигаемой чисто человеческим страстным усилием, входит как отвергаемая величина в достаточно сложный контрапункт действующих в трагедии сил и отношений, в которых предстоит разобраться. Череда разнообразных персонажей, среди которых исторические деятели периода Смуты перемежаются с вымышленными лицами, построена прежде всего логике тринитарного членения, в соответствии с которым организован и конфликт. "Натура", "Закон" и "Благодать" здесь представлены соответственно тремя парами героев: Софией и ее возлюбленным Вьянко, князем Димитрием и его сыном Леоном, князем Пожарским и Мининым. Особым выделением ипостасей "закона" и "благодати" (или рассудочно-волевого и чисто духовного, "умного" начала в антропологическом плане) объясняется коллизия князя Димитрия и Пожарского, подчеркивающая дистанцию между ними (вызывающую взаимные упреки и недоверие), но в конечном итоге разрешающаяся их примирением. Князю Димитрию (Трубецкому) в первом действии трагедии советом князей и бояр вручается верховная власть над русским ополчением, осаждающим Москву. Когда 119 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра с нижегородским ополчением является князь Пожарский, снова возникает вопрос о единоначалии: "единая глава должна полками править," по словам Димитрия. Казалось бы, при общем монархическом пафосе трагедии центристская идея должна разделяться ее положительными героями, но Пожарский отвергает единоначалие, не претендуя на верховную власть и отказываясь в то же время подчиниться князю Димитрию, ссылаясь на некую предшествующую клятву: " Мы с тем условием явились под Москвой, // Дабы нам действовать особо пред Литвой; //В сем деле с Мининым нас клятвы обязали." (1798, с.191) В третьем действии трагедии это отсутствие единовластия в русских войсках превращается в болезненную проблему первый натиск ополченцев оказывается несостоятельным из-за разобщенности их действий. И сторонник Пожарского Руксалон, и сам Димитрий требуют избрать единого главу войск: "Две воли <...> при войске не совместны." (1798, c.232) Причем взыскуемое воинское единоначалие ассоциируется с избранием царя: "Нам войск одну главу потребно изобрать; // <...> И войско без царя есть лодка безо власти". (1798, с.231-232) Однако, как ни опасно положение, Минин, выступающий в роли мудрого советника, убеждает князей отказаться от единоначалия, удовлетворившись единством цели: "предлог важнейший нам: отечество и Бог". Отказ от единоначалия означает отказ от самовольных претензий на царское место и удовлетворение идеалом совместной службы в неких различных изначально определенных статусах : "Служить мы все сошлись не скипетром владеть; // Отечеству любовь сыновню докажите, // К чему назначен кто, в том звании служите" (1798, с.234). Таким образом, конфликт князей Димитрия и Пожарского обнажает принципиальное различие их "назначения" и в то же время нераздельность их: "Верховна ваша власть да будет узел братства," заключает свой призыв Минин. Последнее выводится как раз из ипостасной предопределенности этих героев. Димитрий представляет начало чистой воли, стоицистической сдержанности, это герой, "который приучен бесстрашно умирать; // Кто купно сам собой и войском может править, // <...> Пылая мужеством, кто гордость ненавидит" (1798, с.176). В его обращениях к соратникам звучит прежде всего призыв к волевой собранности, к решительному напору, более того, воля единственное начало, признаваемое им как сущее в окружающей ополченцев "пустыне": "Мы здесь как будто бы в глухой живем пустыне, // И храбрый только дух нам служит пищей ныне; // Единым воинство усердием живет..." (1798, с.178) Хотя Димитрий герой, в репликах которого многочисленны апелляции к Богу, реальный кругозор его ограничен земным горизонтом, учетом наличных сил и возможностей, доступных рассудку. В этом смысле важно постоянно подчеркиваемое в трагедии упование его на Понтуса (имеется в виду Понтус Делагарди), шведского союзника. Когда, наконец, выясняется, что Понтус покидает русских союзников, Димитрий колеблется в своей вере в победу. На вопрос Димитрия после вести об уходе Понтуса: "Никто доднесь Литву преодолеть не мог, // Что может подавать тебе надежду?" следует сакраментальный ответ Пожарского :"Бог" и тут же фиксируется недоверие Димитрия к словам Пожарского: "Я войском жертвовать мечтам пустым не стану". В восклицании Пожарского ключ к пониманию этого схематически-ипостасного образа. Он носитель высшего знания, знания о Творце. В его уста вложена единственная в пьесе молитва (д. III, явл. 1). Он хранит в своем сознании высшую сакральную ценность образ царский, отождествляющийся в данном случае, как мы видели, с образом Божьим: Князь Пожарский:"Мы должны уважать заочно образ царский. // Князь Димитрий : Но где, но где сей царь? // Князь Пожарский: Царь в сердце у меня! // Держава без царя не существует дня." (1798, с.192) Сердце как вместилище духа, высшего знания, в противоположность головному рассудку распространенный элемент мистической антропологии49. В трагедии соотнесение Пожарского именно с этим символическим элементом подчеркнута 120 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра неоднократно:"Тебе правленья жезл вельможами вручен, обращается сторонник Пожарского Руксалон к Димитрию, // Пожарский войск вождем сердцами наречен". (1798, с.234) В то же время с Димитрием устойчиво связано понятие души, точное именование второй антропологической ипостаси. Причем "душа" понимается прежде всего как волевое начало, одушевляющее тело, но сюда же входят и значение души как вместилища совести. Так, по словам сторонника избрания князя Димитрия главой ополчения, "Народы без главы есть тело без души" (1798, с.222) Во втором явл. IV действия, о котором еще пойдет речь, князь Димитрий произносит знаменательный монолог самоотчет совести, который завершается признанием "душа Димитрия изменам не причастна" (1798, с.254). Эта антропологически-ипостасная символика сводится воедино в последнем явлении, где князья-соперники подают друг другу руки, скрепляя братский союз, чаемый Мининым: "Теперь раздоры все и брани потуша, // Да будет сердце в нас едино и душа" (1798, с.290). Но если коллизия "души" и "духа", двух союзных ипостасей, разрешается оптимистически, то центральная коллизия задана как упорное противостояние этих "благодатных" сил "натуре", природно-чувственному началу, предстающему в облагороженном обличии "чувствительности". Противостояние это открывается неприемлемым и странным с точки зрения традиционного галантного стиля мотивом "борьбы с женами", который связан с образом князя Димитрия. Первая забота этого героя, принявшего общее командование, "развраты отвратить от воинства <...> // Известны, думаю, известны, други, вы,обращается он к соратникам,Что жены тайно к нам приходят из Москвы, // Которые друзей и ближних посещают, // Но часто ратников к измене возмущают; // Когда народ к войне бывает воружен, // Опасна для него тогда беседа жен <...> // От пагуб воинство, от лести остеречь, // Нам должно выход жен из города пресечь" (1798, с.179). Это "женоненавистничество" не находит прямого исторического объяснения. Но здесь обнаруживается особая семантическая наполненность образа женщины, соединяющая определенный эстетический комплекс с социально-этической категорией мятежа и внутренней опасности. В эстетическом плане антифеминизм здесь означает позицию, противоположную сентиментальноэнтузиастической эстетике в ее карамзинском изводе, подчеркнуто ориентированном на женский вкус, женщину, как идеальную чувствительную натуру. София, сестра князя Пожарского чувствительная героиня, сочетающая интимнолюбовные переживания с возвышенными социальными идеалами. Лирическая любовная тема со специфически сентиментальной лексикой и фразеологией переливается в энтузиастический социальный пафос единения враждующих народов, мира и тишины на лоне природы. Причем и сентиментальная чувствительность, и ее социальная проекция предстает как воспринятая идеология Запада, в данном случае представленного поляками. В любовных диалогах Софии и Вьянко в полной мере нашла выражение поэтика драматургии сентиментализма, культивировавшаяся самим Херасковым в 1770-1780-х годах и, кроме того, включившая в себя новейшие карамзинские ноты. В отличие от классицистической стилистики, при которой само называние чувства имело самодостаточное значение, здесь выражение чувств получает усложненный характер, возникают элементы пейзажа, несущие эмоциональную нагрузку: "О ты, светящая на небесах луна! // Тебе моя любовь взаимная видна, // Мне мнится, зрят ее сии леса и горы! // Мой вид о ней тебе, мои вещают взоры; // Мне кажется, земля и небо говорит, // Что грудь моя тобой зажглася и горит." (1798, с.197-198) Классицистическое постоянство чувства здесь осложняется мотивами зыбкости, переменчивости, метафорикой упования 121 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра и надежды, свойственных сентиментальным героям: "В любви успехи нам всегда неимоверны, // Сомнение цветы преобращает в терны; // Но руководствует взаимна нежность нам:// При смутных небесах мы ходим по цветам, // И скоро, может быть, заря для нас явится, // Печальна наша ночь в день ясный превратится" (1798, с.198). В речах Софии проявляются также сентиментально маркированные мотивы дружества, унылой могилы возлюбленного и т.д. София, сентиментальная героиня, искренно терзается бедствиями России. Средство предотвращения этих бедствий она видит в мире с поляками на предлагаемых ими условиях (поставить Владислава на царство). Причем в аргументации ее сплетаются вера в поляков, которые "В отечестве покой и тишину восставят, // От бед и мятежей полночный край избавят; // Ни веры не лишат, ни древних царство прав" (1798, с.225), и пафос всеобщего сострадания, жажда воссоединения разрозненных сил отечества, немедленного утешения несчастных: "Итак, отечество нежнее жены любят,отвечает София на отповедь Пожарского, Мы жалость чувствуем, взглянув на праздный трон, // Внимая плач детей, внимая старцев стон, // Московских жителей, как теней, видя бледных, // Священный чин в слезах, вельможей сирых, бедных." (1798, с.226) София предлагает благодатный мир: "лаврами без браней увенчаться // И сладкой тишиной в России наслаждаться" (1798, с.227). Предложения Софии вторят речам польского посла, также сентиментально маркированным: "Россияне! мы вам оливну ветвь приносим // И дружества от вас не требуем, но просим. // Ко человечеству врожденная любовь // Велит и нашу нам щадить, и вашу кровь" (1798, с.187). Но именно здесь и завязывается главный конфликт трагедии: миролюбивый пафос Софии и поляков оказывается лживым в глазах вождей ополчения князей Димитрия и Пожарского. Миру на основе "естественной" добродетели ими противопоставляется добродетель "духовная", мир, возможный только на основе богоданной власти, требующий в данном случае "войны до победного конца": "Не может власть ничья россиян услаждать, // Которую не Бог благоизволит дать." (1798, с.229) Начинается "состязание ценностей" двух групп героев, достаточно прихотливо выстроенное в трагедии. Острота его в том, что обвинения каждой из групп в отношении другой оправдываются, по крайней мере частично, а, кроме того, сами исповедуемые ценности имеют точки пересечения и получают взаимное признание. София обвиняет своих оппонентов в черствости, холодной жестокости и презрении к чувствам. И слова эти не звучат тенденциозно. Уже в первом явлении трагедии один из бояр на совете упрекает Димитрия в жестокости к женам: "Имеешь ратников отважных, воруженных. // Но сколько жен от них мы зрели убиенных, // Сих жен, несчастных жен, которые увы! // К нам пищу и сребро носили из Москвы" (1798, с.173). Димитрий оправдывает это издержками необходимой "ратной строгости". Но в дальнейшем, уже прямо на сцене, София, пришедшая к русскому стану, сталкивается с жестокостью и алчностью воинов, исполняющих приказ Димитрия. Воинов прогоняет Леон, сын Димитрия. Но, вообще, тень чрезмерной суровости, военной жестокости беспрестанно витает над русским станом: "Когда вы будете в осаде побежденны,предупреждает Димитрий Вьянко,Не будут жены там, ни дети пощажденны" (1798, с.266). Сам Леон, обуянный ревностью, поражает Вьянко, чувствуя затем стыд и смущение. С другой стороны, обвинение русскими ополченцами поляков в коварстве, лести и лицемерии далеко не буквально подтверждается поведением героев-поляков. По крайней мере, если коварство и свойственно Желковскому, главе польских сил, то сын его Вьянко безусловно благородный герой-любовник. В финале драмы поляки совершают акт жестокости, казалось бы служащий их полному обличению, они обрекают на смерть "русских дев", выставляя их перед собой как заслон от нападающих (Д.V, яв.3). Поступок этот трактуется, однако, как порыв отчаяния, спасителем же дев 122 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра выступает опять-таки поляк Вьянко. Эпизод этот, кроме того, симметричен сцене жестокости русских воинов по отношению к Софии. Между польской и русской "партиями" разворачивается своеобразная тяжба о добродетели. Пик ее, в котором все же побеждает русская сторона, приходится на четвертое действие, где Вьянко является в русский лагерь на выручку Софии, а непреклонный Димитрий великодушно отпускает обоих возлюбленных победа его признана самим Вьянко:"Прощает кто врагов, тот милостив, как Бог; // Льет слезы у твоих лежащий Вьянко ног!" (1798, с.266) Двусмысленность нравственной ситуации и диффузия этических принципов обоих лагерей в трагедии мыслится как реализация самой парадигмы "смуты", смешения и неотчетливости ценностей. В трагедии намечен не столько "катартический" выход из этого состояния, не очищение действием, но оправдание ведущих героев, формальное вы-говаривание и до-говаривание ими своей правоты. Оба начальника русских сил достраивают свое этическое кредо, включая в него и "естественные" добродетели. Пожарский, отстаивая право свидания с Софией, утверждает: "Родных любить велят законы естества" (1798, с.221). Димитрий, которому предъявлен главный упрек в жестокости, также оправдывается. В этом отношении важную роль играет монолог Димитрия (Д.IV, явл. 2), который можно назвать "монологом совести". Он интересен и как близкая параллель к монологу пушкинского Годунова "Достиг я высшей власти", а, быть может, и один из источников его: "Что делать днесь, не знаю! // Врученной властию скучать я начинаю; // Мне тягостна она о власть! верховна власть! // Ты есть горчайшая для смертных в мире часть. // Начальство над людьми, начальство есть почтенно; // Но ах! с коликими трудами сопряженно! // <. . . . . . .> За каждое от нас произнесенно слово // Сужденье от людей всегда в устах готово; // И нам подвластные нередко судят нас, // Не вникнув в связи дел, не растворяя глаз; // Властители людей осуждены ответом // За малый общий вред пред Богом и пред светом; // Природа рушит ли воздушну тишину, // Гремят ли небеса, все ставят им в вину" (1798, с.253-254) В отличие от пушкинского Бориса Димитрий находит успокоение в своей совести, уверяясь в полном благородстве собственных помыслов: "О, если бы я мог сей ужас отвратить! // Хотел бы кровь мою один за всех пролить. // Душа Димитрия изменам не причастна"(1798, с.254) ("Малый общий вред" молчаливо признается, таким образом, оправданным, также в отличие от пушкинской трагедии). Решение совести Димитрий подтверждает поступком. Несмотря на свой "антифеминизм" и античувствительность он выказывает сочувствие "врагам", Вьянко и Софии: "Двух тающих сердец страданья не хочу, // Их Бог соединил, и я не разлучу" (1798, с.266), опровергая тем самым предшествующие обвинения в жестокости и в презрении к любви. Что же касается Вьянко и Софии, то они не лишаются этической высоты, но окончательный приговор им выносится в сотериологических координатах. Почти во всех сценах варьирующим рефреном в речах Софии звучат слова о терзании души как об адских муках "Весь ад в душе моей и смерть в моей груди". В пятом действии "ад" предстает в развернутом видении исступленной Софии как место, куда она неудержимо падает вместе с Вьянко, при этом произносится и формула самообвинения: "О! как страдают здесь несчастны человеки, // Которые свою отчизну предают // И клятвы не хранят, которую дают." (1798, с.282) Последняя формула имеет дополнительный смысл: София, полюбив Вьянко, отвергает Леона, сына Димитрия; хотя и не связанная с ним непосредственно клятвою, по жесткой логике "долга" она все же предает его. Окончательное суждение о Софии формулирует Пожарский, "с презрением" отвергающий ее уже после известия о ее смерти (она закалывается мечом Вьянко, пораженного Леоном): " Да тако всякая погибнет россиянка, // Которая забыть отечество могла!" (1798, с.288) 123 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра При осмыслении этого сюжета взаимодействующих ипостасей невольно напрашивается мысль о параллели с гностическим мифом о Софии. София в нем последний из эонов, цепью рождений-эманаций связанный с верховным эоном. Нарушая субординацию плеромы (полноты бытия, объединяющей все предшествующие эоны), София стремится к соединению с верховным началом (для Софии сестры Пожарского нарушением метафизической субординации становится выдвижение ею "природы" и основанных на ней нравственных законов вместо сакральных ценностей) и пренебрегает при этом своим нареченным в плероме супругом (под которым часто понимался Христос). За посеянное ею смятение София исключается из плеромы отвергается эонами. (Именно в отверженном состоянии она творит Землю, помышляя о возвращении, и далее начинается уже история спасения ее)50. К сожалению, если сама логика иерархических ипостасей, представляемых героями может быть иллюстрируема достаточно широким материалом масонской печати, то миф о Софии как источник сюжета можно признать лишь гипотезой масонская софиология, хотя и эксплуатируется в научной литературе51, остается не совсем ясной. Необходимо учитывать, в частности, и широкое "обиходное" распространение имени Софии в сентиментальной драматургии XVIII века. Так или иначе, мы имеем дело либо с прямым влиянием, либо с типологически близким сюжетом, построенном к тому же на родственном рационально-мистическом субстрате. "Освобожденная Москва" вершина творческой эволюции Хераскова трагика. В этой точке его творческого движения предельно обострилась тема, крайне значимая для всей русской трагедии XVIII века тема начальных времен государства. Сюжет о начальных временах государства здесь впервые стал сюжетом не только метафизическим, но и конкретно-патриотическим. В трагедиях XVIII века, выдвигавших государственно-политические темы, речь шла о всеобщих принципах устойчивости общества. Даже в тех случаях, когда конфликтующие герои принадлежали к различным народам ( или выражали интересы разных народов), различие это или игнорировалось в своем существе, как в "Димитрии Самозванце" Сумарокова, или понималось в абстрактно-типологическом плане. Так, в "Фемисте и Иерониме" Майкова конфликт покоренных греков и турецкого султана задан только как конфликт тирана и угнетенных подданных; в "Сорене и Замире" Николева коллизия русского князя и половцев означает столкновение абсолютистского произвола и "естественного человека". Херасков впервые претендует на выражение национальной героики "русскость" героев, приверженность России, постоянно подчеркивается по ходу пьесы. Этому повороту трагедии к патриотической тематике на сцене предшествовали только исключительно бесконфликтные драматические хроники Екатерины с их казенно-патриотической дидактикой. Но существенно, что "Освобожденная Москва" написана уже после статьи Плавильщикова "Театр", выдвинувшей задачу национальной драматургии. Важно и то, что патриотическая направленность превращается в анти-западную, в столкновение с западной идеологией, что также было новацией для русской трагедии. Противостояние русской и польской партии в трагедии укрупняется и предстает как национально-определяющий акт. Вместе с тем сама патриотическая борьба получает религиозно-мистический коррелят. Кроме разобранных выше религиозно-мистических парадигм выстраивается еще одна: парадигма "двух градов", постоянно враждующих царств отверженных и избранных Богом, воспринятая, по-видимомоу, через весьма почитавшегося российскими масонами Августина. В этом отношении символическое значение принимает само название "Освобожденная Москва", ориентированная на "Освобожденный Иерусалим" Тассо. Освобождение Москвы, являясь в трагедии патриотическим актом, одновременно означает завоевание сакральной ценности ценности богоданного царства определяющее мистическое самотождество народа. 124 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Народ вступает в свой град (тождественный Иерусалиму), освобождаясь от смутного и смешанного состояния ( по ходу трагедии подчеркивается варварство и жестокость русских ополченцев), обретая свою устойчивость. В то же время враг народа (и враг Божий!) изгоняется из града. София, с ее ипостасным значением "природы", "естественного чувства" семантизируется в качестве жертвы, положенной в основание России, преодолевающей смуту. Торжествующую же Россию представляют князья Димитрий и Пожарский ипостаси "души" и "духа" . В этом смысле вольно или невольно повторяется логика гностического мифа об очищении плеромы от падшей Софии. Таковы черты нового утверждаемого Херасковым мифа о начале России. 4.2.5 Последний опыт Хераскова-трагика попытка реабилитации трагической страсти Попытка Херасковым создания национально-патриотической драмы была первой в ряду многочисленных драм и трагедий начала XIX века, хотя степень непосредственного его влияния на последующих авторов остается трудноопределимой. Но если столь богата и полнокровна оказалась у Хераскова государственная тема, то тема страдающей личности здесь сужена до предела и приблизилась к "опасному" полюсу полного отрицания чувства если герои-любовники и вызывают сочувствие, то оправдания и прощения они однозначно лишены. В этой связи следует отметить последний творческий опыт престарелого драматурга, трагедию "Зареида и Ростислав" (1804), служащую своеобразной коррекцией ригоризма "Освобожденной Москвы". Трагедия эта, не вызвавшая практически интереса у современников, отличается поразительной простотой сюжета, явно растянутого: любовники, киевская княжна Зареида и Ростислав, смоленский князь, оказываются во власти у Изяслава, князя Черниговского, домогающегося руки Зареиды, но в конце концов раскаивающегося при виде постоянства влюбленных. Здесь отсутствует вся сложная семантика мистической иерархии героев. Но пафос Хераскова-трагика тем не менее связан с предыдущим этапом его творчества, ознаменованным непримиримостью к сентиментально-просветительским идеалам. Сюжетно и тематически на первом плане оказывается любовная коллизия, на сей раз не отрицаемая, но, наоборот, вызывающая сочувствие. Однако сама эта коллизия подана совершенно в ином стилистическом регистре, нежели сюжетная линия Софии и Вьянко в "Освобожденной Москве". Полностью отсутствует хорошо знакомая Хераскову сентиментальная лексика и фразеология. Их место занимают элементы классицистической стилистики. Но это не стилистика сумароковской трагедии. Достаточно сказать, что конфликт долга и чувства практически отсутствует в трагедии. Влюбленные герои осознают себя просто гонимыми враждебной силой и страдающими. Речи их построены при этом в ключе анакреонтики середины XVIII века, фрагментарно входившей в состав сумароковской трагедии. Мотивы уединенного счастья с возлюбленной, ухода вдвоем в "неизвестные места" варьируются с тавтологической даже настойчивостью. В любовных признаниях героев ощутимы оттенки политического индифферентизма в духе анакреонтики: Зареида:"Ни титла княжески, ни почести наружны, // Ни троны, ни венцы Зареиде не нужны; // Не страшны мне с тобой ни степи, ни леса, // Нам будет одр земля, покровом небеса, // Те самы небеса, которы злых карают, // Но на сирот всегда с щедротою взирают; // Всю мира здешнего отвергнув суету, // В пустыне счастливой себя с тобой почту. // <.....................> Ростислав: Равно мне Князем ли, иль быть рабом твоим, // Лишь только бы я был, Княжна, тобой любим, // Живу ли в нищете, престолом ли Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра 125 владею, // Ты будешь завсегда владычицей моею; // Но если с сердцем мне, твой град и трон вручен, // Он должен так как жизнь быть мною защищен."52 В этих любовных диалогах совершенно отсутствуют и обычный для сентиментальной поэтики лирический одухотворенный пейзаж, и специфическая для эмоционального строя изменчивость чувства, и мотивы слез и сострадания все, что было воспроизведено Херасковым еще в "Гориславе". Вместо этого возвращается классицистическая поэтика: постоянство онтологически понимаемого чувства, игра полярностями, контрастами возможной участи героев. Под этим знаком "любовь" и "единение любящих" явно оказывается темой, восстанавливаемой в правах после жесткого ее отвержения в "Освобожденной Москве". Так, Изяслав, гонитель любовников, пытается выступить в роли моралиста (наподобие херасковского князя Димитрия или Мстислава), усовестить героев-любовников: "Во звании высоком, // Не посрамляй себя слепой любви пороком," на что героиня дает ответ, которому подчинен итоговый смысл трагедии:"Любовь не есть порок! но стыд и грех она // Когда обманчива, коварна, неверна" (1809, с.37). "Коварство и неверность" воспринимаются в этом контексте как тенденциозные намеки на сентиментальную и преромантическую драматургию с ее пафосом изменчивости чувств и прощением падшего героя (героини) в этот же ряд входит и "изменившая" София из "Освобожденной Москвы". Жесткий "героический" крен "Освобожденной Москвы" корректируется в данном случае поэтической разработкой темы, утверждающей ценность соединения личностей, но элиминирующей все элементы философии единства природы, как бы вычленяя из стихии чувства первоначальную трагическую парадигму классицизма любви как разделенного бытия. Создание этой пьесы свидетельство сознания Херасковым глубокого проблематизма его последних трагедий и попытка скорректировать впечатление от них. Но это была мертворожденная попытка возобновить "чистую" классицистическую поэтику без обновления всей личностно-онтологической перспективы трагедии. Примечания 1. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л., 1981. С. 57. 2. Розанов И.Н. Михаил Матвеевич Херасков. // Масонство в его прошлом и настоящем. Т.2. М., 1915. С. 38-52; Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917. С. 163-244; Кулакова Л.И. Херасков // История русской литературы. Т.4, ч.2, М.-Л., 1947. С. 162-183. 3. Билинкис М.Я. Пространство и ситстема персонажей в повестях М.М.Хераскова. // Русская филология. Третий сборник научных студенческих работ. ТГУ, 1971. С.26-35; Гришакова М. Символическая структура поэм Хераскова // В честь 70-летия профессора Ю.М.Лотмана. Тарту, 1992. С.30-45; Гончарова О.М. Херасков и масонская религиозность (в печати, далее цитируется по рукописи, предоставленной автором); ряд наблюдений над масонскими особенностями сюжетов Хераскова приведены в книге М.Вайскопфа "Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М.,1993. 4. Отдельные аспекты масонской темы были рассмотрены Л.М.Пастушенко "Драматургия М.М.Хераскова. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. фил. наук." Л.,1974. 5. Пыпин А.Н. Русское масонство: XVIII и первая четверть XIX века. Пг.,1917; Петровский С.А. Очерки по истории русского масонства в XVIII веке // 126 Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра Христианское чтение. 1889. N7-8, с.123-163; N9-10, c.353-389; N11-12, c.227-255; Вернадский Г.В. Указ. соч; Масонство в его прошлом и настоящем. Т.1,2. М., 1915. 6. Кочеткова Н.Д. Идейно-литературные позиции масонов 80-90-х годов XVIII века и творчество Н.М.Карамзина.// XVIII век. Сб.6. Эпоха классицизма. М.-Л., 1984; Лорен Дж.Лейтон Эзотерическая традиция в русской романтической литературе. Декабризм и масонство. СПб., 1996; Baehr St.L. The Masonic Component in Eighteenth-Century Russian Literature // Russian Literature in the Age of Catherine the Great. Oxford, 1976. 7. Соколовская Т.О. Масонские системы // "Масонство в его прошлом и настоящем" Т.2. С.54. 8. Васютинский А.М. Французское масонство в XVIII в. // Там же. Т.1. С. 55-57. 9. Тенденция рассматривать деятельность Н.И.Новикова в контексте просветительства в большой степени спровоцирована докладом В.О.Ключевского "Воспоминания о Н.И.Новикове и его времени" (1894) [cм.: Ключевский В.О. Исторические портреты. М.,1990. С. 364-391.] 10. Херасков И.М. Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII и XIX в. // "Масонство в его прошлом и настоящем". Т.1. С. 1-34. 11. Ср. слова И.-Г.Гердера о том, что в масонстве присутствует то, "к чему во все времена стремились все добрые, без отношения к религии и государственному устройству, око и сердце человечности; оно возвращает свободным душам, принадлежащим к нему, золотое время, живущее во всех наших сердцах, поднимаясь над всеми сословными различиями, над всяким сектантским духом", и Гете, которого, при всем его неоднозначном отношении к Просвещению, привлекало в масонстве то, что в нем "теряют значение необходимые в обычной жизни знаки различия между людьми; там не затрагивают ничего такого, что в другое время принимают ближе всего к сердцу <...>; ничего не спрашивают о происхождении человека, о том, женат ли он или холост, имеет ли родителей и детей, счастлив или несчастлив дома; ни о чем этом ничего не упоминают, но всякий в сознании высших, всеобщих целей исполнен решимости отвлечься от всего частного." (Цит. по "Масонство в его прошлом и настоящем". Т.1. С. 102104) 12. О священном браке в недрах Божества см.: Пордедж Дж."Божественная и истинная метафизика". Ч.1 [М., тайная масонская типография, ок.1787], параграфы 72, 73, с.100; о браке адепта с Софией см.: "Масонские труды И.В.Лопухина. Материалы по истории русского масонства XVIII в." Вып.1. М., 1913 ("Блажен Духовный Юноша, который возрастая во внутренней жизни Премудрости, от самого младенчества жизни сея сохранил любовь к Божественному Источнику рождения своего, и соблюл елей Духовного помазания на девственный брак с Софиею." [С.17]) О мифологеме брака с Софией см.: Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 15-18. 13."Масонство в его прошлом и настоящем". Т.1. С. 19. 14. См. "Encyclopadie der freimauerei". B.3. Leipzig. 1822-1828. S.130, 612, 615-616. 15. Иоанн Масон. Познание самого себя. М.,1783. С. 18. 16. См., например, приложение к переводу книги Ф.Кемпийского "Подражание Христу". М., 1785. 17. Иоанн Масон. Познание самого себя. С. 19. 18. "Масонские труды И.В.Лопухина." С. 6. Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра 127 19. Там же. С. 8. 20. Там же. С. 10. 21. Там же. С. 12. 22. Там же. С. 13. 23. Там же. С. 26-27. 24. Иоанн Масон. Познание самого себя. С. 20. 25. См.: Bertrand de Margerie. The Christian Trinity in History. Petersham, Mass., 1982. 26. Лосев А.Ф. Гностицизм // История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. М.,1992. С. 242-307. 27. "Утренний Свет." Ч.II. М.1779. С. 283. 28. Пордедж Дж. Божественная и истинная метафизика. С. 34. 29. Там же. С. 35. 30. Там же. С. 36. 31. Там же. С. 37. 32. Пастушенко Л.М. Драматургия М.М.Хераскова. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. фил. наук." Л.,1974. 33. "...постоянное внимание к миру "души", оправдание естественных склонностей человека, введение в трагедии меланхолических мотивов, ясно выраженные сентименталистские установки, пассивный гуманизм ведут прямо к трагедиям Озерова" (Пастушенко Л.М. Указ. соч. С.19) это обобщающее суждение о трагедиях Хераскова повторяется с теми или иными вариациями большинством исследователей. 34. "Новым явлением в русской драматургии делает "Венецианскую монахиню" и тема трагедии осуждение религиозного фанатизма, осуждение монастырских законов. В постановке этой темы Херасков идет вслед за трагедиями Вольтера "Заира", "Альзира" и "Магомет"" (Пастушенко Л.М. Указ соч. С.4). 34а. Ср. суждение В.Д. Рака: "В "Венецианской монахине" и "Юлиане Отступнике" иллюстрируется в разных аспектах через канонический для трагедии классицизма конфликт между чувством и долгом мысль о том, что любое отступление от христианской веры, даже на самых просвещенных, философских и гуманистических основаниях, лишает человека нравственной опоры и ведет его к гибели, но, что, с другой стороны, губителен и бескомпромиссный, фанатический ригоризм." (Рак В.Д. Михаил Матвеевич Херасков // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М., 1991. С.704-705) 35. Херасков М.М. Сочинения. Т.IV М., 1798. С. 55 Далее (1798), с указанием страниц в тексте. 36. Херасков М.М. Венецианская монахиня. СПб., 1758. С.61; далее (1758), с указанием страниц в тексте. 37. "Мартезия и Фалестра". М.,1767. С.79. 38. Розанов И.Н. Михаил Матвеевич Херасков // Масонство в его прошлом и настоящем. Т.2. С. 40. 39. "Плоды наук, поэма Михайла Хераскова." М., 1761. С. 2-3. Глава 4. Трагедия хераскова - Масонский вариант жанра 128 40. Там же. С.7. 41. Год написания трагедии уточнен Л.М. Пастушенко (Пастушенко Л.М. Указ. соч. С.7). 42. "Пламена". М.,1765. С.16; далее (1765), с указанием страниц в тексте. 43. Пастушенко Л.М. Драматургия М.М.Хераскова. С. 12. 44. "Идолопоклонники или Горислава", М.,1782. С.65-66; далее (1782), с указанием страниц в тексте. 45. Масонство в его прошлом и настоящем. т.1. С.179. 46. Ф.Ключарев. Владимир Великий. // Российский Феатр, 1787. Т.VI. С.141. 47. Явными антиреволюционными смыслами пронизана поэма Хераскова "Царь, или Освобожденный Новгород" (1800), трактующая коллизию Вадима и Рюрика, открытую драмами Екатерины II, Княжнина и Плавильщикова. 48. Розанов И.Н. Михаил Матвеевич Херасков. С.41. 49. Ср.: "есть познание одно Мозга, а другое Сердца, то есть, одно состоит в одних спекуляциях и помышлениях, и сие есть безплодно, гладко и мертво: а другое трогает сердце и двигает того, кто убежден, сразмерно действовать; и сие есть живое, действующее и сильное Познание." (Пордедж Дж. Божественная и истинная метафизика. С. 51) 50. Лосев А.Ф. Гностицизм. С. 262-265. 51. Активно используется эта мифологема, в частности, в книге М.Вайскопфа "Сюжет Гоголя". 52. Херасков М.М. Зареида и Ростислав, трагедия. СПб., 1809. С. 25-26; далее (1809), с указанием страниц в тексте. 129 Глава 5. Трагедия Озерова Глава 5. Трагедия Озерова Творческий путь Озерова может быть назван трагическим во всех смыслах. Озеров как писатель именно трагик; произведения иных жанров в его наследии совершенно незначительны1. Творческий взлет его, стремительный и короткий пять трагедий за десять лет оборван сумасшествием, ставшим не только фактом личной биографии, но и предметом литературной легенды. К этим обстоятельствам биографы добавляют скупые, но чрезвычайно характерные детали. Они говорят о его неуживчивости, вспыльчивости, крайней обидчивости, о таинственной истории его неизвестной любви. Все эти факты тонко проинтерпретированы и представлены на широком социально-историческом фоне в недавнем биографическом исследовании М.А. Гордина2. Но для нас существенно, что личная трагедия Озерова сопряжена с трагедией его творчества, отнюдь не столь полно осмысленной в критико-биографической и научной литературе. Его индивидуальный творческий путь и полемики, им спровоцированные, свидетельствуют о том, сколь велика была дистанция между трагедией, сформированной эпохой Просвещения и определившей господствовавшую эстетическую ориентацию, и трагедией классицизма. Речь идет не только и даже не столько о внешнем столкновении этих двух традиций, сколько о внутренней проблематичности и компромиссности творчества Озерова, отнюдь не пренебрегавшего вкусами "массового" зрителя. Четыре из пяти его трагедий вполне могут быть расценены, при всей новизне отдельных решений драматурга, как интересные в историческом плане, но в целом рядовые образцы современной драматургии, с ее сентиментальными и героическими акцентами, с начинающимся особенным интересом к историческому колориту, еще не породившим новой поэтики. Именно эти качества озеровских трагедий привели к бурному успеху трех их них "Эдипа в Афинах", "Фингала" и "Димитрия Донского", ответивших потребности массового зрителя в чувствительной и героической драме и коснувшихся сугубо актуальных тем (античная сюжетика, получившая "второе дыхание" в неоклассицизме стиля "ампир"; "оссианизм", популярный в последние десятилетия XVIII века и особенно расцветший в наполеоновской Франции; национальная героико-патриотическая тематика, живо перекликавшаяся с антинаполеоновскими настроениями 1800-х годов). Итог каждой из этих пьес близок к идеалу оптимистической гармонии, культивируемой Просвещением (частичным исключением является "Фингал", где торжество справедливости омрачено гибелью героини, что придает пьесе меланхолический оттенок). Но те же особенности озеровских трагедий привели к тому, что с изменением литературных вкусов в 1820-х годах они стали казаться исключительно устаревшими. Когда Катенин писал, что трагедии Озерова принадлежат к вольтеровскому направлению3, он был в определенном смысле прав, частично прав. Между тем, в драмах Озерова присутствовала и развивалась традиция лучших образцов русской трагедии, воспринятая им. Итогом этого пути стала "Поликсена", последняя трагедия Озерова, в которой раскрылась вся творческая полнота его дара. Именно в "Поликсене" произошло рождение Озерова как самостоятельного трагика, именно по отношению к "Поликсене" предыдущие его трагедии могут быть рассмотрены как ряд несовершенных попыток, получивших в конечном итоге свое оправдание. К вопросу о "Поликсене" сводится, по нашему мнению, вопрос о значении всего озеровского творчества и о завершении линии развития русской трагедии XVIII века. Драматургическое наследие Озерова получило скромную оценку в работах как XIX, так и ХХ века. Критики прошлого века видели в Озерове представителя 130 Глава 5. Трагедия Озерова "ложноклассицизма", т.е. наследника внутренне бесплодной традиции, которая обращена к древним образцам, но воспринимает их сквозь призму искусственных рациональных установок; исследователи ХХ века, как правило, видят в творчестве Озерова явление пограничное, стоящее между классицизмом и романтизмом (или сентиментализмом), устремленное в будущее, но лишеное внутреней силы и концептуальной глубины, необходимой для того, чтобы составить подлинно новую ступень в литературном развитии, остающееся промежуточным, слабым звеном эволюции4. Два голоса, однако, резко выделяются в общем хоре. Один из них принадлежит Мандельштаму (стихотворение "Есть ценностей незыблемая скала...", 1914), другой П.О.Потапову, автору научной монографии "Жизнь и деятельность В.А. Озерова" (1915), которая до сих пор остается непревзойденной по тщательности анализа и объему привлекаемых материалов. Две эти оценки, высказанные практически в одно и то же время, как раз в момент смены научных парадигм литературоведения XIX и XX веков, сами, в сущности, радикально различны. Мандельштам, несмотря на всю поэтическую многозначность его стихотворения, явно ценит в творчестве Озерова причастность традиции оно для него "последний луч трагической зари". Мандельштам признает, по-видимому, объективное отличие драматургии Озерова от последующего театра театра "полумаск и полуслова". В сборнике "Камень" сразу вслед за стихами "Есть ценностей незыблемая скала..." помещено стихотворение об Оссиане, развивающее ту же тему нового открытия давней культурной традиции. Пафос Потапова, энергично реабилитирующего Озерова, совершенно иной. Для него достоинство Озерова отнюдь не в его традиционализме, а в полноценной причастности духовному миру психологической драмы XIX века, что осталось, по его мнению, незамеченным критиками: "Пьеса Озерова (речь идет о "Поликсене") может быть названа трагедией лишь в условном смысле; по существу же дела она представляет собой одно из таких драматических произведений, коим присвоено название драмы в узком смысле слова. В самом деле, перенесите этих героев в реальную обстановку, отнимите у них имена, указывающие на героев античной Греции, и вы получите драму Островского"5. Следует добавить, что суждение об Озерове в обоих этих случаях связано прежде всего с "Поликсеной". "Герои и цари" в стихотворении Мандельштама, условное наименование круга персонажей высокой трагедии, в то же время представляют собой узнаваемую цитату из "Поликсены": "Величественный сонм героев и царей, // О ты, Агамемнон, о Нестор прозорливый..." с этих слов, после короткого вступительного монолога Пирра, начинает разворачиваться действие трагедии. По словам Потапова, "по богатству и глубине содержания трагедия "Поликсена" представляет исключительное явление в нашей литературе всего XVIII и начала XIX в. Такого богатства, такого мастерства не обнаруживал доселе и наш поэт, так что он был вполне прав, признав эту трагедию лучшей из всех, им написанных"6. Оценки поэта и ученого, стоящие на грани эпох различных филологических парадигм, характерно соотносятся с той и с другой. Если Мандельштам утверждает причастность Озерова к предшествующей традиции, как и критика XIX века, которая нивелировала при этом саму традицию, то Потапов видит в наследии Озерова промежуточное звено между двумя литературными эпохами, но считает его полноценным представителем той литературной культуры, которая породила тонкий психологизм. 131 Глава 5. Трагедия Озерова Обе эти оценки, как нам представляется, заслуживают самого внимательного отношения, и обе они могут быть поняты в контексте предлагаемой нами интерпретации классицистической трагедии и истории ее русской ветви. Озеров продолжает взаимодействие с художественными открытиями XVII века, как это было свойственно лучшим образцам русской классицистической трагедии. Причастная традиции, новая трагедия развивает ее. Фокус трагического смещается на человека, его волевой комплекс. Именно это оправдывает пафос психологической нюансировки Потапова, хотя само по себе приравнивание драматических принципов Озерова к психологической драме едва ли правомерно. 5.1 Героида "Элоиза к Абеляру" пролог озеровского творчества К самому началу творческого пути Озерова относится его перевод героиды Шарля Колардо "Элоиза к Абеляру" (1794) практически единственное недраматическое произведение будущего драматурга, опубликованное при его жизни. Героида, переведенная Озеровым, для нашей темы представляет крайне знаменательное явление, ибо посвящена тому самому сюжету любви к Богу и к человеку, который изначально определил контуры конфликта русской трагедии. У каждого из русских трагиков эта тема нашла эксплицированное выражение в произведении, посвященном уходу героя в монастырь. Напомним, что в этот ряд входят "Пустынник" Сумарокова, "Венецианская монахиня" Хераскова, "Письмо графа Коминжа" Княжнина. Как и в двух последних случаях, сюжет этот получил реализацию в самом начале творческого пути трагика. Сюжет героиды Колардо едва ли не самый известный в европейской традиции, трактующий трагическое разъединение возлюбленных, которые остались верными своим священным обязанностям. Следует помнить, что герои в данном случае не просто частные лица, но достаточно крупные фигуры в реальной истории католической церкви: настоятельница монастыря и один из крупнейших теологов средневековья высокий сан персонажей подтверждает принципиальную высоту трагической коллизии. При всей разнице смысловых акцентов и стилистических средств, в поэмах Александра Попа и перелагавшего его Шарля Колардо7 безусловно сохранилось смысловое ядро эпистолярного памятника XII века. В любом случае читатель молчаливо подразумевал, что в мире существуют две разделенные социальные сферы, два способа бытия и два фундаментальных регулирующих закона в сфере "естественной жизни" и в монашеском состоянии. Поменялась безусловно сама их иерархия и ценностный ранг: для средневековья безусловно выше было монашество, хотя и "естественные чувства" имели свои права в отведенной им области; для современников Попа и Колардо "природа" стала центральной нравственной категорией, но монашество в данном случае выступало одной из форм нравственного долга, имевшего собственные "внеприродные основания". Такова была, по крайней мере, степень литературной условности, следуя которой, авторы сентиментальных героид отнюдь не стремились внести в свои поэтические повести публицистическую антирелигиозность. Драма героев вызвана смешением двух сфер ценностей, их непредусмотренным взаимным проникновением. Герои ввергнуты судьбой в несчастье, коллизия их делает явной непереходимость границы двух состояний, но сами они лишены возможности какого-либо активного выбора: им остается либо отказаться от "естественного чувства", либо претерпевать вечную скорбь, смятение и противоречивые порывы души, оставаясь "героями своего сюжета". Налицо ситуация драмы, способной волновать чувства, нести тот или иной общезначимый моральный урок, но не трагедии, всегда оставляющей для своего героя возможность активного выхода из кризисной ситуации и сфокусированной именно на этой уникальной героической активности. 132 Глава 5. Трагедия Озерова Озеров достаточно точно и в то же время творчески воспроизводит Колардо, вырабатывая основы собственной поэтики, будущего строя эмоциональновзволнованной речи драматических персонажей8. В то же время сама коллизия, повторяющая коллизию Колардо, существенно отлична как от последующих трагедий Озерова, так и от воплощений сходного сюжета у Княжнина и Сумарокова. Герои Озерова Колардо, прежде всего сама Элоиза, остаются пассивны перед лицом двух начал, выбор между которыми они должны совершить. Герои Сумарокова и Княжнина были обращены к высшей силе в дерзновенном требовании соединения "дольнего" и "горнего", осуществляли некий жертвенный шаг, понимаемый и как шаг к спасению другого, и в то же время как экзистенциальный риск гибели собственной души, поступок-вызов, требующий ответ Высшей Силы. Элоиза озеровской героиды лишь отдана во власть противоречивых чувств. Сам финал героиды, образ совместной могилы двух возлюбленных, рисуемый воображением Элоизы и предвозвещающий реальность, хорошо известную всем образованным читателям, оставляет впечатление неутоленного страдания, свидетельством которому остается гробница влюбленных. Элоизе является тень некой страдалицы, уверяющей ее в том, что за гробом ее ожидают покой и прощение. Но пророчествующий голос звучит как горестное стенание, в нем соединяются "вопли" и "стон". Могила влюбленных должна привести в "ужас" "нежные сердца", история их бедствий "зла повесть", вызывающая длящееся веками сострадание проходящих мимо могилы путников (= читателей поэтической повести). Все это не похоже на позднейшие трагедии Озерова, герои которых в высшей степени активны. Такое различие можно объяснять бережным отношением переводчика к тексту, особенностью жанра, самой временной дистанцией между "Письмом Элоизы" и будущими трагедиями но проявилась здесь и некая константа озеровского творчества. Речь идет о темной силе судьбы, лицезрение которой гипнотизирует, тяжесть которой не преодолевается героическим свершением. Не случайно путь Озерова завершится "Поликсеной", оканчивающейся словами Нестора о безнадежности жизни. Быть может непосредственным жизненным коррелятом этого ощущения необоримой тяжести судьбы стало безумие Озерова. 5.2. Становление Озерова-трагика: от "Ярополка и Олега" к "Димитрию Донскому" 5.2.1 "Ярополк и Олег" Изучая творчество Озерова, исследователь неминуемо сталкивается с огромным богатством прямых источников и частных реминисценций. С.Н.Глинка, близко знавший драматурга, писал о нем как о человеке "переселившем в память свою театр Корнеля, Расина и Вольтера"9. После исследования Потапова не приходится сомневаться, что эти слова справедливы буквально, причем перечень авторов и пьес может быть значительно расширен. Ряд новых источников будет отмечен и в настоящей работе. Однако прежде всего нас будет интересовать та концептуальная основа, которой подчинены у Озерова различные заимствованные элементы. Уже в первой трагедии Озерова, "Ярополке и Олеге", явственно сходятся три традиции и три имени: Вольтер, Сумароков и Княжнин. Озеров создает трагедию в открытом Сумароковым "древнерусском" ключе, пользуясь фабулой последней малоизвестной трагедии Сумарокова "Мстислав", посвященной вражде двух братьевкнязей. Эта трагедия Сумарокова, что, в общем-то, было необычно для его творчества, имела один вполне определенный французский ориентир трагедию Вольтера "Аделаида Дю Гюклен" (1734), первую из трагедий французского театра, трактовавших сюжет национальной истории эпохи средневековья. Озеров безусловно знал саму 133 Глава 5. Трагедия Озерова вольтеровскую трагедию, о чем говорят многочисленные реминисценции, обнаруженные Потаповым11, но также несомненен и учет им сумароковского опыта. У Вольтера причиной конфликта двух братьев, Немура и Вандома, влюбленных в Аделаиду, служит отвергнутая страсть Вандома, который решается на убийство брата. Отдав приказ об убийстве, Вандом раскаивается, но его раскаяние было бы поздним, если бы Немура не спас добротельный соратник и конфидент Вандома Куси. Эта сюжетная схема сохранена и Сумароковым, и Озеровым, но Сумароков вводит важную дополнительную фигуру еще одного наперсника князя Мстислава (соответствующего Вандому) Бурновея, который инспирирует вражду братьев и подыгрывает "страстям" Мстислава. Соответствующей фигурой у Озерова выступает Свенальд. Есть и еще одно принципиальное отличие Озерова от Вольтера, восходящее к Сумарокову. "Аделаиде Дю Гюклен" свойствен вполне определенный политический пафос. Вандом мятежник, выступающий против власти короля, его брат Немур верный подданный. Финальное примирение братьев подано как торжество просвещенного абсолютизма, под власть которого переходит Вандом. Но торжество абсолютизма момент, столь органичный для предыдущих трагедий Сумарокова, в "Мстиславе" как раз отвергается. "Политическая карта" в этой трагедии выглядит изначально разделенной "Владимир, разделив российскую державу, // Дал сей Мстиславу град, дал Киев Ярославу, // А протчи области другим своим сынам" (Сумароков, IV, 56 ). Претензии на объединение страны высказывает как раз злодей Бурновей: "Я буду государь российским всем странам, // Для нераздельных сил пресильного народа" (Там же). Не устанавливается единство и в финале примиренные братья-князья расходятся по своим городам. Разделение княжеств у Сумарокова не имеет достаточно четкого обоснования, но нам представляется, что и в этой новации, и в образе властолюбивого злодея Бурновея сказалось влияние первой трагедии Княжнина, царственные герои которой и их "области" соответствовали различным мифологическим началам, хотя о последовательности и глубине освоения Сумароковым княжнинской традиции говорить не приходится. Тем же разделом владений Ярополка и Олега начинается и завершается трагедия Озерова. Ориентация на Княжнина здесь очевидна. Свенальд, инициирующий вражду братьев, проходит все этапы разработанного Княжниным сюжета мщения12. Олег же, его антагонист герой, отстаивающий "общее благо", более всего напоминает княжнинского Рюрика, соединяющего в себе черты энтузиастического любовника и самоотверженного государя. Между Киевом, градом Свенальда и Ярополка, решающегося под влиянием Свенальда на вероломство, и Древлянском, где царствует праведный Олег, намечается некоторая, не столько политическая, сколько моральная оппозиция "двух градов". Но эти элементы княжнинской драматической системы лишены той метафизической основательности, которая присуща им в лучших трагедиях Княжнина. Герой-мститель здесь не более чем злодей, а его противник Олег воплощение всей полноты справедливости. Политическая проблематика упрощается и, в сущности, сводится к моральной антитезе справедливого-несправедливого правителя. Моральная тема, главенствующая в трагедии, тема совести. Подлинный сюжет трагедии в том, что Ярополк, ослепленный своей страстью и соблазненный "маккиавеллиевскими" идеями моральной вседозволенности, внушаемыми ему Свенальдом, в конце-концов приходит к раскаянию. Один Свенальд умирает до конца верным себе, но образ его все же перифериен и не превращается в манифестацию "иного" начала. V действие, посвященное душевным мукам и раскаянию Ярополка, восходит к Вольтеру13. Но в самом выдвижении на первый план мотива совести проявляются дополнительные смысловые акценты, введенные сентиментальной драматургией: следует напомнить в этой связи и княжнинского "Владисана", и статьи и пьесы Плавильщикова. 134 Глава 5. Трагедия Озерова В целом можно сказать, что первая трагедия Озерова остается в рамках просветительской, вольтеровской драматургии, общие тенденции которой лишь слегка модифицированы княжнинскими мотивами. Но все же здесь есть определенные самостоятельные тенденции, еще очень робкие и не проявленные до конца. Связаны они с фигурами Ярополка и Свенальда. Тот комплекс гордыни и величия, который укрепляет в Ярополке Свенальд, неожиданно оборачивается и подлинно эпическим величием такова отповедь Ярополка печенежским послам (д. II, явл. 2), предвосхищающая будущую речь озеровского Димитрия. Извед, предупреждавший Олега о покушении (образ, соотвествующий вольтеровскому Куси, но ставший второстепенным), является наперсником и учеником Свенальда. Он препятствует его вероломству, но не отрекается от своего учителя, находя в нем и положительные качества: "Его пойду я следом, // Коль должно в поле мне сражать твоих врагов" (Озеров, 125). Все это представляет собой только росток будущего развития Озеровым княжнинской темы внутренней противоречивости героической воли. С "Ярополком и Олегом" связан один историко-литературный казус, который может отчасти пролить свет на творческие устремления Озерова в момент работы над трагедией. Вяземский в своем предисловии к озеровскому изданию 1816 года упоминал о первой трагедии его "Смерть Олега Древлянского"14. Это не раз вызывало иронию впоследствии, вплоть до наших дней15, ибо обнаруживало, что Вяземский совершенно не знал пьесы (опубликованной, правда, впервые в 1828 году), о которой высказывал суждение и в которой Олег вовсе не погибал, как в летописи. Между тем, С.Н.Глинка в своей поздней книге о Сумарокове вспоминает эпизод, когда он застал Озерова над внимательным чтением Сумарокова, что происходило, как он свидетельствует, в 1796 году, в период его работы над трагедией "Ольга", включавшей эпизод смерти Игоря16. Если мы имеем здесь дело не с ошибкой престарелого мемуариста, то перед нами свидетельство о самом раннем опыте озеровской трагедии, предшествовавшей "Ярополку и Олегу". Соответственно, ошибку Вяземского можно истолковать как контаминацию двух реальных замыслов, о которых у него было смутное представление. Можно предположить, что мы имеем дело с заменой Озеровым первоначального замысла более "мягким" вариантом трагической коллизии из древнерусской истории. Судя по всему, подобным же образом изменился замысел "Эдипа в Афинах" уже в процессе работы над ним.17 5.2.2 "Эдип в Афинах" новая структура трагедии "Эдип в Афинах" первая трагедия Озерова, имевшая огромный успех у современников. Пьеса имела остроактуальную идеологическую подоплеку: образ озеровского Тезея, как хорошо известно, был воспринят как аллюзия на молодого Александра и его политику. Коллизия Эдипа и его детей, решенная в стилистическом ключе "чувствительной" поэзии, также получила безусловное зрительское признание. В сюжете "Эдипа в Афинах" контаминированы черты княжнинской трагедии и мещанской драмы. Креон напоминает княжнинского несмирившегося до конца мстителя, Тезей княжнинского же героя, посвятившего себя обществу. Но персонажи эти предельно схематизированы и однозначно связаны с этическими полюсами зла и блага. История Эдипа и его детей в озеровской трактовке включает основные мотивы сентиментальной драматургии: это история добродетельного отца, попавшего в несчастье из-за происков злодея, верной и заботливой дочери, слабого, но раскаявшегося "блудного" сына18. В конце-концов является благородный герой, который наказывает злодея и способствует воссоединению семьи. Эдип не принесен в жертву в соответствии и с античным преданием и даже с трагедией Дюси, послужившей непосредственым источником Озерову, но торжествует, примирившись с сыном, как того требуют стереотипы мещанской драмы. За всем этим видится просветительское 135 Глава 5. Трагедия Озерова представление о рациональной гармонии мира и изначально благой человеческой природе. Между тем в рамках этой коллизии намечена иная трактовка конфликтных начал, как бы прикрытая и завуалированная схематически-"правильными" очертаниями сентиментальной драмы. В конфликте Эдипа и его сыновей проступают метафизические основания, чуждые сентиментальной драме, с ее логикой случайного зла и абсолютного торжества морального начала. В драме Озерова возрождается заново осмысляемая античная судьба, и осмысление ее связано с обращением к канону классицистической трагедии. 5.2.2.1 "Эдип в Афинах" и его литературные источники Первая трагедия Озерова, принесшая ему успех, написана по мотивам "Эдипа в Колоне" Софокла. Хорошо известно, что непосредственными источниками Озерову послужили переделки античной трагедии, выполненные Дюси, "Эдип у Адмета" ("Oedipe chez Admete", 1778 ) и "Эдип в Колоне" ("Oedipe a Colone", 1797). Однако еще Потапов показал, что о буквальном подражании Озерова французскому драматургу не может быть речи. В этой связи имеет смысл еще раз обратиться к проблеме источников озеровской трагедии и их трактовке драматургом. Дюси был второстепенной, но достаточно колоритной фигурой французского театра XVIII века19. Известность ему принесла адаптация для классицистической сцены Шекспира и античных драматургов. Эта тенденция сформирована идеями Вольтера, который считал необходимым привить французскому театру острые и живые чувствования "варварской" сцены. У Дюси, по крайней мере в его "Эдипе", заметно самодовлеющее любование эффектными "ужасами" архаичных сюжетов, в определенной мере нормализованных, приближенных к обычаям классицистической сцены, но свободных от какой-либо внятной идеологической программы. Менее всего Дюси свойствен пафос рациональной гармонии мира. В его пьесе, состоящей их трех актов, Эдип принесен в жертву по таинственной воле богов; Полиник, прощен отцом вопреки Софоклу, но впоследствии тяготеющее над ним проклятие все же сбывается. У Дюси отсутствует софокловский Креон, который в озеровском варианте становится "козлом отпущения", сосредотачивая в себе всю злую энергию "преступных" Фив. Впрочем, функционально озеровский Креон во многом соответствует Полинику Дюси, который является к Тезею с просьбой о военном союзе. Практически всем элементам диалога озеровского Тезея и Креона в первом действии можно найти соответствия в первом действии трагедии Дюси, в диалоге Тезея и Полиника20. Потапов обрушивается с резкой критикой на трагедию Дюси: оперируя критерием "психологизма", он находит, что Дюси создавал образы своих героев, эклектически соединяя различные, внутренне несвязные движения души21. Можно было бы пренебречь этими пристрастными суждениями, опирающимися на исторически неправомерные критерии (заметим, что трагедии Корнеля и Расина в глазах Потапова тоже во многом психологически недостоверны), если бы эклектичность характеров в драме Дюси не была следствием одного историко-литературного обстоятельства, не замеченного ни Потаповым, ни цитированными им французскими авторами. Дело в том, что пьеса Дюси представляет собой не просто модернизацию "Эдипа в Колоне" Софокла, но основана на контаминации трагедии Софокла и "Финикиянок" Сенеки, незаконченной трагедии римского драматурга, трактующей коллизии тех же героев. Влияние Сенеки самым непосредственным образом сказалась на второй сцене II действия Дюси, первом появлении перед зрителями Эдипа и Антигоны, образующем своеобразный смысловой центр как в трагедии Дюси, так и Озерова (в его трагедии это 136 Глава 5. Трагедия Озерова 1 явление IIl действия). Именно этот эпизод неизменно вспоминали восторженные современники Озерова22. Сравнение этих фрагментов подробнейшим образом производит и Потапов, стремясь доказать большую, сравнительно с Дюси, психологическую достоверность озеровского текста. Отмеченная сцена у Дюси опирается на пролог трагедии Софокла, где Эдип с Антигоной приходят в рощу, посвященную Евменидам в предместье Афин Колоне, и на мотивы первой части "Финикиянок", действие которых разворачивается в неопределенной "пустынной местности". У Софокла в этом эпизоде роль Антигоны исключительно пассивна: она выступает только поводырем слепого отца и его "очами". Содержание пролога сводится к подготовке и осмыслению места действия, формированию самой ситуации, в которой предстоит развернуться трагедии, к "узнаванию" Эдипом конца предвозвещенного ему пути. Соответствующий фрагмент Сенеки это первая половина его пьесы (оставшейся неразделенной на отдельные акты, не снабженной хорами и сюжетно незаконченной), соседствующая со второй частью, переносящей действие в Фивы, где Иокаста тщетно пытается примирить Этеокла и Полиника. Вся первая часть посвящена диалогу, словесному поединку Эдипа и Антигоны23. Дюси включает диалог Эдипа с дочерью в сцену, построенную по общей канве софокловского пролога. Все фазы диалога героев Сенеки отражаются в сцене Дюси: Эдип говорит, что желает смерти, будучи не в силах совладать с отчаянием и горестными воспоминаниями; Антигона призывает его к твердости, уверяя отца в ее дочерней преданности; Эдип высказывает ей свою признательность; затем вновь впадает в отчаяние. Исступлению, самобичеванию Эдипа у Сенеки посвящено около 100 стихов, у Дюси чуть меньше. У Сенеки эта новая фаза тоски Эдипа ничем внешним не мотивирована, Дюси мотивирует ее вестью о близости храма Эвменид. За этим следует словесная пикировка Эдипа и Антигоны, умоляющей отца отказаться от пагубных мыслей, но безумие далеко не сразу покидает Эдипа. Наконец, Эдип подчиняется дочери, еще раз воздавая ей высокую хвалу ("сердце твердое // Смягчаешь ты лишь, преданной любви пример // Давая в нашем доме.." <Сенека, ст.309-311, с.106>; у Дюси та же хвала Антигоне дана в более высоком ключе "вечного примера": "Oui, tu sera un jour chez la race nouvelle, // De l'amour filial le plus parfait modele"24[О да, для новых поколений ты однажды станешь Совершеннейшим образцом дочерней любви.]). Начальный потенциал пьесы Дюси (и принявшего ее за образец Озерова), определяется, таким образом, соединением двух античных источников. Один из важнейших содержательных моментов, разделявших эти источники драматическая концепция судьбы. Речь, с одной стороны, идет о судьбе как о сплетении мировых сил, определивших где-то во внесценическом прошлом страдания, выпавшие на долю героя, о судьбе как пути, осмысляемом героем как его настоящее, и о судьбе, заключающей в себе цель и предел этого пути, открывающие некую ценность всего происшедшего, так обстоит дело в греческой трагедии, и софокловский "Эдип в Колоне" представляет в данном случае едва ли не наиболее отчетливый пример. С другой стороны, в трагедии Сенеки ведущим моментом оказывается непосредственная спонтанная активность героев, судьба становится случаем (fortuna), мучительным и тягостным испытанием, выпавшим на долю героя, единственный смысл которого в мобилизации всех сил души25. Оба варианта судьбы отчетливо ощутимы уже в тех сценах Софокла и Сенеки, о которых шла речь выше. Дюси, как можно видеть опять-таки из приведенных выше наблюдений, склоняется к принципам Сенеки. В его драме речь идет прежде всего об импульсивных действиях героев, об испытаниях, выпавших на их долю, но не о телеологии пути. При этом мотивы Сенеки и Софокла составляют эклектическую смесь в его драме: темные сплетения воль мировых сил и неистовые страсти героев составляют некий общий "античный" колорит, создающий атмосферу таинственности. 137 Глава 5. Трагедия Озерова Вместе с тем, все инфернальные тайны и ужасы у Дюси служат только обрамлением нравственной коллизии героев, переработанной с учетом общих этических требований классицистической сцены и специфических запросов века Просвещения. Драматург включает в свою пьесу и софокловские мотивы святости Эдипа, благословения земле, принявшей его прах, и восходящие к Сенеке ноты стоицистической твердости, которые подчеркивают мужество Эдипа, проходящего сквозь бездну бед. Но все это предстает только периферийными мотивами, производными от "простой человечности" Эдипа. В связи с этим переинтерпретируются как Сенека, так и Софокл. Антигона обращается к Эдипу уже не с величественнобесстрастными призывами к стойкости она выказывает нежные чувства дочери, трепетное сострадание; Эдип не проклинает Полиника, но прощает изгнавшего его сына и примиряется с ним. Будь тенденция торжества рационально понимаемой нравственности доведена здесь до конца, пьеса Дюси потребовала бы полного преображения фиванского сюжета, но драматург отказался от такого исхода: рок остается таинственной силой трагедии, внезапно увлекающей уже раскаявшегося Полиника и обрекающей на смерть благородного Эдипа. Герои Дюси заданы в рамках естественных человеческих отношений, так, как они понимались просветительским сознанием. Центральной для выявления этой особенности безусловно служит сцена прощения Эдипом сына. Она решена в традиции чувствительной драмы, к которой приспособлены мотивы Софокла: Эдип сначала отказывается принять раскаяние Полиника, как это и было у Софокла, но затем смягчается точкой перелома здесь служат слова Полиника, требующего от отца предать смерти недостойного сына, что убеждает Эдипа в искренности сыновнего раскаяния. Сам момент прощения как бы обнажает внутреннюю естественную гармоничность отношений отца и сына, омраченную лишь временной тенью. "Quoi! Vous m'aimez encore! Quoi! Deja votre haine?" [Как! Вы еще любите меня! Как! Уже (прошла) ваша ненависть?] восклицает Полиник, только что услышавший слова прощения, и Эдип тут же отвечает: "Crois-tu qu'a pardonner un pere ait tant de peine?" [А ты думаешь, что для отца столь трудно простить?](Ducis, p.262) Прощение действительно не составляет особого "труда", если исходит из веры в бесконфликтность и гармонию человеческой натуры, веры, которую Дюси, по-видимому, разделял с веком Просвещения. Более всего эклектичность Дюси проявляется в том, что наряду с этой пред-положенной гармонией нравственных отношений в его драме существует и тема рока, грозных запредельных сил, вносящих разлад в мир26. Такова в целом база, на которую опирался Озеров, избрав в качестве основного источника своей трагедии "Эдипа в Колоне" Дюси. Для дальнейшего анализа чрезвычайно важно предварительно ответить на вопрос о глубине взаимодействия Озерова с источниками трагедии Дюси. Еще критики девятнадцатого века отмечали факт ориентации Озерова не только на Дюси, но и непосредственно на Софокла. Об этом говорит восстановление им роли Креона, отсутствовавшего у Дюси. Но возникает и другой вопрос, еще не поставленный в "озерововедении": не учитывал ли Озеров и трактовку того же сюжета Сенекой? Вопрос этот имеет тем большее значение, что в "Поликсене", последней "античной" трагедии Озерова, связанной с его "Эдипом в Афинах" множеством нитей, задана, как будет показано, изначальная двусоставность сюжета, восходящего, с одной стороны, к греческой трагедии, сдругой к трагедии Сенеки. Один из эпизодов "Эдипа в Афинах" позволяет предположить, что трагедии Сенеки входили в круг чтения Озерова. Речь идет о начале третьего действия трагедии, где Креон рассказывает наперснику о том, как вместе с Тезеем и толпой афинян он был свидетелем явления Эвменид и их грозного прорицания. Ничего подобного нет ни у 138 Глава 5. Трагедия Озерова Софокла, ни у Дюси. Как справедливо отмечал Потапов, в самом описании фантастического явления отразился тот фрагмент трагедии Дюси, где Тезей рассказывал наперснику о явившейся ему во сне Тизифоне, предостерегавшей его от заключения союза с Полиником27. Существенно, однако, что у Озерова рассказ об эвменидах вложен в уста Креона. Весьма вероятно, что здесь мы имеем дело с реминисценцией, восходящей к "Эдипу" Сенеки, трактующему сюжет "Царя Эдипа" Софокла. В этой трагедии Креон произносит длинную речь о явлении подземных божеств и среди них тени Лаия, возвещающего вину Эдипа, детали, введенные именно Сенекой, с характерными для него развернутыми описаниями инфернальных ужасов. У Озерова момент, когда разверзается провал в преисподнюю, подан как зримый образ: "дщери Ахерона, // Разверзши твердь земли до царствия Плутона, // Эдипу прорицать предстали перед нас," "По страшных сих словах умолкли эвмениды,// Сомкнулась ада дверь, исчезли грозны виды" (Озеров, 153) У Дюси видение вводилось информационным сообщением о преисподней, не претендовавшим в отличие от фантастического образа самой Тизифоны на визуальную интерпретацию: "Tisiphone sortant de l'infernal sejour// Vint repondre elle-meme..." Визуальный образ Озерова не слишком органичен: он побуждает представить "разверзание земли" внутри замкнутого и наполненного народом храма. Все это может быть объяснено как отражение богато разработанного визуального ряда Сенеки, все событие у которого разворачивается на открытом просторе, в священной роще: "...дрогнула // Сотрясшись почва. Молвит жрец: Услышан я, // Слова не тщетны: хаос разверзается //<...>// И треснули дубы, и роща в ужасе // Вся задрожала, и земля отпрянула // С глубоким стоном: то ли Ахеронт стерпеть // Не мог того, что бездна потревожена, // То ли Земля, дорогу погребенным дав, // Вскричала, связей всех разрывы чувствуя //<...>// Вдруг почва расступилась, зазиял провал // Огромный. Сам озера неподвижные, // И подлинную ночь, и бледных видел я // Богов средь манов. В жилах кровь холодная // Вскипела. Вырвалась толпа свирепая..." (Сенека, ст.571-587, с.84) Повторяются и другие подробности видения. У Озерова: "Потом богиням вслед узрели наши очи // Их адских спутников: и страх, и месть, и смерть, // Грозящую на нас косу свою простерть.// При зрелище таком народ весь ужаснулся, // Смутился царь, я сам невольно содрогнулся, // Я сам, привыкший зреть смерть алчную в боях." (Озеров, 153); у Сенеки: "Тут завопили Ужас и Эриния, // И все, что прячет и рождает вечная // Ночь: вот Печаль, терзающая волосы, // Недуг, больную голову роняющий, // Страх, Старость, тягостная для самой себя <....> // Мы чувств лишились. Даже дева, знавшая // Искусство старца, обмерла." (Сенека, ст. 590-598, с.84) Черты образного строя Сенеки, проступившие здесь в речи Креона, и дальше остаются присущими именно этому герою Озерова. Ненависть Креона к Эдипу превращается в своеобразное садистское сладострастие: "Мученья долгие врага желаю видеть, // Печаль его моих весельем чтить очес, // Упиться токами его горчайших слез, // Детей его сгубя, его свести ко гробу // И смертью медленной мою насытить злобу," "Я буду всякий день внимать его стенанья, // Вздыхания ловить и исчислять рыданья, // И с восхищением морщины те считать, // Что на чело его грусть будет налагать." (Озеров, 154, 155) Подобные "садистские" мотивы отсутствовали у мстителей княжнинской трагедии зато они напоминают неистовых персонажей Сенеки, который любит передавать натуралистические подробности плана мщения или самоистребления. Ближе всего в данном случае к этому "мазохистское" упоенное самоистязание самого Эдипа в "Эдипе" и "Финикиянках" Сенеки. Обратим теперь внимание на общий характер переработки Озеровым пьесы Дюси. Вводя образ Креона, Озеров приписывает ему ту активность разрушительного замысла, которая в пьесе Дюси была закреплена за Полиником. В отличие от Креона Софокла, преступающего нравственную меру, но действующего все же исходя из "объективных" интересов своего града, Фив, Креон Озерова задан как "неистовый" персонаж, демонстрирующий свою разрушительную активность, и тем самым 139 Глава 5. Трагедия Озерова приближающийся к типу героев Сенеки. Креон и Тезей, явно наследуя черты княжнинских антагонистов, в то же время обнаруживают близость к более архаичным прообразам. Речь идет о типах "правого" и "неправого" героя: о герое, исполненном яростной страсти (часто непосредственно связанной с инфернальной инспирацией у Сенеки, у Озерова же в данном случае явно коррелирующей с "адскими" силами) и его "разумном" противнике-обличителе28. Взаимодействие этих активных персонажей в озеровской трагедии составляет самостоятельную коллизию, развитию которой посвящено все первое действие и финал которой завершает всю трагедию. Коллизия Эдипа и его детей, развитая Дюси, встраивается в противоборство активных сил в качестве самостоятельной, композиционно обособленной линии действия. Если сопоставить ее разработку Озеровым с текстом Дюси и одновременно с античными источниками, то становится ясно, что, сознательно или по эстетическому чутью, русский драматург удаляет элементы, восходящие к Сенеке, и возобновляет или заново вводит важнейшие мотивы Софокла. В той же первой сцене второго действия трагедии Озерова, источники которой наиболее явственно восходят через Дюси к пьесам Сенеки и Софокла, удалены все "чрезмерности" нагнетания ужаса и отчаяния, восходящие к Сенеке и смягченные уже в пьесе Дюси. Так, "забвенье страшное ума", в которое впадает озеровский Эдип вслед за героями Сенеки и Дюси, описано у Озерова в 28 стихах вместо 85 у Дюси29, да и сами страшные мечтания Эдипа поданы в значительно более мягкой манере. Изменяется и сама концепция судьбы, постигшей героев. Дюси в данном случае следует за Сенекой, формируя образный ряд, указывающий на судьбу-случай, судьбуфортуну. Изменения, вносимые Озеровым, могут быть проиллюстрированы одним характерным примером. Реплика Эдипа Дюси: "Je suis las de trainer l'horreur qui m'environne" [Я устал влачить тот ужас, который окружает меня] у Озерова звучит следующим образом: "Печальну жизнь влачить недостает мне сил" (Озеров, с.140). Вместо пучины ужаса, которая поглощает героя и отторгает его от нормального течения жизни (что, собственно, и составляет сущность выпавшей ему судьбы-случая), Озеров говорит о прохождении жизненного пути, проживании под знаком судьбы. За этими словами Эдипа следует самостоятельный озеровский фрагмент, где слепой Эдип воссоздает картину природы, которую ему более не дано видеть, и одновременно саму картину мира, проходимого им в его скитаниях (Озеров, 140). В ответных репликах Антигоны также появляются поэтические образы природы, заменившие абстрактные моральные заверения Антигоны Дюси. Все это не только по-новому окрашивает чувство верной дочери, но и опять-таки формирует образ судьбы как проходимого пути30. Создавая образ судьбы как пути, Озеров подчеркивает и ее целеустремленность. После постигшего его "забвенья ума" Эдип Дюси обретает горделивую стоическую непоколебимость этим завершается сцена Дюси, о которой шла речь. У Озерова в финале сцены порыв к храму, к месту обретения "конца" судьбы: "Сказала ты, что храм в местах воздвигнут сих, // Пойдем, (встает) поищем в нем конца бедам ужасным: // Едины алтари прибежища несчастным" (Озеров, 143). Это движение Эдипа к храму оказывается прерванным: "С приближением Эдипа ко храму двери оного растворяются, и народ стремительно из храма выходит" (там же). Эдип войдет в храм только в конце трагедии, но устремленность его к конечной точке, назначенной ему судьбой, постоянно подчеркивается по ходу драмы. Все это напоминает Эдипа Софокла с его молитвой богиням места, в которое он приведен роком и где он ожидает исполнения пророчеств о своей смерти31. 140 Глава 5. Трагедия Озерова 5.2.2.2 "Эдип в Афинах": драма эпохи Просвещения и традиция русской трагедии Можно заметить, что две линии действия и два смысловых центра трагедии Озерова коллизия Креона и Тезея и коллизия Эдипа и его детей восходят соответственно к драматическим сюжетам и композиционным решениям Сенеки и Софокла. В первой из этих сюжетных линий в качестве организующего действие принципа выступает спонтанная активность, во второй судьба-претерпевание. В отличие от Дюси, у которого эти драматические начала были эклетически смешаны, в трагедии Озерова они оказались различены и обращены друг к другу, их взаимодействие в конце-концов и формирует целостный сюжет трагедии. Вместе с тем, начала активности и претерпевания распределены не только между группами персонажей, отмеченных выше, но и внутри "коллизии судьбы": как ни смягчены Озеровым мотивы Сенеки, его Эдип все же напоминает энергичного героя римского драматурга; несмотря на все унижения и страдания, на которые его обрекла судьба, Эдип Озерова обладает внутренней мощью и царским достоинством. Соотношение всех этих элементов связано с той морально-философской концепцией, которая претворена в сюжете трагедии Озерова. Выше уже говорилось о том, что переработка античного сюжета, выполненная Дюси, заключала в себе переинтерпретацию нравственой проблематики, сведение ее к "естественным" отношениям, согласованным с каноном просветительской драматургии. Все, что свидетельствовало в первоисточниках о "сверхчеловеческом" уровне коллизии, превратилось у Дюси в элементы, служащие целям драматического эффекта. В новациях Дюси можно выделить, однако, два аспекта, имеющих разную культурнофилософскую значимость. В отличие от Сенеки и Софокла, занятых, прежде всего, "космической проблематикой", Дюси выдвигает в центр драмы личность героя, отвечая потребности нового времени, порожденной, в конечном итоге, христианским персонализмом. Вместе с тем, личностная проблематика у Дюси, содержащая предположение о естественной гармоничности человека, выражает особенность именно эпохи Просвещения с ее клишированными моделями драматических сюжетов и расхожими нравственными понятиями и философемами. Оба эти аспекта у Дюси совершенно неотделимы друг от друга, и только обращение к озеровской трагедии заставляет ввести различение их. Именно персоналистический ракурс, в котором предстал древний сюжет, оказался важен для Озерова. В самых "недрах" его трагедии, внешние формы которой столь легко интерпретируются в русле сентиментально-драматической установки, скрыт иной способ понимания разворачивающегося конфликта. Речь идет о преемственности Сумарокову и Княжнину, о значимости для Озерова заданной в их творчестве антитетики Бога и человека, Бога и природы. Эдип Озерова связан с богами, также как Полиник с "природой". Связь эта задана и особым характером их преступлений и специфическими чертами свойственных им добродетелей. Эдип "бессмертными оставлен", он "беззаконник", "он изгнан от людей, он проклят от богов" (Озеров, 149, 145, 146). Эдипа прежде всего преступил божественные законы. В обреченности его на это преступление его предельная богооставленность. Но все силы Эдипа устремлены к богам. И тем сильнее его благочестие, чем глубже бездна, из которой он взывает. В меру упорства и постоянства этой обращенности к богам Эдип обретает прославление и святость. Ср.: Эдип:"Ах, вспомни, что Эдип бессмертными оставлен! // Тезей: Я знаю, что Эдип страдальчеством прославлен, // Преступник, но почтен, в убожестве велик" (Озеров, 149) В отношении Эдипа богам выделяются два момента: порыв, динамическое устремление и статика, постоянство, верность себе. О динамике образа Эдипа, устремленного к богам, к храму, 141 Глава 5. Трагедия Озерова к завершению своей судьбы уже шла речь выше. Постоянство Эдипа в верности добродетели, тождественной с благочестием: "Кто добродетели не изменял своей // Среди случайности невольна преступленья... // Без ропота к богам, Эдип, их чтя закон, // Лишил себя очей, оставил фивский трон" (Озеров, 134). В конфликте с Креоном (д.II, явл.2,3) твердость Эдипа получает смысл сохраненного царского достоинства "Кто дерзостен и нагл из вас толико будет // И бывшего царя в моем лице забудет" (Озеров, 160). Но Эдип слеп, и в его слепоте от него ускользает природа, как в буквальном смысле см. введенный Озеровым пассаж "Нет, никогда уже мой не увидит взор" (Озеров, 140), так и в обобщенно-метафизическом плане: природа как целое видится им ничтожной перед лицом смерти, тождественной божественной вечности (см. Озеров, 142) и перед лицом самих богов. Именно презрением к природе, которой противопоставлено всемогущество богов, в большой мере обусловлено проклятие Эдипом сыновей: "...не дети суть мне боле, // Не дети, изверги, и яростью богов // В них породил себе свирепейших врагов. // О боги сильные, властители природы, // Которыми падут и восстают народы! // Пред вами веки миг, вселенная черта, // И смертный на земли как слабая мечта // <....................................> Не дайте извергам моим ругаться прахом!" (Озеров, 150) В той же мере, в какой образ Эдипа проецируется на ось безбожие святость, образ Полиника разворачивается в координатах природы антиприроды. Если преступление Эдипа это "беззаконие" в отношении закона богов, то преступление Полиника нарушение закона природы, что не раз подчеркивается у Озерова. Ср. слова Тезея: "Но Полиников брат, но Этеокл, Креон, // Как мог природы зреть нарушенным закон?" (Озеров, 135), которым вторит признание Креона: "Тщеславье вспламеня, природу усыпивши, // В их души поселил полезный мне раздор" (Озеров, 154), и обвинение самого Эдипа: "Священнейший союз ты ниспроверг природы" (Там же, 172). Соответственно, в координатах "любви к богу" и "любви к ближнему" Полиник прежде всего преступает вторую заповедь, он "бесчеловечен" это основной мотив его самообвинений: "Но я, жестокий брат и сын бесчеловечный" (Озеров, 166), "Я добродетели, природу оскорбил;// Неблагодарен был, я был бесчеловечен" (Там же, 169). Между тем, причина преступления Полиника против природы коренится в спонтанной, переменчивой силе страсти, в стихии чувств, бушующей в нем, тождественной в конечном итоге самой природе: "Не осуждай меня: вини мои ты чувства, // Которых умерять не знаю я искусства, // Вини сей огнь в моей пылающей крови, // Чрезмерен я во всем: и в злобе, и в любви, // В самом раскаяньи" (Озеров, 167). Полиник воплощение стихии, в которой отсутствует момент постоянства, свойственный Эдипу. Но природное начало, проявленное в Полинике, в то же время, в соответствии с сентиментальной концепцией "природы" обосновывает и чувствительность, "любовь к ближнему". В этом смысле важно, что и Полиник и его сестра Антигона, оба принадлежат к началу природы, голоса их звучат в унисон на всем протяжении пьесы. Только если через Антигону в наибольшей степени реализуются мотивы заботыответственности, сострадания, то через Полиника сила и энергия естества, вместе с присущей ей амбивалентностью. Новая трактовка образов Полиника и Эдипа у Озерова ведет к изменению и кульминационного момента прощения Эдипом сына. У Дюси Эдип прощал Полиника после долгих и горьких упреков в его адрес. Поводом для прощения была угроза самоубийства со стороны Полиника, подтверждавшая, по логике пьесы Дюси, искренность раскаяния сына Эдипа. Все это было сосредоточено в одной сцене. Затем следовала сцена в храме, где Полиник, уже прощенный, готов был принести себя в жертву вместо отца, но, услышав грозное пророчество жреца, покидал храм, и к нему возвращалась его прежняя ярость. У Озерова в той сцене, где Полиник является к отцу, 142 Глава 5. Трагедия Озерова умоляя его о прощении, Эдип остается непреклонен, что повторяет общие контуры сюжета Софокла. Прощение происходит в храме, причем оба героя проходят через испытание. Эдип поставлен пред лицом умоляющего его Полиника (природы), и в его нежелании простить сына обнажается возможность отказа от природы как таковой. Полиник сталкивается с неприятием его богами, даже в качестве добровольной жертвы, что обличает его богоотступничество. Попытка самоубийства совершена Полиником в храме она оказывается не подтверждением силы его раскаяния, но провокационным кощунством. Ср. реакцию Эдипа: "Или уже ничто ни час плачевный сей, // Ни веры торжество, ни святость алтарей // Не сильны удержать твой ярый дух и злобу?"32 (Озеров, 180) Смысл этой провокации в том, что Полиник готов совершить шаг в абсолютную бездну преступления и против природы, и против богов: "Бесчеловечен был, пусть буду и безбожен!" (Там же) (Вспомним статью Сумарокова "О безбожии и бесчеловечии"!) Но тот же поступок Полиника означал бы, что и Эдип совершил преступление против природы: "Жестокостью своей знав сына умерщвленным, // Ступай потом к богам путем окровавленным" (Там же). Именно эта перспектива заставляет Эдипа простить сына: "Иль все возможные я бедства соберу? // Восстань, несчастнейший..." Речь опять-таки идет о центральной теме русской трагедии о героической судьбе, призванной соединить различные и разнонаправленные начала. Это соединение, требующее чрезвычайного усилия от героя, балансирующего над бездной между двумя берегами, но отнюдь не благодушный автоматизм рациональной морали (ср. у Дюси: "Crois-tu qu'a pardonner un pere ait tant de peine?"). Прощая Полиника, Эдип снова напоминает ему о стоящей перед ним проблеме согласования двух начал: "Приди в объятия и, примирясь со мной, // Ты примириться тщись с богами и с собой!" (Озеров, 181). Решение "вечного" сюжета Эдипа у Озерова, как можно видеть, вполне оригинально на фоне предшествующих версий и лежит в русле стержневой проблематики русской трагедии. "Эдип в Афинах", по сути дела, второй после "Дидоны" Княжнина опыт обращения русской трагедии к мифологическому пласту драматической традиции. Принципиальное различие между ними в том, что от героевпервооснователей, воплощавших некие сверхчеловеческие начала, трагедия перешла, пока еще достаточно робко и эскизно, к типологии личностей и судеб, открывающейся в древних сюжетах. Новации и оригинальность озеровского сюжета остались, однако, как бы в подтексте пьесы. Тот факт, что в финале Эдип не был принесен в жертву, а получал земное благополучие, вступал в противоречие с доминантной характеристикой персонажа: его посвященностью богам. Коллизия Тезея и Креона, построеная по княжнинской схеме и в ее упрощенной форме сводившаяся к антитезе абсолютной справедливости и злодейства, мало согласовывалась с внутренним смыслом коллизии Эдипа и его детей и придавала всей трагедии упрощенное звучание. 5.2.3 "Фингал" трагедия веры Основной источник сюжета озеровского "Фингала" давно и хорошо известен это третья песня поэмы "Фингал" макферсоновских "Песен Оссиана"33. Старн, владыка страны Локлины, приглашает к себе Фингала, грозного воина, вождя обитателей "утесистого Морвена", обещая ему в жены свою дочь Агандеку. Фингал некогда сразил в открытом бою сына Старна и теперь Старн замыслил заманить к себе врага под предлогом брака. Но Агандека раскрывает Фингалу замысел отца и Фингал одерживает победу над людьми Старна. Старн, снова бессильный перед Фингалом, убивает 143 Глава 5. Трагедия Озерова изменившую ему дочь. Фингал же увозит тело Агандеки на свой остров. Все это в целом повторяется в трагедии Озерова. Агандеку он заменяет Моиной, чье имя заимствовано из другой песни Макферсона. Озеров вводит также множество реалий и метафор, создающих характерный оссианический колорит пьесы. Но именно этот лежащий на поверхности литературный источник во многом затемняет внутреннюю перспективу драмы: создается впечатление, что она связана не столько с драматической, сколько с лирической традицией, интенсивно разрабатывающей в эти годы оссианические мотивы. Говоря о содержании "Фингала", пьесу эту неизменно разбивают на ряд элегических монологов34. Между тем остается незамеченным, что оссианический материал внутренне структурирован в соответствии с вполне определенной драматической традицией традицией Княжнина. Оссиановский Старн, завлекший к себе своего противника Фингала, обещая ему брак со своей дочерью Моиной , проходит все этапы княжнинского сюжета мщения: исповедание величия собственного "я", нападение на благородного противника, неудача, прощение врагом и неприятие этого прощения самим мстителем, возвращенный ему (утаенный им) меч (кинжал), обращение меча на убийство другого и/или себя. Фингал и Моина соответствуют двум другим героям из княжнинской триады, варьировавшейся им, начиная с "Дидоны". Можно сказать, что никакая другая из озеровских трагедий не воспроизводит столь связно и последовательно княжнинских мотивов, мотивов непосредственно восходящих при этом к "Вадиму Новгородскому". Параллели с Княжниным начинаются уже с первого действия "Фингала", с объявлении о прибытии долгожданного героя для совершения брака. Вскоре обнаруживается, что с точки зрения отца любовь дочери противозаконна: "О малодушная, дочь Старна недостойна! // Злодея моего ты возлюбить могла // У коего в плену глава моя была // <..............................> К несчастью моему сего не доставало" (Озеров, 193-294). Ср. в "Вадиме Новгородском": "О дочь жестокая! Как то Вадиму снесть! // Рамида к Рурику любовию пылает... // Уже последнего меня тиран лишает..." (Княжнин, 266). Желание дочери обличается как нарушение долга но то, что было эксплицировано в "Вадиме", здесь остается невысказанным, утаенным чувством Старна: Моина:"Но ты смущаешься, бледнеешь и трепещешь; // На дочь, вокруг себя ты взоры гневны мещешь, // И вздохи горести твою стесняют грудь... // Старн: Ах, нет... без гнева я; спокойна духом будь!"(Озеров, 193) Ср.: Рамида: "Что вижу?.. Ты моим восторгам отвечаешь // Презреньем!.. Или дочь твою пренебрегаешь? // <......................................> Вадим: Гнушаясь, не могу я не любить Рамиду" (Княжнин, 266) В последующем объяснении влюбленных, построенном как подтверждение чувств, опять явственно слышатся отголоски Княжнина: Фингал: "Моина, повтори приятность слов твоих! // Скажи, что моему ты не противясь счастью, // Не оскорбляешься моею нежной страстью // <....................................> Моина: В пустынной тишине, в лесах, среди свободы, // Мы возрастаем здесь как дочери природы, // И столь же искренны, сколь искренна она. // Итак, о государь, открыть тебе должна, // Что с первого тебя я возлюбили взгляда." (Озеров, 198) Ср.: Рурик: "Открой мне чувствие ты сердца твоего: // Не огорчаю ли хоть мало тем его, // Что жизни счастие в тебе одной включаю.// Рамида: <....................................> Гражданку здешнюю, возросшую в свободе,// Не может удивить ничто во всей природе.// <..................................> Ты внемлешь глас души без лести, без искусства; // К 144 Глава 5. Трагедия Озерова притворствам никаким мои не сродны чувства; // И если б Рурика любить я не могла, // Я б с откровенностью то равною б рекла." (Княжнин, 265) В концентрированном виде реминисценции из "Вадима Новгородского" снова появляются в финале "Фингала", в сцене гибели Старна: Вадим: "В средине твоего победоносна войска, // В венце, могущий все у ног твоих ты зреть, // Что ты, против того, кто смеет умереть?" (Княжнин, 303) Ср.: Фингал: "Моими войсками отвсюду окружен, // По слову одному ты можешь быть сражен." (Озеров, 223) Вадим: "Что право подает тебе надеждой льститься,// Когда ты победил, со мною примириться? // <................................> Презренно право мной, одною силой данно" (Княжнин, 298) Ср.: Старн: "Ты право получил? Или мой плен, позор... // <................................> Союза объяви мне право и причину!" (Озеров, 224) Рурик: "Хотя победа днесь подвергла мне тебя... // Вадим: Подвергла?.. Можешь ли, рассудок погубя, // Воображать себе, о ты, рабов властитель! // Что ты Вадимова и духа победитель?" (Княжнин, 299) Фингал: "<...> ныне жизнь твоя от рук моих зависит. // Старн: Здесь жизнь... от рук твоих?.. Фингал легко то мыслит" (Озеров, с. 223) Схожи между собой и реакции обоих героев на смерть дочери: Вадим: "О, радость! Все, что я, исчезнет в сей стране". (Княжнин, с. 303). Старн: "Итак, я, наконец, Доволен... отомщен... и, счастлив, умираю." (Озеров, 225) Антагонисты Княжнина, представ у Озерова в облике оссиановских героев, перестали быть выразителями определенных политических концепций. Но политическое различие здесь сменилось религиозным контрастом. Конфликт Старна и Фингала у Озерова это столкновение двух вер: Старн поклоняется персонифицированному божеству Одену, Фингал безымянному божеству. Обычно эти мотивы в "Фингале" считаются второстепенными и дополнительными, что едва ли справедливо. В контексте историко-литературной преемственности "Фингал" развивает и делает явным тот метафизический план "Вадима Новгородского", который значимо проступает в финале трагедии, обрывающейся мотивом "мести богам". Но генезис сюжета "Фингала" не сводим к одной только княжнинской трагедии само построение "конфликта вер" на материале поэм Макферсона, к этому отнюдь не располагающих, требует уже своего объяснения. Во многих обзорах озеровского творчества упоминается опера "Барды" французского композитора Лесюэра, с успехом представленная в Париже в 1804 году, но краткие сведения о ней приводятся только как пример сценического воплощения оссиановской тематики. Между тем, существует давняя, еще 1907 года, статья Д.Ревуцкого, обнаружившего случайно текст либретто оперы Лесюэра и указавшего на него как на возможный дополнительный источник озеровского сюжета35. Опера Лесюэра "Ossian, ou Les Bards" была одним из крупнейших событий французской музыкальной сцены времен Империи и одним из ярчайших выражений культа оссианистики, всячески поддерживавшегося Наполеоном36. Постановка оперы, написанной несколько ранее, состоялась через два месяца после провозглашения Империи и имела явную аллюзионную подоплеку: она восхваляла Наполеона как спасителя нации37. Все это делает весьма вероятным интерес Озерова к новинке парижского сезона 1804 года. Либретто оперы Лесюэра, написанное Дерси и Дешаном (H.-P.Dercy и J.M.Desсhamps)38, строится по оссиановским мотивам, но без ориентации на конкретный 145 Глава 5. Трагедия Озерова сюжет поэм Макферсона. Действие оперы разворачивается в Каледонии, стране бардов, захваченной скандинавами в отсутствие главного воина и барда Оссиана. Невесту Оссиана Розмалу принуждает к браку сын главы захватчиков Дунтальмо Морнал. Внезапно возвращается из похода Оссиан, Дунтальмо, по закону гостеприимства, предлагает ему посвятить три дня охоте и праздникам и только потом вступить в сражение. Однако во время праздника Оссиан схвачен воинами Дунтальмо и заточен в пещере-храме. В последнем действии Оссиана и непокорную Розмалу приводят на место казни, но тут к ним на помощь подоспевают восставшие барды, сам же Оссиан, выхватывая "шпагу" у одного из стражей, вступает в битву и одерживает полную победу, сразив Дунтальмо. Линия скандинавов связана с культом Одена, который они навязывают каледонцам вместо их прежнего культа, "un culte heureux et doux". Конфликт двух культов определил весь образно-музыкальный ряд оперы. В подземный храм, посредине которого возвышается кумир Одена, заточают пленного Оссиана. Казнь Оссиана и Розмалы представлена как принесение их в жертву Одену, к которому обращается с молитвой Дунтальмо: "Terrible Odin, nous t'offrons ces victimes! // Tes autels leur sont en horreur; // Ouvre pour eux le sein des noirs abimes, // Nous les abandonnes a ta juste fureur..." [Грозный Оден, мы приносим тебе эти жертвы! Твои алтари ввергнут их в ужас; открой для них лоно черной бездны, мы оставляем их твоей праведной ярости]39 Заключенному Оссиану является видение сонма предков и небесных дев, укрепляющих его дух. Сцена эта была одна из наиболее ярких в опере и вошла в историю музыкального искусства как предтеча романтической оперы40. В аллюзионном плане антитеза жестокого Одена и "культа счастья и неги" должна, по-видимому, читаться как антитеза католичества и естественной религии, что в целом соответствует тенденциям постреволюционного порядка во Франции. Интересно в этой связи, что в издании оперы 1805 года изъяты молитвы скандинавов жестокому Одену, что сделало контуры религиозного конфликта предельно невнятными это объясняется, скорее всего, сближением Наполеона с папой, посетившим в 1804 году Париж для коронации нового императора41. О связи трагедии Озерова с оперой Лесюэра свидетельствует не только музыкальное сопровождение и пантомима, которые, по сути дела, превращали "Фингала" в героическую оперу, но и сюжетные мотивы, близкие к "Бардам": нарушение закона гостеприимства, завлечение главного героя для его убийства, трактуемого как принесение в жертву, религиозное различие между враждебными сторонами почитателями Одена и адептами безымянного божества и культа предков. Сватовство Фингала и коварство Старна заимствованы, как уже говорилось, из Макферсона, что же касается религиозной антитезы, то она отсутствует у Оссиана, хотя, как показал В.А.Бочкарев, Озеров воспроизводит религиозное различие северных народов в соответствии с комментариями самого Макферсона и, возможно, учитывая "Датскую историю" Мале42. Но само появление "Фингала" вслед за блестящей оссианической оперой Лесюэра позволяет предполагать, что выбор Озеровым определенного макферсоновского сюжета и его дополнительная религиозная трактовка были подсказаны Лесюэром. Показательно, что Державин, отношения которого с Озеровым к 1805 году были уже достаточно сложны, дважды упоминает озеровскую трагедию в своих стихах, каждый раз называя ее трагедией "Барды"43. Но не одна только опера Лесюэра связывала оссианическую тематику с религиозным конфликтом. В 1798 году в "Пантеоне иностранной словесности" была опубликована статья Карамзина "Оссиан". В ней отмечалась трогательность оссианических "элегий", "меланхолический настрой их", но в целом они оценивались снисходительно, как творения "непросвещенного века". В качестве их недостатков выставлялись однообразие чувств, сюжетная монотонность и, главное, отсутствие 146 Глава 5. Трагедия Озерова глубокой религиозной идеи "вечного источника истины, величия и красоты". Для проверки песен Оссиана на их художественную состоятельность автор рецензии предлагал в этой связи осуществить драматическую инсценировку оссиановской поэзии, в качестве критерия для оценки которой он предлагал "Гофолию" последнюю библейскую трагедию Расина: "Пусть другой Расин сочинит нам трагедию из Оссиановых идей и картин, и тогда увидим, выдержит ли она самое легкое сравнение с простою, но величественою Аталиею!"44 Как показала О.Б.Кафанова, статья Карамзина не была оригинальной. Она представляла собой незначительную переработку одной французской рецензии45. Идея создания трагедии на мотивы Оссиана с включением религиозной тематики была, таким образом, высказана и во французской, и в русской прессе. Следует учитывать, что во Франции, секуляризовавшейся в годы революции и с осторожностью принявшей вновь католицизм после конкордата 1802 года, литературный культ Оссиана приобретал формы национальной мифологии, чему способствовала этническая близость древних галлов и обитателей британских островов героев поэм Оссиана46. "Гофолия", предлагавшаяся в качестве образца для оссианистической трагедии, несомненно оказала влияние на трагедию Озерова. Сам мотив завлечения врага в священное место для расправы над ним, чем бы она ни была мотивирована в данной ситуации, ассоциативно связывает "Фингала" со знаменитой трагедией Расина. В творческом сознании Озерова связь эта безусловно присутствовала. Мольба Старна, который просит Одена помочь ему в его мести, помочь заманить врага на могилу сына, текстуально близка к молитве Иоада, стремящегося завлечь нечестивую царицу Гофолию в иудейский храм. Ср.: Ioad: ".... Grand Dieu... // Livre en mes faibles mains ses puissants ennemis; // Confond dans ses conseils une reine cruelle.// Daigne, daigne, mon Dieu, sur Mathan et sur elle // Repandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,// De la chute des rois funeste avant-coureur"47. (...Великий Боже... Предай в мои слабые руки могущественных врагов; Пусть смутится в своих советах жестокая царица. Соблаговоли, соблаговоли, Боже, чтоб на нее и на Мафана Сошел сей дух неосторожности и заблуждения, Роковой предвестник падения царей). Старн: "... О древне божество... // Мой враг перед тебя явится в торжестве; // Нашли на дух боязнь, на мысль недоуменье, // Предзнаменующи могущего паденье!" (Озеров, 201) Следует обратить внимание, что сближаются здесь герои, казалось бы, относящиеся к противоположным полюсам: Старн, замышляющий злодейство, и Иоад, совершающий подвиг во имя веры. Этот диссонанс знаменателен с учетом внутренней перспективы развития озеровского творчества. Создавая образы Старна и Фингала, Озеров, с одной стороны, ориентировался на княжнинскую пару антагонистов, но вместе с тем здесь сказывается уже и опыт его собственной предыдущей трагедии. Отказ Старна от дочери по существу сближается с проклятием Полиника Эдипом. Ничего подобного не было ни в поэме Макферсона, ни у Княжнина. Старн Макферсона сразил свою дочь, когда узнал, что она предостерегла Фингала. Это был импульсивный акт мести, но не следствие сознательного отвержения отцом дочери, полюбившей его врага48. В трагедии странным выглядит молчание Старна, не понуждающего дочь к исполнению долга перед отцом следует вспомнить, как в схожей ситуации княжнинский Вадим требовал от дочери покорности и участия в его мести. Это несоответствие сразу же ощутил один из первых критиков "Фингала" Бутырский, советовавший драматургу "подправить" коллизию Старна и Моины, введя перипетии борьбы долга и страсти49. Отвержение Старном Моины это таинственный в своей сути акт отказа от природы, ибо Моина "дочь природы". При развитии этого мотива в репликах Старна возникают параллели с речами Эдипа: подобно Эдипу, для 147 Глава 5. Трагедия Озерова Старна в его нравственном страдании закрываются все "образы" природы: Старн: "Печаль забыть? Сей дар // Один, оставленный сердцам в несчастной доле! // <..........................................> Как сын в бою погиб, вкруг Старна, вркуг меня // Безмолвным, мертвым все казалось бы в природе." (Озеров, 195) Эдип: "Печальну жизнь влачить недостает мне сил.// <.....................................> Дни ясны для меня подобны мрачной ночи. // <....................................> Сокрылись от меня все прелести природы." (Озеров, 140) Подобно Эдипу, Старн формулирует истину о мимолетности земной жизни и общем уделе всех смертных: Старн: "Нет, нет, не должен быть, не может быть тот страшен// <..................................> Который так, как мы и временен и тщетен, // Который так же слаб, который так же смертен. // Фингаловы отцы, подобные мечте, // Прешли и скрылися в могильной темноте. // Проходят роды все, и восстают другие, // Как с ветром по морю идут валы седые // <.................................> Подобно и мой род со мною пресечется"50 (Озеров, 203) Эдип: "Нет, нет, не льстись: пора исполнить круг природы. // Родится человек лет несколько процвесть, // Потом скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть. // Один, шед малый путь, другой прошед подоле, // В гробу покоятся сном крепким в равной доле." (Озеров, 142) Наконец, подобно Эдипу, Старн утверждает бренность человека перед лицом вечных богов. Ср.: Старн:"Оден, которого невидимой рукой // Природа держится и круг вращает свой // .............. чтобы вещал вселенной // Из рода в поздний род, от века в дальний век, // Сколь слаб перед тобой сильнейший человек! // Мечтав не знать себе в величестве примера, // Он пал, и три шага... его жилищу мера." (Озеров, 202) Эдип: "О боги сильные, властители природы, // Которыми падут и восстают народы! // Пред вами веки миг, вселенная черта, // И смертный на земли как слабая мечта." (Озеров, 150) Отвержение Старном природы, имеет, таким образом, и свою оборотную сторону: причастность его вертикальному измерению универсума, "божественному началу", что делает его законным преемником и озеровского Эдипа и расиновского Иоада. Антитетика двух начал, разрешаемая в "Эдипе" на человеческом уровне и мыслимая гармонически на божественном, теперь предстает как раскол в мироздании. В мире наличествуют две концепции бога. В Одене, божестве Старна, "которого невидимой рукой // Природа держится и круг вращает свой", подчеркнут аспект утверждения мира, его твердых законных рамок, в безымянном божестве Фингала выделен его креативный аспект, это бог, который "создал мир", "миров творец" (Озеров, 196), и одновременно он непосредственно един с природой это бог, "коего весь мир являет существо", "исполняющий вселенную собой", бог, воплощающий само начало существованияэкзистенции. Сюжет Княжнина получает у Озерова новое семантическое наполнение. Героиантагонисты последних трагедий Княжнина "посвящали" себя различным политическим идеалам. Их предшественники Эней и Ярб в княжнинской "Дидоне" непосредственно предавли себя богами или же становились богоборцами сама возможность этого была обусловлена мифологическим миром "Дидоны", в котором боги открывали смертным свою волю. Герои-антагонисты "Фингала" находятся как бы в некоем промежуточном мире: они предстоят пред лицом богов, именно к богам обращают свои мольбы и обеты, но боги молчат. Единственная сцена в храме, когда жрец Одена от имени богов велит прервать брачный обряд, не означает волеизъявления самих богов, ибо, как следует из слов Старна (д.II, яв.2), жрец исполняет его тайный замысел. Боги безмолвствуют, но герои посвящают себя определенной концепции бога, 148 Глава 5. Трагедия Озерова определенному образу бога. И вместе с тем эта концепция и этот образ определяют сами характеры героев, образ их действия. Новые очертания приобретает теперь персональность, личностный статус героев. И Вадим и Рюрик были обращены к общезначимым идеалам, политическим принципам. Герои "Фингала" предстоят перед лицом "другого", другой личности. Характерно, что все их монологи или признания конфидентам состоят теперь не в выражении того или иного круга идей и не в экспликации внутренней борьбы "чувства и долга", но открывают их скрытую обращенность к другому персонажу: Моина "летит мыслью" вслед за Фингалом, Старн не может оторваться от мыслей о погибшем сыне, Фингал в своем меланхолическом монологе на могиле Тоскара обращается с тоской к "теням" отцов, его постоянным собеседникам. Но за кругом земных персонажей предстают незримые собеседники-боги, принимающие обеты и мольбы. Именно это "высшее предстояние" дарует героям личностное бытие, если принять, что определение личности возможно только через акт встречи с другой личностью. Только в этом предстоянии раскрывается личность как внутренняя незавершенность, как мольба к другому и готовность к ответу, как неполнота бытия без "другого". Герои обретают себя через концепцию бога, не отвлеченную концепцию, но идею, выливающуюся в молитву, в живое обращение, идею, в которую герои "вкладывают себя". Сами эти "идеи бога", подобно политическим идеалам княжнинских героев, при всем их контрастном различии обнаруживают сущностную взаимодополнительность. Речь идет о Боге как творце универсума, выводящем вещи в саму стихию жизни, и о Боге как гаранте стабильности мира, его равновесия и прочности, законных основ в конечном счете все эти признаки могут быть сведены к онтологическим параметрам "бытия" и "экзистенции"51. Но если конфликт Фингала и Старна и их "образов веры" дело первой очевидности, то их внутренняя связь отнюдь не столь очевидна. Имеет смысл более подробно остановиться на том моменте трагедии, где двойственность "божественных правд" выступает с наибольшей отчетливостью. Нападению на Фингала воинов Старна предшествует монолог Фингала "Нет, гласам никогда надгробным я не внемлю..." Монолог этот имеет важнейшее значение для понимания финала трагедии. Он был высоко оценен и выделен современниками. Достаточно сказать, что, судя по переписке Пушкина и Вяземского, оба они, столь полярно оценивавшие Озерова, высоко ставили именно эти стихи, видя в них прообраз романтической поэзии52. Но монолог Фингала неизменно выпадал в восприятии зрителей и исследователей из контекста самой трагедии. Фингал на могиле Тоскара, слушая бардов, восхваляющих павшего воина, внезапно исполняется странной "меланхолии", имеющей, казалось бы, малое отношение к предыдущим событиям и содержательно не до конца проясненной: Фингал с тоской вспоминает о своей разлуке с отеческой землей, с "тенями" отцов, служивших ему духовной опорой. "Нет, гласам никогда надгробным я не внемлю, // Чтоб мысль не возвращал в отеческую землю, // Где возвышенный ряд родительских могил // Служил источником моих душевных сил." Далее герой вспоминает о своей любви, приведшей его в "страну иноплеменных", и речь его обрывается на каком-то неопределенном извинении перед "почиющими отцами" за свою любовь:"Но вы не сетуйте! Она и вашу кровь// В весенний возраст дней как огнь воспламеняла; // Улыбка красоты и вас равно пленяла.// Вы были счастливы; но я..." монолог на этом обрывается и следует ремарка "Впадает в задумчивость". Таинственность монолога Фингала безусловно привлекала внимание современников. Позднейшими исследователями этот фрагмент интерпретировалсяся обычно как чисто элегический пассаж, как абстрактные "мечтательные недомолвки"53. Потапов, пытавшийся изыскать психологический эквивалент всем переживаниям героев, толкует этот оборванный монолог как интуитивное предчувствие будущего54. 149 Глава 5. Трагедия Озерова Между тем, уныние и сомнение Фингала вполне объяснимы. Они вызваны не темным предчувствием будущего, но осмыслением намеченной уже в трагедии ситуации. Если Фингал поклоняется природе и безымянному творящему божеству, то его отцы, подобно Старну и его народу поклонялись Одену Старн вспоминает о случившейся недавно метаморфозе:" В Морвене божество Фингаловых отцов// Оставлено доднесь без храмов, без жрецов// Друидов истребив, их властью недовольны, // Низвергли храмы вы на их главы крамольны" (Озеров, 196); в своей молитве Старн просил покарать Фингала как совершившего нечестие по отношению к Одену. "Сонм почиющих отцов", к которым обращается Фингал, семантически связан, таким образом, с тем же началом, что и Старн. Коллизия Фингала и Старна, двух враждебных вождей, исповедующих разные веры, получает интроспективную проекцию: конфликтные полюса обнаруживаются в душе самого Фингала. Вместе с тем, связь героев-антагонистов с божественной инстанцией, с определенными образами божества определяет только одну сторону драматического мира. Другая сторона также продолжает тенденцию Княжнина: герои "растворены" в природе. Самим воплощением природы выступает женский персонаж. Роль героини как бы концентрирует в себе трагическую ситуацию, ибо она "экзистенциально" связана с обеими враждующими сторонами и становится первой жертвой их вражды. "Растворение" в природе относится, собственно, из героев-антагонистов только к Фингалу (как и к Рюрику Княжнина). Это означает, что тот образ божества, который он несет в себе, есть крайне обобщенный образ защитника и покровителя природы, гаранта ее высшего единства. Этот образ как бы накладывается на ту непосредственную стихию чувства, "природный субстрат", каковым является Фингал как герой-любовник, поданный в стилистическом регистре преромантической поэзии. Фингал и Моина приближаются в этом отношении к типичным героям "чувствительной" драмы. Существуют, таким образом, две реальные тенденции, две системы отсчета внутри озеровской драмы, позволяющие по-разному интерпретировать ее, и даже по-разному определять ее жанр. Старн, враждебный счастливым возлюбленным, может быть представлен как воплощение анти-природы, абсолютного зла, а сами возлюбленные как средоточие всей благодатной полноты природы, и тогда перед нами один из вариантов сентиментальной драмы. Но если мы перейдем от оперирования понятием "природа" к понятию образа божества, проецируемого на героя, к личностной коллизии антагонистов, то перед нами откроется перспектива конфликта Фингала и Старна как трагедии, как столкновения двух внутренне неразделимых начал. Нет сомнения, что зрителем озеровского времени воспринималась прежде всего первая из этих тенденций, но также верно и то, что вектор творческого движения самого драматурга определялся, по преимуществу, второй. Эта двойственность тенденций нашла отражение в полемике об озеровском творчестве Вяземского и Пушкина. Против слов Вяземского, подытожившего впечатление от "Фингала": "Старн, господствующее и почти действующее лицо в трагедии, начертан сильными красками и кистию решительно трагическою," Пушкин поместил полемическое замечание "Кистию решительно не трагической"55. Эта контроверза продолжает предыдущую: Озеров, писал Вяземский, "с искусством умел противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему во глубине печальной души преступные надежды, взаимную и простосердечную любовь двух чад природы," "Противуположности характеров, замечал на это Пушкин, вовсе не искусство но пошлая пружина французских трагедий"56. "Фингал" в действительности оправдывает противоположные суждения, хотя в данном случае Вяземский, апологет озеровского творчества, не вполне четко представляет себе основания озеровского трагизма. "Трагическая кисть" и "искусство противоположностей" обнаруживаются в той мере, в 150 Глава 5. Трагедия Озерова какой проступает скрытое единство двух антагонистов, двух образов божества. Но если перед нами двое "чад природы", которым противостоит "мрачный и злобный" гонитель, концентрирующий в себе абсолютное зло (=антиприродность), то речь идет отнюдь не о трагедии в собственном смысле слова. Оговорка о "глубине печальной души" Старна дает понять желание критика найти некую сущностную составляющую в этом образе, но интуиция восприятия не получила в данном случае адекватного выражения. Описание, данное Вяземским, вполне позволяет отнести пьесу Озерова к "пошлому" ряду французских трагедий. Пушкинский эпитет "пошлый" означает, думается, не общую оценку французского классицизма, но указывает на поток просветительской драматургии XVIII века, выставлявшей под именем трагедии непременную коллизию "природы", естественного чувства и абсолютного зла, принимавшего, как правило, обличие того или иного предрассудка, именно таков был смысл ее вечной "противуположности характеров". Потенциал трагедии в "Фингале" действительно "свернут". Само трагедийное начало находится как бы "в плену" у сентиментальной драмы и приспосабливается к ее законам. Ситуация внутренне осложняется тем, что обе тенденции Озерова трагическая и сентиментально-драматическая восходят к одному источнику, к драматургии Княжнина. Тесная связь их стилистических и образных рядов, несших тем не менее глубоко различные смыслы, приближала кризис, который должен был положить предел одновременности их развития. Этим кризисом отмечена следующая озеровская трагедия. 5.2.4 "Димитрий Донской": кризис озеровской трагедии и новые принципы построения характеров "Димитрий Донской" стал наиболее популярной из трагедий Озерова. Образ Ксении, сформированный элементами "чувствительной поэтики" и воплощенный на сцене Екатериной Семеновой (он стал одной из главных ее ролей), военная героика, вызывавшая слезы безумного восторга у первых зрителей и поднявшая пьесу едва ли не на уровень символа русского патриотизма эпохи наполеоновских войн, все это способствовало тому, что "Димитрий" надолго, вплоть до 1830-х годов остался в репертуаре русского театра. Вместе с тем именно "Дмитрий Донской" вызвал открытые нападки на драматурга со стороны круга Державина и Шишкова. Отсюда, как известно, берет исток и "арзамасская" легенда об Озерове как несчастной жертве зависти литературных ретроградов. Но дело не сводится к простой поляризации мнений литературных противников. Критическое отношение к этой трагедии во многом разделял и преданный "арзамасец" Вяземский: его слова о том, что в "Димитрии" драматург "унизил героя, чтобы возвысить любовника"57 отличаются только извиняющей мягкостью, но содержат ту же претензию, что и язвительные замечания А.С.Шишкова58. Все это говорит о том, что отдельные яркие образы, патетические монологи, эффектные сцены оказались легко воспринимаемы зрителем, настроенным на "чувствительную волну", но трагедия как целое перестала поддаваться прочтению. В данном случае это еще не означает перехода к принципиально иному уровню драматической концепции, обладающей внутренней полнотой, но недоступной неподготовленному зрителю. Речь идет о том, что "сплав" трагедии с сентиментальной драмой дал существенную трещину. Появились явные тенденции, разрушавшие сложившуюся целостность, "гештальт" сентиментальной драмы, не поколебленный ни в "Эдипе", ни в "Фингале". То, что эти тенденции не привели еще к новой целостной форме, позволяет говорить о кризисе озеровской трагедии. Вместе с тем, следует внимательно отнестись к внутренней природе сюжета и героических образов Глава 5. Трагедия Озерова 151 "Димитрия Донского", "Поликсены". непосредственно подготовивших появление озеровской Напомним, что действие трагедии начинается с совета русских князей, решившихся соединить свои силы под началом великого князя и сбросить ярем уже почти двухвекового монгольского ига речь идет о Куликовской битве. В первом действии царит полное единодушие князей в их патриотическом порыве, все они считают Димитрия достойным вождем общего дела. Но вскоре любовное соперничество разделяет Димитрия с князем Тверским. В воинский стан является Ксения, нижегородская княжна, обещанная ее отцом в жены Тверскому, но связанная с Димитрием и взаимным чувством и благословением покойной матери. Ксения объявляет о своем отказе от ненавистного ей брака и об уходе в монастырь. Тверской решается силой принудить Ксению к браку, но Димитрий вступается за нее. В их разгоревшемся конфликте совет князей встает на сторону Тверского, ибо в действиях Димитрия ими видятся начатки его будущего преступного самовластия. Князья во главе с престарелым Белозерским пытаются образумить Димитрия; в случае его отказа от примирения с Тверским они угрожают отступить, оставив его одного сражаться с Мамаем. Но Димитрий остается непреклонен, ставя, таким образом, под удар общее дело. Положение спасает Ксения, решившаяся пожертвовать чувством и согласиться на союз с Тверским. Димитрий остается в отчаянии, но мир между князьями снова восстановлен. Димитрий вступает в общее сражение с татарами в доспехах простого воина и, никем не узнанный, совершает решающий подвиг сражает богатыря Челубея. Ксения и оставшиеся в живых князья ищут Димитрия среди раненых на поле битвы и узнают в нем того самого воина, мужество которого вызвало общее восхищение. Тверской подает ему руку, примиряясь с бывшим соперником, отступаясь от притязаний на брак с Ксенией и возвращая отчаявшемуся Димитрию нравственные силы. Объективно оценить дистанцию между "Димитрием" и драматургией Просвещения в данном случае позволяет то, что сама эта пьеса, как и первая "древнерусская" трагедия Озерова, во многом является переработкой одной из трагедий Вольтера "Танкреда". Источник этот был безошибочно узнан современниками59, хотя существуют и другие драматические "предшественники" "Димитрия Донского". К сюжету "Димитрия" удивительно близок уже сам исторический сюжет, воспроизводимый в "Танкреде": сициллийские рыцари собираются на совет, решив прекратить свои раздоры ради изгнания мусульманских завоевателей; в пятом акте трагедии разыгрывается битва, в которой захватчики терпят сокрушительное поражение. Личная коллизия здесь определяется тем, что престарелый и наиболее знатный из рыцарей Аржир решает отдать свою дочь Аменаиду могущественному рыцарю Орбассану в ознаменование прекращения их давней вражды; Аменаида же влюблена в Танкреда, и их взаимное чувство было некогда благословлено ее матерью. Аменаида отказывается исполнить волю отца. Аменаида одна из самых энергичных героинь Вольтера: ни на минуту не смиряясь перед обычаями и "предрассудками", она высказывает негодование, бросая вызов отцу и Орбассану, пишет письмо своему отсутствующему возлюбленному, призывая его в Сицилию. Лейтмотивом ее роли становится обличение несправедливости, ложной политической целесообразности, пренебрегающей правами "природы". Письмо Аменаиды перехватывают и, превратно толкуя его, обвиняют героиню в измене отечеству. Рыцарский сенат приговаривает ее к казни, но тайно вернувшийся из изгнания Танкред, никем не узнанный, кроме возлюбленной, спасает Аменаиду и убивает на поединке Орбассана. Танкред, тем не менее, в отчаянии: он верит, что Аменаида виновна в измене отечеству, и ищет в сражении собственной смерти. По-прежнему инкогнито, он вместо Орбассана возглавляет сициллийцев, совершив массу подвигов, одерживает победу над мусульманами и, истекая кровью, умирает на руках Аменаиды, из уст которой только 152 Глава 5. Трагедия Озерова теперь узнают рыцари имя своего героя. Аменаида гневно обвиняет отца и его соратников, виновников несправедливости к ней и отчаяния Танкреда. К рыцарям приходит запоздалое раскаяние. Справедливость однозначно оказывается на стороне Аменаиды и Танкреда. Идеологический пафос этой трагедии недвусмыслен и состоит в осуждении однобокой республиканской ригористичности, пренебрегающей естественным чувством. Дополнительной причиной этого представляется влияние на рыцарей "варварской дикости" мусульман, а в качестве более приемлемого политического строя мыслится просвещенная монархия60. "Димитрий Донской" связан с "Танкредом" многочисленными параллелями от начального монолога Димитрия до финальных сцен трагедии, когда израненный Димитрий поднимает забрало своего шлема. Сами Димитрий и Ксения являются вомногом проекциями Танкреда и Аменаиды. Но эта же проекция выявляет и дистанцию, отделяющую их друг от друга. Ксения отнюдь не становится героинейобличительницей, но соглашается на требуемый от нее брак; Димитрий же далек от той однозначной высоты нравственного величия, на которой пребывает Танкред: противник Димитрия Тверской в критической ситуации проявляет больше благородства, отказываясь от личной вражды (IV д., яв.5). Через два года после постановки "Димитрия" "Танкред" был переведен на русский язык Гнедичем. Видимо, не случайно премьера его в 1809 году была приурочена дирекцией театров к моменту постановки озеровской "Поликсены", причем "Танкред" появился на сцене на две недели раньше, чем "Поликсена", отодвинутая на самый конец весеннего сезона61. Это во многом может объяснить ход антиозеровской "интриги" Шаховского: поставленный после "Димитрия Донского" "Танкред" должен был неминуемо восприниматься как поправка к Озерову, как возвращение трагедии в русло просветительской традиции. Исследователи, интерпретирующие "Димитрия Донского", часто отмечают, что упорное отстаивание Димитрием своего чувства служит антиклассицистическим демаршем, демонстрирует внедрение сентиментальной установки в жанровый канон классицизма.62 Это не соответствует, однако, реальной тенденции Озерова. В его раннем "Ярополке и Олеге" представала коллизия князей едва ли не зеркально противоположная коллизии "Димитрия Донского". Сравним моменты "узнавания" соперниками друг друга. В "Ярополке и Олеге": "Олег: Ты ль хочешь разлучить меня с Предславой? // Ярополк: Я // Олег: Что право подает, вещай! // Ярополк: Любовь моя. // Олег: Любовь... и в сей любви ты можешь признаваться, // О ней мне говорить и сердцем не терзаться! // Или не помнишь ты родительский завет, // Который на княжну мне право подает?" (Озеров, 110) В "Димитрии Донском": "Тверской: Кто будут дерзкие? и кто... // Димитрий: Я // Тверской: Ты? // Димитрий: Я сам. // <...................> Тверской: Но кем она была тебе поручена? // Сужденна мне отцом и мне обручена... // <...............> С каких же хочешь прав?.." (Озеров, 254) В "Ярополке и Олеге", как можно видеть, естественное право и свободное чувство совпадало с правом, данным родительской властью, "внешним" источником долга. Справедливость полностью была на стороне Олега. Внутренний смысл ситуации сводился к гармонии природы и регулирующих ее высших законов. Напомним, что речь идет о переложении вольтеровской трагедии, переложении, в этом отношении вполне адекватном. Сам Вольтер, осложнив эту коллизию в "Танкреде" разладом воль родителей, не отошел от принципа гармонии природы. Только теперь нарушение ее вызвано не одиноким ослепленным страстью героем (Немур из "Аделаиды дю 153 Глава 5. Трагедия Озерова Гюклен"), но героем (отцом Аменаиды), в действиях которого проявляется некий принцип, социальный предрассудок. Но этот принцип полностью "разоблачался", приходил к самоотрицанию. В "Димитрии Донском" ситуация иная: внутренняя правота присуща и Димитрию и Тверскому. Налицо некий разлад в бытии, приводящий к коллизии, ибо не только за "естественным чувством", но и за "отцами" и Тверским, согласующим с ними свою волю, предстает безусловно положительное начало. Не случайно исследователи писали о "неясности" идеологических установок трагедии63. Эта та же самая "неясность", которая отмечалась выше в отношении ключевых трагедий Сумарокова и Княжнина. Озеров возвращается к ситуации онтологического конфликта, возвращается к установкам классицистической трагедии. Явный отход Озерова от гармоничности трагедии Просвещения и сентиментальной драмы побуждает внимательно отнестись к другим источникам, определившим ее коллизии. Можно выделить еще две трагедии, воздействие которых сказалось не только в отдельных реминисценциях, но и на архитектонике драмы. Первая из них "Освобожденная Москва" М.М.Хераскова. Связь ее с озеровским замыслом отмечалась в научной литературе. При этом драмы Хераскова и Озерова рассматривались как этапы последовательного процесса вызревания сентиментальной поэтики в драматургии64. Однако трагедия Хераскова имеет мало общего с "Димитрием" Озерова с точки зрения поэтики и едва ли не прямо противоположна в идейно-философском плане, по крайней мере, в отношении одного из важнейших для обоих драматургов понятия "природы". Подробный разбор этой трагедии и анализ специфических масонских идеологем, сказавшихся в ней, помещены в приложении к настоящей работе65. "Освобожденная Москва" представляет собой самый радикальный в творчестве Хераскова вариант масонской парадигмы, различавшей три ипостаси, три структурных уровня в человеке и обществе: природу (естество), душу (в ее разумно-волевом аспекте) и дух (интуицию, непосредственно связывающую с Богом). Последние два уровня предполагались "союзными", хотя отношения между ними могли порождать непонимание и конфликты. Первая же ипостась была источником отпадения от Бога, внесения в мир соблазна и зла66. В "Освобожденной Москве" на соответствии ипостасям "души" и "духа" были построены образы князей Димитрия (Трубецкого) и Пожарского, двух начальников русских войск, осаждавших захваченную поляками Москву."Природа" с ее соблазнами была воплощена в образе Софии, сестры Пожарского, явившейся в русский стан умолять ратников о примирении с поляками. Характер Софии был решен в сентиментальном ключе, но как полемическое обличение сентиментальной традиции. Именно моление о мире от лица страждущей от вражды "натуры" составляет пафос этого образа. Но "натура" слепа, ей не внятны те высшие идеалы, которые отстаивали Пожарский и Димитрий. София погибала, проклятая братом и раскаиваясь сама в своих чувствах. "Освобожденная Москва", по-видимому, ни разу не ставилась на сцене и не относилась к "громким" явлениям литературной жизни. Но привлечь внимание Озерова она должна была как первый опыт патриотической трагедии, действие которой, как и в "Димитрии Донском", приурочено к одному из ключевых моментов национальной истории, связанных со спасением от внешних врагов и с переходом от внутренней раздробленности к единовластию. Общность "Димитрия Донского" с "Освобожденной Москвой" обнаруживается уже в самой исходной драматической ситуации: конфликт разворачивается между союзными полководцами в военном стане накануне решительного сражения и инспирирован (у Озерова) или предельно обострен (у Хераскова) приходом в стан женщины. 154 Глава 5. Трагедия Озерова Отчетливая связь прослеживается и в композиции пьес. В обоих случаях действие начинается советом князей, обрисовкой трагической политической ситуации. Ср. энергичный зачин обеих трагедий: "Освобжденная Москва": "Доколе нам с Литвой без пользы воевать, // Доколе нашу кровь мы будем проливать?"66а "Димитрий Донской": "Российские князья, бояре, воеводы, // Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы // И свергнуть наконец насильствяи ярем! // Доколе было нам в отечестве своем // Терпеть татаров власть и в униженной доле // Рабами их сидеть на княжеском престоле?" (Озеров,с.231) Ср. также далее в той же сцене: "Освобжденная Москва": "Кто тако посрамил венец и скипетр царский? // Нестройства внутренни, раздор, совет боярский; // Как враны хищные, на их мятежный глас // Поляки двинулись и растерзали нас..."66б "Димитрий Донской": "Как враны алчные, как волки ненасытны, // Татары губят, жгут и расхищают нас. // <.................................> Междуусобна брань, раздор и все напасти, // Которыми пред тем Российская страна // До расслабления была доведена." (Озеров, 231) Далее у Хераскова князья, между которыми уже выделяются два лидера, Димитрий (Трубецкой) и Пожарский, обсуждают вопрос, принять ли польского посла, и решаются, наконец, его выслушать, с тем чтоб посол убедился в непреклонности русских; следует сцена приема посла и отвержение его мирных предложений67. Все это находит близкое соответствие у Озерова, который вводит аналогичную по смыслу сцену приема татарского посла. Последующее развитие коллизий в двух пьесах во многом разнится, но прослеживаются важные смысловые параллели. Главнейшая связана с приходом девы в воинский стан. Речи Софии перед вождями русского ополчения (д.III, явл. 4) имеют определенную близость к обращению Ксении к князьям (д. IV, явл. 4,5). Сходен сам пафос примирения, с которым выступают героини (хотя внутренний смысл его и оценка двумя драматургами различны). Обострение конфликта соперниковвождей, в обоих случаях в конце сцены приводит к решению перевести распрю в русло соперничества в битве с общим врагом. Ср. заключительные реплики. "Освобжденная Москва": "Пойдем против врагов! Пойдем, явим сей час, // Кто любит более отчество из нас."67а "Димитрий Донской": "Пойдем и в подвигах явим на ратном поле, // Кто будет Ксении из нас достоин боле!" (Озеров, 280) Последнее действие в обеих трагедиях посвящено битве, после которой оба соперника примиряются. Характеристики самих озеровских антагонистов в некоторых отношениях сближаются с героями Хераскова: Димитрию Озерова, как и Пожарскому Хераскова, отдана прерогатива молитвы и обращения к Богу, эти мотивы, постоянно звучат в его речах; его соперник Тверской, "вид мужества носящий на челе", наделен, как и Трубецкой, чертами благородного и яростного воина. Еще один прообраз "Димитрия Донского" связан с целой группой источников, выросших на одном основании. Речь идет об "Ифигении" Расина и о той традиции изображения конфликта греческих вождей, которая прослеживается от Гомера и античной трагедии к "Ифигении" Расина. На эту традицию Озеров будет непосредственно опираться при создании следующей за "Димитрием" "Поликсены". Первое свидетельство творческого увлечения Озерова расиновой "Ифигенией" можно, по-видимому, найти еще в "Фингале". Посвящая свою оссианическую трагедию А.Н.Оленину драматург формулирует свой замысел: "я решился // Народов северных Ахилла описать". Думается, что в подразумеваемой метафоре Фингал Ахилл здесь уже имелся в виду не Ахилл "вообще", т.е. идеальное воплощение храброго воина, но Ахилл "Ифигении" обманутый Агамемноном, который обещал ему в жены свою дочь Ифигению, вместо этого принесенную в жертву. В "Фингале" встречаются и отдельные реминисценции из "Ифигении"68. 155 Глава 5. Трагедия Озерова Приезд Ксении в воинский стан ради спешного заключения брака, который на деле есть не что иное как жертва с ее стороны ("боле, нежель жизнь, на жертву принесет"), открывает в "Димитрии Донском" ряд параллелей с "Ифигенией". Пятое явление первого действия, где Димитрий со своим наперсником Бренским остаются одни после совета князей и впервые звучит "личная тема" Димитрия, построено в точном соответствии с первой сценой "Ифигении", где Агамемнон высказывает наперснику свою печаль и надежду, что Ифигения все же не приедет в стан, а в конце получает сообщение о ее внезапном прибытии. Слова Димитрия, открывающие это явление, почти точный перевод начальной реплики Агамемнона у Расина: "Heureux qui satisfait de son humble fortune, // Libre du joug ou je suis attache, // Vit dans l'etat obscur ou les dieux l'ont cache."69 Ср.:"Счастливее стократ, кто в неизвестной доле // Рождением сокрыт, в своей свободной воле // И может чувствами души располагать!" (Озеров, 241) В самом конфликте Димитрия и Тверского узнаются черты эпического конфликта Агамемнона и Ахилла, причем не только уже преображенного Расином, но и сохраняющего родство с античными источниками. Генеалогия эта становится явной при сопоставлении "Димитрия" с "Поликсеной", непосредственно опиравшейся и на "Ифигению" Расина, и на античные образцы. Димитрий, защищающий Ксению сначала, казалось бы, исключительно из принципиальных соображений справедливости, но в то же время ставящий под удар общее дело, имеет своим прообразом Агамемнона, каким он выступает в "Ифигении" Расина. В его противнике Тверском проступают черты Ахилла из той же трагедии: он первый по мужеству из вождей собранного Димитрием ополчения, Димитрий разлучает его с его невестой, прибывшей в воинский стан. Четвертое действие "Димитрия", в котором Димитрий-защитник Ксении нравственно проигрывает своему противнику, соответствует в этом отношении четвертому действию расиновской "Ифигении" (и четвертому действию будущей "Поликсены"). Особенно интересен в этой связи образ князя Белозерского в "Димитрии", играющего роль посредника и примирителя сторон не имеющий в этой своей функции ни исторических, ни драматических прототипов, он прямо отсылает к фигуре Нестора, впервые введенной в трагедию именно Озеровым в "Поликсене". Все это дает основание предполагать, что многосоставный по своим источникам сюжет спора греческих вождей по поводу девы-жертвы уже присутствовал в творческом сознании Озерова в период написания его патриотической трагедии. Многочисленные и обширные автореминисценции, связывающие "Поликсену" с "Димитрием", также свидетельствуют не только об общих для драматургии Озерова принципах поэтики, но и о едином субстрате, определившем во-многом коллизии именно этих двух пьес. Сам процесс возвращения к трагедии классицизма и обращение к многочисленным и разноообразным источникам могут быть поняты в рамках индивидуального творческого развития Озерова и эволюции той княжнинской традиции, которую продолжали предыдущие озеровские трагедии. Традиция Княжнина безусловно ощутима в "Димитрии Донском". Речь идет не о прямом обращении к конкретной трагедии, как это было в "Фингале". Но самые общие структурные формы трагедии, определившие адаптацию материала разнообразных источников, имеют определенно княжнинское происхождение. Сюжетные линии Энея и Ярба встают за коллизией Димитрия и Тверского. Если Димитрий, объединивший князей для борьбы с татарами, апеллирует к патриотическим принципам, имеющим всеобщее значение, то его соперник Тверской движим с самого начала мотивами личнородового мщения ("Никто из вас, князья, меня не может боле // Желать отмщения врагам свирепым сим. // Чей род во бедствиях сравняется с Тверским?" Озеров, 232); впоследствии мстительность Тверского перейдет на Димитрия, и свой брак с Ксенией он будет представлять именно как месть сопернику: "Познайте из сего, что не любовь, но мщенье // В сем браке для меня предвидит восхищенье" (Озеров, 258). Этим, однако, 156 Глава 5. Трагедия Озерова сходство с княжнинским сюжетом практически исчерпывается. Внутренняя причина этого в том, что само различие между служением "личному" и "общему" (или космически-всеобщему) конструктивная основа характеров княжнинских антагонистов перестает быть здесь однозначной: в определенный момент уже Димитрий оказывается отверженным своими соратниками одиночкой-мстителем, а Тверской, проявляя благородство, выступает с точки зрения общего дела. Другим восходящим к Княжнину моментом явилось то, что мы назвали ранее "растворением в природе". Миссия главного героя мыслится как защита прав "природы" и в то же время сам он воплощает эту "природу" как "чувствительный любовник". Само средоточие "природы", естественного чувства представлено, разумеется, женским персонажем, чья роль сводится исключительно к роли идеальной возлюбленной, обреченной выбирать между двумя "великими героями", предъявляющими на нее свои права. Логика "растворения в природе" находит в трагедии свое эксплицированное выражение в монологе Димитрия (д.IV, яв. 3): "Когда б себя меж вас делить имел искусство, // Всю жизнь отечеству и Ксении все чувство // Я с восхищением навеки б посвятил; // Ах, что я говорю: я б их не разделил; // Но вместе вы в душе моей соединенны, // Вы вместе милы мне, вы вместе мне священны." (Озеров, 272) Но в этом искусственном разделении "жизни" и "чувства", посвящаемых "отдельно" различным инстанциям, проявляется резкий диссонанс, вызвавший и скрытое и явное недовольство озеровской трагедией и ее центральным героем. "Жизнь", включенная в сферу общих интересов, и личное "чувство" становятся противоположными ценностями, но сама поэтика драмы оказалась нацелена только на их гармоническую совместность. Герои последних трагедий Княжнина посвящали себя политическим идеалам, герои "Фингала" посвящали себя определенным образам божества, в соответствии с которыми выстраивался и их внутренний образ, образ их души. В "Димитрии" инстанция посвящения становится смутной и неясной. Но эта смутность и неясность совершенно особого рода: в глубине образов еще не различены наметившиеся дифференцирующие тенденции. Источники, о которых шла речь выше, помогают понять и эксплицировать эти различия, их потенциально разворачиваемый смысл: вольтеровская трагедия, трагедия Просвещения побуждает искать идеальную правоту и абсолютную несправедливость в позициях сторон, но вместе с тем в их образах отложился и смысл взаимодополнительности сакральных начал (трагедия Хераскова), и различие основополагающих трагических характеров ("Ифигения" и стоящая за ней гомеровская линия). В "Поликсене" герои будут предстоять перед богами как самостоятельные трагические характеры, каждый из которых будет отстаивать некую особую сверхличную ценность, посвящая себя ей и посвящаясь через нее богам. Женский персонаж, неизменная трагическая возлюбленная, также фокусирует в себе дифференцированные смысловые оттенки. Во внутренне неразличенном "гештальте" природы выделяется смысл обличения царящего в "мужском" мире разлада (линия, идущая от вольтеровской Аменаиды), отдельный мотив мольбы, попытки взаимодействия с враждующим миром, внушения ему целостной правды "природы" (прообразом здесь выступает София Хераскова) и отдельная сюжетная линия жертвы, жертвенной любви, предающей себя ради установления "мира" в мире (начало, восходящее к Ифигении). Различение это применительно к "смутному" образному строю "Димитрия" целесообразно опять-таки только потому, что в "Поликсене" все эти три смысла получат самостоятельное персонифицированное выражение в трех ее героинях. Наконец, начинают изменяться контуры самого конфликта. Заметим, что во всех трагедиях, послуживших источниками для "Димитрия Донского", несмотря на различие их коллизий наблюдается одна общая особенность: каждый раз героиня или даже 157 Глава 5. Трагедия Озерова группа женских персонажей противостоит целому "сонму" героев-мужчин. Этот момент особым образом маркирован в пьесах. Ср. центральное в идеологическом плане обличение Аменаиды Вольтера: "Je sais que dans le cours mon sexe plus flatte, // Dans votre republque a moins de liberte..."70 у Хераскова он выступает настойчивым мотивом "борьбы с женами"71; в "Ифигении" Расина также подчеркивается необычность самой ситуации появления женщин в военном лагере. Конфликт, разбивающий на враждебные партии мужской лагерь, получает еще одно измерение, превращаясь в конфликт полов. В "Димитрии Донском" этот смысл присутствует все же в свернутом виде ( ср. переложение Озеровым приведенных выше слов Вольтера: "Под игом у татар мы заняли их нравы, // И пола нашего меж нас ничтожны правы," Озеров, 247): центр тяжести здесь смещен на конфликт мужских персонажей, определившийся у Княжнина. В "Поликсене" эта тенденция получит свое развитие и станет понятна ее внутренняя закономерность. Дифференциация мужских и женских характеров определит самостоятельные сюжетные линии драмы и выявит специфические философемы, связанные с каждой из групп персонажей, вступивших в конфликт: герои обретут свои особые функции вне сентименталистски окрашенной любовной коллизии. И в то же время фундаментальная трагическая антиномия "существования" и "бытия", природы и Бога получит персональное воплощение в конфликте мужского и женского начала. "Димитрий Донской" явился критической точкой творчества Озерова, в которой, с одной стороны, были до конца исчерпаны принципы княжнинской трагедии, а с другой, намечались основы новой драматической системы, реализованной в "Поликсене". 5.3."Поликсена" вершина трагедии русского классицизма Новизна трагического мира "Поликсены" заметна даже при беглом чтении, еще до выяснения всей смысловой перспективы ее сюжета. Во-первых, в трагедии отсутствует любовная коллизия, вокруг которой обычно завязывался узел действия в трагедии классицизма. Правило это знало множество исключений, периодически возникали трагедии, в котороых любовная коллизия отсутствовала или же была маргинальной. Но в этих отступлениях от неписанной нормы прослеживалась обычно схожая логика: центр коллизии переносился в политическую сферу, в область "мужской" активности. Женские персонажи, присутствовавшие в такого рода трагедиях матери, сестры, дочери, супруги вносили дополнительные оттенки, проблематизирующие смыслы в "мужскую" коллизию. В качестве примера можно привести "Горация" Корнеля", "Меропу" Вольтера, озеровского "Эдипа в Афинах". В "Поликсене" отказ от центральной любовной коллизии связан не с устранением, но с выдвижением на первый план конфликта мужчин и женщин: троянки и греки противостоят друг другу как два лагеря. Не будучи "любовной драмой", "Поликсена" предстает как драма "мужского" и "женского" начала. Во взаимоотношении этих "начал", двух групп персонажей есть место в том числе и любовной страсти любовный эпизод Кассандры и Агамемнона (д.III, яв.1) но любовная страсть не становится основной характеристикой даже этих персонажей, движимых сложным комплексом мотивов. Вторая "необычная" особенность сюжета "Поликсены" его мистическая таинственность. Вопреки рационалистическим интерпретациям, предложенным еще современным Озерову критиком (Мерзляковым), которому по-своему вторят и Потапов и ряд современных исследователей72, следует признать что все коллизии последней озеровской трагедии адресуют к высшему плану мироздания, узел трагедии и ее развязка сопряжены с некой странной амбивалентностью божественной воли. То, что было прикрыто сентиментальной трактовкой в "Эдипе", то, что требовало особой содержательной экспликации в "Фингале", то, что в "Димитрии Донском" растворялось 158 Глава 5. Трагедия Озерова в общем патриотическом пафосе в "Поликсене" предстает вполне явственно: трагедия Озерова имеет непосредственный религиозный подтекст. Новизна свойственна и самим образам трагических героев. Необычно велико уже их число: семь три женских и четыре мужских персонажа, каждый из которых обладает самостоятельными чертами. Изменился и сам способ речевой характеристики персонажей. Особенно это заметно в отношении мужских участников конфликта: из трагедии совершенно исчезли монологи (кроме первого короткого установочного монолога Пирра) и сцены с наперсниками, в которых герои имели возможность исповедаться. Исповедь требовала доверия зрителя (или читателя) и означала непосредственное предъявление сущности душевного порыва, которое проецировалось на все последующие диалогические сцены. Теперь сущность заменена исключительно явлением. Так, Кассандра повествует об Агамемноне: "По мрачному челу, сверкающим очам, // По быстроте, во всех его движеньях видной, // Я заключить могла, что гнев на сердце скрытный, // И жалость явная волнуют душу в нем" (Озеров, 314). Гекуба с ее слов заключает: "Он сострадающим явился ныне к нам" (Озеров, 318). Герой действительно является с тем или иными мотивами поступков, но сами эти мотивы стремительно меняются и от сцены к сцене и даже на протяжении одной сцены. "Я" героя остается скрытым феноменом, не отождествляемым однозначно с той или иной идейной установкой. Агамемнон защитник невинных, движимый принципиальными соображениями, и Агамемнон представитель рода, который "не унижался ввек прощением обид", ведущий распрю с заклятым врагом, ради которой готов пожертвовать преданными ему греками таковы только главные из противоречивых черт, определяющих его образ. В той же мере неоднозначны и образы Пирра и Улисса. Если прямолинейная полярность образов "мрачного и злобного" Старна и "сына природы" Фингала была поколеблена уже в "Димитрии Донском" (хотя образ Димитрия только временно омрачался тенью), то здесь от этой "пошлой черты французских трагедий" не осталось и следа. А.Ф.Мерзляков, а вслед за ним и некоторые современные исследователи пытались свести конфликт главных антагонистов, Агамемнона и Пирра, к спору благородного героя и гонителя невинных. Но уже непредвзятый взгляд на трагедию открывает натяжку в такого рода отождествлении. Устойчивость его связана с тенденцией вписать "Поликсену" в ряд современных ей драм. В то же время реальные источники последней трагедии Озерова и прототипы ее героев в значительной степени скрыты в глубине традиции. Имеет смысл посвятить отдельный раздел работы характеристике тех литературных образцов, традиций и концепций, оказавших воздействие на "Поликсену". 5.3.1 Новации "Поликсены" и традиции русской трагедии "Поликсена" вобрала в себя важнейшие черты всей предыдущей полувековой истории русской трагедии. Последняя трагедия Озерова позволяет выявить сам сюжет развития русской трагедии XVIII века, именно она стала его завершающей точкой. Вехи развития русской трагедии, предшествовавшей Озерову, не раз отмечавшиеся уже, имеет смысл еще раз перечислить. Само начало русской трагедии связано с восприятием ядра трагической проблематики классицизма. Онтологический конфликт трагедии XVII века, лежавший в основании ее конкретных коллизий и обосновывавший их, конфликт онтологических планов "бытия" и "экзистенции" был воспринят Сумароковым сквозь призму религиозной антиномии "любви к Богу" и "любви к человеку", коллизии "естества" и "божественного закона". Скрытый фон трагедии стал ее эксплицированным содержанием. Онтологический конфликт вошел в сферу дискурса "философской" драмы. Вместе с тем сам этот конфликт был воспроизведен только в его структурнокатегориальных очертаниях, трагедия превратилась в трагедию-притчу. Герой притчи 159 Глава 5. Трагедия Озерова не есть персонаж некоего определенного мира, ни персонаж, обладающий теми или иными психологическими и характерными чертами, но "человек вообще", иллюстрирующий всеобщий нравственный закон в данном случае закон трагической антиномии. В трагедии Княжнина, в его "Дидоне", появился трагический "мир". Трагическая антиномия нашла свое выражение в определенных измерениях бытия, "космоустройствах", с которыми были связаны воплотившие их сущность герои. Речь шла о мифологическом очертании мира: о "бытии", означавшем непосредственную причастность богам, сфере божественных замыслов, обращенных на мир, "вечной славе", и о "существовании-экзистенции", принявшем образ идеальной природы, исполненной творческих и порождающих сил, энергии чувств и милостивой заботысострадания; тенью того и другого выступал темный мир абсолютной гордыни и богоборческого величия. Это воплощение трагического мира в его обобщенно мифологических контурах сменилось в последних трагедиях Княжнина появлением трагического "человека". Употребляя многозначное понятие "человек", мы имеем в виду то, что трагический персонаж приобрел определенную индивидуальность, черты, не сводимые лишь к репрезентации той или иной из онтологических парадигм, или же самого их конфликта (что было главенствующей чертой сумароковских персонажей). Сама разработка сферы "характеров", как отмечалось в первой главе, уводит к иной онтологической перспективе, к миру "сущностей", с которым порвала связи классицистическая трагедия. Но речь не идет о внедрении в класицистическую трагедию инородного субстрата. Черты индивидуальности, "характеры", полученные героями, стали некоторыми модусами основополагающей онтологической парадигмы. Так, по крайней мере, в последних трагедиях Княжнина произошло с онтологической парадигмой "бытия". "Характеры" приобрели смысл политических идеалов, которым посвящали себя герои-антагонисты. В то же время сами эти идеалы были лишь посредующей инстанцией между имманентным "я" героя и божественным абсолютом. Они семантизировались вне зависимости от политических одежд как преобладание общего и частного (личного) в онтологической концепции социального мира. Вместе с тем онтологическая парадигма "природы", существования-экзистенции осталась попрежнему целостно воплощенной в единственном женском персонаже. Это привело к своеобразному "перекосу" в общей картине трагического мира: героиня сама воплощенная природа лишилась специфической активности, предоставив основное поле конфликта мужским, "бытийствующим" пресонажам; с другой стороны, сами мужские персонажи оказались как бы "растворенными в природе". Особенно это сказалось на герое, олицетворявшем онтологию "общего" он вобрал в себя и изначально "женские" черты. Но образ сентиментального возлюбленного, воплощавшего идеальную гармонию "природы" и "бытия", вечных разумных законов, ставил под сомнение саму "трагичность" трагедии, внедрял в нее смыслы сентиментальной драмы. Так вырисовывалась та внутренняя проблема трагического жанра, которую пришлось преодолевать в своем творчестве Озерову. Именно в "Поликсене" развернулись два ряда характеров, мужских и женских, ставших модусами двух онтологических парадигм. Это привело к существенному углублению, скачку в трагической проблематике, который будет описан в дальнейшем. Но для лучшего понимания его следует учесть связь "Поликсены" со всеми отмеченными этапами развития русской трагедии. Речь идет не только о наследовании проблематике, возникшей на определенном этапе развития жанра, но и о непосредственных связях с предшествующими этапами, включении в целостный мир трагедии их ключевых идей, поэтических тем и образов. С сумароковской трагической философией "Поликсену" роднит основной конфликт любви-сострадания к ближнему и любви к Богу в данном случае 160 Глава 5. Трагедия Озерова тождественной языческому благочестию. Героями движут и другие мотивы: рациональный политический расчет, стихийная ярость, тонко скрываемые "личные виды". Но главная ось конфликта связана с восходящей к Сумарокову альтернативой. Либо жертва Поликсены, требуемая Пирром, есть и "бесчеловечное" и "безбожное" деяние: "Среди ль цветущих сел, среди ль лесов пустынных, // Ввек имя проклято губителя невинных. // Восставьте на себя вселенны грозный глас // И правый суд богов" (Озеров, 306) и тогда прав Агамемнон. Либо существуют высшие нормы благочестия, которые могут оправдывать принесение невинности в жертву, и тогда справедлив упрек Пирра Агамемнону: "неверующий царь". Следует отметить, что ни в одной из трагедий русского классицизма, включая и трагедии самого Сумарокова (кроме примыкающей к ним драмы "Пустынник"), религиозно-нравственная антитеза, сформулированная Сумароковым, не была столь прямо и непосредственно актуализирована в трагическом конфликте. Тесно связана "Поликсена" и с "Дидоной" Княжнина. На сцене вновь предстает мифологическая история, герой и божество вновь связаны трепетной связью близкого родства. "От Зевса крови ты, но я, я сын Ахилла", слова, подобные этим словам Пирра, не могли прозвучать ни в одной из трагедий между "Дидоной" и "Поликсеной" (заметим, что сам Ахилл, вещающий из могилы, мыслится уже причисленным к сонму богов "Ахилл их божество" Озеров, 332). Мужские персонажи, действующие "во мраке ума", наделены как бы изначально различными по своему существу божественными харизмами. Как и "Дидона", "Поликсена" развивает эпизод из троянского цикла. Пожар Трои становится важнейшей поэтической темой в обеих трагедиях. В описаниях пожара у Озерова явно слышны отзвуки Княжнина: "И слышен был лишь стон падущих зданий в Трое" (Озеров, 298) "Услышь народа стон и треск падуща зданья" (Княжнин, 115) "Каким окружена я зрелищем ужасным! // Зрю град родительский весь пламенем объят." (Озеров, 352) "Уж нет спасения, и твой плачевный град // О, страшно зрелище! весь пламенем объят" (Княжнин, 115) Воздействие "Дидоны" особенно ощущается в "структурно сильных" местах драмы, в завязке и финале. Так, явление Пирру тени отца и последующее вопрошание Улиссом богов несомненно инспирировано "Дидоной", хотя имеет и античные прообразы73. Именно с этого мотива начинаются обе трагедии. Ср. Эней: "Вчера, как сон принес полезный нам покой, // Мой дух, наполненный Дадониной красой, // Вкушал спокойствие в минуты безмятежны,// <.........> Явился мне отец. // <.........> <я> в храм отца богов тотчас свой путь направил, // И, тайно к алтарю собравши там жрецов, // Бессмертных умолять я им велел богов // <.........> Вотще пред алтарем с стенанием упал // И землю я, простерт, слезами орошал" (Княжнин, 64-65) Пирр: "И, смерть он одолев, на холме сем явился. // <............> В сию минувшу ночь, как сладостный покой // Над станом царствовал с глубокой тишиной. // <............> Лаэртов мудрый сын, Улисс, уже в сей час // Пред алтарем и с ним всеведущий Калхас // <............> Стараются прочесть и волю знать бессмертных (Озеров, 298) Ср. также далее, продолжение рассказа о вопрошании богов : Улисс: "Вотще маститый жрец...// Усердно вопрошал богов." (Озеров, 303) Тот факт, что сходное начальное событие у Озерова и Княжнина приводит к различным итогам (Эней получает определенный ответ богов, которому он подчиняется, греков же боги оставляют без ответа) объясняется сущностным различием двух трагедий, о котором речь впереди. Важнейшая аналогия с "Дидоной" акт жертвоприношения героини, который становится смысловым центром обеих драм и их финалом, подводящим парадоксальный и символический итог событиям. Поликсена, как и Дидона, погибает вместе со своим градом (ср. приведенные выше стихи "О страшно зрелище.." и "Каким окружена я 161 Глава 5. Трагедия Озерова зрелищем ужасным..", фиксирующие последний взгляд обеих героинь на погибающий в пламени город). Завершающая трагедию Княжнина многозначная метафора грома ("Дидона!.. нет ее!.. Я злобой омрачен, //Бросая гром, своим сам громом поражен") обретает у Озерова буквальное воплощение смерть героини сопровождается ремаркой: "Закалается, и вдали раздается гром". Как и у Княжнина, нравственный смысл этого знамения наказание, в данном случае возвещенное Кассандрой наказание грекам, разрушившим град и согласившимся на смерть Поликсены. "Поликсена" вместе с тем родственна и поздним политическим трагедиям Княжнина. Пирр и Агамемнон, первый из которых с самого начала объявляет о мести троянкам, а второй защищает их, опираясь на всеобщий принцип справедливости, безусловно связаны с образами Вадима и Рюрика, Массинисы и Сципиона. Реальное содержание этих образов несравненно сложнее. Но уже один только анализ предыдущих трагедий Озерова не оставляет сомнений, что мы имеем дело с персонажами, генетически связанными с княжнинскими "политическими антагонистами". В "Поликсене" отразились и художественные достижения самого Озерова. При анализе "Поликсены" становится очевидно, что этапы пройденного Озеровым пути обнаруживают удивительную внутреннюю аналогию трем важнейшим моментам предшествовавшей истории русской трагедии. Осваивая новый сюжетный и концептуальный материал, Озеров как бы заново последовательно открывал узловые пункты традиции. Так, в "Эдипе в Афинах", открыв античную парадигму судьбы, Озеров осмысляет ее сквозь призму сумароковской антитезы "любви к Богу" "любви к человеку". Значение "Эдипа в Афинах" для "Поликсены" трудно переоценить: не только мотивы судьбы, но и важнейшие композиционные принципы этой трагедии, структура целых актов и сцен особенно "женских" непосредственно определены "Эдипом" (более подробно это будет показано в дальнейшем). "Фингал", структура которого во многом подсказана "Вадимом Новгородским", по своему мифологическому колориту оказывается ближе к "Дидоне" (задавшей структурные формы всей последующей княжнинской трагедии). Именно здесь определились контуры религиозной трагедии Озерова: герои предстоят пред лицом богов (молчащих богов), каждый из них служит определенному образу божества, соответствующему в то же время и его собственному характеру, сами образы божества не только противоположны, но и взаимодополнительны все эти черты перейдут и в "Поликсену". Герои "Димитрия Донского" уже не представители различных "стран", мифологических локусов (подобно героям "Дидоны" и "Фингала"), с их различной сакральной приуроченностью, но, как и герои "Поликсены", вписаны в один и тот же социум, знаменуя в нем противоположные и взаимодополнительные полюса. "Димитрий Донской" привел, как уже отмечалось, к кризису жанровой линии, идущей от последних трагедий Княжнина. О непосредственной связи его с "Поликсеной" шла речь выше. Можно говорить, таким образом, о полноте предшествующей традиции русской трагедии, о ее "логосе", воплотившемся в "Поликсене". Традиция эта, во всей полноте ее смыслов, сформировала художественно-философский запрос, определивший и выбор сюжета "Поликсены" и важнейшие ее поэтические принципы. Но русская традиция задала только способ взаимодействия с одним из "вечных сюжетов" мировой литературы. Новое воплощение его привело к совершенно новым поэтическим решениям и проблемам, ранее отсутствовавшим в русской драматургии, и, с другой стороны, сам "вечный сюжет" обнаружил свои стороны и связи, ранее остававшиеся в тени. 162 Глава 5. Трагедия Озерова 5.3.2 Источники "Поликсены" и их смысловая иерархия 5.3.2.1 Три слоя источников Конгломерат сюжетов, мотивов и образов мировой литературы, претворенных в последней трагедии Озерова, представляет собой чрезвычайно сложную и в то же время внутренне стройную и осмысленную композицию. На собственно авторское ее понимание проливает свет одно из писем Озерова к А.Н.Оленину: "Если третье действие несколько поразило слушателей, то обязаны они сим удовольствием Еврипиду, у которого я занял почти весь разговор Гекубы с Улиссом. Доказательство, что язык природного чувства есть язык всех народов. Стон и моления Гекубы извлекали слезы из глаз Афинян и всех Греков, и они же через две тысячи и более лет поразили зрителей в Петербурге, где с небольшим за сто лет молчаливо протекали меж болот Невские струи, изображая в водах своих печальные ели, вековые сосны и тощие берега. О, бессмертный Еврипид! В сочинениях твоих исполнился вдохновения неподражаемый Расин, и ты уделил искру слабому моему таланту, чтобы возбудить сострадание чрез тысячи лет к бедствиям злополучной Трои"74. Этот эпистолярный пассаж не только прямо указывает на один из источников "Поликсены" "Гекубу" Еврипида и, косвенно, на другой, не менее важный "Ифигению" Расина, но и свидетельствует о преемственности самих принципов обращения к традиции. Дело в том, что этот фрагмент представляет собой близкое переложение признания самого Расина в предисловии к "Ифигении": "Что же касается страстей, то здесь я старался следовать ему (Еврипиду Е.В.) самым строгим образом. Я признаюсь, что обязан Еврипиду многими местами в моей трагедии, заслужившими одобрение публики, и признаю это тем охотнее, что ее похвалы лишь укрепили меня в почтительном восхищении древними авторами. По тому, какое впечатление производило на нашем театре все, что я позаимствовал у Гомера или у Еврипида, я с удовольствием убедился, что здравый смысл и разум одни и те же во все времена. Вкус Парижа оказался схож со вкусом Афин: моих зрителей волновало то же самое, что некогда вызывало слезы у самых ученых греков и заставляло их говорить, что среди всех поэтов Еврипид самый трагический, <...> то есть, что он удивительно умеет вызывать страх и сострадание главные эффекты, на которых зиждится трагедия"75. Единство вкуса Парижа и Афин, декларируемое Расином, не столь простая установка, как это может показаться. Ее иногда понимают как утверждение полного тождества той и другой культуры. Действительно, классицистическая мысль приходила на определенных этапах к подобным заключениям. Ту же мысль Расина повторял Сумароков в приводившемся уже нами фрагменте своей программной эпистолы: "Афины и Париж, зря красну царску дщерь, // Котору умершвлял отец, как лютый зверь, // В стенании своем единогласны были // И только лишь о ней потоки слезны лили." (Сумароков, I, 338) Для Сумарокова, как уже отмечалось, "единогласие" "Парижа" и "Афин" действительно означало тождество. В его системе это вело к снятию того и другого, т.е. к устранению реалий, образов, мотивов, сюжетных ходов, относящихся непосредственно к той или иной культурной эпохе и нерастворимых в философской концепции абстрактного человека. Сумароков воспроизводил только модель трагической ситуации, трагическую притчу. Между тем, для самого Расина это было далеко не так. Для него это была скорее общность традиций, т.е. единое пространство традиции, в котором могла состояться встреча "Афин" и "Парижа". В героях Расина его современники узнавали специфические черты собственной эпохи, сформировавшей классицистическую трагедию с ее особым конфликтом. Однако художественные и смысловые доминанты античного сюжета отнюдь не исчезли у Расина. В столь важной для нашей темы "Ифигении", по словам Кадышева, Расин сумел "представить на сцене влюбленного 163 Глава 5. Трагедия Озерова рыцаря во вкусе эпохи и одновременно как бы "вызвать тень" гомеровского героя. Так в последнем действии драматург являет зрителям знаменитый "гнев Ахилла". <...> Кто в эти минуты произносит дерзкие, святотатственные речи рыцарь-возлюбленный или герой древнего эпоса? Оба соединились сейчас в расиновском Ахилле"76. Озеровское отношение к традиции восходит в этом смысле именно к Расину. В отличие от романтиков, у которых будет впоследствии развиваться идея воспроизведения элементов иной эпохи и иной культуры, предполагающая изначальное разделение эпох, здесь культурные эпохи мыслятся в непосредственном единстве в единстве встречи, но не тождества. В перспективе этого единого культурного пространства Озеров выделяет уже не две, но три смыслообразующие точки: античность, "неподражаемый Расин" и "Петербург". 5.3.2.2 Композиция "Поликсены" и традиция русской трагедии Начать анализ источников "Поликсены" целесообразно с "Петербурга". Именно здесь сформированы и проблематика русской трагедии, и ее философские запросы, о преломлении которых в "Поликсене" уже шла речь в предыдущем разделе. Сейчас необходимо более детально проанализировать основы сюжета и композиции "Поликсены", предопределенные отечественной традицией, в том числе и предшествующим творчеством самого Озерова. В этом отношении наиболее значительна роль озеровского "Эдипа в Афинах". Именно им во многом определено композиционное распределение драматического материала, восходящего к иным источникам. Так, первое действие "Поликсены" посвящено принципиальному спору героев антагонистов, один из которых сюжетно задан как гонитель страдальцев, а другой как их защитник. Соответствующая пара в "Эдипе" Тезей и Креон. Во втором действии впервые появляются сами герои-страдальцы. Параллелизм здесь достигает уровня парафразы: дуэт Гекубы-Поликсены разыгрывается по партитуре дуэта ЭдипаАнтигоны. Гекуба предстает подавленная своими несчастиями и муками совести; Поликсена ее утешает и уверяет в своей дочерней любви, в том, что высшим для себя благом она почтет разделить скорбь матери; Гекуба ободряется признанием дочери и призывает на нее благословение богов. Все это вполне соответствует первой сцене Эдипа и Антигоны. Здесь можно было бы указать и ряд непосредственно автореминисцентных текстовых фрагментов. Далее над страдальцами нависает опасность, знаменуемая приходом Улисса в "Поликсене" и появлением враждебно настроенного народа в "Эдипе". В конце второго действия опасность в "Эдипе" устраняется благодаря заступничеству Тезея, в "Поликсене" опасность не миновала, но пленницы обретают надежду, что их спасет Агамемнон. В третьем действии страдальцы вновь остаются одни защитник их удаляется просить поддержки: Тезей у богов, Агамемнон у брата. В их уединении к страдальцам приступает их гонитель (Креон и Улисс соответственно), происходит словесный поединок героев с их притеснителем, и последний в конце-концов силой разлучает их. В конце третьего действия неожиданно возвращается герой-заступник и воссоединяет их вновь. Сама эта композиционная схема несет в драме существенную семантическую нагрузку. Она задает чередование двух взаимосвязанных, но внутренне самостоятельных линий. Сопоставляются коллизия героев-страдальцев, исполняющих предначертания судьбы, и героев "активного действия", воля и замысел которых определяют завязку и разрешение драматической коллизии. В "Эдипе" им соответствовала "греческая коллизия" Эдипа и его детей и коллизия Креона и Тезея, непосредственно восходящая к драматическим принципам Княжнина. Оба эти способа организации действия, восходили, как уже отмечалось ранее, к греческой и римской сюжетике и во-многом определили внутреннее строение драмы Корнеля и Расина, двух 164 Глава 5. Трагедия Озерова "половин" единого мира классицистической трагедии XVII века. Соединение их в одном цельном драматическом действии свидетельствует о стремлении к полноте трагедии. Опыт такого рода соединения был предпринят уже в "Дидоне" Княжнина. Линии судьбы и спонтанной активности не были в ней композиционно выделены столь отчетливо, но за ними представали драматические принципы и конкретные источники Корнеля и Расина. В озеровском "Эдипе в Афинах", кроме непосредственно греческого источника "коллизии судьбы", в коллизию "активных героев" были включены, возможно, и некоторые "римские" мотивы, мотивы Сенеки. В "Поликсене" эта генеалогия двух линий действия проявилась вполне отчетливо: первая из них восходит к Еврипиду, вторая к Сенеке. "Полнота" трагедии, взысканная русской традицией, соединилась здесь с внутренним различением древнейших, исходных начал, составляющих эту полноту. Для воплощения сюжета, имеющего греческую и римскую проекции, была уже предуготовлена форма, в которой эти проекции могли быть сведены воедино. 5.3.2.3 "Поликсена" и французский классицизм Между "Петербургом" и "Афинами", между принципами русской трагедии классицизма и античными источниками, к которым отсылает само содержание драмы, встает опосредующее звено традиции "Париж", французская трагедия. К этому слою источников следует отнестись с предельным вниманием. Но анализ их невозможен без предварительного абриса античных сюжетов, к котороым аппелировали и Озеров, и французские драматурги. Сюжет "Поликсены" восходит непосредственно к двум античным трагедиям "Гекубе" Еврипида и "Троянкам" Сенеки. В них получил разработку миф о принесении в жертву троянской царевны Поликсены. Причем, если в "Гекубе" на сцену выведены Гекуба и Поликсена, представлены их скорбь, словесный поединок Гекубы с Улиссом, разлука матери и дочери, то в "Троянках" Поликсена остается молчащим персонажем, там также присутствуют сцены страдания Гекубы, но дополнительно введен спор Агамемнона и Пирра о правомерности жертвы. Следует напомнить, что обе античные трагедии двусоставны. У Еврипида после принесения в жертву Поликсены завязывается новое действие месть Гекубы фракийскому царю Полиместру за убийство ее последнего сына Полидора. У Сенеки за историей Поликсены следует история Андромахи, которая пытается укрыть от греков своего сына Астианакса, также требуемого для жертвы. Сюжет о Гекубе и Поликсене многократно воспроизводился в европейской драматургии нового времени. Ряд "Поликсен" и "Троянок" достаточно подробно проанализирован Потаповым77. По наблюдениям Потапова можно заключить, что отношение к античному сюжету претерпело знаменательную эволюцию в трагедиях XVI, XVII и XVIII веков. Сюжеты Еврипида и Сенеки были сконтаминированы уже в ранних трагедиях. Самая известная из них "Troade" Гарнье (1578). Здесь повторяются с небольшими вариациями четыре акта Сенеки, к которым добавлен пятый акт по "Гекубе" Еврипида, повествующий о мести Гекубы за Полидора. Это типичная трагедия доклассицистического театра, с характерной для него иллюстративностью, дробностью эпизодов. XVII и начало XVIII века породили ряд галантных вариаций на тему "Троянок". Наиболее известны из них трагедии Салебри (Sallebray) "La Troade" (1640), пьеса Прадона с таким же названием (1679) и "Поликсена" Лафосса (1696). В каждой из этих пьес в центре внимания оказывается любовная коллизия: Кассандры и Агамемнона у Салебри, Улисса и Поликсены, Пирра и Андромахи у Прадона, Пирра и Поликсены у 165 Глава 5. Трагедия Озерова Лафосса. Две последние при этом откровенно вымышлены и лишь первая имеет определенные основания в первоисточнике, ибо Кассандра, по Еврипиду, была взята Агамемноном в наложницы. Во всех этих пьесах любовная коллизия образует сюжетный центр, с которым по прихотливой авторской воле соотнесены мотивы античных первоисточников. "Поликсена" Озерова мало связана с этим галантным рядом. Отдельные незначительные детали, отмеченные Потаповым, представляют собой в конечном итоге вариации античных мотивов. Внимание останавливает только галантный сюжет Кассандры и Агамемнона, соответствующий у Озерова любовной коллизии тех же героев, развитой в одном из эпизодов трагедии. Любовный сюжет у Озерова и в пьесе Салебри не обнаруживают глубоких совпадений78, безусловно лишь то, что здесь сказался общий для классицистической трагедии галантный стереотип. Сам этот "галантный мотив" у Озерова восходит к более авторитетным источникам. Единственная сцена из третьего действия "Поликсены", где Кассандра прибегает к "нежному шантажу" в отношении Агамемнона, построена с явной ориентацией на четвертое явление четвертого действия и пятое явление третьего действия "Ифигении" Расина, где Клитемнестра обращается к Агамемнону и Пирру с мольбой о спасеннии Ифигении. Кроме того (это особенно важно и Потаповым не отмечено) центральный эпизод галантной сцены угроза Кассандры и ответ задетого ею, но продолжающего колебаться Агамемнона, представляет собой близкую вариацию фрагмента из второй части "Гекубы" Еврипида, где Гекуба многословно заклинает Агамемнона "общим ложем" с Кассандрой, помочь ей в ее мести Полиместру, Агамемнон же, соглашаясь, выказывает двойственную позицию, боясь нареканий от греков за ссору с их союзниками фракийцами79. Галантные "Поликсены" XVII века, таким образом, могли лишь косвенно сказаться на "Поликсене" Озерова. XVIII век принес новую разработку сюжета о "Поликсене" пьесу Шатобрюна "Троянки" (1754)80. Она была соотнесена с трагедией Озерова еще критиками XIX века81. Трагедия Шатобрюна представляет собой сентиментальную вариацию античного сюжета. В ней отсутствует борьба вождей в греческом стане, в центре внимания страдания Гекубы и троянок. Здесь также использован и сюжет об Астианаксе, спасаемом вопреки традиции. Прямых развернутых параллелей с озеровской трагедией, как показал еще Потапов, "Троянки" Шатобрюна практически на дают82. Но критика все же была права, отметив их определенную близость. Она более всего ощутима в нежных диалогах Гекубы и Поликсены во втором действии трагедии Озерова. Именно у Шатобрюна впервые возникает мечта Поликсены разделить с матерью ее долю рабыни. Озеров не повторяет конкретные формулы Шатобрюна, в целом нет основания даже определенно утверждать знакомство его с этой трагедией. Можно говорить лишь о типологической близости трактовки самого чувства, сентиментально-драматичной дочерней любви,сами же озеровские диалоги Гекубы и Поликсены во многом автореминисцентны по отношению к речам Эдипа и Антигоны из второго действия "Эдипа в Афинах", восходящего к трагедии Дюси. Так или иначе, наиболее известные из трагедий нового времени, варьировавшие сюжеты античных "Троянок", слабо отразились в озеровском замысле. Отдаляясь от древних разработок этой темы и большинства пьес нового времени, Озеров выделяет из двусоставной античной драмы сюжет Поликсены и ставит в центр саму проблему жертвы, вокруг которой идет ожесточенный спор вождей. Это позволяет обнаружить другую классическую пьесу, во многом определившую путь Озерова к античным образцам. Речь идет об "Ифигении" Расина. Истории двух приносимых в жертву дев, Ифигении и Поликсены, заклание одной из которых открыло ахейцам путь на Трою, а другой возвращение на родину, естественно напрашивались на сопоставление. Оно присутствует уже в "Троянках" 166 Глава 5. Трагедия Озерова Сенеки83. В "Ифигении в Авлиде" Еврипида, послужившей источником "Ифигении" Расина, и в "Троянках" Сенеки в конфликт вокруг жертвы вступают практически одни и те же герои. В "Поликсене" Озерова места, текстуально и структурно близкие "Ифигении" Расина, встречаются буквально на каждом шагу: Потапов насчитал их около пятнадцати84. Перечень этот далеко не полный. Занимаясь, в основном, формальным сличением фрагментов текста, Потапов прошел мимо важных композиционных параллелей и особенностей построения характеров героев. Кроме того, Расином задана была и сама контаминация мотивов Еврипида и Гомера, воспринятая и развитая Озеровым. Для понимания конкретных образов и мотивов трагедии Озерова, а также принципов работы его с античными источниками, необходимо более подробно осветить эту трагедию Расина. Расин в "Ифигении" опирался на два источника "Ифигению в Авлиде" Еврипида и "Илиаду". Он сохраняет общий контур сюжета еврипидовой трагедии и, как заявлено в предисловии, ее основные "страсти" основные мотивы поведения героев, среди которых Улисс заменяет Менелая Еврипида. Новым мотивом оказывается только взаимная любовь Ахилла и Ифигении. Ифигения Еврипида приведена в стан под предлогом брака с Ахиллом, хотя никакого взаимного чувства между ней и Ахиллом нет Ахилл берет ее под свою защиту исключительно из оскорбленного самолюбия, соответственно, и Ифигения ценит его мужество, но не питает к своему защитнику страсти. Любовный сюжет, однако, вполне органично дополняет ситуацию, заданную Еврипидом, он уже как бы предсказан и самим античным драматургом, в герое которого готова пробудиться любовь к Ифигении, восхитившей его своим мужеством85. Канва Еврипида у Расина существенно дополнена вариациями, порожденными гомеровской коллизией тех же героев. Ахилл и Агамемнон у Еврипида не встречаются на сцене. Гнев Ахилла иссякает, когда Ифигения добровольно решает принести себя в жертву. Расин как бы обновляет героическую природу еврипидовских героев, вводя и разворачивая на сцене конфликт между Агамемноном и Ахиллом, ориентируясь на исходную коллизию "Илиады". Конфликт этот в полной мере разворачивается в четвертом действии "Ифигении", а пик его приходится на пятое действие, но вынесен в рассказ вестника, повествующего о едва не разгоревшейся вокруг алтаря битве. Характеры героев "Ифигении" заново осмыслены, хотя и выстроены по древним образцам. Здесь вступают в силу законы трагического канона XVII века. Центральные персонажи этой зрелой трагедии Расина наделены внутренней двойственностью, открывающей напряженную глубину их мира, экзистенциальное личностное начало. Показательна дистанция, отделяющая "Ифигению" от "Фиваиды", ранней "античной" трагедии Расина, где вместо удерживаемой героем полярной одновременности чувств представлены были еще, скорее, барочные метания между противоположными полюсами. "Честолюбивый властитель и скорбящий отец здесь (в "Ифигении" Е.В.) один человек, отмечает Кадышев, Смена противоречивых, даже полярных состояний, намеченная когда-то в "Фиваиде" (Креон) там эти состояния принадлежат, по существу, как бы разным характерам, в "Ифигении" образует сложные "наложения" чувств и намерений в пределах одного цельного образа"86. Внутренняя двойственность не была свойственна героям Еврипида. Вернее, она могла подразумеваться, но не становилась предметом художественного изображения. В этом отношении крайне интересен образ Агамемнона, один из центральных как у Расина, так и у Озерова. Еще гомеровский эпос знал Агамемнона как героя, переменчивого в своих мнениях, способного отходить от принятых решений и потому, при всем его величии и личном мужестве, часто вызывавшего упреки в "нетвердости": "Дар лишь единый тебе даровал хитроумный Кронион: // Скипетром власти славиться 167 Глава 5. Трагедия Озерова дал он тебе перед всеми; // Твердости ж не дал, в которой верховная власть человека!" (пер. Н.И.Гнедича, Песнь 9, ст.37-39) Еврипид развивает этот мотив. Его трагедия начинается с того, что Агамемнон пишет письмо, в котором отменяет свое решение о вызове в стан Клитемнестры и Ифигении. Сам момент колебаний Агамемнона вынесен за пределы сцены раб лишь вспоминает о ночных слезах на глазах владыки и его судорожном писании. На сцену выходит Агамемнон, уже принявший определенное решение87. Но он меняет его, получив весть о прибытии в лагерь дочери. Перипетия эта внезапна и окончательна: до и после того Агамемнон твердо отстаивает определенные, хотя и противоположные позиции в своем диалоге с Менелаем, с которым, в свою очередь, также происходит параллельная, но противоположная метаморфоза: вначале он обрушивается на передумавшего Агамемнона с гневной обличительной речью, а затем, тронутый его горем, готов оправдать брата, но тот уже принял решение подчиниться неизбежной судьбе88. Агамемнон Расина, в отличие от Агамемнона Еврипида переживает двойственное состояние. Те "слезы", о которых лишь рассказывал еврипидовский раб, проступают на глазах царя уже в первой сцене. Двусмысленны и двойственны оказываются и его речь, и действенные порывы четыре раза по ходу трагедии переменяет Агамемнон свое решение. Пик его внутренней борьбы приходится на четвертое действие. После разразившегося конфликта с Ахиллом Агамемнон уязвлен, и чувство чести требует от него, чтобы он настоял на собственном решении: "Мне страх, коль сжалюсь я, людской припишет суд". Жалость и любовь к дочери побеждают в мучительной внутренней борьбе, но тут же приходят опасения и осторожное желание еще раз убедиться в воле богов. Двойственность в полной мере свойствена у Расина Ифигении и Агамемнону Клитемнестра и Ахилл воплощают достаточно прямолинейные страсти: материнскую заботу и героическую честь. Именно Ифигения и Агамемнон определяют узловую проблематику классицистической трагедии, их переживания формируют центр драмы. Двойственность каждого из них это в конечном итоге двойственность высших ценностей и личного чувства, конфликт между которыми разрешается только чудесными провиденциальными обстоятельствами жертвой злокозненной Эрифилы, второй Ифигении. Герой в узле противоположных страстей, проявляющих само средоточие человеческой личности, таков центр проблематики Расина. Причем мотивы Еврипида и Гомера поддерживают по-преимуществу разные полюса внутреннего конфликта: Гомер тему чести и героического долженствования, Еврипид собственно родственных и человеческих чувств. Герои Расина рефлексивны: их диалоги чередуются с исповедальными монологами, реплики в сторону открывают тайную борьбу их намерений. И все же эта рефлексивность не делает все их душевные движения взвешенными и логически просчитанными. Им свойственна импульсивность, зачастую только задним числом объясняемая в монологах. Так обстоит дело и с нарастанием взаимной обиды и гнева в споре Ахилла с Агамемноном в четвертом действии, и с материнским порывом Клитемнестры. Только один из второстепенных героев "Ифигении", Улисс, подан в двойственном свете, хотя полностью лишен исповедальных монологов. Он более всего похож на "лукавого царедворца", но отделить человеческое сочувствие Агамемнону, принципиальные соображения о всеобщем благе и личную интригу в его речах по существу невозможно. Улисс действует только в первом акте трагедии. Функционально он заменил еврипидовского Менелая, сначала яростно обличавшего Агамемнона, а затем проникавшегося к нему сочувствием. Но если речи Менелая отличаются 168 Глава 5. Трагедия Озерова прямотой, то в речах Улисса заискивание сочетается с искренностью, этикетная почтительность с твердым отстаиванием своей позиции. Показательно в этом отношении обращение его к Агамемнону, пораженному только что полученным известием о прибытии дочери: "О, царь, я сам отец, и вашу неудачу // Так больно видеть мне, что я едва не плачу. // Нет, нет, я вас отнюдь не склонен осуждать // И сердцем чувствую, как вы должны страдать // Но можно ли богам высказывать обиду? // Коль вашу дочь они доставили в Авлиду, // Так, значит, суждено <...> // Пока мы здесь одни, слез от меня не прячьте // И, не стыдясь, дитя любимое оплачьте, // Но помните, какой блистательный исход // Нам ваше мужество из бедствий принесет."89 Именно Улисс Расина стал прообразом Улисса в трагедии Озерова. Сама форма его приведенной выше речи выражение искреннего согласия и сочувствие, а затем противительная конструкция, уводящая к совершенно иному итогу, в разных вариациях повторяется у Озерова, определяя "тактику" Улисса, когда он отвечает Агамемнону (3 явл.,I д.), ведет диалог с Пирром и Нестором (4 явл.,I д.), требует у Гекубы выдачи Поликсены (3 явл.,II д.). От Улисса Расина в речь озеровского Улисса переходит и развернутый мотив возможного бунта (I д., яв.3). Этим не исчерпывается образ Улисса у Озерова, но тонкая двойственность его дипломатичных речей, нюансы, указывающие и на искреннее чувство, и на политический расчет, идут именно от французского классика. К Расину восходит и сюжетное осложнение четвертого действия второй в трагедии конфликт Пирра и Агамемнона, завершающийся их открытой распрей. Озеровым использован основной в четвертом действии сюжетный и характерологический прием Расина: Агамемнон укрепляется в своем намерении предать на жертву Ифигению (и, наоборот, у Озерова защитить Поликсену) из опасения возможных сомнений в его личном мужестве: "Подумает весь стан, что слабостью постыдной // Я принужденным был вам жертву отпустить" (Озеров, 332). Расин, таким образом, во многом определил и структуру драматического материала в трагедии Озерова, и характерологию, построенную на античном материале. Даже отсутствие рефлексивности у героев Озерова в значительной мере продолжает Расина, внутренняя глубина и импульсивность героев которого только частично находит выражение в рефлексивных исповедях. Но поэтика и художественная философия Расина сами по себе недостаточны для понимания работы Озерова с античным материалом. Герои Расина, при всем разнообразии их характеров, по сути являются представителями единого метафизического типа, признаком которого служит принципиальная равнозначность добродетели долга и императива чувства. И Агамемнон, и его дочь Ифигения переживают внутренне схожий конфликт. Хотя положения их абсолютно различны, оба они помещены в поле судьбы, над обоими тяготеют независимо от их воли сложившиеся обстоятельства. Ахилл Расина не вписывается в этот ряд, он больше напоминает величественных героев Корнеля, твердых в своем постоянстве, но Ахилл остается у Расина все же периферийным персонажем. Центральные герои Расина в своем высшем значении личности, сохраняющие внутреннюю цельность двух начал бытия. В мужественном претерпевании выпавших на их долю испытаний заключается само событие трагедии: жертва Ифигении отменена Расином (что вызывало, как упоминалось выше, недовольство уже у Сумарокова), боги только проверяли героев, приготовив для жертвы другую Ифигению Эрифилу. Герои Озерова более чем метафизически однотипные личности. Им присущи внутренние черты, приводящие к принципиальному разделению женского и мужского 169 Глава 5. Трагедия Озерова лагеря, греков и троянок, различных "правд" и различных типов личностей. Сюжет трагедии связан с их взаимодействием и ведет к акту жертвы, который нарушает начальный баланс сил и предполагает определенные следствия в будущем. Все это восходит уже непосредственно к античным источникам "Поликсены". 5.3.2.4 Античные источники "Поликсены": два принципа трагедии Античные источники озеровской трагедии проанализированы Потаповым с приведением параллельных мест в оригинале. Ряд указанных им параллелей может и должен быть расширен. Кроме того, наблюдения Потапова необходимо дополнить весьма существенным замечанием, которое касается самого принципа обращения Озерова с разнородными источниками. В "Поликсене" мы имеем дело не с беспорядочной контаминацией, а с отчетливым распределением материала: к Еврипиду восходит сюжетная линия героинь-страдалиц троянок, к Сенеке конфликт в греческом лагере. Суммируем сначала основные формальные моменты, свидетельствующие о близости Озерова к античным образцам. Большинство мотивов распри между Агамемноном и Пирром восходит ко второму действию "Троянок" Сенеки. Тень Ахилла здесь определенно требует принесения в жертву Поликсены, о чем сообщает вестник. Появляются Пирр и Агамемнон. Сын Ахилла указывает вождю на небрежение к памяти его отца. Предупреждая ответ Агамемнона и упрек в жестокости, он напоминает ему про жертвоприношение Ифигении. Агамемнон отвечает на это призывом к умеренности и осуждением насилия. Причем Пирра он осуждает и за "горячность возраста", и как наследника необузданного Ахилла. Агамемнон признается в собственной былой спеси и приводит Пирру в пример превратности царской участи сраженного им Приама. Далее Агамемнон сожалеет о жестокой разнузданности захвативших Трою греков. Он еще раз указывает на недопустимость нового злодеяния и признает себя единолично ответственным за все бесчинства: "За всех один в ответе я. // Кто злу не помешал, хоть мог,велел грешить" (Ст. 290-291) После этого словесная распря героев переходит в стихомифию, обмен короткими репликами. Пирр еще раз вопрошает о жертве. Агамемнон соглашается только на обычную, не человеческую жертву. Пирр обличает его в "надменности" и "тирании", упрекает за то, что его упорство вызвано новой "внезапной любовью" и "похотью", намекая на страсть к Кассандре и грозится добыть жертву собственной рукой, угрожая самому Агамемнону. Агамемнон иронически отвечает, напоминая о "подвиге" Пирра убийстве Приама. В устах Агамемнона вновь звучат упреки Ахиллу. Спор разрешается Калхантом, подтверждающим необходимость жертвы. В озеровской распре Агамемнона и Пирра легко заметить воспроизведение той же аргументации и тех же взаимных упреков. Именно Агамемнон Сенеки, с теоретических позиций защищающий невинную Поликсену, предвосхищает Агамемнона озеровской трагедии. К "Гекубе" Еврипида восходит часть третьего действия "Поликсены", что отмечал в приведенном выше письме и сам драматург. Речь идет, собственно, об основной части диалога Гекубы с Улиссом и о героическом порыве Поликсены, прерывающей мольбу матери. Кроме того, к Еврипиду, как уже говорилось, восходит мотив, связанный с мольбой Кассандры. Необходимо остановиться на существенных различиях между греческой трагедией и трагедией Сенеки. В общих чертах о них уже шла речь в первой главе, но теперь к этому побуждает историко-литературная перспектива, определившаяся именно в "Поликсене". 170 Глава 5. Трагедия Озерова Греческую трагедию классической эпохи от трагедии Сенеки, при всей общности используемого ими материала, отделяет почти полутысячелетняя дистанция и самая разность ментальностей греческой и римской цивилизаций. При всем разнообразии существующих концепций и той и другой системы трагедии, историки античной литературы неизменно указывают на одно важнейшее качество, противопоставляющее их друг другу, на отношение к страданию90. Изображение страдания изначально служило конституирующим моментом греческой трагедии и предполагало зрительское участие в судьбе героев как "сострадание", описанное в "Поэтике" Аристотеля наряду со "страхом" вторым главнейшим аффектом, вызываемым трагедией у зрителя. Для стоицистической нравственной философии Сенеки сострадание, между тем, "есть порок ничтожной души, сокрушающейся при виде чужих бедствий."91 Соответственно страдание и сострадание исключено у него из сферы трагического, по крайней мере, из фокуса трагического сюжета92. В то же время "страх" превратился в "ужас", внушаемый зрителю происходящим. Не существует окончательно установившегося взгляда на место страдания как феномена или категории в контексте античной культуры. Сам вопрос о роли страдания у древних был поставлен впервые в XVIII веке в полемике Лессинга и Винкельмана, и именно Лессинг утверждал полноправное включение открытого страдания в орбиту греческого искусства, особенно в трагедии. В данной работе достаточно положить, что страдание в греческой трагедии есть во-первых, некое особое бытие, длящееся и суверенное состояние, выделяемое в мире жанром трагедии. Во-вторых, именно посредством этого состояния страдания обособляется и утверждается в мире та или иная сущностная ценность, будь то некое древнее установление ( суд ареопага в "Орестее" Эсхила и соотношение материнского и отцовского права), конфигурация мира (граница между "эллинством" и "варварством" в "Персах" Эсхила, границы мира, отмечаемые бегом безумной Ио, преследуемой оводом-Зевсом в "Прометее"), священный обычай или священный культ ("Антигона" и "Эдип в Колоне" Софокла), или же сам идеал героического поведения (как в трагедиях Еврипида). Эти положения позволяют провести достаточно четкую грань между поэтическими принципами, проявившимися в "троянских" трагедиях Еврипида и Сенеки, и способами изображения героя в них. Для Еврипида страдания его героинь-троянок представляют действительно определенный род бытия. Троянки его связаны друг с другом узами сочувствия и взаимной заботы, особенно свойственной хору по отношению к героиням. Вместе с тем их бытие-страдание не единомоментный взрыв горя, но неопределенно длящееся состояние, в его описание вплетаются постоянно повторяемые мотивы скорбного будущего пленниц. Присутствующий в обеих "троянских" трагедиях Еврипида мотив "надежды" открыто демонстрирует неистребимую волю к жизни его героинь, хотя они и подходят к краю отчаяния93. Образы их безусловно призваны вызывать "сострадание" у зрителя. Страдание троянок Сенеки, "окаменелое страдание", как определяет его Тронский94, представляет собой скорее не-бытие, или преддверие небытия. В отличие от Еврипида, здесь отсутствует и взаимная забота пленниц, и мотив будущего, даже скорбного, ожидающего их. Это чистый взрыв горя. Голоса хора и Гекубы сливаются только в постоянно звучащем плаче о прошлом. Страдание и сострадание заменено ощущением ужаса перед близким падением в бездну смерти. Близость бездны свидетельствуется и рассказом вестника о разверзшемся до глубины мрачном Тартаре, откуда исходит тень Ахилла, и совершенно противоположной по концепции скептической песнью хора о смерти как о ничто, отсутствии какого-либо бытия душ. 171 Глава 5. Трагедия Озерова Заклание Поликсены в обеих трагедиях также носит совершенно различный характер. Поликсена Еврипида добровольно соглашается на смерть и, венчая свое страдание героическим поступком, свободным принятием судьбы, совершает акт прославления и утверждения добродетели свободной женщины95. Но даже принимая решение о смерти, героиня Еврипида сохраняет нежность и сострадательность к матери, не выходя из разряда страдалиц. Ее последнее "прости" матери, сестре и брату Полидору, и ее последняя просьба к Одиссею "закрыть лицо, чтоб не растаять от рыданий материнских". Утверждение образа свободной девы единственный смысл героического деяния Поликсены, не тревожимый никакими дополнительными оттенками, которые могли бы внести ее отношения к врагам-ахейцам и к Ахиллу. Поликсена Сенеки молчащий персонаж. Она также мужественно встречает смерть. Но это мужество совершенно иной природы, нежели у Еврипида: "Назад не отступила дева храбрая: // Стоит, к убийце мрачным обратясь лицом". . . . .Но деве мужество // Не изменило: чтобы тяжелей земля // Была Ахиллу, на холме простерлась ниц // В порыве гневном".96 Здесь происходит только переключение от "окаменелого страдания", завороженности ужасом небытия к действенному порыву, к гневному противоборству. Поликсена Сенеки не утверждает своей смертью никакой всеобщей ценности, не создает никакого "прекраснрго образа" но являет крепость духа, сохранившего способность противостать врагу (подобно Поликсене, гневным порывом встречает смерть и Астианакс). Для Сенеки, это, вероятно, был один из образцов праведной стоической смерти. Вообще активное поведение у Сенеки противопоставлено страданию. Если активность в греческой трагедии это активность-в-страдании, то у Сенеки это абсолютная активность, обнаруживаемая в сокрушительном, неистовом замысле, несовместимом с пассивным страданием. Различие двух типов действия более всего проявляется в концепции судьбы трагического героя. Если греческая трагедия и не является трагедией "рока" в том исключительном смысле борьбы с предопределением и разгадывания велений "рока", в каком она предстает в "Эдипе Царе", то, по крайней мере, ее герой-страдалец осознает себя в поле судьбы. Бытие-как-страдание задано определением судьбы или, иногда, волей богов, тождественной судьбе, подчиняющей себе всю целостность человеческой жизни. Для отношения греческого героя к судьбе характерен тот фрагмент из "Ифигении в Авлиде" Еврипида, который в близком переложении вошел и в "Ифигению" Расина и через нее в "Димитрия Донского" Озерова. Речь идет о сетовании Агамемнона на недоступность ему блаженства человека, рожденного в "неизвестной доле". У Еврипида эти слова знаменуют попытку героя уклониться от судьбы, от доли, определенной богами, попытку тут же разоблачаемую стариком-рабом как "недостойную", уводящую из сферы "красоты жизни" и, в конце-концов, отвергаемую самим Агамемноном, принимающим свою судьбу97. Герои Сенеки тоже апеллируют к судьбе. Но это в большинстве случаев "fortuna", а не "fatum" случайная, превратная судьба98, не предначертание жизненного пути, а случившееся внезапно бедствие, которое либо подавляет героя, либо вызывает его на противоборство ("Дай победить судьбу (fortuna) "Геркулес в безумьи", 1272). Но само бедствие, становящееся содержанием трагедии, "фортуной" для кого-то из героев, как правило, результат чьего-либо разрушительного замысла проявление непосредственной активности другого героя или бога. В деяниях героев Сенеки есть свои характерные особенности. Одна из них неистовый аффект, который становится импульсом действия и изливается в артикулированном замысле. Наиболее распространенный аффект это гнев, чаще всего облекаемый в одеяния мести (Юнона в "Геркулесе в безумьи", Атрей в "Атрее и 172 Глава 5. Трагедия Озерова Фиесте"). Хорошо известно философское учение Сенеки об аффектах, где гневу уделено особое внимание. Гнев полагается им худшей из страстей и источником других разрушительных аффектов дерзости, жестокости, бешенства99. В философских трактатах и в трагедиях Сенеки разработана достаточно тонкая диалектика гнева. Так, само нагромождение аргументации в речи героя, оправдывающего свои действия, показывает, что одержимый аффектом гнева "жаждет испытать обиду, лишь бы вредить" ("О гневе", II, 5,2), обида получает смысл искусственного, хотя и "искусного" оправдания100. В трагедиях Сенека строгий моралист. Разрушительный аффект, создающий трагический прецедент, характеризуется им как явное зло, преступление. Именно преступление, злодеяние ("scelus") лежит в основе его трагедии. Но неистовый герой у Сенеки всегда находит своего обличителя, выступающего с рассудочностоицистических позиций. Это четкое распределение ролей, спор "правого" и "неправого" персонажа, встречается практически в каждой из трагедий Сенеки101. Моральная победа остается за "правым" героем, но увещевания, как правило, не убеждают его неистового противника и не способны помешать разрушительному замыслу102. Вся энергия деяния как бы порождается из разрушительной силы аффекта, а разум только ставит ей препятствие, он способен скорее на героическую позу, чем на благое противодеяние. Одно из таких столкновений "неистового и гневного" героя с разумным и умеренным представлено в споре Агамемнона и Пирра в "Троянках". Герой-стоик Агамемнон выступает здесь прежде всего как милосердный правитель. В философской прозе Сенеки милосердие трактуется как обоснованное не состраданием, но исключительно разумом, правильно понятым "логосом" человека и правителя. Но опять-таки Агамемнон, морально возвышающийся над Пирром, не может препятствовать преступлению, ибо злая воля Пирра находит поддержку в в темных велениях высших сил. Если обратиться теперь к озеровской "Поликсене", то можно заметить, что заимствованные им элементы пьес Сенеки и Еврипида связаны в его драме и внутренней логикой, близкой самим античным трагедиям. Так, монолог Пирра, с которого начинается "Поликсена", "неистовый" замысел, основанный на гневе и мести. В "Троянках" Сенеки нет такого эпизода. Но подобная завязка действия чрезвычайно характерна для трагедий Сенеки шесть из девяти его известных трагедий предваряются монологами героев, возвещающих о неистовом замысле103. Несмотря на сложную картину "шумящих чувств" героев-антагонистов в первом действии Озерова, где повторяются все мотивы распри сенековских Пирра и Агамемнона, общий нравственный баланс складывается тоже как будто по Сенеке: Агамемнон милосердный правитель, Пирр же одержим неистовством и гневом. Именно в таком ключе понял "Поликсену" Мерзляков, а вслед за ним и ряд современных исследователей104. Вообще, бушующий гнев и ярость центральные аффекты в "мужском" лагере героев явно восходят к Сенеке. Они воспроизводят не только конкретные мотивы поведения, заданные в его "Троянках", но и сам психологический фон его трагедий. Однако в "Поликсене" "гнев" лишь частично поддается этическому определению. Несмотря на явную ориентацию на Сенеку, Озеров отказывается от воспроизведения спора "правого" и "неправого" персонажа. Вместо простой пары антагонистов в трагедии возникает конфигурация из четырех различных характеров. Антагонисты разводятся, каждый из них остается при этом в своей относительной правоте. Роль "буфера" между ними, роль примирителей берут на себя "новые", отсутствовавшие у Сенеки персонажи: Улисс и Нестор. 173 Глава 5. Трагедия Озерова В "женских" сценах "Поликсены" господствует совершенно иная стихия страдание, результат рецепции Еврипида. Единство героинь, обреченных общей доле, страдание, простирающееся и в будущее, смешанное со скорбной надеждой, тема судьбы, изначально определяющей положение пленниц, все это соответствует особенностям именно греческой трагедии. Трактовка героизма Поликсены, как жертвы, прославляющей и увековечивающей некую ценность "Хочу на холм его главу мою отнесть, // Смиренно там ее предать в надгробну честь, // Сей смертью жертвенной в потомстве холм прославить // И память тяжкую любви на нем оставить" (Озеров, 336), завершает эту линию судьбы. В первом по времени развернутом анализе "Поликсены", предпринятом Мерзляковым, замечательно отчетливое ощущение двойственности действенных пружин трагедии, возведение их к судьбе по Еврипиду и к "личной воле" по Шатобрюну (не улавливая мотивов, восходящих к Сенеке, Мерзляков считал трагедию Шатобрюна вторым важным источником Озерова)105. Но в этом соединении Мерзляков видел не взаимодействие различных начал, отвечающее авторской воле и формирующее внутренний сюжет пьесы, а случайное и хаотическое их смешение, обесценивающее все мотивы поведения героев, по крайней мере, героев мужского лагеря. Именно в этом коренится одна из главных причин неприятия Мерзляковым "Поликсены"106. Соединение принципов судьбы и спонтанной активности, столь разных по их источникам, действительно требует объяснения. Сама возможность этого в озеровской трагедии обусловлена, как нам представляется, еще одним слоем античной традиции, усвоенным Озеровым, эпосом Гомера. Именно семантическое поле "Илиады" обеспечивает то изначальное единство, к которому восходят художественные миры как греческой трагедии, так и трагедии Сенеки. Без возобновления первоначальных "гомеровских" смыслов встреча их была бы в сущности невозможна или же совершенно неорганична. Реминисценции "Илиады" в "Поликсене" указаны Потаповым107, и в целом достаточно прозрачны, по крайней мере, в первом действии, ориентированном на первую книгу поэмы. Непосредственно из числа персонажей "Илиады" заимствован старец Нестор, образ которого не получил развития ни в древней, ни в новой драматической традиции. Речь его в первом действии строится большей частью как контаминация двух речей гомеровского Нестора (I, ст.254-284 и IX, ст.110-113). Соответственно и распря Агамемнона с Пирром приобретает "наследственные" черты знаменитой распри Агамемнона с Ахиллом: на сей раз Пирр, Ахиллов сын, угрожает Агамемнону увести пленницу из его шатра и ответная угроза исходит от Агамемнона. Антагонистов удерживает Нестор. Образ Улисса-Одиссея в первом действии введен более под влиянием Расина, чем Гомера. Но при всей расиновской утонченности озеровского Улисса в самом строе его речей проступает архаически-предметная поэтика "Илиады": "треножники златые" и "хитрошвейны ткани" в вознаграждение за освобождение его пленницы эта черта эпического героя, неожиданная в контексте сублимированной материальности классицистического мира (не случайно она была осуждена Мерзляковым). Та же "предметная поэтика" проступает и в увещеваниях Нестора, убеждающего Пирра предложить Агамемнону "богатый замен" и в "жертву пленницу сокровищем купить". Мотивы "Илиады" интенсивно нагнетаются и в четвертом действии "Поликсены", ориентированном одновременно и на девятую книгу поэмы посольство к Ахиллу и на четвертое действие "Ифигении" Расина, где распря Ахилла и Агамемнона построена опять-таки по гомеровским мотивам. Гомеровская линия "Поликсены" далеко не периферийна, как это было в "Ифигении" Расина. Значимые мотивы "Илиады" возникают в "структурно сильных" местах пьесы. "Поликсена" начинается словами, прямо адресующими к знаменитому зачину "Илиады": "О тень родителя, Ахилла грозна тень, // Спокой свой правый гнев..." 174 Глава 5. Трагедия Озерова Завершается же драма репликой гомеровского Нестора. "Атмосфера" великой эпопеи охватывает все действие трагедии. Первичность "Илиады" по отношению к Сенеке и Еврипиду следует понимать не только буквально, она не просто источник сюжетов и мотивов, остававшийся безусловно актуальным для всех античных драматургов, несмотря на постоянно нараставший ряд посредующих драматических и эпических произведений. В мире Гомера реализуется то метафизическое единство, в котором существуют в нераздельном виде будущие парадигмы судьбы-претерпевания и спонтанной активности. В самом деле, ни судьба, мотивы которой столь важны в "Илиаде", ни спонтанная активность ее героев, мгновенные вспышки их ярости и твердые замыслы, поддержанные или отвергнутые богами, не могут служить высшей смысловой инстанцией поэмы. Предельно обобщая ситуацию, можно сказать, что первому утверждению мешает то, что сама смерть и прославление Ахилла, ставшие высшим итогом судьбы ее центрального героя, предопределенной богами, не являются предметом изображения поэмы, второму то, что вне фокуса поэмы оказывается падение Трои, ставшее высшим итогом всех усилий и замыслов ахейских вождей. Сюжет поэмы предельно ясно задан ее зачином это история гнева Ахилла от первой вспышки его обиды до исчерпания всех следствий ее. Поэма посвящена в конечном итоге не свершению исторического события взятию Трои, и не прославлению героя, вокруг которого мог быть сгруппирован материал истории, но истории появления, становления и угасания самого первоэлемента, благодаря которому свершаются события и получают прославление герои. Этот первоэлемент гомеровский гнев "менис", энергетический сгусток, соединяющий в себе неразличенные еще эпическим сознанием психологическое и метафизическое начало. Он неизменно присутствует в каждом сильном и страстном движении героев великой эпопеи; это предмет воспевания и безусловно высокое качество, позволяющее осуществить героический порыв, хотя способное породить и распрю, и взаимную рознь героев. Внутренняя связь "Поликсены" с гомеровской эпопеей обнаруживается прежде всего в семантическом ореоле мотивов "гнева" и "ярости", постоянно возникающих в поэме. Эти мотивы определяются широким диапазоном значений: от эстетически возвышенного качества, опирающегося на эпическую традицию, до ужаса и этического зла, восходящего к Сенеке. Герои Озерова далеко отходят от чисто моралистических примеров Сенеки. Каждый из антагонистов принадлежит к эпически возвышенному ряду. Разгоревшийся конфликт противопоставляет их друг другу, рождает серию яростных взаимных нападок. Но благодаря Нестору и Улиссу знаменуется безусловная ценность каждого из них и ценность яростного начала как такового, которое герои-примирители пытаются направить в иное русло, отводя его от конфликтной точки. Именно формула признания гневного стремления и попытки перемены его направления составляет общий принцип обращений Нестора и Улисса к враждующим героям. Эпическая "ярость" и "гнев" открываются как энергийный источник героического "мужского" мира трагедии, мира спонтанной активности, непричастной страданию, активности, которая имеет свою высокую и положительную сторону и неуловимо переливается в разрушительную чрезмерность героев Сенеки. На этих переливах построена вся "мужская" партия в трагедии. Вместе с тем и сам сюжет трагедии связан с возникновением и исчерпанием первоначального "яростного" импульса. Реализация этой темы не сводится ни к античному "прославлению", которое в современной Озерову поэтике превратилось бы в демонстрацию героического образца, хотя этот мотив явно присутствует в сюжетной Глава 5. Трагедия Озерова 175 линии Поликсены, ни к обличению в прямой или отрицательной форме "неправоты" греков, обрекших Поликсену на жертву, хотя и этот мотив получает свое развитие, и здесь давние инвективы Сенеки смыкаются с идеалами гуманизма XVIII века. Сюжет "Поликсены" мыслится прежде всего как законченный фрагмент истории, в котором происходит событие жертвоприношение Поликсены, завершающее прошлую эпоху (взятие Трои) и полагающее начало новой эпохе, которую возвещает в финале Кассандра. Гомер определил таким образом исходное зерно, метафизический первопринцип, из которого прорастают обе сюжетные линии: судьба героинь-троянок и распря ахейцев. В двух параллельных рядах сцен, двух "половинках", родившихся из этого начального зерна развиваются два принципа действия, два способа организации деятельной активности. Каждая из сюжетных линий трагедии начинается, как уже упоминалось, прямым предъявлением собственных действенных принципов Пирр, открывая трагедию, объявляет о своем "яростном" замысле, Поликсена же, впервые появляясь на сцене, начинает свою речь указанием на судьбу ( "О матерь горестна, ты можешь ли себе // Приписывать беды, угодные судьбе," Озеров, 310). Но в том едином действии, в котором соединяются "женская" и "мужская" партии, оба начальных принципа оказываются преображенными. В результате финал трагедии зеркален по отношению к ее началу. Поликсена совершает деяние, ставящее ее вровень с "мужской" партией, что немедленно закрепляется свидетельством Пирра: "Граждане! Изумленный, // Недвижим остаюсь здесь в ваших я очах; // Нет, твердости такой не полагал в женах. // О тень родителя, будь ныне ты спокойна: // Избранная тобой любви твоей достойна" (Озеров, 353); сама же "мужская" сюжетная линия завершается признанием бессилия перед настигшей героев судьбой "Мы бродим по земле игралищем судьбы". *** Собирая воедино смыслы, наслаиваемые стадиально различными источниками "Поликсены", следует сделать вывод, что само действие трагедии трактует момент эпической истории и что оно определяется двумя рядами сил, оформленных как мужская партия ахейцев и женская партия троянок и различающихся по отношению к исходным началам судьбы и воли, спонтанной активности. Но и мужи и жены, вступившие в конфликт, уже не только страдающие и "мужествующие" перед лицом судьбы люди, подобно героям Еврипида, и не только выразители философских принципов, подобно героям Сенеки это личности, находящиеся в состоянии внутреннего выбора, открытые трагедией классицизма, трагедией Расина. На конфликт этих героевличностей обращено зеркало философской трагедии, упорядочивающей и различающей их, выводящей из непрерывной ветви традиции начала и элементы, бывшие в ней самой неотчетливыми и непроявленными. Именно на это различение героев следует теперь обратить особое внимание. Через него можно будет снова, уже более детально, рассмотреть проблему сюжета трагедии и совершающегося в ней события. 5.3.3 Персонажи "Поликсены" и античная концепция добродетелей Каждый из героев "Поликсены" имеет свою генеалогию, о которой уже не раз шла речь. И все же все вместе они впервые встретились в едином сюжете, а один из них, Нестор, вообще впервые получил драматическое воплощение. Включенные в целостный замысел, их образы не просто сохранили черты традиции, но и приобрели дополнительные акценты и "валентности", свидетельствующие об органичности именно этой группировки лиц и характеров. 176 Глава 5. Трагедия Озерова Существует еще один источник трагедии, открывавший для Озерова мир Древней Греции. Это знаменитая на рубеже XVIIIXIX веков книга Бартелеми "Путешествие младшего Анахарсиса по Греции" возникший в интеллектуальном климате эпохи энциклопедии популярный компендиум, содержащий сведения о различных элементах греческой культуры. Сам Озеров упоминал о нем как об одном из источников своих сведений о Греции108. Та система представлений об античности, которые Озеров мог почерпнуть у Бартелеми, заслуживает безусловно серьезного отношения и дополнительных исследований. В связи с проблемой характеров озеровской трагедии привлекает особое внимание раздел книги Бартелеми "La morale", посвященный краткому обзору этики греков. Для нашей темы чрезвычайно важно указание Бартелеми на происхождение самого понятия добродетели от силы и мощи, воинской доблести, которое связывается им с эпическим миром Гомера, и, с другой стороны, подчеркнутое им различие добродетелей, возможность конфликта между аффектами, лежащими в их основе, и концепция четырех основных добродетелей. Имеет смысл привести обширную цитату: "Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait que la force et la vigueur du corps (Бартелеми приводит здесь ccылки на "Илиаду" Е.В.): c'est dans ce sens qu'Homer a dit, la vertu d'un cheval, et qu'on dit encor la d'un terrain. Dans la suite, ce mot designa ce qu'il y a de plus estimable dans un objet. On s'en sert aujourd'hui pour exprimer les qualites de l'esprit, et plus souvent celles du coeur." "L'homme solitaire n'aurait que deux sentiments, le desir et la crainte; tous ses mouvements seraint de poursuite ou de fuite. Dans la societe, ces deux sentiments, pouvant s'exercer sur un grand nombre d'objets, se divisent en plusieurs especes: de la l'ambition, la haine, et les autres mouvements dont son ame est agitee. Or, comme il n'avait recu le desir et la crainte que pour sa propre conservation, il faut maintenant que toutes ses affections concourent tant a sa conservation qu'a celle de autres. Lorsque reglees par la droite raison elles produisent cet heureux effet, elles deviennent des vertus. On en distingue quatre principales: la force, la justice, la prudence et la temperance. Cette distinction, que tout le mond connait, suppose dans ceux qui l'etablirent des lumieres profondes. Les deux premieres, plus estimees, parcequ'elles sont d'une utilite plus generale, tendent au maintien de la societe: la force ou le courage pendant la guerre, la justice pendant la paix. Les deux autres tendent a notre utilite particuliere. Dans un climat ou l'imagination est si vive, ou les passions sont si ardentes, la prudence devait etre la premiere qualite de l'esprit; la temperance, la premiere du coeur."109 ("Слово добродетель <доблесть> изначально означало только телесную силу и мощь: именно в этом смысле Гомер говорил о доблести коня и до сих пор говорят о "добротности" земельного участка. Впоследствии это слово стало обозначать наиболее ценные свойства какого-либо объекта. Ныне оно применяется для выражения качеств разума, или, наиболее часто, свойств сердца." "Человек сам по себе <вне общества> обладает только двумя чувствами: желанием и страхом; все его движения сводятся к преследованию или избеганию <какой-либо цели>. В обществе эти два чувства могут обращаться на множество различных предметов, разделяясь при этом на множество видов: среди них честолюбие, ненависть и другие аффекты, которыми возбуждается душа. Итак, поскольку желание и страх даны человеку только для самосохранения, то теперь необходимо, чтобы все его чувства вступили в борьбу не только ради его собственной сохранности, но и ради сохранности других людей. Если, должным образом направляемые разумом, они приводят к этому благополучному результату, они становятся собственно добродетелями. 177 Глава 5. Трагедия Озерова Среди них различают четыре важнейших: сила (мужество), справедливость, благоразумие и умеренность. Это общеизвестное различение предполагает глубокую проницательность тех, кто его впервые установил. Первые две наиболее ценятся, поскольку они относятся к общей пользе, приводят к сохранению общества: сила или мужество во время войны, справедливость во время мира. Две другие обеспечивают частную пользу. В том климате, где воображение столь живо и страсти столь пламенны, благоразумие должно быть первым качеством разума, умеренность первой добродетелью сердца." франц.) Связь изначальной силы, яростного порыва в их гомеровском контексте с добродетелью в более утонченых формах имеет прямое отношение к озеровской "Поликсене", что достаточно ясно уже из предыдущего изложения. Но особое внимание привлекают четыре основных формы добродетели в связи с четырьмя индивидуализированными персонажами "мужского" лагеря трагедии. Концепция четырех добродетелей, которую популярно излагал Бартелеми, была сформулирована впервые в "Государстве" Платона. Акцентированные здесь этические качества выражались понятиями phronesis, andreja, sophrosyne, dikajosyne, переводимыми обычно как "мудрость", "мужество", "благоразумие" (целомудрие, умеренность, рассудительность) и "справедливость"110. Три первых качества Платон соотносил с тремя силами души способностью суждения, волей и чувством. Что же касается "справедливости", то она мыслилась иерархически возвышающейся над ними особой способностью, позволяющей найти должное соотношение между тремя другими добродетелями111. Эта платоновская концепция, конкурировавшая в античности с более дробной градацией добродетелей у Аристотеля, получила наибольшее распространение в средние века. На ее основе христианскими авторами была выстроена концепция семи основных добродетелей, согласно которой над четырьмя античными добродетелями, перешедшими в разряд "естественных", надстраивались собственно христианские вера, надежда и любовь. Одно из наиболее авторитетных средневековых обоснований подобной классификации добродетелей принадлежит Фоме Аквинскому. Знаменательно, что в его интерпретации исчезает иерархически выделенное положение "справедливости" как обобщающей добродетели, для каждой из четырех этических доминант Фома изыскивал отдельную способность души112, и в то же время на роль обобщающей добродетели (generalis virtus) в его системе претендует "умеренность", воздержание113. Интерпретация четырех добродетелей, данная Бартелеми, безусловно опосредована их средневековыми толкованиями: об этом говорят уже сами термины, используемые им, и представляющие собой кальку не греческих, но именно латинских понятий fortitudo, ius, prudens, temperantia; об этом свидетельствует и отсутствие иерархии, отчетливо заявленной у самого Платона. Вместе с тем, его схематически изложенная концепция несет на себе, по-видимому, и отпечаток упрощенно рационалистического, "политизированного" мышления Просвещения, разделявшего частные и общественные добродетели и у Платона, и у Аквината каждая из этих добродетелей имела значение как в общественной, так и в частной сфере. Если исходить именно из этой доступной и, по-видимому, авторитетной для Озерова классификации четырех основных добродетелей, то можно отметить соответствие ее озеровским мужским характерам. Подобны и внутренняя иерархичность: две главные и две второстепенные добродетели два главных и два второстепенных (но не безликих!) героя и сами доминанты характеров, акцентируемые Озеровым. Любопытно, что эти характеры обнаруживают соответствия тем же добродетелям в их значительно более тонком и детальном понимании, разработанном средневековыми теологами. 178 Глава 5. Трагедия Озерова Доминантные черты центральных персонажей, Агамемнона и Пирра, "справедливость" и "мужество". Причем "справедливость" должна пониматься не в узко правовом смысле (именно так это понятие выступает в одной из речей Улисса: "Предмет сей брани был пред светом справедлив. // Но, земли чуждые оружием покрыв, // Какой предлог дадим? Озеров, 305), но в смысле абсолютной справедливости. Милосердие, умеренность, жалость, великодушие, выказанные Агамемноном в первом действии, все это оказывается частными атрибутами по отношению к высшей справедливости, указанием на которую знаменательно завершается его первый выход: "Но знайте, что ни я, ни брат мой Менелай // Согласием никак не утвердим совета, // Который возбудит негодованье света. // Какую б нужду вы тому ни привели, // По справедливости на всем лице земли, // Среди ль цветущих сел, среди ль лесов пустынных, // Ввек имя проклято губителя невинных. // Восставьте на себя вселенны грозный глас // И правый суд богов! Я оставляю вас." (Озеров, 306) Отказ от убийства невинной троянки как заповедь справедливости и человеческой, и божественной в этом средоточие положительной этической позиции Агамемнона. И сама правомочность его позиции удостоверяется финалом трагедии когда предсказанный им "суд богов" подтверждается устами Кассандры. Главнейшее качество Пирра, подобного своему знаменитому отцу "мужество". Здесь важно учитывать внутреннюю форму этого понятия, в русском языке, так же как и в греческом и латинском, происходящего от слова "муж" (andron, vir). "Мужество", доблесть мужа, его военная добродетель постоянно подчеркивается в отношении Ахилла. Вопросом о ней, собственно, и начинается распря: "Откажете ль, цари, отдать Ахиллу честь, // Приличну доблестям мужей богоподобных?" Пирр, "прямой Ахиллов сын", естественно, сам подпадает под это определение. Достоинство "мужества" Ахилла красноречиво защищает Улисс: "Божественный Ахилл, славнейший муж из нас, // Пример геройства нам и временам грядущим, // Останется ль вотще о жертве вопиющим? // <.................> Ослабнут, и падут, и запустеют грады, // Где муж с заслугами оставлен без награды // И гробом поглощен без почестей и слез. // Великий человек народам дар небес." (Озеров, 327)114 Само соотношение "мужества" как добродетели военной и "справедливости" как добродетели мирного времени, заявленное Бартелеми, задается и в "Поликсене", конфликт которой разворачивается на грани войны и мира, и эта грань подчеркивается в первых же словах Агамемнона: "Иль мало почестей мы отдали надгробных // Ахилла памяти, чтоб после брани вновь // Невинной проливать троянки ныне кровь?" В целом, как было показано, комплекс личных качеств и мотивов поведения Агамемнона и Пирра восходит к Сенеке. Но мужество Пирра и Ахилла у Сенеки получает явно негативную окраску, оно подано как безудержный гнев, а добродетель Агамемнона предстает прежде всего как призыв к "умеренности", сдерживанию яростного начала: "Насилие // Недолго правит, прочна власть умеренных. // Чем больше смертный вознесен фортуною, // Тем больше должен он себя обуздывать, // Превратностей боясь и благосклонности // Богов чрезмерной"115. У Озерова "умеренность" составляет пафос другого персонажа Нестора, Агамемнон же несмотря на присущую ему "справедливость" лишен чувства меры и благоразумия так же, как и "мужественный" Пирр. Озеровский Улисс предстает в ореоле "первой добродетели ума" мудрости и благоразумия. Его постоянные эпитеты в трагедии "Лаэртов мудрый сын", "мудрый из царей", "благоразумием Улисс ведомый вечно". "Мудрость" Улисса здесь означает прежде всего способность свести воедино различные аспекты спорного вопроса и предвидеть, рационально рассчитать последствия действия116. 179 Глава 5. Трагедия Озерова Словами предвидения заканчивается активная роль Улисса в трагедии в конце четвертого действия "Предвижу бедственны сей новой распри действа". В пятом действии Улиссу принадлежит всего одна реплика. Но она возвращает к ситуации первого появления Улисса в трагедии его предвидение действовало в отсутствие прямого прозрения божественного определения, теперь же оно сополагается с пророчественным прозрением Кассандры: Улисс: "Спешите к кораблям, готовым вас принесть // В отечество, где ждет спокойство, радость, честь! // Кассандра: Так, греки, обагрясь вновь кровию невинной,// Спешите покидать троянский брег кручинный! // Но чашу здесь на нас пролитых вами бед // Должны вы за собой влачить повсюду вслед"(Озеров, 354) Это разоблачение человеческой мудрости и благоразумия, мысли во "мраке ума" перед лицом божественного света ср. слова Кассандры: "Блеснул моим очам времен грядущих ток". Но разоблачение, составив парадоксальный итог трагедии, в котором осуждены все греческие герои, не означает сомнения в благородстве субъективных намерений Улисса117. Доминанта Нестора "воздержание" в значении сдержанности, умеренности. Именно этот мотив, заимствованный в целом у Гомера, открывает первую речь Нестора: "Кто милосердием долг строгий умеряет, // Тому и слух богов в день горести внимает." (Озеров, 307) "Постой, Агамемнон, и гнев ты свой умерь, // А ты, о Пирр, смири сию нескромну ревность // <........................> А ты, о юноша, умеря лет стремленье, // Храни к царю царей дстойное почтенье! // <........................> Так убеждения смиренными речами // Вернее действуем над сильными сердцами, // Чем языком угроз и укоризной слов." (Озеров, 302-303) Последняя реплика обнаруживает в нем знатока "сердца" именно к добродетели сердца, как мы видели, относилась "умеренность" в классификации Бартелеми. Этот смысл образа Нестора поддерживается и его особым сочувствием-состраданием к троянкам, Нестор "скорбных друг...", по словам Улисса118. Вообще призывы к сдержанности, ограничению всяческой чрезмерности лейтмотив всех его речей в пьесе. Эти призывы не остаются просто эхом страстных речей других персонажей. Он играет активную роль, выстраивая сложный баланс зксплицированных антитетических ценностей, противоположных страстных стремлений персонажей. Функция Нестора неизменно сополагать две противоборствующие стороны. Короткая реплика Нестора из пятого действия: "С другой страны Атрид спешит вооруженный", останавливающая Пирра, служит точным внешним выражением его позиции, постоянного учета "другой стороны". Следует лишь еще раз подчеркнуть, что если основы характера Нестора Озеров почерпнул из "Илиады", то развитие этого образа, сделавшее воздержанность его художественно-философской доминантой, принадлежит исключительно самому драматургу. Так, отталкиваясь от четырех античных добродетелей в трактовке Бартелеми, можно классифицировать природу и функции озеровских мужских характеров. Трудно определить, была ли в поле внимания Озерова определенная характерологическая концепция женских персонажей. В качестве осторожной гипотезы можно привести христианскую концепцию Веры, Надежды и Любви, традиционно воплощавшихся в женских типах и доплнявших четыре указанных выше "естественных" добродетели. Мотивом надежды постоянно сопровождаются речи Гекубы: "они (боги) надеждою мой укрепили дух", "Тот может лишь один // Сносить с терпением суровый гнев судьбин // <...> кто был счастливым прежде. // Или счастливым 180 Глава 5. Трагедия Озерова быть остался хоть в надежде," "Так успокоимся и оживем к надежде." (Озеров, 311, 318) Надежда побудительный мотив всех действий Гекубы, всех ее усилий, нацеленных на спасение дочери. Поликсена предстает как воплощение любви в ее многообразных аспектах: и любви к матери, и любви к ее жениху Ахиллу, и самоотверженной жертвенной любви, спасающей своих соплеменниц все это, разумеется, только модусы одного чувства, одного душевного состояния. Наконец, Кассандра с ее пророческим даром кажется особенно приближенной к богам, составляя как бы языческую проекцию "Веры". О христианских аспектах коллизии озеровских героинь пойдет речь далее. Следует еще раз подчеркнуть, что сознательная ориентация драматургом на концепцию трех "высших" добродетелей остается только гипотезой. Но в любом случае, женские персонажи "Поликсены" предстают тонко дифференцированными по своим характерам и сюжетным функциям, формируя мир отношений, противоположный "мужскому" миру греческого лагеря. 5.3.4 Конфликт и сюжет "Поликсены": метафизика и поэтика Многообразие источников, художественных форм и мотивов, почерпнутых из различных пластов традиции, преображено в "Поликсене" новой художественнофилософской интуицией, получило новую жизнь. Для адекватного описания поэтики этой трагедии представляется целесообразным вновь прибегнуть к онтологическим категориям художественного мира классицизма. В ходе последующего анализа предстоит обращаться и к источникам "Поликсены", уточняя и наполняя внутренним смыслом разнообразный материал, приведенный выше, а также ввести некоторые новые наблюдениями над связями и отношениями художественного текста. 5.3.4.1 Метафизика трансцендентного Следует вначале обратить внимание на преображение, которое претерпели поэтические тенденции мотивов "растворения в природе", воспринятых Озеровым в княжнинском наследии. Среди действующих персонажей трагедии отсутствует герой, воплощавший ранее благую божественную активность, универсальное единство социума и вместе с тем, заданный как чувствительный герой-любовник, непосредственно вмещавший смыслы понятия "природы" обобщенный герой сентиментальной драмы, само появление которого обнаруживало кризис трагедии, разрыв в единой поэтической ткани. Но отказ от воплощения абсолютного единства всех начал нравственного универсума не означал отказа от идеала подобного единства. Этот идеал становится трансцендентным таков образ Ахилла, обращенного к героям драмы из запредельной дали за-смертия. Ахилл "муж богоподобный", "полубог", "великий человек", воплощающий само начало мужской героической активности. Вместе с тем Ахилл в прошлом нежный возлюбленный Поликсены. Его любовь при этом мыслилась Поликсеной как зерно мировой гармонии, прекращения вражды, преображеня мира. Ахилл погибает от стрелы Париса ("Парида" у Озерова) в храме, в тот момент, когда его брак с Поликсеной должен был установить союз греков и троянцев. Два крайних мнения о союзе Ахилла с троянцами высказаны героямиантагониствми Пирром и Агамемноном. Оба они предельно аффектированы, произносятся в запальчивости, в ситуации, когда обида и гнев захлестывают героев, и в то же время оба этих суждения отражают в предельной форме доминантные черты их характеров, о которых пойдет речь в дальнейшем. Агамемнон, делающий упор на "справедливость", на четкое разграничение должного и недолжного, своего и чужого, готов обвинить самого Ахилла в предательстве, в забвении интересов соотечественников, готов, в конечном итоге, разрушить его надгробный курган, вычеркнуть героя из памяти соратников и потомков (д.IV, явл. 2; д.V, явл.3). В то же время Пирр, в образе которого сконцентрированы верность и постоянство, унаследованные им от отца, переносит обвинение на троянцев и на саму Поликсену: 181 Глава 5. Трагедия Озерова союз Ахилла с троянкой представляется ему результатом козней и коварства, вина за которые ложится на самих троянцев, врагов Ахилла. Оба эти мнения узки и неправомерны. Трансцендентность "реального" образа Ахилла абсолютна. Единство начал, соединяющихся в нем, недоступно никому из действующих лиц драмы, кроме Поликсены с ее совершенно особым статусом и особой миссией героини-жертвы. Образ Ахилла, остающийся величайшей святыней для Пирра и Поликсены, диаметрально противоположных героев, непредставим и выходит из сферы нравственно понятных явлений. Между тем присутствие Ахилла абсолютно реально. Именно его воля дала толчок всей вспыхнувшей распре, и к вопросу о природе и смысле этой воли не раз возвращаются герои. Но воля его опять-таки абсолютно таинственна и непредставима. Это отнюдь не двусмысленность оракула прием, не раз использованный в трагедиях, в частности в "Ифигении" Расина и в "Эдипе" самого Озерова. Такого рода двусмысленность предполагает словесную формуллировку веления богов, первое прочтение которой порождает ощущение нравственного диссонанса, но последующее "узнавание" открывает изначальную нравственную сторону божественного Промысла. В данном случае нет уже самой формуллировки веления, прямой речи: требование Ахилла доступно грекам только в интерпретации Пирра. В речи к вождям Пирр описывает подробности ночного видения. В нем нет места слову, определенным проартикулированным повелениям: тень Ахилла издает только тройной клич, поколебавший землю. Слова Пирра, "Так, быв в бездействии, он некогда с судов, // Зря наглых воинов стремящихся из Трои, // Единым голосом их вспять подвинул строи," (Озеров, 298) точно указывают тот фрагмент "Иллиады", на который проецируется данный эпизод. Речь идет об фрагменте из восемнадцатой песни: "И восстал Ахиллес, громовержцу любезный; Паллада // Мощные плечи его облачила эгидом кистистым; // Облак ему вкруг главы обвила золотой Тритогена // И кругом того облака пламень зажгла светозарный, // <.............................................> Там он крикнул с раската; могучая вместе Паллада // Крик издала; и троян обуял неописанный ужас, // Сколь поразителен звук, как труба загремит, возвещая // Городу приступ врагов-душегубцев, его окруживших, // Столь поразителен был воинственный крик Эакида. // <...............................................> В ужас впали возницы, узрев огонь неугасный, // Окрест главы благородной, подобного богу Пелида // Страшно пылавший; его возжигала Паллада богиня. // Трижды с раската ужасно вскричал Ахиллес быстроногий; // Трижды смешались войски троян и союзников славных." (Песнь XVIII, ст.203-206, 217-221, 225229; пер. Н.И.Гнедича) Гомеровский эпизод представляет "преображение" Ахилла, явившегося в ореоле божественной славы: Ахилл здесь лишен оружия, но воля и ярость его способны непосредственно проницать сердца врагов. Его оружием становится его крик, подобный "трубному гласу", не сопровождаемый речью, он воплощает собой его "гнев", инспирируемый божественным гневом. "Разгневанный Ахилл" Озерова подобно своему прототипу также лишен речей. Когда Пирр произносит: "Троянки требует разгневанный Ахилл, // Троянки, коей кровь, над холмом сим пролита, // Спокоила бы тень героя знаменита" (Озеров, 298), его собственное слово возникает не как пересказ речи Ахилла, но из абсолютной внутренней убежденности в смысле видения. Что это именно так, что перед нами не косвенная речь, а интерпретация бессловесного видения еще раз подтверждает вторая "интерпретация" Пирра, уточняющая и продолжающая первую. Эхом троекратного крика Ахилла становится тройное "движение духа" Калхаса, также не завершившееся словом: "Так прорицания в Калхасе дух ужасный // Три раза возгорал и замирал безгласный." (Озеров, 303) Боги молчат, "но их молчание мне жертву указало," заявляет Пирр, выбирая на сей раз из троянок именно Поликсену. 182 Глава 5. Трагедия Озерова Итак, таинственная трансцендентная воля Ахилла, согласная с волей богов, стоит у истока трагедии. Смысл ее только в призыве к действию, но содержание и формы действия должны будут обрести сами герои. Судьба и энергия замысла нераздельно слиты в этом гневном возгласе Ахилла. Если в Ахилле воплощено трансцендентное единство нравственных начал, то само явление его тени и его гнев связаны с полным расстройством этих начал в мире, продолжением которого становится дисгармония природы. Тема разлада в мироздании одна из сквозных тем в трагедии: "Но боги, перервав здесь общий строй природы, // Наслали мертвый сон на воздух и на воды", "всюду вид разрушенной природы", "природы всей нарушен ныне чин" (Озеров, 300,304,340). "Нарушение чина" мироздания мыслится в предельных координатах: "небеса с землей отвергли разговор", мертвый сон природы знаменует нарушение связи природы и божественного мира. Вместе с тем этот отказ богов от участия в мире означает и их особое внимание, призыв к миру, к самим участникам драмы. Та воля, тот "гнев Ахилла", импульсом которого заряжается все действие, требует в своей бессловесной обращенности некоего деяния, которое восстановило бы сам "чин природы", связь природы и богов. 5.3.4.2 Метафизика пространства и времени "Разлад в мироздании", в котором физический мир непосредственно продолжает мир нравственный, определяет поэтику пространства и времени, хронотоп "Поликсены". В классицистической трагедии место действия как правило заслоняет собой пространство действия. Место представляет фрагмент пространства, точку в его бесконечности. Единство места концентрирует внимание на этой точке. Это не означает полного исчезновения пространства из кругозора трагедии. В пространстве существуют иные места, значимые для действующих лиц: места, откуда приходят вести, места, связанные с событиями прошлого, места, в которых свершаются синхронные события, влияющие на действие (обычно сражения). Пространство заявляет о себе часто не только набором иных точек, но и направлением, к которому обращены помыслы и опасения героев: это может быть направление бегства, спасения или прихода опасности. Но пространство здесь в любом случае подчинено месту действия. Онтология, отказавшаяся от сферы самостоятельных сущностей (или устранившая их на далекую периферию), лишила пространство космичности: исчез мир, к которому обращено напряженное внимание героя, который сам предстоит ему как некая сущность. Жизнь в модусе экзистенции предстала напряженным процессом, состоянием, не имеющим доступных созерцанию границ, но само переживаемое средоточие которого совпадает с местом действия. Речь идет об эстетическом и эмоциональном подобии декартовых координат, бесконечно разбегающихся из выделенной точки центра. С этим глубоко связана и "двумерность" места действия трагедии классицизма, ровной площадки, идеально отображаемой гладкой плоскостью сцены. Упругость, жар и холод самого воздуха вынесены за скобки драмы, как и оптика атмосферического пространства, открывающего дали и горизонты. (Последняя особенность получила развитие в декорациях XVIII начала XIX в., но сам текст драмы был с ними слабо увязан.) В "Поликсене" эти особенности классицистического пространства не отклонены, но существеннейшим образом преображены. "Действие происходит, как гласит начальная ремарка, в земле Троянской, по взятии города Трои, во стане греческом." (Озеров, 296) Место действия это уже не Троя, но еще не Греция, куда страстно стремятся ахейцы. Эти два локуса постоянно предстоят созерцающему взору героев, содержа в себе и пространственные и временные (прошлое и будущее) координаты. Место действия становится не центрирующей пространство, но промежуточной точкой. Ее реальное центральное положение результат неустойчивого равновесия сил. 183 Глава 5. Трагедия Озерова Недвижный и прозрачный воздух овевает сцену, но теперь это трехмерное атмосферическое пространство, само спокойствие которого наполнено смыслом и постоянно ощущается героями. Тишина и прозрачность означают здесь прерывание общего космического строя и в то же время таят в себе напряженное ожидание нового порыва: "Но боги, перервав здесь общий строй природы, // Наслали мертвый сон на воздух и на воды: // Нет ветра над землей, недвижим зыбкий понт, // И десять дней без туч пылает горизонт." (Озеров, 300) "Запавший ветр и спящи в море волны", "безветрие стихий" эти образы определяют состояние "сценической атмосферы", "пылающий горизонт" непосредственно окаймляет волны "шумящих чувств от ярости возжженных". Напряжение атмосферы разрешается в финале: "сонны ... валы пучины водной" пробуждаются, приходит в движение все воздушное пространство: "Уж туча над горой восточною взошла // И чревом тягостным на воздух налегла, // Скатился дальний гром, исторгся ветр бурливый, // И парус на судах развеялся игривый." (Озеров, 354) Вместе с тем и оптика пространства постоянно открыта героям. В окоем, теряющийся за пылающим горизонтом, входят развалины горящей Трои, "от коей дым на наш несется стан", вид разоренной троянской земли, зрительный образ которой сопряжен с ощущениями запаха и вкуса "всюду вид разрушенной природы, // Где дышим смрад от тел, где пьем кровавы воды" (Озеров, 304) но за этим ближним планом простирается море, "моря неизмеримы", к которым прикованы ожидание героев, уныние и тоска троянок и надежда греков. "Место" классицистической трагедии, ее локальное пространство вошло здесь в перспективу космоса, обнаружило свою приуроченность в мировом пространстве119. Смысловой сдвиг коснулся и времени действия. Время классицистической трагедии не знает членения на сущностные фрагменты, эпохи и периоды в жизни героя и общества. Время непрерывно и само действие соответствует его интенсивному проживанию, вбирает в себя всю полноту существования героев. В "Поликсене" мы имеем дело с той же полнотой реализации всех ее героев от рассвета до заката одного дня, но этот день становится переломным в череде эпох. Границы прошлого и будущего пролегают вблизи этого дня, обе эпохи окрашены в семантически определенные тона: прошлое выступает как прошлое героев, о которых напоминает Нестор, хранитель памяти греков, и вместе с тем как времена "счастливой Трои", к которым возвращается в мыслях Гекуба; будущее, о котором возвещает Кассандра, эпоха "ахеян маломощных", конец времени героев и счастливого могущества троянцев. Интенсивное проживание драматического экзистенциального времени задано, таким образом, в перспективе космического времени, как время переходного, пограничного события. 5.3.4.3 Метафизика характеров Разлад в мироздании, прерывание общего строя космоса, граница времен находят соответствие и в системе персонажей трагедии: противостоят друг другу мужчины и женщины, троянки и греки. Выше уже говорилось о том, что еще источники предыдущей трагедии Озерова, "Димитрия Донского", позволяют обнаружить вызревание подобного замысла: схожая ситуация была представлена в каждом из них "Ифигении" Расина, "Танкреде" Вольтера, "Освобожденной Москве" Хераскова. Но ни в одной из этих драм, как и ни в одной из "классических" трагедий классицизма "конфликт полов" не выступал с такой остротой и определенностью. В перечисленных выше пьесах он смягчен хотя бы тем, что между мужским и женским "мирами" находится неизменно посредник, герой, берущий на себя защиту главной героини и разделяющий до конца ее позицию. В "Поликсене" подобного героя нет. Хотя оба мира и пытаются наладить контакт друг с другом, они остаются друг другу чужды. Эта чуждость порождена совершенно определенной онтологической характеристикой их образов. 184 Глава 5. Трагедия Озерова Анализ действия трагедии и внутренней сущности ее персонажей целесообразно начать с "мужской партии", выделив в ней Пирра, воля которого, впитавшая в себя "гнев Ахилла", дает толчок действию. Недоумение, вызванное этим героем у первого критика трагедии А.Ф.Мерзлякова, вполне закономерно. Мерзляков отмечал неясность мотивов действий Пирра: "... здесь <Пирр> именует ее невестой, в другом месте смерть ее называет казнию, мщением богов, ее самую убийцею, злодейкою, и столько раз переменяет сей несчастной название, сколько раз случится ему об ней говорить. Ненавистный характер!"120 Пристрастное суждение критика опирается в данном случае на действительную двойственность мотиваций заклания Поликсены, приводимых Пирром: жертва отцу, исполнение религиозного долга, и месть за отца и павших под Троей греков. Оба утверждения идут рука об руку на протяжении всей пьесы от первого монолога Пирра до последнего акта, где Пирр признает в мертвой Поликсене достойную избранницу отца и через несколько реплик вновь заявляет о свершившейся праведной мести. Если месть признать непосредственным импульсом его души, как это представилось Мерзлякову, то перед нами действительно "ненавистный характер", один из драматических злодеев. Более того, можно понять возмущение Мерзлякова драматической неорганичностью этого образа, ибо речь идет в этом случае о "личной беспричинной ненависти"121: месть за все обиды греков уже давно свершена (об этом напоминает Агамемнон в первой же своей реплике), мщение обрушивается на слабых и беззащитных. Дело обстоит между тем значительно сложнее. Пирр движим не органично присущим ему импульсом мести и не абстрактно понимаемым благочестием. Пирр посвящает себя "образу отца": "...отец явился мне. // В нем прежний образ был, тот образ в гневе страшен." (Озеров, 298) Именно "образ отца" определяет религиозное служение Пирра. "Образ отца" есть образ носимый некогда отцом Пирра, Ахиллом, но не образ имманентно присущий самому Ахиллу, ибо сам Ахилл "муж богоподобный", "божественный герой", боги же составляют особую реалию в трагедии. Ахилл не подменяет собой богов, но оказывается посредником между богами и людьми. Пирр верует в богов: принося клятву Ахиллу, он призывает в свидетели Зевса-Юпитера, в "мертвом сне природы" он опознает волю богов "запавший ветр и спящи в море волны // С их воли путь претят к отчизне нам своей" (Озеров, 340). Ахилл, как сознает его сын, вещает, лишь исполняя волю богов: "по воле их Ахилл вещает мертвый" (там же). "Образ Ахилла" есть, следовательно, образ божества, открывающийся Пирру через личность отца, посредующая инстанция, служа которой, он служит богам. Именно в образе отца как образе божества коренится "месть" Пирра. Здесь снова проступает тот мстительный лик божества, который получил воплощение в предыдущих драмах Озерова: богини-эвмениды в "Эдипе в Афинах", Оден в "Фингале" "воля коего быстрее ветров горных // И месть мрачнее бурь..." (Озеров, 201). И вместе с тем, "образ отца" есть живая мера личности, применяемая Пирром к самому себе. За непочтительность к "образу отца", за неисполнение взятого на себя обета, Пирр сам накладывает на себя клятву: уйти в забвение, стать "недостойным Ахилловым рожденьем", быть отрешенным от собственной личности. "Образ Ахилла", образ божества, носимый Ахиллом, есть только внутренняя реалия, мера характера. Этот образ не может быть перенесен на "кумир", но может быть только наследован, вновь воплощен в цельном строе личности. В этом отношении образом Ахилла является сам Пирр ("я сын Ахилла // И славой облечен, оставленной отцом" Озеров, 339). "Образ" есть безусловно наличествующая, но трудноуловимая реалия: предмет служения героя и внутренняя форма его личности одновременно. Все сказанное выше относится, кроме того, только к осколку трансцендентного образа Ахилла, витающего над трагедией и не имеющего воплощения в земном плане. Речь идет об образе Ахилла, доступном Пирру и грекам. Сложность интерпретации образа в том, что содержание 185 Глава 5. Трагедия Озерова его, его центральное ядро распознаются в самом героическом поведении, в его специфическом модусе. Устойчивые словесные определения, сопровождающие Ахилла и Пирра "месть", "ярость", "гнев", "жестокость" только намекают на специфику его образа. Понятые буквально, они отсылают к вспышкам аффектов, импульсивным душевным движениям, между тем аффекты имеют лишь косвенное отношение к "образу Ахилла". Есть в трагедии строго рассчитанный момент "нарушенного ожидания", когда в четвертом действии Пирр, якобы воплощающий яростный импульс, предстает перед Агамемноном, сохраняя смирение и героическое достоинство, и, наоборот, его противник демонстрирует вспышку неправедной мстительности. Этим подчеркивается не внезапная перемена Пирра, но то, что присуще ему с самого начала: бесстрастное служение некоему глубоко усвоенному им началу. "Образ Ахилла" образ мужа по-преимуществу, он "славнейший муж из нас", по словам Улисса. Бытие мужа служит упрочению ценности, отстаиваемой им, удержанию ее в бытии: "Ослабнут, и падут, и запустеют грады, // Где муж с заслугами оставлен без награды" (Озеров, 327). Осуществляя свое героическое предназначение, свой "образ", Ахилл утвердил бытие греков перед лицом Трои. Напоминая ахейцам о "том самом" образе Ахилла, явившемся к нему, Пирр избирает характерный эпизод из череды подвигов отца: "Так, быв в бездействии, он некогда с судов, // Зря наглых воинов, стремящихся из Трои, // Единым голосом их вспять подвинул строи" (Озеров, с.298) Именно бездействующий Пирр, наводящий мистический ужас на врагов, более всего дает представление о самом средоточии бытия греческого стана, олицетворяемом им. "Мщение", важнейшая черта "образа Ахилла", наследуемого Пирром, служит развитием и проявлением его онтологии. "Мщение" возникает в случае покушения "другого" на ту ценность, бытие которой хранит и воплощает собой "божественный муж". "Небытие", от которого хранит свой мир герой, не есть пустое "ничто", угасание и растворение "своего мира". "Небытие" оказывается тождественно бытию "другого", который, если и не грозит уничтожением, то вторгается на территорию бытия, самовластно отторгает ее часть, проводит по ней свои границы, покушается в конечном итоге на сам принцип "бытия" как самостоятельного и суверенного начала. Полное осуществление принципа мужа в победе над небытием, но полная победа над небытием означает уничтожение "другого", стирание чуждого бытия, полное презрение его границ. Так, утверждением бытия греков стало уничтожение Трои и троянцев, некогда нарушивших нравственную границу в отношении греков. Служение образу "божественного Ахилла" связано, следовательно, со служением самому началу бытия, самостоятельности и суверенности, но полное осуществление этого служения ведет к уничтожению бытия "другого", к стиранию границ между собой и другим. Так, в рамках онтологического дискурса предстает античная добродетель "мужества". Начало, отстаиваемое Пирром, встречает отпор, ограничивается со стороны Агамемнона. Именно "ограничивается", ибо служение Агамемнона, также "божественного мужа" ("Атреев светлый род от Зевса исходящий"), служение самому принципу границы. С указания на границу, на само разделение военного и мирного "после брани" времени начинается первая речь Агамемнона. Различие времен предполагает разный образ действия, кладет предел мщению именно на это указывает Агамемнон Пирру. Повествование о троянских пленницах, вложенное далее в уста Агамемнона и играющее, казалось бы, роль экспозиции, подчеркивает специфические черты именно этого героя: речь идет о свершившемся разделении, разграничении троянской добычи, на пересмотр которого покушается теперь Пирр. Но самая главная из границ, отстаиваемых Агамемноном, это разделение между невинностью и преступлением, запрет на убийство невинной девы, провозглашаемый им от имени богов. Принцип предела, границы, защищаемый Агамемноном, также имеет смысл 186 Глава 5. Трагедия Озерова внутреннего "образа", которому он служит: "образ" этот имеет божественное происхождение, и, также как и "образ Ахилла", воплощается только в личности, определяет склад характера. Нравственное начало "справедливости", воплощаемое Агамемноном, и означает в данном случае принцип границ. Далеко не вся обширная сфера смыслов понятия "справедливость" укладывается в него. Позиции Нестора и Улисса также во многом соответствуют этому понятию в его эмпирическом бытовании. Но "принцип границ" относится к онтологической и, добавим, исторической основе "справедливости" в ее правовом варианте к тому культу границ, рубежей terminus который теснейшим образом связан со становлением "римского права". Полное осуществление "принципа границ", отстаивание рубежей до конца, "во что бы то ни стало" ведет, однако, к пренебрежению тем, что собственно ограничивается границами. Этот парадокс обнаруживается впервые, когда Агамемнон предлагает новый поход берегом моря, грозящий гибелью греческому войску, но спасающий принцип неприкосновенности невинных (д.I, яв.3). Оборона рубежа справедливости, которая ставит под удар само средоточие бытия собственной "области", с предельной резкостью обнаруживается в последнем акте, когда Агамемнон готов уже срыть святыню греков надгробный холм Ахилла. Принципы отстаивания и утверждения бытия и защиты границ относятся к определенному содержанию, бытие которого утверждается и рубежи получают оформление. Но сами по себе эти принципы бессодержательны, они только выступают навстречу некоему содержанию. В соответствии с этим бессодержательной оказывается вся первая фаза распри Агамемнона и Пирра, пока еще не названо имя конкретной пленницы, предназначенной в жертву. Имя называет сам Пирр, но этому предшествует приход Улисса и возвещение им состояния "мрака ума". Улисс-Одиссей играет особую роль в трагедии. В системе добродетелей Платона и схоластиков этот персонаж, как упоминалось выше, связывается с "мудростью" или "благоразумием". Смысл его "мудрости" совершенно своеобразен. Это отнюдь не то "хитроумие", изобретение затейливых уловок для осуществления порученной ему задачи, которое часто связывается с Улиссом. Уму озеровского Улисса доступно само содержание мира, реальной жизненной ситуации, ускользающее от его соратников. Не случайно оба эпизода из его прошлого, упоминаемые в трагедии, приход Улисса "соглядатаем" в Трою, и "исхищение" им Ахилла "из неги, в коей честь скрывал своей породы" (Ахилл, как известно, был укрыт своей матерью Фетидой в женской одежде среди дочерей царя на острове Скиросе122) связаны с высматриванием, узнаванием скрытой или недоступной сущности. Именно Улисс останавливает занесшегося Агамемнона, указывая на реальные последствия его принципиальности, которая может повлечь гибель и греков, и защищаемых Агамемноном троянок. С появлением Улисса в трагедии возникает оппозиция "ум чувство": "Но можно ль чувству там предаться нам свободно, // Где должен ум избрать спасение народно?" (Озеров, 305) До этого в ходу были именно "чувства": "Средь волн шумящих чувств от ярости возжженных" возгоралась распря вождей. За "чувствами" здесь представали не беспорядочные и эгоистические аффекты, но, прежде всего, страсть и энергия утверждения "божественных" ценностей, отстаиваемых Агамемноном и Ахиллом. Вертикаль "божественных ценностей" Улисс дополняет горизонталью земной реальности, различенной и доступной уму. Сам этот переход отмечен с предельной отчетливостью: боги не дали ответа и смертные погружаются во "мрак ума". Улисс путник, странник, вестник, переносящий известия от одной группы персонажей к другой, герой, обреченный судьбой на вечные блуждания и странствия. Принося сообщение от Калхаса, он начинает свою роль метафорой пути: "Хранят 187 Глава 5. Трагедия Озерова молчанье боги. // Как свет обманчивый среди ночной дороги // Мгновением блеснет и исчезает вдруг, // Оставя путнику пустынный мрак вокруг" (Озеров, 303). Мотив пути, заданный в отношении Улисса, становится сквозным и завершается пророчеством Кассандры о его многолетних странствиях. В том "мраке ума", в котором блуждает Улисс, ему не видна перспектива, цельность и единство пути, но ему доступны ближайшие пункты пути, схватываемые умом цели и средства достижения их, причинно-следственная связь ближайших событий. Именно Улисс своим странствованием и "вестничеством" соединяет разрозненные локусы и группы героев: святилище Калхаса и совет вождей, ахейцев и пленниц-троянок, разделенных распрей Агамемнона и Пирра. "Вестник", проходной герой классицистической трагедии, обретает в данном случае свое лицо, индивидуальность, свою "субстанцию". Ум Улисса не только выхватывает саму сущность вещи, содержание жизненной ситуации, но и озабочен связью вещей и явлений, единством "своего" мира, которому грозит разрушение без дополнительных специальных усилий. Речи Улисса образец компромисса, среднего пути между столкнувшимися крайностями. Но компромисс его не беспринципен: "спасение народно", сохранение единства ахейцев определяет его цель и его пределы. Гибкость подчинения чужой воле, воле вождей соединяется с личной инициативой, исполнением собственного замысла ради достижения "общей цели". Тот момент в драме, когда Улисс решается подстрекать к бунту воинов Агамемнона, но не против их вождя, а против распри вождей, ради общего жертвоприношения (д.IV, яв.4), демонстрирует наиболее дерзкое своеволие этого "мастера компромисса". Улисс также служит особой инстанции, внутреннему "образу", который тождествен в данном случае самому рациональному началу, "уму". Не случайно его обращение к вождям начинается с клятвы: "Погибни смертный тот, корыстью кто ведом, // В советах говорит пристрастным языком..." (Озеров, 305). Ум Улисса ни в коем случае не "теоретический" ум, оперирующий с понятиями, отделенными от самих вещей. Все, отмеченные выше его особенности относятся к области "практического" ума, рассудка. Но в соответствии с этим его высматривающая зоркость, схватывание сущности вещей, обращенность к самому содержанию мира соединяются с особым пристастием к обладанию вещью. Именно в речах Улисса могут возникнуть неожиданные вкрадчивые интонации: "Но щедрости вождей я несомненно верю, // Что заменит она мне пленницы потерю" (Озеров, 307), улавливая которые, Пирр тотчас предлагает ему "треножник златый" или "хитрошвейны ткани". В результате "беспристрастие" и бескорыстие Улисса может быть поставлено под сомнение. Слова Агамемнона, обращенные к нему "Он <Пирр> твой премудрый ум дарами ослепил" (Озеров, 331) приобретают определенный вес. Мы подошли к моменту, общему для всех мужских участников драмы. Устами Пирра он назван "личными видами". Тот "внутренний образ", который носят в себе герои, и в соответствии с которым определяются доминантные принципы их деяний, безусловно отличен от образа героя в общепринятом смысле. Образ героев "Поликсены" шире их "внутреннего образа". В нем существует еще один слой скрытое "я" героя, эгоистическая самость, лишенная отчетливой формы, но неразрывно связанная с "внутренним образом" героя. Скрытое "я" Агамемнона впервые прорывается в первом действии. Стоило Пирру упомянуть имя Кассандры как возможной жертвы, и речь Агамемнона, доселе плавная и величественная, спазматически прерывается, обличая порыв неуправляемой ярости: "Кассандру!.. Нет, вождей благоразумный сонм, // Пред тем как мне велит предать тебе Кассандру, // Воспомнит, что привел я сто судов к Скамандру <...> Коль в жертву днесь Калхас, толкуя глас небесный, // Кассандру назовет... Калхасу ты не верь!" (Озеров, 302) Смысл этого порыва и тенденции скрытого "я" Агамемнона обнаруживаются в первом явлении третьего действия, в диалоге с Кассандрой. Кассандра бросает 188 Глава 5. Трагедия Озерова Агамемнону упрек в непоследовательной защите справедливости, представляющей абсолютную божественную ценность: "Цари даны земле в залог суда богов. // Оружие прими, когда не внемлют слов!" (Озеров, 321). Нетрудно уловить здесь продолжение мыслей и интонаций самого Агамемнона на совете вождей. Но оказывается, что для Агамемнона существует дистанция между "справедливостью вообще", справедливостью в отношении любой пленницы, которую он провозглашал на совете, и "справедливостью", когда она затрагивает его пленницу и возлюбленную Кассандру: "Имел бы право я их ярость обуздать, // Когда их меч тебе дерзнул бы угрожать" (Там же). Кассандра тут же напоминает, что Поликсена и Гекуба ее сестра и мать и, следовательно, должны входить в сферу интересов Агамемнона. Ему, как выясняется, вполне внятны и отвергнутые им ранее аргументы Улисса о возможной междуусобной распре, которую "царь царей" желал бы избежать. За принципиальностью меры и нравственной границы обнаруживается, что сами эти границы могут быть проведены по-разному. Божественная данность общего закона неуловимо соединяется с человеческим условностями его приложений, сводящимися к афористической формуле: "Успех иль неуспех, реша вселенной суд, // Одним деяниям различный вид дают" (Озеров, 323). Предпочтение, отдающееся тому или иному из нравственных рубежей, и энергия, уделяемая его защите, оказываются теснейшим образом связанными с личным сокровенным интересом. Было бы упрощением считать, что принципиальность Агамемнона, подлинность его служения справедливости зачеркивается открывшимися в нем "личными видами". Речь идет лишь о том, что сама структура героического мужского характера предполагает энергию самоутверждения, стремящуюся в свет из из глубины тайного "я", кипящую на его дне, но проходящую в своем течении через инстанцию "внутреннего образа", дарованной и принятой на себя формы. И эта форма со своими непреложными требованиями и напор внутренней энергии, исходящей из "самости", эгоистического центра равным образом реальны и обусловливают друг друга. "Личные виды" каждого из героев носят печать их особого "внутреннего образа". Агамемнон, как мы видели, смешивал защиту "объективной" справедливости с ограждением собственных интересов, интересов близких ему лиц. Практический "ум" Улисса связан с его стремлением к обладанию вещами. Мщение Пирра, осуществляемое как служение "образу Ахилла", также тесно связано с "личными видами". Упреки Агамемнона в его адрес в "жестокости" и личной злобе не лишены основания: в акт жертвоприношения, свершаемый им, он вкладывает и личное мщение. Он считает Поликсену коварной виновницей гибели отца и ее заклание вызывает у него "садистские" порывы: "Давно уже во мне пылает дух желаньем // Насытиться твоим пред смертию страданьем" (Озеров, 351). После ряда совершенных выше аналитических различений в структуре характеров персонажей мы можем снова приблизиться к тому первичному понятию ненависти, гневного аффекта, которое прилагал к Пирру А.Ф.Мерзляков, рисуя его как "ненавистный характер". Это начало составляет, как можно видеть, лишь один из структурных уровней его образа. Яростное начало, движущее действие, намекает на глубины внутреннего "я", даже большие, чем сфера определенных эгоистических интересов. Когда Агамемнон, разгневанный вторжением Улисса, начинает "новую распрю" и произносит свои слова: "Атреев светлый род, от Зевса исходящий, // Не унижался ввек прощением обид," месть, о которой они возвещают, напоминает уже о веянии хаоса, о слепой ярости, стирающий всякий образ и всякие границы, подобно чудовищному каннибализму древнего Атрея. В отношении Агамемнона Озеров оказался особенно беспощаден. Воплотив этого персонажа, генеалогия которого ведет к Димитрию Донскому, Фингалу, Тезею и через них к княжнинскому Рюрику, драматург окончательно "разделался" с сентиментальным идеализированным героем защитником невинных, инспирируемым непосредственно Глава 5. Трагедия Озерова 189 благими силами природы. Не "живительная природа", но яростная сила самоутверждения, исходящая из глубин сердца, предстает началом, движущим им и объединяющим его со всем "мужским" лагерем. Скрытое эгоистическое начало отсутствует только у Нестора. Но именно в связи с этим Нестор воплощает собой всю стихию греческого стана. Распря ахейцев имеет, как можно видеть, достаточно сложную природу: она связана и с различием "внутренних образов" и с автономией эгоистических воль, грозящей превратить ситуацию в "войну всех против всех". Но эта стихия имеет все же внутреннюю меру, берега, сдерживающие ее и определяющие ее единство. Речь идет об эпической стихии, открытой созерцающему разуму. Воплощением этого эпического созерцающего разума (в отличие от практического разума Улисса) и становится Нестор: перед Нестором проходят ряд за рядом героические поколения. Если другие герои хранят некоторый внутренний образ, то Нестор хранит саму череду и смену образов "героев оных, подобных богам". Говоря от лица эпической стихии, он обращается не к разуму, но к сердцу героев ("Так убеждения смиренными речами // Вернее действуем над сильными сердцами" Озеров, 303). Умеренность, о которой применительно к нему шла речь выше, сродни мерному воздействию эпического ритма, подчиняющему себе яростное начало необузданной стихии, стихии сердца, в первую очередь123. Нестор заклинатель "волн шумящих чувств, от ярости возжженных". Но это не ставит его вне трагической стихии, не снимает с него трагической вины, на которую обрек себя греческий лагерь. Наоборот, он становится выразителем ее по преимуществу, произнося последние в трагедии слова, полные безнадежного скепсиса. *** Иная сторона расколотого мира трагедии троянки, "последние чада Илиона". Для характеристики их образов совершенно неприменимы те понятия "внутреннего образа", скрытого "я", внутренней энергии самоутверждения, которые были использованы для описания "мужского мира". Яростная энергия, утаенная в глубине сердца и выплескивающаяся "волнами шумящих чувств", противостоит иному образному строю волнам жизни, слитности существования, охватывающей и поглощающей троянок, и в то же время воплощающейся в их личностях, обретающей через них свое лицо. Не случайно поэтическая тема троянок начинается с образа бесконечной морской дали, о которой поет хор: "О горе нам! Брега родимы // Покинуть скоро мы должны // И чрез моря неизмеримы // Отплыть в безвестные страны" (Озеров, 309). Далее в песне возникает тема оставляемых навечно отеческих могил и обращенного в тлен града. Град Троя полностью лишен своего "бытия" разрушены его стены, пали царь и мужизащитники и вместе с тем само начало существования-экзистенции, "жизнь" града не погибла, его "природа" вырвана из его стен и оказалась в руках греков. В этом слитном лирическом единстве "природы", воплощаемом пленницами, им всем принадлежат разные голоса, "природа" предстает в разных аспектах, в разграниченных ипостасях. Специфика их образов может быть во многом понята по контрасту с тремя мужскими персонажами, деятельными участниками драмы Агамемноном, Пирром и Улиссом. Соотношение это задано драматическими характеристиками персонажей и композицией драмы. Царица и "царь царей", мать и отец именно эти функции, подчеркнутые в пьесе, сближают Агамемнона и Гекубу (ср. слова Гекубы об Агамемноне: "Он стон услышит мой; он жалостлив, отец, // Он должен чувствовать священну связь сердец, // Которая меня с тобою съединяет. // Какой отец в сей день мне здесь не сострадает!" Озеров, 319) Сближает Агамемнона с Гекубой и принесение им в жертву в прошлом собственной дочери, о чем упоминается в первом действии. Поликсену и Пирра связывает уже сам момент близости к Ахиллу. Они 190 Глава 5. Трагедия Озерова выступают при этом как "дочь" и "сын", забота которых о матери и, соответственно, об отце имеет сюжетообразующее значение. Кассандра и Улисс оба провозвестники будущего, каждый из них выступает героем-посредником между "мужским" и "женским" лагерем. На скрытую связь между ними указывает и композиция первого и второго действия, представляющих обе группы персонажей: спор Агамемнона и Пирра, открывающий драму, соответствует лирической коллизии Гекубы и Поликсены, приход Улисса с вестью от богов приходу вестницы Кассандры, отправление Улисса в шатры пленниц отправлению Кассандры в шатер Агамемнона. Гекуба "мать Трои" центр и средоточие "природы". Если с Агамемноном связан смысл твердых рубежей в жизни, прежде всего границы "добра" и "зла", позволенного и недопустимого, то Гекуба являет собой принцип отказа от разделения. Это, разумеется, не то, сметающее все границы, утверждение бытия "своей" сферы, которому отвечает принцип Пирра, но допустимость совместного существования различного, это "равно-душная" природа, дающая место каждому из созданий, равно уделяющая им место в своей единой душе. Сетования Гекубы, начинающие трагедию, связаны как раз с несостоявшимся разделением "добра" и "зла" в их источнике: Гекуба винит себя за рождение Париса, преступление которого стало началом падения Илиона. То же "неразделение" добра и зла, своих и чужих порождает приятие Гекубой в свое семейство Елены, "развратной жены", единственного в трагедии полного олицетворения зла, милость ее к Одиссею, бывшему некогда соглядатаем в Трое. Олицетворяя "природу" рождающую и всепринимающую, образ Гекубы приобретает внутреннюю связь с вечноткущейся нитью жизни. Будучи стара и раздавлена горем потери всех близких, она остается жить, "смерть забыла" ее. Ее существование длится вопреки всему, даже потере последней любимой дочери Поликсены. Гекуба ждет смерти как отдохновения от страданий, она готова и принести себя в жертву вместо дочери, но ее скорбь не переходит в глухое уныние, в ней тлеет искра надежды, т.е. искра вечнодлящейся жизни: эта искра вспыхивает в ответ на слова Поликсены, желающей разделить изгнание с матерью, она готова благословить Улисса, возвращающего ей свободу. Надежда, не угасающая в ней, заставляет ее отчаянно биться за жизнь Поликсены. Не принимая разделения мира, Гекуба не способна противо-стать, занять героическую позу в столкновении с насилием. Ее единственное оружие мольба, мольба о милости, о неразлучении, призыв к "опамятыванию", к пробуждению памяти о природе в собственной душе ("Или желание угодным быть народу // Способно заглушить в душе твоей природу?" Озеров, 327) В тот отчаянный момент, когда воины Улисса готовы увести Поликсену, Гекуба способна лишь судорожно вцепиться в дочь, бесконечно повторяя как заклинание: "Не выдам", "Не выдаю". Эта негероичность Гекубы была отмечена Мерзляковым как нарушение жанрового канона124. Действительно, еще озеровский Эдип, образ которого во многом лег в основу образа Гекубы, в подобной ситуации произносил разящие филиппики в адрес гонителей, проявлял истинно "царскую" высоту духа. Потапов, не скованный нормативной поэтикой, находил образ Гекубы "психологически достоверным", рисуя ее при этом как "дряхлую старушку", доведенную страданиями до унижения и эгоистического самолюбия125. Но неправомерны в данном случае ни усредненная героическая норма, ни психологический этюд Гекуба воплощает именно онтореальность материнства природы, неистребимой привязанности к жизни и всевмещающей ее полноты. Психологический фантом эгоизма и слабости Гекубы у Потапова был вызван во многом интерпретацией того факта, что Гекуба не раз повторяет о своей нужде в Поликсене, тогда как по логике "альтруистической морали" она должна была бы 191 Глава 5. Трагедия Озерова сетовать и ужасаться только перспективе личной гибели Поликсены. Но Поликсена, как и Гекуба, не просто эмпирические личности, но женские образы, представляющие абсолютизированные стороны экзистенциальной реальности природы. Поликсена параллель Пирру и вместе с тем выражает абсолютно противоположное начало: если внутренний принцип Пирра ведет к утверждению автономного бытия собственного "я", расширяющегося до пределов "своего" мира, то Поликсена связана с преданием, дарованием своего бытия другому, с сокровенным началом любви. Гекуба и Поликсена представляют относительно автономную пару, позволяющую понять сам динамический, сюжетный принцип, заложенный в понятии "природы". Гекуба выражает материнский аспект природы, дарение и расточение жизни. Бытие ее как личности соотносимо с предельной полнотой жизни. Вместе с тем эта полнота оборачивается и предельной мерой страдания. Жизнь, данная матерью, уходит от нее, гибнет, раздираемая внутренними конфликтами, гибнет, не оборачиваясь к собственному началу, не воздавая ему блага. Расточение без собирания такова формула страдания Гекубы. В связи с этим возвращение блага, благословение становится мотивом, определяющим лирическую коллизию Гекубы и Поликсены (средоточие ее представлено во втором явлении второго действия). Слова о благословении возникают впервые в устах Гекубы, адресуя к оставшейся в прошлом неосуществленной возможности погибнуть среди цветущей Трои, унеся в могилу еще не рожденное зло Париса: "благословенная была б моя кончина". Настоящее, окружающее Гекубу, лишает ее благословения. Поликсена, вступающая в лирический диалог, не просто сострадает матери (психологическая реалия), но воздает ей благословение. Именно от сострадания к благословению развивается здесь лирическая тема, начало и завершение которой отмечены схожими положениями: "Пускай твоя тоска в слезах ко мне прольется! // На пламенную грудь те слезы я приму" и "Вдова Приамова к Ахилловой невесте // На грудь стесненную преклонится главой, // Слезу горячую с ее сольет слезой" (Озеров, 310, 312-313). Поликсена благословляет мать: "матерь нежную всегда благословлю" словесная формула в данном случае дублируется действенным актом, Поликсена решает разделить с матерью-рабыней собственную жизнь. В свою очередь Гекуба, получившая благословение дочери, воздает благословение ей: "Благословенное и доброе рожденье" (Озеров, 313). Вступает в права некий ритм природы, в котором дарение и расточение жизни центробежная тенденция дополняется возвращением жизни к ее истоку центростремительным движением. Напомним еще раз, что это не знающее границ расточение жизни и воздание блага ( в пределе, дарение собственной жизни) другому служат в то же время проекциями начал абсолютно иной онтологии принципа границ и утверждения собственного бытия. Продолжить характеристику Поликсены имеет смысл несколько далее в связи с целостным сюжетом трагедии. Теперь же следует очертить образ третьей троянки Кассандры. В функциональном и композиционном отношении Кассандра, как уже говорилось, связана с Улиссом. Кассандра пророчица и провозвестница. Но пророческий дар, которым она владеет, имеет определенную специфику: "... несчастливый тот дар, // По коему могу предвидеть лишь удар, // Но как удар отвесть, предвидеть не умею" (Озеров, 314). Пророческому взору Кассандры доступен поток жизни с его перепадами и изломами, целостность судьбы, не расчленяемой на элементы, связанные причинно-следственной связью, в которую мог бы вмешаться понимающий разум, попытавшись нечто изменить в ней, "отвести удар". Именно в этом ее отличие от Улисса, которому доступна как раз причинно-следственная связь элементов мира, в то время как целое скрывается от него за "мраком ума". Улисс не осознает подлинных эпохальных следствий всего происходящего, но он очень хорошо понимает, что произойдет в результате тех или иных действий Агамемнона и Пирра. Улисс 192 Глава 5. Трагедия Озерова предупреждает о неизбежной гибели всех троянских пленниц в результате распри вождей, но именно эта опасность ускользает от Кассандры, радующейся раздору меж греками. Поликсена, мудрая сердцем, обличает слепоту сестры: "Ты днесь ослеплена с предвиденьем твоим" (Озеров, 335). Кассандра принадлежит к той же онтологической сфере "природы", существования-экзистенции, что и Гекуба и Поликсена. Но Кассандра по отношению к ним стоит все же особняком. Кассандра чужда тому внутреннему сюжету "природы", который реализуется в отношениях Гекубы и Поликсены. Образу ее свойственна холодность и даже жестокость. Она единственная из героинь, кто может радоваться смерти врагов: "Пусть греки в распре сей // Усеют трупами пространство сих полей, // И пусть сим зрелищем убийства меж собою // Утешат наконец в огне стенящу Трою!" (Озеров, 334). Черты эти могут стать более понятными, если, отвлекшись на миг от онтологических реалий, вспомнить литературную подоплеку женских образов "Поликсены", уходящую корнями, в фольклор и миф. Если Гекуба мать, а Поликсена невеста, потерявшая жениха, то Кассандра дева, целомудрие которой было связано с ее служением Аполлону и которую насильно взял в наложницы завоеватель. В этом смысле ненависть Кассандры к грекам типологически связана не столько с патриотизмом, сколько с враждой женского и мужского начала, порожденной насилием мужчин (ср. "Данаиды" Эсхила). Озеров, однако, не подчеркивает ни изначальную обреченность Кассандры на девство, ни насилие со стороны Агамемнона. Кассандра причастна "природе" как обладательница мистической интуиции, знания целостности мира и вместе с тем как хранительница знания об универсальной ценности "природы" что придает ее речам мощь пророческого обличения (а не только предсказания). Когда Кассандра перед беседой с Агамемноном молит богов дать ей "язык души и чувства", она просит о недостающем. Между Гекубой и Поликсеной, с одной стороны, и Кассандрой, с другой, намечается оппозиция "ума и чувства", подобная той, что разделила Улисса и конфликтующих вождей. В этой связи особенно интересно то, что Кассандра возлюбленная Агамемнона. Если рисуя Агамемнона, Озеров "разделался" с сентиментальным героем-любовником и защитником "невинных", то столь же шокирующим оказывается и образ его возлюбленной. Героиня просветительской драмы могла выступать и обличительницей, активно отстаивать свои права, подобно Аменаиде Вольтера, но в любом случае она мыслилась при этом и воплощением "души и чувства". Сердце Кассандры как бы сковано и не участвует в ее обличениях, а сами они принимают жесткий и холодный оттенок, противоречащий той линии любви и материнского сострадания, которая входит в контекст "природы" и связана с образами Гекубы и Поликсены. 5.3.4.4 Сюжет трагедии и метафизика жертвы Мы дали онтологическое описание двух группировок характеров, двух враждующих лагерей трагедии. Следует очертить теперь само действие трагедии, завязывающееся в расколотом мире и приводящее к результату, непредусмотренному никем из персонажей. Обратимся к самому началу той ситуации, которая предстает в трагедии. Приводившаяся уже начальная ремарка гласит: "Действие происходит в земле Троянской, по взятии города Трои, во стане греческом." Стан победителей раскинулся на чужой земле. Земля в данном случае должна пониматься и расширительно как субститут "природы": греки лишены своей природы, дома и очага, куда они страстно стремятся. В то же время земля Троянская лишена "города Трои", средоточия своего бытия, представляя собой чистую "природу". "Природа" захвачена греками, но остается им чужой. Именно в этой полной разделенности "богоподобных" героев и "природы" коренится необходимость жертвоприношения. Захваченная природа должна быть 193 Глава 5. Трагедия Озерова посвящена богам и уже от них воспринята в качестве дара, награды, подтверждения "славы". Только в этом случае она перестанет быть проклятием для победителей и перейдет в благословение их собственной земли. Мотив благословения собственной земли, приобретения собственной прославленной природы на протяжении драмы как бы скрывается за чисто ситуативной интерпретацией жертвы, необходимой, казалось бы, только для того, чтобы умилостивить тень Ахилла. Явным становится он только в пятом действии, которое начинается хором граждан, обращающимся к тени Ахилла и собственной земле: "Пусть, славе сей от нас внемля, // Растут в геройстве чада греков, // И пусть пребудет их земля // Землей великих человеков!" (Озеров, 346). Примирение природы и богов таков смысл деяния, требуемого ситуацией, открывающей трагедию. Боги, как уже говорилось, не объясняют героям свою волю непосредственно и, следовательно, мы не можем судить о требуемых высшими силами формах этого деяния. Но существует интуиция героев трагедии, которая слепа и зряча одновременно. Пирр опознает в воле богов требование жертвы, которую должны принести греки. Но жертва, в конечном итоге, служит проклятию греков. Все можно бы было свести к роковой ошибке или даже к "трагической вине", коренящейся в складе характера греков и наличных обстоятельствах, если бы в трагедии не были рассыпаны явственные знаки того, что жертва Поликсены каким-то образом отвечает божественному плану: сама Поликсена признает во всем происходящем волю Ахилла, небесные знамения сопровождают ее свершившееся самозаклание. Создается впечатление, что то отношение к жертве, в которое ставят себя греческие вожди, неправедно и преступно, в то время как сама жертва относится к сфере некой сверхнравственной истины. Тайна жертвы Поликсены взывает к непосредственно религиозному плану авторской мысли, просвечивающему сквозь все литературные опосредования. К заключающим трагедию словам Нестора Озеров дал примечание в письме Оленину: "Размышление, которым Нестор оканчивает трагедию, согласно с вашею системою и с образом мыслей греческих философов. Предопределение fatalisme, которое, впрочем, замечается в одной речи Спасителя, когда говорит об Искариотском"126. Озеров имеет в виду предсказание Христом предательства Иуды: "впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться" (Мф. 26,24). Эта евангельская параллель, вводимая Озеровым без особого нажима, была, как представляется, достаточно глубоко укоренена в его драматическом замысле. Так, евангельские реминисценции слышатся в начале четвертого действия трагедии. Первое явление четвертого действия не имеет никаких аналогий среди перечисленных источников трагедии: Кассандра и Поликсена беседуют здесь при уснувшей в шатре, впавшей в забытье Гекубе, "меж тем как в сем шатре, сном тихим осененна, // Забылась временно Гекуба утомленна". Смысл всей этой сцены составляют последние колебания Поликсены перед принятием окончательного решения о самопожертвовании. Можно предположить, что образцом в данном случае послужил евангельский эпизод в Гефсиманском саду скорбь Христа и моление о чаше ( ср. слова Кассандры "чашу здесь на нас пролитых вами бед" Озеров, 354) при уснувших учениках127. В жертве озеровской Поликсены можно уловить отблеск жертвы Христа. Думается, что перед нами не просто блик на сложной многогранной поверхности драмы, но сигнал, отсылающий к ее смысловой глубине, к трансцендентному центру универсума "Поликсены". Если жертва Поликсены и может быть сопоставима с жертвой Христа, то сама Поликсена ни в коей мере не является неким подобием Самого Христа, как архетипического образа жертвы, ибо Поликсена лишена божественного статуса. Прибегая к аналогиям из христианской традиции, ее смерть следовало бы 194 Глава 5. Трагедия Озерова уподобить смерти мученицы, посвящающей себя своему Богу и небесному Жениху. Эту параллель продолжает и сам образ загробного жениха Поликсены Ахилла, полубожественная, получеловеческая природа которого, не раз подчеркиваемая в трагедии, согласуется с его посмертной ролью посредующей инстанции между богами и людьми. Поликсена именно "невеста Ахилла", обрученная Ахиллу. Любовь представляет собой само существо образа Поликсены, но мыслится она как ответ на любовь Ахилла, как свойство "любовницы Ахилла". Это соотношение задается при первом же появлении на сцене Поликсены. Гекуба спрашивает дочь о том, что укрепляет ее душу посреди несчастий. В отличие от Гекубы, поддерживаемой мыслями о некогда счастливой троянской земле, Поликсена обращена мыслями только к Ахиллу. Любовь Ахилла столь же "породила" Поликсену, как и земное рождение от Гекубы. Если Ахилл это точка трансцендентного единства мира, то Поликсена единственная из героев, кто имеет к ней доступ, кто доподлинно знает ее. Каждый из семи персонажей трагедии представляет некий онтологически укорененный характер, модус человеческого бытия. В совокупности своей они претендуют на идеальную полноту. Но в этой полноте отсутствует гармония, различия оборачиваются не взаимодополнением, но взаимоупором, враждой. Из семи только одна онтологическая доминанта, один луч бытия любовь пробивается к трансцендентному схождению всех лучей за пределами земного круга. Действие трагедии, таким образом, связано как с "симметричным" разделением персонажей (и сцен) по принципу природы и божественной активности, женского и мужского лагеря, так и с абсолютно "ассиметричным" выделением из всей совокупности персонажей Поликсены, выполнившей совершенно уникальную и одинокую миссию. Тема жертвы вытесняет тему согласия и примирения мужской и женской партии. Динамику сюжета "Поликсены" можно очертить предельно кратко, учитывая характеристики персонажей и отдельных драматических ходов, сделанные выше. Так, первые два действия выстраивают перспективу женского и мужского лагеря, их специфические внутренние коллизии, и в то же время каждое из них завершается отправкой вестника, посыльного к "другой" стороне. В третьем действии происходят, наконец, встреча и словесный поединок мужской и женской группы персонажей: Кассандры и Агамемнона, Гекубы и Улисса. Но эта встреча в драматическом пространстве обнажает невозможность встречи в пространстве ментальном. Речь идет не о том, что герои абсолютно глухи друг к другу, или что их идеалы абсолютно противоположны. Речи Кассандры и Гекубы оказывают свое действие на Агамемнона и Улисса, но отнюдь не подчиняют их своей логике. "Природа" вызывает сочувствие у мужских персонажей, но не входит непосредственно в сферу побудительных причин их поступков. Перипетия, происходящая в третьем действии обнажает предельный парадокс ситуации: Агамемнон в конце-концов берет под свое покровительство Поликсену, совершая то, чего тщетно добивались Гекуба и Кассандра, но по абсолютно иным мотивам, порожденным всплеском "яростного начала". Возникает иллюзия согласования женского и мужского (в лице Агамемнона) мира. Но это согласование не органичное, а насильственное, суть его выражена в последней в третьем действии реплике Агамемнона: "И, быв виновником паденья Илиона, // Хочу заставить вас любить Агамемнона" (Озеров, 333). Именно в этот парадоксальный момент, перед лицом предельно тонкой внутренней фальши Агамемнона Поликсена обособляется от "сонма" троянок: и Гекуба, и Кассандра воздают благословение Агамемнону, и только сама Поликсена молчит. 195 Глава 5. Трагедия Озерова Эта ситуация получает развитие и логическую экспликацию в четвертом действии. Оно начинается с той сцены, имеющей евангельскую параллель, где Поликсена, уже одинокая среди троянок (Гекуба уснула, успокоенная ложной надеждой, для Кассандры же, собеседницы Поликсены, чужды чувства сестры), окончательно избирает жертвенный путь. В то же время "новая распря", разгорающаяся между Агамемноном и Пирром, изобличает пагубность для греков и троянок "благих" намерений Агамемнона. Все пятое действие строится вокруг жертвоприношения Поликсены, свершение которого приводит к разрешению изначального трагического напряжения и тут же создает новое смысловое поле. Что же такое жертва Поликсены? Поликсена одно из воплощений "природы". "Природа" должна быть посвящена богам, дабы восстановилась гармония мира, нарушенная "богоподобными" героями. Эта ситуация, как уже говорилось, имплицитно задана в самом начале трагедии. Трагедия начинается клятвой Пирра во что бы то ни стало добиться жертвоприношения Ахиллу. В конце первого действия его намерение уточняется: Поликсена, выбранная им в качестве жертвы, должна быть сражена "не жрецом, но Пирровой рукой" (Озеров, 308). Иначе говоря, Пирр сам выступает в качестве жреца, посвящающего жертву Ахиллу, а через него богам ("с ним боги разделят и честь и фимиам"). Именно здесь возникает онтологическая апория. Пирр не может в действительности посвятить жертву Ахиллу, выступить жрецом, ибо ему недоступен целостный образ Ахилла, заключающий в себе трансцендентное единство начал, действующих в трагедии. Вместе с тем, Пирр не может не посвящать жертву тому образу Ахилла, которому он служит и который он носит в себе. Быть "посвященным" Ахиллу это значит посвятить ему свою природу, свое органическое существо. Но греки лишены в данном случае "своей природы". Природа, которой они владеют это природа Трои. Для Пирра вопрос посвящения природы богам означает, следовательно, подтверждение собственного служения, собственного героического образа. Это положение распространяется и на весь греческий стан, для которого Ахилл и его надгробный холм символизируют средоточие бытия. Клятва, которую произносит Пирр, за неисполнение которой он требует от Юпитера смерти и "бесчестного забвенья", есть нечто большее, чем личный максимализм, имеющий отношение только к Пирру. В этом глубочайшая завязка трагедии, открывающая то обстоятельство, что вся совокупность внутренних образов, героических служений "мужского лагеря" ставится в зависимость от акта жертвоприношения. Пирр не приносит в финале обещанной жертвы, ему не удается выступить жрецом, ибо Поликсена сама закалывает себя. Кара, вызванная нарушением клятвы, поражает, однако, не только Пирра, но и весь греческий лагерь, не причастный жертве Поликсены. С греков "снимается" их героический образ, которому они не смогли посвятить себя. Именно в этом смысл и причина наступления той эпохи "ахеян маломощных", о которой пророчествует в финале Кассандра. Жертву совершает сама Поликсена. О ее причастности природе было сказано достаточно, как и о доступности ей трансцендентного образа Ахилла. Отметим еще один аспект, связанный с ее посвященностью Ахиллу. В той мере, в какой Поликсена вступает на путь жертвы, она принимает на себя и черты мужских персонажей. Эти мужские героические черты впервые проступают в третьем действии, когда Поликсена произносит формулу героического принятия своей судьбы: "Докажем мы в сей день пред греческой толпою, // Что Гектору ты мать, что я сестра герою, // Что бедства твердости с души не могут стерть" (Озеров, 329). Мужская твердость духа в полной мере проявлена ею в последний момент жизни. Речь идет о пределе героической крепости духа. "Взирай, как умирать умею," предсмертные слова Поликсены, в контексте русской традиции воспринимающиеся как эхо последних слов Вадима. Отнимая у Пирра право жертвоприношения, Поликсена побеждает его, воплощение 196 Глава 5. Трагедия Озерова "мужества", своим собственным мужеством ср. слова Пирра: "Граждане! Изуленный, // Недвижим остаюсь здесь в ваших я очах; // Нет, твердости такой не полагал в женах" (Озеров, 353). Посвящая себя Ахиллу, Поликсена приобщается к идеальной полноте человеческого образа, принимая на себя и ту мужскую, активную составляющую этого образа, на потерю которой обречены греческие герои. Жертва совершена. Природа отдана богам и строй мира вновь обретает полноту, ветер наполняет пространство меж небом и землей, пришли в движение "сонны ... валы пучины водной". Природа преображена, но не преображен никто из иных участников драмы, не имеющих отношения к этой жертве. Метафизика жертвы, отразившаяся в трагедии, имеет в конечном итоге два аспекта. Первый из них тот, что в основе мироздания, разделенного на две онтологически различные области природу (существование экзистенцию) и "божественную" активность (бытие) лежит жертва, приводящая к их единству. Само положение ее на сломе эпох в трагическом космосе говорит о фундаментальности этого акта. Христианские реминисценции здесь отнюдь не означают какого-либо скрытого оптимизма, опоры на "живую веру", приводящую к снятию трагизма. Если говорить о неявной параллели трагической жертвы с жертвой Христа, то ее авторское понимание развернуто, скорее, не от античности ко Христу, но от Христа к античности, к дохристианским временам. Сгусток религиозного чувства, воплотившийся в "Поликсене", свидетельствует о мучительной неизвестности пути к божественной и человеческой полноте, вне которой остается весь ряд героев, безусловно близких и дорогих автору. Образ трансцендентного бога у Озерова в определенной мере продолжает тенденцию Расина и янсенистов с их "скрытым богом". Но глубинная близость христианской категории жертвы и жертвенной любви здесь такова, что читатель может пользоваться и другим кодом восприятия: тем, которым Паскаль некогда утвердил трагическую антиномичность в глубине христианского мировоззрения. Именно по этому принципу на заре русской трагедии произошла симптоматичная "ошибка" Сумарокова, принявшего вольтеровскую "Заиру" за подлинно христианскую трагедию. Но если Бог недоступен и неясен, то человек именно в сюжете жертвы предстал наиболее отчетливо в своих первоначальных онтологических функциях, легших в основу психологических измерений характеров. Единственный и универсальный метафизический тип сумароковского героя, два-три онтологически различных, но предельно обобщенных типа героев Княжнина превратились в целый спектр характеров онтологических функций. Во всем этом многообразии, однако, действует бесконечно утончившийся сумароковский принцип одновременности добра и зла в человеческой натуре. Внутренняя предрасположенность к совершению зла называется в религиозном дискурсе грехом, внутренняя невозможность принять участие в благе (длиться наравне с благом) слабостью и слепотой человеческой природы. Эти понятия можно употоребить в данном случае, учитывая религиозные первоосновы русской трагедии, остававшиеся актуальными от Сумарокова до Озерова. В этом случае система озеровских характеров может быть прочитана как феноменология слабости и слепоты (Гекуба и Кассандра) и греха (ахейцы), неразрывно связанных с различными благими началами человеческой натуры. Евангельский фрагмент, на который ссылался в своем письме Озеров, акцентирует внимание на Иуде. Сопоставление заключительных слов Нестора о безнадежности человеческой жизни со словами Христа о предательстве Иуды по сути дела приравнивает общую вину ахейцев к абсолюту греха, воплощенному в Иуде. Равенство их носит, однако, отнюдь не статичный, но динамичный характер. На дальнем плане озеровской трагедии есть персонажи, которые могли бы быть соотнесены с Иудой непосредственно Парид и Елена. Именно они воплотили в себе абсолютное и 197 Глава 5. Трагедия Озерова спонтанное зло, положившее начало кровавой распре народов. Сами деяния их, фиксируемые в трагедии, состоят в неверности, измене, предательстве. Ими дан первоначальный импульс, запустивший механизм человеческой вражды, импульс, отнюдь не снимающий ответственности с участников драмы. Евангельские слова, указанные Озеровым, приводят на память другое евангельское речение, текстуально близкое им, свидетельствующее о том же "fatalism'e": "Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит" (Мф. 18,7). Речь здесь идет уже не о предрешенности предательства Иудой Христа, но о приходе греха в мир, к людям (точнее даже, по Евангелию, к детям). Эта захлестывающая неизбежность падения служит в данном случае предметом утонченного драматического анализа. Лишь Поликсена, воплощающая само начало любви, лишена и слабости и греха, будучи отсветом совершенства запредельного идеала. Но это совершенство, мыслимое лишь в акте жертвы, предания себя за жизнь мира, состоящего из слабых и грешных людей. 198 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Финал "Поликсены", полный беспросветной скорби, невольно возбуждает мысль о личном творческом и духовном кризисе Озерова. Но любое утверждение здесь требует осторожности. Действительно, глубина личностного трагизма, фундаментальность духовного разлада различных начал в человечестве, воплощенные в "Поликсене", стали как бы предвестием личной драмы поэта, впавшего вскоре в безумие. Между тем, новые принципы построения характеров, найденные Озеровым в его последней трагедии, глубина освоения им мировой традиции, новые художественнофилософские решения могли бы, кажется, открыть новый этап творческого пути драматурга. По сохранившимся отрывочным сведениям Озеров сжег целый ряд пьес, за которые принялся уже после "Поликсены". Перечень их поражает неожиданностью сюжетов "Медея", "Осада Дамаса", "Вельгард Варяг мученик при Владимире."128 Сюда же относится и замысел трагедии о Волынском, о котором Озеров писал Оленину, удивляющий совершенно беспрецендентной близостью исторического сюжета к современности. Все это несостоявшиеся фрагменты нового пути, по которому Озерову пройти не удалось, но полноценным памятником которого осталась его "Поликсена". Рядовая трагедия и театральная жизнь 1800-1810-х годов прошла мимо озеровской "Поликсены". Между тем на нее был дан поистине творческий ответ. Речь идет об "Андромахе" Катенина, которая явилась не пассивным эпигонством героической трагедии 1800-х годов, но попыткой выйти на новые эстетические рубежи. Фигура Катенина в истории русской классицистической трагедии в некотором отношении сопоставима с Сумароковым. Ни Княжнин, ни Херасков, ни Озеров, интенсивно работавшие в жанре трагедии, не оставили практически никаких теоретических деклараций. Особое видение жанра, безусловно присущее каждому из них, осталось не эксплицированным, опознаваемым только по его непосредственной реализации в драматическом тексте. Сумароков и Катенин авторы эстетических статей, литературных манифестов. Это безусловно связано с выпавшей им на долю (и принятой ими на себя) исторической ролью: одному быть начинателем классицистической трагедии, другому ее "последним из могикан". "Эпистола о стихотворстве" Сумарокова появилась в момент литературного брожения середины XVIII века, пролагая путь новым жанровым формациям; "Размышления и разборы" Катенина вышли в свет в 1830, когда идеи классицизма казались уже безвозвратно ушедшими в прошлое, и сам Катенин явно ощущал себя одиночкой перед лицом нового литературного направления. Для нашей темы "Андромаха" Катенина и воплотившийся в ней эстетический опыт представляются необходимым завершающим пунктом. "Андромаха", начатая сразу же вслед за озеровской "Поликсеной" в 1809 году, опирающаяся на те же или близкие античные источники, воспроизводящая коллизию тех же героев, должна быть соотнесена с "Поликсеной" и озеровским творчеством в целом, что уже отмечалось исследователями129. Вместе с тем, именно катенинская "Андромаха" и его критические статьи могут быть поняты как своеобразное связующее звено между Озеровым (а также предшествующей традицией классицистической трагедии) и пушкинским творчеством. Об авторитетности Катенина для Пушкина свидетельствует и вся история их личных отношений, и высокий отзыв Пушкина об "Андромахе", противостоящий иронической оценке журнальной критики, и публикация "Размышлений и разборов" Катенина в "Литературной газете" по настоянию Пушкина. Логично сопоставить эту высокую оценку Пушкиным Катенина-"классика" с его резко отрицательными суждениями об Озерове и негативными высказываниями о предшествующей русской трагедии. Основные контуры катенинской эстетики трагического в достаточно концентрированном виде предстают во фрагменте из его статьи "Еще слово о Фингале" 199 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии (1820), где общие теоретические суждения связаны как раз с оценкой Озерова:" ...все порядочные критики всегда и везде требовали одного: натуры, истины, здравого смысла. Вот достоинства главные в глазах истинного критика: в них он не может извинить никаким блеском ума или воображения, никакою гладкостию или гармониею слога. С поэтом отличного дарования, ослушником законов разума, поступит он, как предписывает Платон в республике своей поступать со всеми любимцами муз: он возложит на главу его венец из цветов и с честью... проводит за городские ворота. Греческие трагики, дышащие натурою, не подвержены такому осуждению; ученик их, Расин, почти также; Корнель, создатель французского театра, слишком велик, чтоб над ним шутить; остается на жертву один Вольтер и его школа, к которой, к сожалению, нельзя не причесть и нашего Озерова."130 Катенин, как можно видеть, утверждает ценностную шкалу драмы, в которой первое место занимает античность, второе классика XVII века, хотя критика ее уже допустима, Вольтеру же и "его школе", трагедии эпохи Просвещения (куда Катенин включает и Озерова), отказано в звании образцовых. Оценочное суждение сохраняет при этом определенную гибкость, ибо вводит "внесхемное" место для творческого дарования, пренебрегающего "законами разума": из более широкого контекста статьи ясно, что место это зарезервировано в данном случае для Озерова. Если присмотреться к приведенному выше высказыванию, то возникает ощущение, что в нем соединяются оценочные приоритеты двух разных эпох. "Натура, истина и здравый смысл" означают апелляцию к классицистическим нормам разума в "Размышлениях и разборах" эта тема получит традиционное развитие в связи с защитой "единств" и критикой романтической фрагментарности построения пьесы, самодовлеющей выделенности отдельного образа. С другой стороны, оценка античных шедевров, высоко поднимающая их над общепризнанными вершинами классики, напоминает о романтическом открытии античности как яркого образца органичной национальной культуры, противопоставляемой подражательности классицизма, традиции, отвернувшейся от собственных национальных корней. Между тем, подобное понимание античности отчетливо осознавалось самим Катениным как неприемлемый атрибут современного романтизма131. Он отстаивает подражание образцам, античность, как и другие эпохи, для него существуют в неизменном континууме разума. В контексте эстетики Катенина вполне могут быть применимы слова Расина и Сумарокова о единстве вкуса "Парижа и Афин". Но подобно тому, как для Расина и для Сумарокова за этими словами стояло далеко не тождественное содержание, иной смысл вкладывал в концепцию "единства вкуса" и Катенин. Катенин совершает своего рода новое открытие классицизма, побуждаемый полемикой с провозгласившим свою эстетическую доктрину романтизмом ( напомним, что в "Размышлениях и разборах" неизменным оппонентом критика оказывается Ф.Шлегель). О решительности Катенина-традиционалиста, пересматривающего традицию, говорит его глубокий скепсис к авторитету Аристотеля: Аристотель для него не более, чем "Шлегель древности"132; да и персональный состав "порядочных критиков", на которых он ссылается, остается у него крайне неопределенным. Непосредственная причина его недовольства Аристотелем связана с переоценкой самим Катениным роли Еврипида: "трагичнейший из греческих трагиков", по определению Аристотеля, Еврипид квалифицируется Катениным как "афинский романтик", его же собственные симпатии принадлежат Эсхилу и Софоклу подлинным, с его точки зрения, классикам. Другой решительный шаг Катенина отказ от признания Вольтера, бывшего вплоть до первых десятилетий XIX века наиболее значимым авторитетом в традиции классицизма.133 Вольтер признан им отступником от подлинного классического вкуса. За этими претензиями на переструктурирование традиционной иерархии трагиков стоит художественный опыт Катенина как переводчика французской классики и творца 200 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии "Андромахи", усвоившего в то же время и ряд достижений озеровского творчества, прежде всего "Поликсены". Прежде чем перейти к "Андромахе" и продемонстрировать ее теснейшую связь с "Поликсеной", следует собрать воедино и кратко сформулировать те касающиеся трагедии позитивные эстетические положения, которые разбросаны на страницах "Размышлений и разборов". Катенин отстаивает, прежде всего, "единство" и "простоту" в архитектонике трагедии: "Единство вообще есть первое непреложное правило всех искусств; оно основано на естестве ума и чувства человеческого"134, "содержание простое, немногословное, как выбирали греки и ученики их, почти всегда не с большим трудом входит в пределы временного и местного единства"135, "желающий творить в благороднейшем из родов драматических, в коем потребны сверх верности и живости изображения еще высокость и красота самого предмета, должен непременно не отступать от источников, из коих единственно красота и высокость проистекают: единства и простоты."136 В катенинской апологии классицизма возникает и хорошо известное "сравнение с картиной", призванное иллюстрировать необходимую концентрацию и единство драматического материала137. Все это отражает тот изначальный принцип непрерывности и слитности художественного мира классицистической драмы, который был нами охарактеризован как господство существования-экзистенции в общем онтическом строе. Но в этом слитном и простом драматическом единстве выделяется центр драматического интереса человек: "Рассмотрев поближе, увидим один только предмет высокий это человек", "Предмет искусства вообще человек; драматического в особенности человек в действии. Кто сумеет пружины его действия, нравы, чувства и страсти изобразить верно, сильно и горячо, заслужит похвалу знающих"138. Несмотря на кажущийся трюизм этих утверждений, в них заключается главный нерв катенинской эстетики, ее центральное положение, далеко не с полной ясностью проартикулированное самим Катениным: "человек" мыслится им не как репрезентация "природы", не как выразитель "естественных" чувств и отношений, но и не как выразитель вечных идей и принципов, посвятивший себя возвышенному служению. Иными словами, "человек" Катенина уже не переживает канонический для классицизма трагический конфликт, для него становятся неактуальны начала экзистенции и бытия в том плане, в каком они были очерчены в данном исследовании. "Человек" не мыслится им в зазоре между экзистенцией и бытием, т.е. между "природой" и вечными ценностями, разошедшимися к разным полюсам, как это было в трагедии XVII века; не становится он и гармоническим средоточием их, как это постоянно демонстрировалось в драме Просвещения. В "Андромахе" это проявится в отказе от сентиментальной поэтики, в "жесткой" переинтерпретации чувствительных мотивов и ситуаций, всего комплекса поэтических средств, за которым закрепилась функция выражения "природы". С другой стороны, здесь исключена и вся сфера высоких идей, нравственных истин, галантных или патриотических идеалов, становившихся объектами служения в трагедии классицизма. Таковы могут быть "апофатические" утверждения о катенинском человеке как субъекте трагедии. В позитивном плане о нем можно будет утверждать, что он мыслится как субъект воли, осуществляющий частный интерес, порыв, замысел, удерживаемый в границах "высокого". Прервем пока эту предварительную характеристику, ибо аргументация, необходимая для ее раскрытия, неизбежно уводит от эстетических статей к творчеству Катенина-драматурга. Он так и не написал тех глав "Размышлений...", которые должны были быть посвящены предшествующей русской литературе и французской драме, глав, в которых, очевидно, должна была быть развернута и отточена критика собственно классицистической традиции. Поэтому в его статьях можно найти только 201 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии отдельные положения о "человеке в драме", проясняющие, в свою очередь, его художественные решения. Среди этих положений его отказ от ярких и контрастных характеров в драме, с чем связано отвержение им софокловой "Антигоны": "...в последней (имеется в виду "Антигона" Е.В.) не нахожу я тех высоких достоинств, той чистоты и очерка, той натуры, и простоты, что в первом (т.е. в "Аяксе" Е.В.). Отвратная жестокость Креона, подлость старцев, составляющих хор, юношеский пыл Гемона, малодушие и потом раскаяние в нем Исмены, мужество Антигоны, развязка, ужасная гибелью целого семейства, все это, по мне, слишком мрачно, ярко, подвижно, эффектно для сцены древних и более похоже на вкус Еврипида и новейших трагиков, нежели на обычную тишину творца "Аякса"."139 Отвергается и этическая контрастность характеров, которую должна заменить гамма промежуточных тонов. О героях Альфиери Катенин пишет, что они "через край добродетельны и несносно надменны, злодеи из меры вон злы и отвратны; тех легких и едва приметных черт, которыми искусный художник до обмана подходит к натуре, он вовсе не знал."140 Но вместе с тем, вовсе не тонкость нравственной оценки, в противовес прямолинейности и настойчивости, имеет в виду Катенин. В этом смысле замечательна его реплика по поводу "Эдипа Царя" Софокла: "Одна только в нем погрешность: бесполезное обвинение Креона; и здесь несогласен я с пристрастным заступлением некоторых критиков, оправдывающих это гневливым характером Эдипа. Его нравственные свойства маловажны (подчеркнуто мной Е.В.) в сравнении с его невольным преступлением и несчастием; все, что развлекает внимание зрителя к ним, вредит впечатлению и смыслу трагедии."141 "Впечатление и смысл трагедии", следовательно, производятся отнюдь не нравственными свойствами героев, что было характерно для драматургии Просвещения. Смысловые доминанты трагедии Катенин формулирует в связи с "Эдипом-царем" и "Эдипом в Колоне" Софокла: "две трагедии, в коих представил он таинственную, страшную и, наконец, умиленную судьбу, всевластную над деяниями, бессильную над волею человека (подчеркнуто мной Е.В.), суть достопамятнейшее творение второго из греческих трагиков."142 Судьба и человеческая воля таковы важнейшие начала, встречающиеся, по Катенину, на поле трагедии. Эти понятия могут быть уяснены и раскрыты при анализе его "Андромахи". "Андромаха", начатая в год премьеры "Поликсены" и писавшаяся на протяжении десяти лет, связана с озеровской трагедией неразрывными нитями. Но связи эти неоднородны: здесь и творческий импульс, восприятие определенных открытий, и острая полемика, переинтерпретация родственных мотивов. Отметим сразу же круг основных источников катенинской трагедии. Ими являются в той или иной мере две античные трагедии "Троянки" Еврипида и Сенеки, в каждой из которых Андромаха укрывает от греков Астианакса. Катенин разрабатывает, таким образом, вторую половину сложного античного сюжета, первая часть которого послужила материалом для "Поликсены"143. Другой важный источник "Андромаха" Расина, к которой у Катенина восходит общая канва коллизии Андромахи и Пирра. Третьим по очередности, но не значимости, источником является озеровская "Поликсена". С ней связана прежде всего сюжетная линия конфликта вождей. Но, вместе с тем, мотивы "Поликсены" пронизывают всю трагедию Катенина от рассказа Андромахи о явлении тени Гектора до заключительной жертвы и удара грома. Можно привести множество реминисценций, разворачивая это положение. Заметим, что как и в озеровской "Поликсене", сама система источников здесь включает тексты трех эпох (собственно русская трагедия, французский классицизм и античность) и опирается на двойную римско-греческую первооснову. Творческий импульс, без которого была бы невозможна "Андромаха", связан с открытой Озеровым в "Поликсене" многофигурной композицией, многообразием характеров, раздвинувшим тесные рамки коллизии, которая включала, как правило, 202 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии двух антагонистов, мечущуюся между ними страдающую героиню, и некоторое число абсолютно второстепенных, вспомогательных персонажей. У Катенина четыре равноправных персонажа Андромаха, Пирр, Агамемнон и Улисс. Озеровские персонажи объединялись в две контрастные группы: мужскую и женскую. Деление это, отнюдь не поверхностное, было связано с историей этого сюжета, и имело внутренние метафизические основания. Кроме того, сами герои непременно соотносили себя с возвышенными принципами, идеями, претендовавшими на всеобщность. Неоднозначность их характеров порождалась как раз дистанцией между их нравственной доминантой и комплексом "личных видов". Но именно этот уровень открытой "философичности" трагедии снимает Катенин. Герои "Андромахи" отстаивают свои собственные интересы, отнюдь не претендующие на соответствие всеобщим принципам. Каждый из них, появляясь на сцене, практически сразу же "выговаривает" весь круг своих требований и претензий к другим действующим лицам: Андромаха мечтает о спасении от греков Астианакса и, в случае успеха, ей уже видится будущее отмщение за Трою; Пирр возмущен "пренебрежением" греческих вождей и прежде всего "кичливого" Агамемнона к памяти Ахилла и к нему лично, что составляет начальный потенциал его конфликта с вождями, этот потенциал переходит в распрю, разгорающуюся из-за Андромахи и Астианакса; Агамемнон сразу же заявляет себя как принципиальный противник "кичливца" Пирра, стремящийся его наказать; Улисс также первым делом объявляет о своей вражде к Пирру, начавшейся "спором за доспехи Ахилла", и предлагает Агамемнону свою тактику "хитрости", провоцирующей Пирра на активные действия. Все эти герои ни в коей мере не разделяются на добродетельных и злодеев, что отвечает принципиальному положению Катенина-критика. И дело здесь не только в том, что трудно различить "справедливые" и "несправедливые" взаимные претензии сама справедливость предъявляемых нравственных требований отнюдь не призвана выразить некий общезначимый идеал. Достаточно сравнить начальные формулы взаимообвинений Пирра и Агамемнона. Пирр, перечисляя вины ахейцев перед ним, заявляет: "Коль Трои я, Алким, паденье ускорил, // Не мщенью греков я, мне чуждому, служил; // Я мстил лишь за отца, безвременно сраженна // <....> // Отмщенья алчущим нашел меня Улисс // <...> // Но, боги! тот ли мнил найти себе прием? // Никто не сожалел там об отце моем, // Всю рать порабощал Агамемнон кичливый, // С ним купно властвовал Улисс многоречивый // <...> // И, наконец, доспех, Ифестов дивный труд, // Улиссу отдал в дар вождей неправый суд // Я с хладностью не мог терпеть сея обиды // Мне ненавистными соделались Атриды" (Катенин, 374). Агамемнон же, в свой черед, характеризует Пирра: "Кичливцу мстить судьба мне случай подает, // Давно уже сей Пирр, во всем отцу подобный, // Надменный так, как он, неумолимый, злобный, // Всех ненавистней мне от греческих мужей. // Едва из Скироса он прибыл в стан вождей, // Его строптивость вдруг всех греков оскорбила // Он властвовать хотел оружием Ахилла // <...> // И ратных и царей противяся суду" (Катенин, 376). Очевидно, что обоими антагонистами в равной степени движет личное пристрастие, ревниво оберегаемый личный интерес. То же самое можно продемонстрировать в отношении Андромахи и Улисса. 203 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Отчетливая полемичность по отношению к "Поликсене" проявляется именно в том, в какой контекст включена аргументация героев. Так, Агамемнон произносит слова "мне... кровью слабого постыдно обагриться" (Катенин, с.375), заставляющие вспомнить озеровского Агамемнона защитника справедливости, но Агамемнон Катенина без всякой рефлексии и внутренней борьбы тут же соглашается с общим мнением греков и высказывает свою собственную кровную ненависть к Пирру. Улисс выступает со своей дипломатичностью и осторожностью, перемежая противные Пирру требования похвалами в его адрес, он так же как Улисс Озерова апеллирует к "воле народа" (д.II, явл.2). Но все это происходит уже после его откровенного признания в ненависти к Пирру, и, следовательно, полностью дезавуируется. Андромаха, подобно озеровской Гекубе, молит Улисса помиловать ее дитя, напоминая о божественном правосудии и о его собственных отцовских чувствах (д.III, явл.5), но это вовсе не репрезентация "природы", чистой сострадательности и материнства, ибо перед этим, пока Андромаха была уверена в безопасности сына, она высказывала гордую надежду на будущее мщение грекам (д.II, явл.6). Можно уточнить степень преемственности героев Катенина по отношению к "Поликсене". Именно персонажи "мужского лагеря" трагедии Озерова, восходящие к героям Сенеки, были восприняты и преображены Катениным. Связь их с Сенекой в данном случае и опосредованная и непосредственная, ибо трагедия Сенеки лежит в основе "Андромахи"144. Активное волевое действие, неудержимая ярость присущи всем персонажам трагедии Катенина. В этой волевой стихии стирается грань и между мужским и женским характером в самой Андромахе преобладают те же ноты честолюбия и решимости, "мужественность" поддерживается и всем стилистическим строем драмы, чуждающимся элементов чувствительной поэтики. Таков ближайший генезис и таковы внешние контуры катенинских персонажей субъектов воли, отстаивающих собственные замыслы и интересы. Добавим еще несколько уточняющих моментов. Эти герои лишены, как не раз уже говорилось, возвышенных нравственных устремлений, что отнюдь не снижает их высокий статус: все их интересы остаются в рамках этикетно "высокого", их можно охарактеризовать как возвышенное честолюбие. Эта характеристика делает всех их представителями одного типа, с весьма блеклыми индивидуальными чертами, различающимися не столько характерами, сколько положениями, заданными сюжетом. Они лишены и демонстративной и утаенной рефлексии, сколь-либо значимых внутренних колебаний, которые были свойственны конфликтному строю трагедии классицизма озеровскую скрытую двойственность сменило здесь отсутствие двойственности. Вместе с тем, в героях "Андромахи" своеобразно реализуется та "простота", которая была провозглашена эстетикой Катенина. В этой "простоте" персонажи как бы тождественны самим себе, говорят исключительно от своего лица, а не от имени сверхличностных начал. Герой замыкается в своей личности, обращая к миру требования и претензии. Эту замкнутость субъекта воли можно понять как новое появление "образа сущности" на поле трагедии. Размывание онтологической чистоты классицистического канона было свойственно всей эпохе Просвещения, увлеченной многообразием воспроизводимой "природы". Но пока на всем этом многообразии лежала объединяющая его печать "природы", стилистически и идейно закрепленная, возвращение к образу-сущности не могло произойти. Только отказ от стилистики и идеологии Просвещения, но отказ, сопровождаемый тонким восприятием импульсов и запросов, порожденных эпохой, мог привести к возобновлению и новому открытию этой первичной структуры образа. 204 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Воля героя, между тем, составляет только одну из двух действенных сил катенинской трагедии. Вторую представляет судьба. Судьба это универсальная причина актуальных обстоятельств и расположения сил. Именно как универсалия судьба, столь часто упоминаемая в "Андромахе", служит выражению того единства и непрерывности классицистического мира, которые столь энергично отстаивал Катенин-критик. Но судьба понимается и как орудие богов, она может обретать конкретность, сопротивляться индивидуальной воле: "Сколь много может муж противиться судьбе, // Столь много сделаю..." (Катенин, 406). Конфликтное напряжение осмысляется как противостояние судьбы и личной воли, отнюдь не превращается в канонический трагический конфликт, в неснимаемое противоречие. Следует вспомнить слова Катенина о судьбе у Софокла о "таинственной, страшной и, наконец, умиленной судьбе, всевластной над деяниями, бессильной над волею человека." Добавим к этому его слова об "Эдипе в Колоне" :"Сколь строго было испытание богов над Эдипом, сколь страшен пример, поданный в нем слепой гордыне человеков, столь же велика награда страдальцу: смерть чудесная, святая, за которою воображение представляет себе вечный и безмятежный покой."145 "Вечный и безмятежный покой" эта характеристика подходит не столько к Софоклу (у которого речь идет, скорее, о священном ужасе происходящего), сколько сколько к Дюси и Озерову. Ср. в "Эдипе в Афинах" Озерова: "Смерть к светлой вечности нам отворяет дверь." Далее в своих "Размышлениях" Катенин отметит озеровского "Эдипа" среди трагедий, "заслуживающих остаться на сцене."146 Примирительные, гармонические мотивы раннего Озерова, таким образом, вполне устраивали Катенина, недовольного в целом "вольтеровским направлением". Развивая мотивы судьбы и богов в "Андромахе", Катенин вступает в острую полемику с Озеровым. Катенин не принимает именно трагической перспективы "Поликсены", с ее осуждением всех героев греческого стана, с разверзающейся пропастью судьбы. Финальная жертва "Андромахи" искупительная, гасящая вражду и примиряющая героев. Персонажи "Андромахи", продолжающие образы озеровских антагонистов, не осуждены, но оправданы: боги только довели их до опасной точки, не допустив катастрофы и междуусобной брани. Герои проходят через испытание, и судьба в конце концов отступает перед ними. Можно отметить и другой связанный с этим момент: герои Катенина, в свою очередь, готовы заранее склониться перед судьбой и волей богов. Ср. слова Пирра: "Коль благ нам Посидон, не попущу награду // Атриду гордому отъять из рук моих. // Но если положил в заветах Дий своих, // Чтоб смертью умер он, как жертва очищенья, // Дерзну ли на богов ему для защищенья?" (Катенин, 406). Будучи "возвышенными честолюбцами", добиваясь первенства в земной сфере, герои Катенина отнюдь не гордецы в предельном значении этого слова, не претендуют на подмену сакральной власти, но охотно уступают ей место в земных делах. В этом опять-таки состоит их отличие от озеровских героев. Судьба как всеобщая связь вещей становится не столько помехой, сколько основой для реализации автономных человеческих воль: "судьба, всевластная над деяниями, бессильная над волею человека." Хорошо известна высокая оценка, данная Пушкиным "Андромахе" в письме Катенину 1823 года и в последующей заметке "О народной драме и драме "Марфа Посадница":""Андромаха", может быть, лучшее произведение нашей Мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому"147. Оценку эту неизменно пытаются обосновать авторы, затрагивающие тему катенинского творчества. В различных вариациях и с разной степенью настойчивости выдвигаются три момента, оправдывающие ее: декабристский пафос борьбы с тиранией, якобы присущий "Андромахе", психологическая сложность ее характеров и введение античного колорита148. Все эти соображения, однако, могут быть оспорены: Катенин как раз избегает какой-либо определенной идеологической подоплеки драматической 205 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии коллизии; характеры его героев, наоборот, спрямлены и упрощены по сравнению с "Поликсеной", от которой берет начало катенинский замысел; Катенин избегает и нагнетания материальных примет, предметной иллюзии античного локуса; его концепция судьбы и воли имеет определенные истоки в античности, но в сущности глубоко противоположна ей финальная искупительная жертва диссонирует с античными трагедиями, трактовавшими этот сюжет149. Не следует, по-видимому, придавать пушкинской оценке объективный историколитературный смысл. "Андромаха", ставшая ближайшей преемницей озеровской "Поликсены", ни в коей мере не достигает ее глубины и смысловой напряженности. Ей более всего подобает то место, которое в истории литературы до сих пор отводится озеровским трагедиям, место несовершенного, слабого звена между двумя зрелыми типами художественного творчества. В "Андромахе" совершается перелом традиции, но перелом совершенно иного рода, нежели, например, в хронологически близкой французской романтической драме 1820-х годов. Речь идет не о "сметании фигур с доски", не об отказе от принципов классицистической трагедии как таковой, но о "революции" внутри прежней традиции. При этом отброшенным оказался огромный пласт проблематики, связанной прежде всего с конфликтом классицистической трагедии, а вся ближайшая история жанра, как в его русском, так и французском вариантах, попала под огонь критики. Но тем не менее был сохранен важнейший принцип "подражания образцам", т.е. непосредственного участия в традиции. Сохранена была и исходная составляющая классицистического мирочувствия континуальность пространства и времени, непрерывность и внутренняя логичность совершаемого действия, имеющие своей основой акцентацию экзистенции в онтологической перспективе мира. В единую ткань классицистической драмы внедрился вместе с тем новый образ героя, новый агент действия. Он во многом продолжал тенденции предшествующей классицистической драмы, но все же был сущностно иным, был поиному онтологически помыслен: образ-сущность, онтологическая монада, независимый субъект воли. То, что "сила истинных чувств" и "истинно трагический дух" были восприняты Пушкиным именно в "Андромахе", во многом, видимо, говорит о принципиальной значимости для него творческих открытий Катенина. С этой точки зрения может быть рассмотрено и критическое отношение Пушкина к предшествующей русской трагедии, и построение его собственной драматической поэтики. Замечания Пушкина на предисловие Вяземского к сочинениям Озерова содержат критические инвективы, чрезвычайно близкие к высказываниям Катенина и внутреннему смыслу его творческой полемики, его драматического состязания с Озеровым. "Противуположность характеров", "пошлая пружина французской трагедии" есть принцип, отвергнутый Катениным, развивавшим идею о самостоятельных героях с их автономными чувствами и страстями. Если в классицистической трагедии, в том числе и у Озерова, первичен сам конфликт, в котором герои обретали себя, неизменно определяясь в "противуположности характеров", то Катенин постулирует первичность "человека" в драматическом пространстве, конфликт становится только испытанием. Сентиментальные ноты поэзии Озерова, его поэтика "природы", определившая весь пафос апологии Вяземского, верного "арзамасским" вкусам, отнюдь не ставились Пушкиным в заслугу Озеровутрагику вспомним в этой связи отказ Катенина от чувствительной поэтики, вполне определенно проявившийся в "Андромахе". Наконец, чрезвычайно существенно центральное, вероятно, из суждений Пушкина, высказанных в этих заметках: "Поэзия выше нравственности или по крайней мере совсем другое дело <...> какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона."150 Можно напомнить приводившееся выше суждение Катенина о "маловажности" нравственных свойств Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 206 Эдипа в общей смысловой перспективе трагедии; актом отказа от нравственной проблематики, непосредственно подчиняющей себе героя, стало создание катенинской "Андромахи". Самостоятельный герой, не являющийся тем не менее целью обособленного эстетического любования, погруженный в пространство связного и непрерывного драматического мира, пребывающий в стихии воления и действенной активности таковы основные черты поэтического мира Катенина, которые могут быть соотнесены уже с драматической поэтикой Пушкина. В какой мере в "Борисе Годунове", созданном после после знакомства с "Андромахой", и в "маленьких трагедиях", написанных в год выхода катенинских "Размышлений", могли отразиться катенинские принципы вопрос, который может быть поставлен, но решение его выходит далеко за рамки настоящей работы. Важно, по крайней мере, осознать тот факт, что пушкинским трагедиям, ставшим для последующих читателей первыми подлинно значимыми произведениями этого жанра, предшествовала вполне оригинальная разработка трагедии, построенной на иных основаниях, забывшихся с течением времени, но сохраняющих свой собственный поэтический и духовный потенциал, о котором возвестили почти через сто лет после смерти Озерова, последнего трагика старой традиции, стихи Мандельштама. Примечания 1. Отметим сразу же, что одно из этих немногих недраматических произведений, по-видимому, ошибочно приписывается Озерову с 1828 года вплоть до настоящего времени. Речь идет об оде "Подражание Лебрюну", впервые опубликованной в "Сыне Отечества" в 1828 году (ч.3, с.95) вместе с непубликовавшейся раньше трагедией "Ярополк и Олег" и представляющей собой перевод-переложение оды Экушара Лебрена "Sur L'enthousiasme". Комментируя эту вещь в собрании стихотворных произведений Озерова в "Библиотеке поэта" И.Н.Медведева отмечала: "По-видимому, Озеров в своем переложении Лебрена состязался с Храповицким (см. послание ему, стр.406), который напечатал в 3-й книжке "Аонид" (1798 1799), стр.69, оду "Восторг. Подражание оде ле-Брюна." (Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. "Библиотека поэта". Л., 1960. С.427; далее Озеров; произведения В.А.Озерова цитируются по этому изданию с указанием страниц в тексте работы). Между тем в указанной книжке "Аонид" на с. 69 напечатана под прозрачным криптонимом Храповицкого слово в слово та самая ода, которая с 1828 года стала приписываться Озерову. Можно выдвинуть два варианта объяснения ситуации: или перед нами изначальная литературная мистификация, что само по себе требует дополнительных подтверждений, или, что более вероятно, публикаторам "Сына Отечества" не была известна давняя публикация в "Аонидах", а сама ода была найдена ими в архиве Озерова, где она вполне могла оказаться в силу литературных и дружественных связей Озерова с А. В. Храповицким (см. о них: М.А.Гордин. Владислав Озеров. Л.,1991. С.42-46). 2. Гордин М.А. Владислав Озеров. Л.,1991. 3. Катенин П.А. Размышления и разборы. М.,1981. С.178. 4. "Озеров произвел частичное преобразование классицистической трагедии в духе сентиментализма. Но при всех отступлениях автора "Поликсены" от классицизма он не порвал полностью с этим направлением даже и в своих наиболее зрелых созданиях." (Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия начала XIX века [1800-1815]. Куйбышев, 1959. С.129.) 207 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 5. Потапов П.О. Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова. Одесса, 1915. С.796. 6. Там же. С.775. 7. См.: Lettre amoureuse D'Heloise a Abelard, traduction libre de M.Pope, par M. Colardeau. Paris, 1766. 8. Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров. С. 16-17. 9. Глинка С.Н. Записки. СПб., 1895. С. 60. 11. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 294-297. 12. Ср. слова Свенальда в начале трагедии: "Меня заслуга сверх законов поставляет," "Не мстит лишь только тот, кто духом мал и слаб,// Или кто чувств лишен, как угнетенный раб" (Озеров. С. 78, 79); его сюжетная роль провокация Ярополка на убийство брата, которое в конце концов он сам берется исполнить; но, будучи обезоружен и прощен Олегом, он не принимает прощения и и закалывается собственным кинжалом. 13. Потапов П.О. Из истории русского театра... С.295-296. 14. Вяземский П.А. Сочинения. М.,1982. Т.2. С.20. 15. См.: Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 42; Гордин М.А. Владислав Озеров. С.90. 16. Приведем это свидетельство, не привлекавшее внимание в "озерововедении": "Вслед за этим Владислав Александрович начал мне читать первый свой драматический опыт: трагедию "Ольгу". Охотно принимал он мои замечания и при мне делал поправки. Наконец, я сказал ему: "вы сейчас сказали, что действие душа трагедии", а потому вместо рассказа о смерти Игоря заставьте очам Ольгу (так!) представить труп ея супруга на ратных щитах, осияясь знаменами." (Глинка С.Н. Очерки жизни и избранные сочинения А.П. Сумарокова. СПб., 1841. Ч.1. С.XXIV.) 17. Вяземский П.А. Сочинения. Т.2. С. 25. 18. См. Фомичев С.А. Драматургия начала XIX века. Творчество А.С.Грибоедова. Комедия "Горе от ума". // История русской литературы. Т.2, Л., "Наука", 1981. С.213; История русского драматического театра. Т.2. М.,"Искусство", 1977. С. 99100. 19. Lanson G. Istoire de la litterature francaise au XVIII siecle. Paris, 1912. Р. 63-65; См. также: Потапов П.О. Из истории русского театра... С.422-426. Потапов опирался в своих суждениях на книги: Patin. Еtudes sur les tragiques grecs. Sophocl. Paris, 1870. Р. 209-215; и Villemain. Cours de litterature francaise. Т.IV. Рaris, 1856. 20. Cм.: Потапов П.О. Из истории русского театра... C. 735-742. 21. Там же. С. 421-480. 22. См. замечания о различной актерской трактовке именно этого эпизода у С.П.Жихарева: Жихарев С.П. Записки современника. М.-Л.,1955. С.588. 23. Сенека. Трагедии. "Литературные памятники", М.,"Наука", 1983. С.99-107; далее Сенека; трагедии Сенеки цитируются по этому изданию, с указанием страниц в тексте. 24. Oeuvres de J.F.Ducis.T.3. Bruxelles, 1818. P.231; далее Ducis. Трагедии Дюси в дальнейшем цитируются по этому изданию, с указанием страниц в тексте. 208 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 25. Более подробно об этих аспектах античной трагедии см. на с. 26. Рок вступает в свои права над Полиником Дюси, внезапно нарушая гармонию "воссоединенной семьи". Полинику, порывающемуся заменить собою отца на алтаре храма Эвменид, жрец властно указывает на предначертанную судьбу: "Eteocle t'attend et Thebes te demande," [Этеокл ждет тебя и Фивы тебя зовут] и тут же к нему возвращается вся его прежняя ярость:"He bien, j'accomplirai mon terrible destin! Ma premiere fureur se reveille en mon sein" [Ну что же, я исполню мою ужасную судьбу! Моя прежняя ярость пробуждается в моей груди.] (Ducis. P.277) Это торжество рока завершает роль Полиника в трагедии. 27. "Tisiphone sortant de l'infernal sejour// Vint repondre elle-meme, et fit palir le jour.// A son aspect affreux les autels s'ebranlerent,// Notre encens s'eteignit on n'osa plus monter,// Une sourde fureur semblait la tourmenter.// Mais a peine au dehors elle allait se repandre // Qu'on vit tous ses serpens se dresser pour l'entendre." [Тизифона, покинув преисподнюю, сама явилась, чтобы дать ответ, и заставила побледнеть день. От ее ужасного вида алтари поколебались. Курения угасли, никто не осмелился подняться, глухая ярость, казалось, терзала ее. Но едва она (ярость) излилась из нее, как змеи покрыли ее всю, чтобы внимать ей.] (Ducis. Р.215.) 28. О типах "правого" и "неправого" героя у Сенеки см.: Ошеров С.А.Сенекадраматург // Сенека. С. 365. 29. Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 443-445 30. См. сравнение параллельных мест: Там же. С. 442 31. Ср. молитву Эдипа к Эвменидам, в завершении пролога "Эдипа в Колоне":"Я знаю, вашей волею влекомый, // Нашел я в роще вашей верный путь // <...> // Итак, богини, ниспошлите мне // Во исполненье Фебовых обетов // Судьбы земной предел и завершенье, // Коль стал достоин милости я вашей, // Испив до дна страдания фиал." ( Софокл. Драмы. М., 1990. С. 63.) Весьма характерно суждение Вяземского о втором действии трагедии Озерова:"...второе действие вполне награждает за излишнее, может быть, ожидание его. Оно выдержано до конца и ознаменовано высокою простотою столь пленительною в греческих трагиках. Верные и строгие почитатели сохранения древней истины могут с некоторою справедливостью заметить, что Эдип, привлеченный таинственной судьбою к храму Эвменид и в пророческом духе чающий найти под сению убежище и конец странническим бедствиям, не должен был впадать в ужасное исступление, которым он объят, узнав от дочери, что они находятся близь храма богинь мести." (Вяземский П.А.Сочинения. С. 23.) Вяземский отчетливо формулирует телеологизм судьбы, как момент, соединяющий Озерова и Софокла, и вполне точно определяет "исступление" Эдипа как чужеродный Софоклу элемент драмы. То, что в данном случае "древняя истина" безумия Эдипа отсылает к иному источнику, остается для критика неизвестным. 32. Заметим, что в этой патетической реплике Эдипа контаминируются выражения и интонации Элоизы: "Ни ужас меж гробов, ни святость алтарей // Здесь мысли пламенной не развлекут моей", "При виде таковом забуду празднество, // Священников, и храм, и веры торжество." (Озеров. С. 373.) 33. См.: Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 586-641. 34. " Лирическая тема любви Фингала и Моины лейтмотив трагедии. Так же, как в "Эдипе", героический сюжет здесь является внешним, декоративным, легко отслаиваевым. <.....> В "Фингале" Озеров в полной мере раскрывает свой дар 209 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии элегика. Монологи Моины и Фингала представляют собой своеобразный элегический цикл, кульминация которого находится в любовной сцене 6-го явления I действия." ( И.Н.Медведева. Владислав Озеров // Озеров. С. 36) 35. Ревуцкий Д. К вопросу о происхождении трагедии Озерова "Фингал".// JaresBericht der Ritter und Domschule uber das Schuljahr 1906-1907. Ревель. 1907. С. 47-72 36. Van Tieghem P. Ossian en France. Т.2. Paris, 1917. P. 126-132; см. также "The Oxford illustrated history of Opera. Ed. by Roger Parker. Oxford New York, 1994. P.133; " Несмотря на популярность Оссиана с 1777 года до 1800 года на оссиановский сюжет не была написана ни одна опера, и Лессюеру принадлежит первенство в перенесении на французскую оперную сцену кельтской и скандинавской мифологии.<...> после борьбы, длившейся по меньшей мере пять лет, премьера "Оссиана" состоялась все же в Опере, ровно через два месяца после того, как в мае 1804 была провозглашена Империя. Эта пьеса, которая вместе с "Весталкой" Спонтини имела крупнейший театральный успех в Опере в 1804 1815 годах, принесла известность ее композитору. Лесюэр был сразу же назначен Наполеоном музыкальным директором Тюильрийской капеллы, он сумел стать наиболее выдающимся композитором при новом режиме." (The New Grove Dictionary of Opera. Vol.3, London New York, 1992. P.783. Подлинник пл-англ.) 37. Изданию оперы было предпослано посвящение ее "первому консулу", в котором Лесюэр прямо объявлял Наполеона моделью и образцом, с которым он соотносил своего героя -"si ma voix s'est elevee quelquefois en s'essayant a le chanter, c'est que mon coeur m'offrait sans-cesse, pour modele le tableau vivant du heros l'orgueil de notre age, dont le nom et la gloire occupent le globe sur lequel nous marchons..." цит. по: Buschkotter Wilhelm. Jean Francois Le Sueur. Eine Biographie// Sammelbande der Internationalen musikgesellschaft. Vierzehnter Jahrgang 1912 1913, Leipzig. S.130. 38. В собрании Лобанова Ростовского в ГТБ сохранились два издания либретто оперы "Ossian, ou les bardes, opera en cinq actes. Represente, pour la premiere fois, sur le Theatre de l'Academie imperiale de Musique, le 21 Messidor an 12. Paris,1804."; второе издание с аналогичным названием 1805 года представляет собой измененную редакцию оперы. В дальнейшем эти редакции будут обозначаться "Ossian,1804" и "Ossian,1805". 39. Ossian, 1804. P. 44. 40. The New Grove Dictionary of Opera. P. 784. 41. Речь идет не об изменении замысла в редакции 1805 года, но именно об изъятии кусков текста, имевшем явно конъюнктурный характер. Вместе с тем, характерно изменение финальных славословий победившему Оссиану, также имевших аллюзионный смысл: в Ossian, 1804 герой прославлялся за дарование мира и покоя, что отражало общие чаяния, порожденные Амьенским миром 1802 года (именно в этом году была написана опера), еще не окончательно развеявшиеся в 1804 г.. Но в 1805 г., когда началась австрийская кампания, открывшая беспрерывный период наполеонвских войн, славить героя-миротворца было явно неуместно в Ossian,1805 герой-победитель вместе с "благородным и храбрым народом" восхваляется только как воин. 42. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия начала XIX века. Куйбышев, 1959. С. 182. 43. В эпиграмме "На несправедливую хвалу рецензентом некоторых мест в трагедии "Барды""(1806) и в послании 1807 года "Г.Озерову на приписание Эдипа" 210 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии "В Эдипе, нам в Бардах прославил // Расинов, Кребильонов дух, // Дев слез ремесло!" (Державин Г.Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т.II. СПб., 1867. С. 581.) О ссоре Державина с Озеровым, подробности которой остаются во многом неясными, см.: Гордин М.А. Владислав Озеров, с.83-86, 106-108, 119-126. Следует отметить, что М.А.Гордин впервые проинтерпретировал различие двух редакций предисловия-посвящения Державину "Эдипа в Афинах". В литературоведении это различие не отмечалось в издании Озерова в "Библиотеки поэта" приведена только вторая редакция предисловия. 44. Пантеон иностранной словесности", кн.I, М., 1798. С.202 204. 45. Кафанова О.Б. О статье Н.М.Карамзина "Оссиан" // Русская литература. 1980. N3. С. 160 163. 46. Van Tieghem. Ossian en France. Т.2. Р. 30-38. 47. Параллель указана Потаповым (Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 641-642.); Racine J. Oeuvres completes. Т.1. Paris, 1950. Р. 885. 48." Приведите, вскричал он (Старно), Агандеку к любезному ей королю Морвена. Десница его запятнана кровью моего народа, и не напрасны были речи ее. (Имеется в виду, что Агандека "не напрасно" предупредила "короля Морвена" Фингала о подосланных убийцах, которых Фингал успел сразить Е.В.) Она пришла, и глаза ее были красны от слез. Она пришла, и развевались кудри ее, как смоль черные. Белая грудь вздымалась от вздохов, словно пена многоводного Лубара. Старно пронзил ее тело булатом." Дж. Макферсон. Поэмы Оссиана. Л., 1983. С. 37. 49. "Лицей", периодическое издание Ивана Мартынова, СПб., 1806. Ч.2. Кн.1. С. 61. 50. В пассажах, посвященных страданиям Старна, возникают образы волн и пустынного берега, заимствованные из поэм Макферсона. По словам Моины, Старн "стонет, как волна при береге пустынном". Источником этого мотива мог послужить, однако, не только Оссиан, но и "Эдип в Афинах" Софокла. Ср. эпод третьего стасима трагедии, который поет хор аттических старцев: "В старости не я один несчастен: // И он, как берег северный угрюмый, // Всюду открыт волн и ветров ударам // Так в него отовсюду // Безустанным прибоем Валы ударяют мучений вечных" (Софокл. Драмы. С.105) Этот фрагмент "Эдипа в Колоне" несомненно попадал в поле внимания Озерова именно в нем присутствуют стихи "Высший дар нерожденным быть", послужившие одним из источников завершающей реплики "Поликсены", источник, специально выделенный Озеровым в примечании к "Поликсене" (Озеров. С.425) 51. См. первую главу, с... 52. "У нас нет театра, опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом и то неточным и заржавым; впрочем, где он не следовал жеманным правилам французского театра? Знаю, за что полагаешь его поэтом романтическим: за мечтательный монолог Фингала нет! песням никогда надгробным я не внемлю, но вся трагедия написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение признайся: все это одно упрямство." ( Письмо от 6 февраля 1823 года // Пушкин. Полн. собр. соч. Т.13. М.;Л., 1937. С. 57.) В отличие от всей трагедии, выделенный монолог, по всей видимости, был признан Пушкиным вполне соответствующим критериям романтического произведения. 53. Медведева И.Н. Владисла Озеров // Озеров. С.36. 211 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 54. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 565. 55. Пушкин. Полн. собр. соч. Т.11. С. 233. 56. Там же. С. 232. 57. Вяземский П.А. Сочинения. Т.2. С. 29. 58. Ср.: "Хорош герой! Тогда только и считает себя страшным Мамаю, когда Ксения на него ласково поглядит, а без того совсем пропал." "Димитрий и в четвертом действии, вместо великого мужа, не перестает быть приторным любовником. Он, вместо учреждения полков своих на брань, вместо помышления о своем отечестве , о славе, вздыхает только, ищет конца своей тоскливой, скучной жизни и хочет отчаяние свое скрыть ночью гробовой." ( Цитируется по статье Л.П. Сидоровой "Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова "Димитрий Донской"" // Гос. библиотека им. Ленина. Записки отдела рукописей. Вып. 18. М., 1956. С. 156.) 59. Вяземский П.А. Сочинения. Т.2. С.30; параллельные места в "Танкреде" детально разобраны П.О. Потаповым: Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 722-723, 734-736. 60. "Je sais que dans le cours mon sexe plus flatte,// Dans votre republque a moins de liberte: // A Byzance on le sert; ici la loi plus dure // Veut de l'obeissance, et defend le murmure. // Les Musulman altiers, trop longtemps vos vainquers, // Ont change la Sicile, ont endurci vos moeurs." [Я знаю, что слабый пол, которому при дворе угождают более всего, в вашей республике пользуется меньшей свободой: в Византии ему служат; здесь же более суровый закон требует послушания и запрещает роптать. Спесивые мусульмане, давние ваши завоеватели, переменили Сицилию, ожесточили ваши нравы.] (Voltaire. Оеuvre completes de Voltaire. P., 1787, T.7. P. 80.) слова Аменаиды, выдающие политический смысл антиреспубликанской коллизии. 61. Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 191. 62. "Этот характер (Димитрий Донской) был во многом нов и совершенно нетрадиционен с точки зрения принятых в трагедии канонов героического. <...> Образ Димитрия подготовлен развитием сентиментальных идей и опытом сентиментальной драмы." (Литвиненко Н.Г. // История русского драматического театра. Т.2. М., 1977. С. 102.) "...в этой двойственности образа героя (Димитрия) было заложено зерно принципиально-нового подхода к построению характера: отказ от традиции плоскостных схем, торжество психологизма над рассудочным распределением героев на добродетельных и злодеев." (Максимович А.Я. Озеров. //История русской литературы. Т.V, М.-Л., 1941. С.164.) "Плоскостные схемы" и "психологизм", с точки зрения исследователя, составляют атрибуты классицизма и романтизма. 63. "В трагедии нет той идейной ясности, которой отличались прежние произведения Озерова. Будучи завершенной в отношении сюжетного действия, она не завершена в своих идейных мотивах. Многое здесь оборвано, недосказано, не сведено к единству. Создается впечатление, что и сам автор останавливался в недоумении перед некоторыми вопросами, не умея найти их решения." (Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия начала XIX века [1800 1815 гг.]. С.193.) 64. ""Освобожденная Москва" намечает путь Озерова в "Димитрии Донском", "постоянное внимание к миру "души", оправдание естественных склонностей человека, введение в трагедии меланхолических мотивов, ясно выраженные сентименталистские установки, пассивный гуманизм ведут прямо к трагедиям 212 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Озерова." ( Пастушенко Л.М. Драматургия М.М.Хераскова. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук. Л.,1974. С.19.) 65. См. 4 главу. 66. См. 4 главу. 66а. Херасков М.М. Собрание сочинений. Т.IV. М.,1798. С.150. 66б. Там же. С. 155. 67. Сам эпизод приема посла в его образной и поэтической конкретности восходит к трагедии Вольтера "Брут" (Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 725726). 67а. Херасков М.М. Собрание сочинений. Т.IV. С. 182. 68. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 642-643. 69. Racine J. Oeuvres completes. Т.1. Р. 675; параллель также указана Потаповым (Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 741). 70. Voltaire F.-M. Оеuvre completes de Voltaire. P., 1787, T.7. P. 80. 71. См. 4 главу 72. Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 799; Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия... С. 233. 73. В "троянских" трагедиях Еврипида и Сенеки тень Ахилла является всему греческому стану, но не одному только Пирру. 74."Русский архив", 1869. Ч.1. Стлб.149. 75. Расин Ж. Трагедии. Л.,1977. С. 183-184. 76. Кадышев В. Расин. М., 1990. С. 159. 77. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 839-855. 78. Там же. С. 842-845. 79. Гекуба: "У бока твоего ночами спит // Та жрица Феба, что зовут Кассандрой // Во Фригии. Не забывай же неги // Ночей любовных и лобзаний сладких // На общем ложе; пусть за них награду // Получит дочь моя и я за дочь <...>." Агамемнон: "Гекуба, жаль тебя мне, и ребенка // Жалею я; хотел бы я почтить // Молящую десницу; бога ради // И вечной Правды я б желал, чтоб изверг // Возмездье принял от тебя. Хочу // Лишь одного: чтоб, дав тебе отраду, // Не встретил я упрека, что воздал // Я за любовь Кассандры кровью гостя // Фракийского... Вот этой мыслью я // Смущен, жена. Его считает войско // Союзником, а мертвого врагом. // Пусть мне он лично близок, но не может // Дружинам быть таким же он. Возьми ж // Все это в толк... Помочь я рад, ты видишь, // И хоть сейчас, да оторопь берет // Ахеец бы за это не расславил." (Еврипид. Трагедии. Т.1. М., 1980. С. 320-321.) 80. См.: Les Troyennes, tragedie en cinq actes, par Chateaubrun // Theatre des Auteurs du second ordre. Т.4, Paris, 1808. Р. 5-62. 81. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии "Поликсена" г.Озерова. "Вестник Европы", 1817, N4. С. 274-288. 82. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 850-854. 83. См. слова вестника Талфибия: "О вечный рок данайцев медлить в гавани, // Плывут ли на войну или на родину!" (Сенека. С.237); Пирр Агамемнону: 213 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии "Колеблешься? жестоким мнишь решение// Пелея сыну в жертву дочь Приамову// Принесть? Но как же дочь заклал Елене ты?// Тебе привычно то, чего я требую." (Сенека. С.239) 84. Потапов П.О. Из истории русского театра... С. 855-862. 85. См.: Тронский И.М. История античной литературы. Л.,1957. С. 152. 86. Кадышев В. Расин. С. 154. 87. Раб: "...пишешь слова // И стираешь опять; вот печатью скрепил -// Глядь, уж сорвана вновь она, оземь доску// Ты бросаешь, и слезы текут из очей.// Уж порой мне казалось, безумец сидит// Предо мною в шатре. Что терзает тебя?// Что случилось с тобой, государь...."; Агамемнон: "О, решенье// Позорное отброшено, теперь// Как следует я все списал на эту // Дощечку, и сегодня ты, старик,// Меня как раз за этим ночью видел." (Еврипид. Трагедии. т.1 М.,1980. С.438, 441.) 88. Эту же особенность греческой трагедии подчеркивал В.Н.Ярхо в отношении Софокла: "Софокла за одним исключением <...> не привлекает в его героях процесс выбора решения. Они появляются в тот момент, когда сложившаяся ситуация властно диктует им одну, единственно возможную линию поведения. <...> Даже если цель, на которую направлены усилия индивидуума, смещается, это происходит незаметно для зрителя и не оказывает никакого влияния на присущую герою целеустремленность." (Ярхо В.Н. Трагический театр Софокла.// Софокл. Драмы. М.,"Наука",1990. С. 487.) 89. Расин Ж. Трагедии. С. 197. 90. И.М.Тронский, анализируя "Медею", отмечает:" Там, где Еврипид дает почувствовать сложную драму обманутого чувства и материнских страданий, Сенека переносит центр тяжести на мстительную ярость покинутой жены. Образ стал более однотонным, но зато в нем усилились моменты страстности, сознательной волевой целеустремленности." (Тронский И.М. История античной литературы. С. 429.) 91. См.: Ошеров С.А. Сенека-драматург // Сенека. С. 370. 92. "В трагической эстетике Сенеки сострадание отступает на второй план, она основана главным образом на пафосе мощного и ужасного" (Тронский И.М. История античной литературы. С. 430); С.А. Ошеров, отмечая эту черту Сенекифилософа, полагает, что в трагедиях его все же присутствует в определенной мере установка на со-страдание, соучастие в страдании героев. Особенно характерной в этом отношении представляется ему роль Андромахи в "Троянках". (Ошеров С.А. Сенека-драматург// Сенека. С. 368-369.) 93. Ср. реплику Гекубы в "Троянках" Еврипида: "О, не одно и то же смерть и жизнь,// Смерть есть ничто, а у живых надежды..."; и ответ ей Андромахи: "Мне нет надежды, а живых надежда // Не покидает. Не обманешь сердца. // Нет счастья мне... а все мечта жива." (Еврипид. Трагедии. Т.2. С. 542, 544.) 94. Тронский И.М. История античной литературы. С. 430. 95. "Я <...> была царицей жен, была звездой // Меж илионских дев и, кроме смерти, // Ни в чем богам не уступала ... Ныне ж // Рабыня я .. Одно уж это имя, // Которое ношу я, ненавистно: // В нем спит желанье смерти... // <...> Свободными глаза закрою, тело // Аиду отдавая. // <...> обузой // Нам станет жизнь, когда красы в ней нет." Гекуба: "Слова твои прекрасны, дочь, но горечь // В их красоте." (Еврипид. Трагедии. Т.1. С. 300-301.) 96. Сенека. С. 218, 221. 214 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 97. "Недостойное слово промолвил ты, царь! // Иль ты мнил, на бессменное счастье тебя, // Агамемнон, родил повелитель Атрей? // Боги смертнорожденному в долю дают // Лишь с печалями счастье; и рад ли, не рад // Но ты должен веление божье терпеть.." (Еврипид. Трагедии. Т.1. С. 438.) 98. Ошеров С.А. Сенека-драматург // Сенека. С. 370. 99. Там же. С. 373. 100. Там же. С. 376. 101. Там же. С. 365. 102. Там же. С. 365-366. 103. "Медея", "Геркулес а безумье", "Геркулес на Эте", "Фиест", "Агамемнон". В "Федре" фатальные признания героини, открывающие трагическое действие, следуют сразу же за оттеняющей их страстность первой в трагедии безмятежной речью Ипполита. 104. Пирр для А.Ф.Мерзлякова "ненавистный характер", симпатии его полностью отданы Агамемнону: "нельзя не почитать характер Агамемнона" (это не мешает ему критиковать Озерова за непоследовательности, по его мнению, в обрисовке Агамемнона) (Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии "Поликсена" г.Озерова. // Вестник Европы. 1817. N4. Ч. 91. С. 295). В.А.Бочкарев прямо соотносил Пирра и Агамемнона Озерова с героями Сенеки: " Озеров не случайно обратился к драматургии знаменитого римского поэтафилософа, в которой ему импонировал дух аристократической оппозиционности по отношению к тираническому режиму Нерона. Несомненно близки были Озерову в период создания "Поликсены" философско-этические установки Сенеки, его стоицизм и фатализм. <....> У Сенеки Пирр выступает в качестве исполнителя воли богов. В трагедии Озерова он толкуется в значительной степени как злодей, которому противостоит защитник невинно угнетаемых Агамемнон." ( Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия начала XIX века. С.232-233.) Заметим, что соотношение персонажей Озерова и Сенеки В.А.Бочкарев под воздействием П.О.Потапова толкует абсолютно превратно: как раз-таки у Сенеки Агамемнон и Пирр однозначно этически поляризованы, и этому не мешает то, что "неистовый" герой инспирирован некоторой божественной (или инфернальной) инстанцией. Подобная проекция их образов безусловно присутствует у Озерова. Но именно озеровский Пирр в то же время выступает носителем и определенного божественного по происхождению благого принципа. 105. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии "Поликсена".... С. 294. 106. А.Ф. Мерзляков отмечает "судьбу" и "волю Пирра", ставшие причинами гибели Поликсены, соответственно, у Еврипида и Шатобрюна, и указывает на отсутствие у Озерова определенности в этом отношении: "Вот где заключается самая важнейшая погрешность сей трагедии, погрешность, от которой потеряла она равновесие и соразмерность между действующими лицами <...> тут не действует ни тайная судьба, ни боги всемогущие; но просто подкуп между Царями против одной невинной души, заговор без причины, ненависть без малейшего к тому повода смерть насильственная!" (Там же. С. 294, 296.) 107. Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 836-839. 108. "Русский архив", 1869, ч.1. Стлб. 154. 109. Bartelemy J.-J. Voyage du jeune Anacharsis en Grece. Т.7, Paris, 1824. Р. 57-58. 215 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 110. См.: Четыре добродетели идеального государства // Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т.3. М., 1994. С. 198-212. 111. См.: Три начала человеческой души // Платон. Собрание сочинений. Т.3. С. 212-219; Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский в отношении к их учению о нравственности. СПб.,1884. С.216. 112. Благоразумию соответствовал разум, справедливости воля, воздержанию способность вожделения, мужеству способность души, связанная со страстью гнева. ( Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С. 346.) 113. "Добродетель "воздержания", если слово "temperantia" понимать в "общем смысле" <...>, в смысле вообще некоторого рода требуемой разумом умеренности в деятельности и страстях, не есть добродетель, отличная от всех других, но "общая" (generalis virtus): в той или иной степени <...> умеренность вообще отмечает собой каждую из нравственных добродетелей." (Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С.432.) 114. Отметим особенности понимания мужества Фомой Аквинским: во-первых, мужество связывается им со специфической "гневной" частью души сам же по себе "гнев" отнюдь не требует устранения, как у стоиков, но может быть и правым и греховным; во-вторых, мужество, по его толкованию, "состоит больше в акте "непоколебимого" стояния (пред опасностями), чем нападения, потому что первое труднее, чем второе." (Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С. 426.) Мужество понималось, таким образом, прежде всего как постоянство в добродетели. Именно эта черта свойственна Пирру в отличие от его антагониста, постоянно колеблющегося в своих решениях. 115. Сенека. С. 239. 116. Ср. толкование Фомы Аквинского: "благоразумие должно быть приурочено прямо не к чувственной, а к познавательной способности нашей, благодаря которой мы познаем даже и "будущее" на основании настоящего и прошедшего... При этом, в частности, благоразумие, как состоящее в "подавании хороших советов",<...> имеющее место относительно того только, что должно быть "совершаемо", отмечает собою нашу познавательную способность практическую именно, а не теоретическую." (Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С. 390.) 117. Заметим, что средневековая традиция выделяла специфические пороки, связанные с каждой из добродетелей. К благоразумию здесь примыкало "благоразумие плотское", т.е. корысть и предпочтение телесных благ, хитрость, лукавство, обман (Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С. 393.) все то, что составляет как раз тень, встающую за озеровским Улиссом, не гнушающимся принятия богатой мзды. 118. Отметим, что согласно схоластическому пониманию "воздержание" производит частные добродетели "clementia" и "mansuctudo" милосердие (снисходительность, мягкость) и кротость, "обуздывание гнева". (Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинский... С. 432.) Особая универсалистская роль Нестора согласуется с особым статусом "воздержания", как generalis virtus, добродетели, которой в платоновском понимании должна была бы соответствовать "справедливость". 119. Отметим в этой связи описание "трагического пространства" Расина Р.Бартом : "Великие трагедийные места это иссушенные земли, зажатые между морем и пустыней, тень и солнце в абсолютном выражении. Достаточно посетить 216 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии сегодняшнюю Грецию, чтобы понять жестокую силу малых пространств и осознать, насколько расиновская трагедия в своей идее "стесненности" соответствует этим местам, которых Расин никогда не видел. <...> Окружающее пространство становится от палящего зноя совершенно безлюдным и резко выделенным; вся жизнь сосредоточена в тени <...> Вне дома все бездыханно: вокруг заросли, пустыня, неорганизованное пространство. Расиновская популяция знает лишь одну возможность бегства: море, корабли; в "Ифигении" целый народ томится в плену трагедии, потому что на море нет ветра." ( Барт Р. Избранные работы. М., 1994. С.146.) В данном случае перед нами эссеистический пассаж, представления о поэтике трагедии соотнесены в нем с внепоэтической реалией, личными впечатлениями от "трагических мест". Р.Барт "дописывает" Расина, у которого отсутствуют это палящее солнце, пыль и застывший воздух. Характерно соответствие их пространству, воспроизведенному чисто поэтическими средствами в "Поликсене". 120. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии "Поликсена".... С. 295. 121. Там же. С. 299. 122. Отметим, что этот сюжет был разработан в единственной трагедии, созданной В.К. Тредьяковским "Деидамии" (1750). 123. Понимание "умеренности" как гармонии, музыкального созвучия, вносимого в жизнь, чрезвычайно близко именно платоновскому эквиваленту средневековой temperantia sophrosyne, переведенному в последнем издании Платона как "рассудительность": "Рассудительность, с нашей точки зрения, более, чем те, предшествовавшие свойства, (мужество и мудрость Е.В.) походит на некое созвучие и гармонию," "рассудительность в государстве проявляется по-иному: она пронизывает на свой лад решительно все целиком; пользуясь всеми своими струнами, она заставляет и те, что слабо натянуты, и те, что сильно, и средние звучать согласно между собою <...> так что мы с полным правом могли бы сказать, что эта вот согласованность и есть рассудительность, иначе говоря естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править в государстве, и в каждом отдельном человеке." (Платон. Собрание сочинений. Т.3. С. 202-204.) 124. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии "Поликсена".... С. 303. 125. Потапов П.О. Из истории русского театра. С. 772. 126. "Русский архив", 1869. Ч.1. Стлб. 133. 127. Отметим еще один момент в этой сцене, читающийся как библейская реминисценция. Поликсена обращается в своих сетованиях к Гекубе: "О матерь <...> // Печалью облеклись дни старости твоей, // Что льстилась ты провесть средь радости детей! // Их нет, их всех унес ветр буйный злополучий." (Озеров. С.337). Эти слова напоминают знаменитое пророчество Иеремии, повторяемое в Евангелии: "Глас в Раме слышен, плачь и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочетет утешиться, ибо их нет." (Мф. 2, 18) Интересно, что в трагедии "Ирод и Мариамна" Г.Р. Державина, написанной в 1808 году, используется та же евангельская цитата, более узнаваемая благодаря иудейскому контексту трагедии, повествующей о том самом евангельском Ироде, истребившем младенцев. Мариамна, оклеветанная придворными супруга царя Ирода, умирает от яда, устремляя последнюю мысль к своим детям, которым тоже грозит опасность от заговорщиков: Мариамна:" Чей глас? Супруг мой, ты? // Облобызай, прощаю. // Но дети где?" Када: "Их нет." Мариамна: "О Боже! у-мира-ю. (кончается)" (Державин Г.Р. Сочинения. Т.IV. C.289.) 217 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии 128. Вяземский П.А. Сочинения. Т.2. С. 33. 129. Фомичев С.А. Драматургия начала XIX века... С. 217. 130. "Сын Отечества", 1820. Ч. 62, N 26. С. 321. 131. Ср.: "Умный и ученый раскольник Шлегель <...> толкует о трагедиях Сенеки с большим пренебрежением; это сходно с общим планом его: представить греческую трагедию как нечто, правда, прекрасное<...> но местное, годное только в Афинах, и всякого подражателя ведущее на гибель; держась сего правила, он с равною строгостью осудил весь итальянский и французский театр, выставляя в пример начинающим немцам смелых романтиков англичан и испанцев." ( Катенин П.А. Размышления и разборы. М., 1981. С.72.) 132. Катенин П.А. Размышления и разборы. С. 65; в другом месте Аристотеля и Плутарха Катенин называет знатоками "крайне сомнительными" ( Там же. С. 155). 133. Заметим, что "Драматический вестник", издававшийся в 1808-1809 году А.А.Шаховским едва ли не на треть состоял из переводов эстетических статей Вольтера. 134. Катенин П.А. Размышления и разборы. С. 141. 135. Там же. 136. Там же. С.162. 137. Там же. С. 142, 153. 138. Там же. С. 162. 139. Там же. С. 63-64. 140. Там же. С. 122. 141. Там же. С. 64. 142. Там же. 143. Заметим, что Катенин, в отличие, например, от Мерзлякова, отчетливо видел сенековские корни озеровского конфликта, отмечая, что Озеров обязан Сенеке " всеми спорами Агамемнона с Пирром в "Поликсене". (Там же. С. 74.) 144. Напомним в связи с этим контекст фразы, процитированной в предыдущем примечании: Катенин реабилитирует Сенеку, вводит его в круг авторов, достойных подражания, сохраняя, однако, ряд претензий к "чрезмерностям" римского драматурга. 145. Катенин П.А. Размышления и разборы. С. 65. 146. Там же. 147. Пушкин Полн. собр. соч. Т. XI. С.179-180. 148. См. напр.: Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов [1816-1825]. Куйбышев, 1968. С.101-120; Ермакова-Битнер Г.В. П.А. Катенин // Катенин П.А. Избранные произведения. М.-Л., 1965. С.5-57. 149. Со всей определенностью это отмечено С.А.Фомичевым: Фомичев С.А. Драматургия начала XIX века... С. 217. 150. Пушкин Полн. собр. соч. Т.XI. С. 229. 218 Заключение "Андромаха" Катенина -эпиог классицистической трагедии Список опубликованных работ автора по русской драматургии 1) Вильк Е.А. "Естественное состояние" и "Закон" (к вопросу об идейнофилософской проблематике русской трагедии рубежа XVIII XIX веков) // Судьбы отечественной словесности XI-XX веков. Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и специалистов ИРЛИ 20-21 апреля 1994 года. СПб., 1994. С. 16. 2) Вильк Е.А. "Юность Вещего": опыт реконструкции и место в литературноисторическом процессе // Проблемы творчества Грибоедова. Смоленск, 1994. С. 145-162. 3) Вильк Е.А. Трагический космос Озерова // Русская стихотворная драма XVIII начала XX веков. Межвузовский сборник научных трудов. Самара, 1996. С. 18-28. 4) Вильк Е.А. К истории творческого диалога Державина и Озерова: поэзия и политика // Державинские чтения. Вып. I. СПб., 1997. С. 93-108. 5) Вильк Е.А. Драматургия В.А.Озерова и проблемы развития русской трагедии начала XIX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. СПб., 1998. 6) Вильк Е.А. Трагическое в творчестве Пушкина в свете русской философской критики Серебряного века. // А.С.Пушкин в русской культуре Серебряного века. Тезисы докладов научной конференции в рамках Международного Лицейского фестиваля "Царскосельская Осень" 20-21 октября 1998 года. СПб., 1998. С. 29-31. 7) Вильк Е.А. "Драматургия А.С.Пушкина": подготовка текстов, комментарий. // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 2-х томах. Под редакцией Н.Н.Скатова. Москва, "Классика", 1999. 8) Вильк Е.А. "Трагическое" в творчестве Пушкина и некоторые проблемы философской критики Серебряного века // Пушкинский Музеум. Сборник научных трудов Всероссийского музея А.С.Пушкина. СПб., 1999. Вып. 1. (20 стр.) (В настоящее время, апрель 1999, в печати). 9) Вильк Е.А. Замыслы трагедий Пушкина и Грибоедова 1820-х годов и традиция русской трагедии 18 -начала 19 веков. // Хмелитский сборник. Вып. 2. Смоленск, 1999. (24 стр.) (В настоящее время, апрель 1999, в печати). 219 Summary Summary Tragedy as a literary genre and "tragic" as an aesthetic category, represented in different literary genres, is the subject of the permanent and rigid interest revealed by scholars of literature and philosophy. Therefore, the periods in history of national cultures, in which the concept of tragedy obtains new profound contents, attract considerable attention. It should be said that the period of 19th-20th centuries was extremely fruitful in the development of tragic theme in the Russian culture in the whole. Among the masterpieces of the Russian literature, which recieved the world recognition, the notion of "tragic" is persistently associted with a number of dramatic and non-dramatic works by Pushkin, with novels by Turgenev, Tolstoj and Dostoevskij, with plays by Chehov, with the prosaic works by L. Andreev, Sholohov, Platonov and Solzhenitsin. The original concepts of "tragic" were developed in works by the Russian philosophers L. Shestova, F.Stepun, Vjach. Ivanov, N. Berdjaev, A. Losev and M. Bahtin. Although there is a significant number of various investigations devoted to "tragic" in the creative activity of the Russian authors and works which put masterpieces of the Russian literature (mainly by Dostoevskij and Chehov) in the row of top world tragedies, the specific study dedicated to the internal development of tragic theme in Russian culture has not yet been in existance. During the Soviet times the theme of "tragedy" in Russian human science did not play the first role. At least polemics on this subject was not acceptable since, according to the official view, tragedy was understood only as a result of the conflict between the "progressive" and the "old-fashioned" ideologies. In other words, tragedy was changed to drama with the optimistic end implyed (for example: the Soviet play "Optimistic tragedy" by V. Vishnevskiy). However, this situation can be considered not only as the influence of the communist ideology, i.e. the latest ideological phenomenon, but also as the new expression of the stereotypes inherent to the Russian culture. There is the opinion that the traditional Russian mentality based on the Russian Orthodox church canons represents a non-tragic picture of world. It is worth to quote, for example, the words by the 20-th c. Russian author A. Pozov, adherent of the russian traditions, who lived and worked abroard. He expressed the generalized opinion on tragedy on the basis of Pushkin's works: "Even the most genius expression of human passions is not of significance and has niether subjective no objective value..... The value of tragic is absolutely negative. That is why prophetic-wise Pushkin did not focus on this side of his creative activity for a long time, and did not spare it much attention......" Such a categorical opinion, however, is in evident contradiction with above noted extention of the tragic theme in the 19-th20-th c. Russian literature. Thus, we are facing here a serious problem. First, we have to understand the meaning of coexistance of the tragic genre, as a productive direction in the development of culture, and "non-tradgic" ideological canons. Secondly, we have to answer the question: what are the principle peculiarities of tragedy and "tragic" in the Russian literature. It is just this purpose that the author of this work poses. In the suggested investigation the only one stage in the development of the "Russian tragedy" is studied in detail, but this stage is particularly important in the light of the above mentioned problems: the initial period of the development of tragic genre in the 18-th early 19-th c. Russian literature, when the forms of tragic art, created by the western culture, were percieved for the first time. Namely, those forms in which the "tragic literature" was practically represented only by tragidy as a dramatic genre. 220 Summary There are some generalized works which are fully or partly devoted to this step in the development of the Russian tragedy. The most valuable and famous among them is the book by H.B. Harder "Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Tragodie. 1747-1769" (Wiesbaden, 1962). Some special generalized works on this theme in Russian are represented in the small book by U.V. Stennik "Genre of tragedy in Russian literature. The epoch of classicism" (Leningrad, 1981) and V.A.Bochkarev "Russian historic plays of the 17-th 18-th c." (Moscow, 1988), "Russian historic plays of the last third of th 18-th c." (Kujbyshev, 1985) and "Russian historic plays of the early 19-th c. (1800-1815)" (Kujbishev, 1959). These monographic works, as it becomes clear from their titles, are devoted not so much to the problem of the poetics of tragedy as a genre, but to the traditional for the soviet science question of the "realism" of play writing (mainly tragic play writing), i. e. to the question of "the grade of reality" of the historic plots. We should also note the old but still important investigation "From the history of Russian theatre. Life and activity of V.A. Ozerov" by P.O. Potapov (Odessa, 1915). In many aspects it summerises the material of the preceding tradition, and is regarded till present time as the only detailed monographic study of the creative activity of Ozerov -one of the most famous tragedians of that period. Much more extensive series of articles and publications by G.A.Gukovskij, P.N.Berkov, A. Maksimovich, V.N. Vsevolodskij-Gerngross, L.I. Kulakova, I.N.Medvedeva, I.Z.Serman, E.A.Kasatkina, V.N. Ermakova-Bitner, N.D.Kochetkova, L.M.Pastushenko, P.E.Buharkin, M.Levitt, M.Green and others were involved in investigations of the different issues covering poetics, ideology, historic and literature context of the Russian tragedy of that period, and the creative activity of the various authors, who actively worked in this genre. In this work the results of previous investigations have been taken into account. But in this case another approach which has never been applied to the subject of the Russian tragedy, was used. The problems of genre of tragedy in its particular embodyment and development from the second part of the 18-th till early 19-th c. is being studied in connection with the question of "the tragic" as a philosophic category, perceived by the 18-th c. Russian culture from the western culture and transformed to its own needs. Such an approach is reflected in the structure and logics of this work. The first section "Tragedy of classicism: the philosophy of genre and the main landmarks of its development" is dedicated to "tragic", as a culturelogical problem of the 17th-18th c., and creation the language for describing these problems, applying both to the wide layers of the intellectual culture and to the tragic genre in particular. Special attention is drawn here to the French classical tragedy and different stages of its development from the point of view, how different aspects of "tragic" are represented in it. Further, the Russian tragedy of the noted period is being studied. The sections consecutively illuminate the problems, of "tragic" in the creative activity of the leading Russian playwrights-tragedians of that epoch, such as A. Sumarokov, Y. Knjazhnin, M. Kheraskov, V. Ozerov and P. Katenin. These sections are not simply independent research essays, but can be regarded as a single "plot" of the history of the Russian tragedy being developed in this work: -the "plot" starts with the chapter about Sumarokov, in which the roots of philosophic problems of "tragic", defining the specific character of the Russian version of tragedy of classicism during the whole period of its existance, are being investigated; -the section about Knjazhnin tells us, how the tradition founded by Sumarokov led to the development of the universal plot of tragedy, defined the composition and poetics of all works by Knjazhnin and many of his Russian successors. Also it describes the first original works in the Russian tradition developing the "eternal", peripatetic plots of the world tragic dramaturgy; 221 Summary -the section about the creative activity of Kheraskov is a "lateral branch" in this sequentially developing "plot". It deals with the branch of the Sumarokov's tradition, which in combination with the masonic ideas made the particular modification of genre, though it did not have the significant influence upon the later period of tragedy; -the chapter about the creative activity of Ozerov turns us back to the main line of Russian tragedy development and signifies its climax. It is in the works by Ozerov that the meeting and interaction of deep layers in tragic genre tradition, dating back to antiquity, with the new components of "tragic" that appeared in Russian culture, takes place. The latest tragedy by Ozerov "Polyxene" is considered in this work as a top achievement of Russian tragic dramaturgy which has not been estimated properly till present time; -the last section of this work, completing our investigation about P.Katenin's tragedies and aesthetic views on "tragic", serves as a denouement of the "plot", developed in this study. Its content describes Katenin's opinion concerning the saturation and rejection of Sumarokov's tradition and the transition to the new concepts of "tragic", which were developed at the next stages of the history of Russian literature. This question, however, is beyond this study. Chapter 1. Tragedy of classicism: the philosophy of genre and the main landmarks of its development The disregard for classical tragedy still remaining to a large extent is due to a number of questions related to inner reasons of the tragic genre in the whole not having been answered yet. One of the most important is the question of the meaning of the tragic conflict. In this paper the author has leaned on the conception of conflict in the tragedy of antiquity developed by Anatoly Akhutin*. According to Akhutin the constituting principle of the Greek tragedy was the movement of action towards the point of "amechania", towards the fork between two requirements equally strong and categorical determined by different but rooted in mythological tradition principles. Though the main character of a tragedy did make some choice between them acting solely at his own risk his deed nevertheless did not ruin the initial dualism but brought it up to a new level opening up a situation of a trial, dispute between different principles, "polemos", as a deep-laid starting point of the Universe and a most significant condition of human activity (thus in the final part of "Orestea" by Aeschylus the murdering his mother by Orestes committed by the character following the logic of one of the mythological "truths" is excused within the context of a bigger event -the establishment of the Areopagus Court). In the later tragedy oriented to Greek classical samples the conflict preserved the same structural outline but the ontological status of the principles involved had changed. Mythological customs and prohibitions actualized in Greek tragedies presented a kind of a multitude that can not be brought to a generalizing pair of contradictions. Seneca's philosophical tragedies show a different situation: the conflicting principles go back to two universals -"logos" and "chaos", or in terms of morality -the notions of "duty" and "passion". The French classical tragedy also features this generalization of conflicting principles. To clarify their essence a culturological excursus was undertaken in this work based on the methodology suggested by S.S.Averintsev's conception of various ontological dominants in culture. * "Открытие сознания. Древнегреческая трагедия и философия" ("The Opening of Mind. The Ancient Greek Tragedy and Philosophy") // Ахутин А.В. Тяжба о бытии. (Akhutin A.V. Dispute about being.) Moscow, 1997, pp. 117-160. 222 Summary Sergey Averintsev talked about causality, eidetic aspect of the world and "being" as three main types of "ontological relations" replacing each other in different periods in the history of culture* . According to S.S.Averintsev in the age of antiquity "eidetic" approach to the world was dominating. It envisaged bringing reality to a set of independent essences, closed forms. In medieval ages "being" dominant came forward (ens in Aquinas categories). It is understood as an invisible focus of all properties and relations of an individual "thing" and the world as a whole, as an inner creative potential of an individual "thing" and the Universe. Being as such is the name and attribute of God but at the same time it is delegated to a different extent to the hierarchy of secular power, various ideological abstractions (e.g. "the state") and individual person as such which realizes the highness and nobleness of its status. Vision of the world as an aggregate of "essence forms" (a term form Aristotelian and scholastic tradition) and a sphere of realization of being presented an organic match in medieval philosophy. The 17-th century started a new age described by a totally new ontological dominant -causality leading to perceiving the world as a temporal chain of events linked with strict cause and effect relations as well as a continuous spatial environment comprising interacting elements and energy impulses flowing into each other. This a sketchy description of Averintsev's culturological conception worked out by him in relation to literary transformations (till now Averintsev has been constructing his studies around its first two components corresponding to the antique and medieval ages). In connection with the topic the cultural situation of the 17-th century is of interest. It is then that the scientific and philosophical thought flatly rejected the vision of the world as a combination of "essence forms", individual eidetically shaped units. The world as a space with elements linked with causal relations was most adequately reflected in newly interpreted idea of nature (for the first time applied by F.Bacon). Though together with the new ontological vision of nature in the 17-th century another ontological dimension -"being" -still remained topical. In terms of morale realization of being part of nature lead to justification of the whole sphere of feelings, elevation of human relations that have been traditionally called "natural". Involvement in "being" resulted in justification of a specific field of obligations imposed by "higher" principles having the meaning of a priori moral law. In the 17-th century Pascal was the philosopher who managed to most clearly express the ontological dualism of a human situation set by the culture. He thought the principal task for a man was to understand his special position on the edge of natural and divine worlds not yielding to the temptation to attribute to himself only natural qualities or divine perfect merits. "Passion" and "duty" traditionally considered to be components of a conflict experienced by the characters of classicism can be understood as expressions of the particular above mentioned universals. However the same universals define other aspects of the artistic world of the tragedy. In particular the system of regulations of poetics of classicism the unity of place, time and action and the requirement that scenes be connected logically -can be interpreted as building the drama according to the new having just emerged and strongly emphasized concept of nature requiring first of all continuity and causal connectedness of the reconstituted world. The proposed universals allow systematization and bringing together a number of concrete aspects of the French tragedy of the 17-18-th centuries that are examined in the thesis. Among those above the proposition about two dominants that are possible in principle in the ontological make up of the tragedy should be mentioned first of all. These dominants * Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. (Averintsev S.S. Poetics in Early Byzantine Literature.) Moscow, 1997, pp. 30-58. 223 Summary got realized in plays by Corneille and Racine and were tied to being and nature correspondingly (the ontological dualism was though never eliminated but accentuated in a new way due to an active role attributed to this or that principle). A good demonstration is how it influences the organization of a dramatic action. Corneille bases it upon spontaneous activity, volitional impulse, realizing absolute freedom of self-determination linked with involvement in "being". Racine -upon destiny, interpreted as a chain of reasons resulting in existing conditions and to a great extent predetermining the will itself of the character (this is about the final result, about "causality" as a major component of the concept of nature). Both methods of organization of action at the same time go back to the tradition of the Roman and Greek drama (and literature in broader sense) which can be clearly seen from the choice of subjects by Corneille and Racine. Ontology underlying the 17-th century tragedy is but an implicit conception. The abovementioned dualism was part of the auther's personal vision of the world which influenced his choice and manner of treatment of subjects but did not in itself constitute the subject of philosophic conceptualization. Only the 18-th century tragedy took on a philosophical turn and Voltaire played a major role in this development. Following the main structural model of the 17-th century it described quite a different world order. First of all the philosophy of Enlightenment rejected the dualistic vision of the world. Law and other values of a higher order were now understood as "natural law" rooted in nature, feeling was the subject of rational conceptualization "natural feeling". Life itself was regarded as essentialy free from conflict. The main point of tragedy was now to acquire the harmony and agreement between feeling and "rational duty" or to show that the origin of the conflict had an antirational nature, that it was a sort of a superstition caused by social reasons. The origin of conflict ceased to be ontologically-grounded. Now it was a matter of chance. All these developments should be taken into account when Russian classical tragedy which appeared only in the 18-th century but preserved all the previous achievements of the genre is discussed. Chapter 2. Sumarokov: origins of the tragedy of the Russian classicism. The plays, composed by A.P.Sumarokov, the first Russian tragedist, are traditionally considered to be lacking in the originality both of the subject and problems involved and to reflect the straightforward didactic tendencies of Enlightenment. This view, as it seems, requires thorough revision. In his recently published article the American researcher M.Levitt examines Sumarokov's drama "Pustynnik" ("The Recluse") whose subject is the Christian rejection of the world and compares it with his tragedies.The introduction of this drama into the context of his tragedies shatters the traditional point of view on Sumarokov's tragic world. In the present paper "The Recluse" is treated as one of the best expressions of Sumarokov's philosophy which is contained in his articles and on which his tragedies rest. Sumarokov's philosophical thought has a religious bias. His philosophical articles are focused on the ambiguity of the commandments to love God and to love man. Their ethical dualism leads Sumarokov to see the ontological dualism in man: on the one hand, "a spark of God" as the foundational element of "being", comprising the very centre of human nature, but not equivalent to it, containg the ideal moral law and, on the other side, the rational and willing self outside it which can come very close to or withdraw very far from its centre but never cross its border. According to Sumarokov, the dualism of "divineness" and "naturalness" of man is an eternal paradox, and on the other hand, a moral challenge for humans to try to unite the two opposites. 224 Summary This set of ideas predetermined his treatment of classical tragedy: he explored the ontological dualism of the tragic world through the magnifying glass of religious notions. The main idea of the tragic conflict of the "Recluse" is the impossibility to divide love for God and love for man. In the play this conflict is resolved through the divine grace. For Sumarokov God and things divine unambiguously represent moral law abiding in the very core of human nature. (He ignores the conflict of law and grace). The same standpoint is demonstrated in his tragedies on secular or social subjects which are predominant in his work. Sumarokov's tragedy, in keeping with the main trends of the 18-th century, is full of philosophy but the underlying philosophical conception expessed through various dramatic subjects is different from that of the Enlightenment. His early tragedies are not concerned with social evils or the triumph of "natural feelings" and human reason but rather the tragic disharmony in the nature of man and the world. Sumarokov's attempt to find the origins of this disharmony takes him back to ancient Russian chronicles. He makes up his own stories which go back to the times on the threshold of recorded history. In the present work the sources of the two early Sumarokov's tragedies "Khorev" and "Sinav and Truvor" are examined and the problems involved analysed. The external exploration of the world and insights into inner human self manifesting the tragic split in human personality: these are the two focuses of the above-mentioned tragedies accordingly. Rejecting the traditional "eternal" literary subjects Sumarokov created his own genre of tragic philosophical parable. Sumarokov's religious thought, very sensitive to the juxtaposition of "God" and "nature", brought to light in explicit terms the ontological meaning of classical tragedy, that is the conflict of "nature" and "being", and influenced greatly the subsequent development of the mainstream Russian tragedy focusing on the origins of the tragic conflict and discovering new meanings to it. The religious problems dealing with the opposition and unity of "love for God" and "love for man" were always present in Russian classical tradgedies of a later period. It is interesting that the writers of classical tragedy Kniazhnin, Kheraskov and Ozerov began their literary careers with works (not necessarily drama) dealing with the problem of the monastic rejection of the world and the conflict of "love for God" and "love for man". This collision of the "two loves" is not accidental for Russian culture. Its links with contemporary Russian religious thought are evident but yet unexplored. Generally speaking its origins should be sought in Russian Orthodoxy: in contrast to Western Christianity which strove to submit flesh to spirit, Russian Orthodox doctrine proclaimed the ideal of the transfiguration of human nature through the union of the divine and human levels of being. Chapter 3. Knyazhnin's drama: from tragic myth to tragedy of a personality Only one tragedy by Kniazhnin attracted the attention of literary critics. It was his last work "Vadim of Novgorod", a Russian version of the conflict between a republican and the monarch, and it had a great impact on the early 19th century literature. The rest of his heritage was, and still is, accused of being imitative. This accusation, put forward by 19th century criticists, leads to a very thorough investigation of the sources of his tragedies. The first of Kniazhnin's works analysed in this paper is a lyrical poem "The letter from count Comminge to his mother" which is interesting from the viewpoint of the abovementioned problem of monastic rejection of the world. The poem was inspired by one of Mme. de Tencin's novels translated by Kniazhnin himself, but its plot is quite contrary to what is implied in the novel. Instead of the catholic idea of the subjection of the passions of flesh and human affections we see an attempt to combine and reconcile religious aspirations and earthly love, and though they are incompatible within the limits of earthly life in this world there is hope of their union in God. 225 Summary The first Kniazhnin's tragedy "Dido" is given much attention in this paper. Unlike Sumarokov Kniazhnin borrowed one of the traditional "eternal" subjects for his drama, and the immediate sources of the tragedy are plays by P. Metastasio and Lefranc de Pompignan. The analysis of these sources shows that Kniazhnin's tragedy is an independent work full of original ideas, though some elements of the French plays are made use of. The numerous European authors who treated this subject were not interested in the mythical background of the drama of Dido and Aeneus -the founders of powerful states with a conflict between them lasting well into history. For Metastasio and Pompignan Dido and Acneus are but noble lovers. Kniazhnin makes an attempt to revive the image of great heroes and city-founders. His characters, one dominated by "love for God" and the other by "love for earthly things", are viewed in different ontological aspects. Aeneas represents the idea of the "being" of Troy, his destiny is the re-establishment of the city (the future Rome). The moral aspect behind this idea is faithfulness, he devotes himself to Gods, Dido is the creator of a city endowed with "natural powers" and abilities, but her creation is lacking internal stability grounded in "being". Iarbus is Aeneus' negative shadow, he embodies the image of a titanustheoclast. His is the idea of selfrealisation with a claim to becoming the Thunderer. The heroes of "Dido" are shown in two projections. They are "ordinary" humans and mythological charactres at the same time. Their human psychology is treated in a novel way borrowed from J.-J. Rousseau's poetics. But psychological and ontological planes of the tragedy's subject do not coincide. This is made manifest in the finale of the tragedy. The final scenes paradoxically combine the motives borrowed from Metastasio and Pompignan: Dido dying in the fire of Carthage dooming her subjects to death and cursing Aeneus (Metastasio) and Dido forgiving her lover and openly declaring her love. The unity of the two motives is achieved through sacrifice: rejecting Iarbus and thus refusing to share his self-sacrelisation Dido dedicates herself and her city to Aeneus. In spite of the mysterious opposition of the two elements ("being" and "nature") embodied in the two mythological characters through the divine will their aspirations are directed towards unity stretching far beyond the limits of the actual world. For the first time in the history of drama the idea of destiny (Aeneas and Dido) and uncontrolled spontaneous human activity (Iarbus) are integrally combined in the plot of the tragedy, both being the motive forces of the dramatic action. The male-female opposition has acquired here a distinct ontological nature. A certain type of a tragic subject was formed in "Dido" and later became the basis of all tragedies by Knyazhnin. The subject presents the development of the conflict between two totally different characters (Iarbus and Aeneus in "Dido") caused by the female character. One of the characters appears as "avenger" initially defeated and striving for revenge (Iarbus). The avenger starts a rebellion which ends in another defeat. His magnanimous enemy forgives him and returns his arms ("sword") as a symbol of complete reconciliation. The avenger however rejects the forgiveness and puts his regained weapon to use by killing either himself or his rival. The characters of the spectacular plot and their driving ideas would be filled with different content in later tragedies by Knyazhnin and his followers (to include Ozerov). Kniazhnin's later works are much poorer compared to his first tragedy. The reason for it is that their subjects belonged to historical, rather than mythological, sphere and reflected the political issues of the time. Much attention in this paper is given to the main stages of Kniazhnin's creative evolution. A set of motives underlying the theme of Aeneas and Iarbus used by Kniazhnin for his later tragedies has been discovered. This theme was employed for his last "republican" tragedy "Vadim". The absolute which in the mythological context was realised as the 226 Summary opposition between the devotion to gods, self-worship and strife against gods turned into the opposition of the two heroes who dedicate themselves to two different political principles: priority of personal existence and priority of universal goals. The political principle becomes an intermediate agent between the hero and the Absolute. The use of some sort of intermediate agency was an achievement of the philosophical tragedy calling into existence different "types" of heroes created on the basis of the same ontological pattern. Chapter 3. Kheraskov's tragedy the free-mason version of the genre Kheraskov began his literary activities ten years after Sumarokov (1758) and stopped writing in the early 19th century. His work occupies a place apart in the mainstream development of the tragic genre in Russia, though it originates from the same antithesis of "love for God" and "love for man" (his tragedy "The Venetian Nun") and is connected with the religious themes throughout its development. Kheraskov's peculiarity lies in the influence of free-mason mysticism on his work. This paper deals with one of the most important philosophical assumptions contained in contemporary free-mason literature of the time the idea of the trinitarian hierarchy inherent in man and the world: body soulspirit and nature law grace. The distribution of characters in Kheraskov's tragedies according to this hierarchy is described in this chapter. Thus, in Kheraskov's tragedy "Moscow Liberated" (1798) having most fully incorporated mason elements of his creative activity the trinitarian idea leads to a complex pattern of the main conflict taking place between three groups of characters. Events of the Time of Troubles and the establishment of the Romanov dynasty appears to be the subject to philosophical symbolization in this tragedy. The hypostasis of "nature" is presented by Sophia (a symbolic in gnostic tradition name), a character expressing sentimentalist ideals of "sensual" love and longing for peace at the expense of any compromise possible. The hypostasis of "law" is presented mainly by Duke Dmitry (Trubetskoy), pursuing a severe and even cruel policy, putting under control willful Russian volunteers besieging Moscow that have been occupied by the Polish. "Grace" element is embodied by the second head of the Russian army Duke Pozharsky driven by divine inspiration. The tragic conflict breaks into, on one hand, the conflict between Dmitry and Pozharsky fed on mutual suspicions and misunderstanding resulting in reconciliation of rivals and, on the other hand, the conflict of "higher hypostases" (i.e. both Dukes) with the "lower" one (Sophia) resulting in complete defeat and death of Sophia. (It is characteristic that "higher hypostases" are brought into correlation with national religious and state tradition and "fallen Sophia" -with Western culture). The original Sumarokov's dualism of the world and God in Kheraskov's drama turns out to be in a complex relationship with this other system of values in which tragic conflict is finaly eliminated. Tragic paradox is solved in a quasi-rational way. The successive stages of Kheraskov's work, each of them placing different accents on free-mason ideas, are in the paper analysed. Particular attention is paid to various versions of Kheraskov's tragedies demonstarating the development of his religious and philosophical views. Chapter 2. Ozerov's tragedy Ozerov's work (1769-1816) was the last major achievement of Russian classical tragedy. Of all Russian men of letters who tried their hand in tragedy Ozerov was a tragedist in full degree -par exellence, the one who almost wholly devoted himself to tragedy. His literary heritage consists almost entirely of tragedies. Fast all of them found enthusiastic response with the contemporary public but within twenty years went off stage and were condemned by later critics, Pushkin one of them. In the opinion of both 19th century general public and specialists Ozerov came to be regarded as a minor author. This opinion has survived to our days. The opposite views can be found in two authoritative early 20th century sources one of 227 Summary them expressed by Mandelshtam in his poem "Est' tsennostei nezyblemaia skala.." where the poet calls Ozerov "the last highlight of world tragedy". The other source is P.Potapov's fundamental monograph "Life and Activities of V.A.Ozerov" (1915) where the author refers to Ozerov's tragedies as the first and successful example of 19-th century psychological drama, similar to classical tragedies only in form. These two favourable opinions arise, however, from completely different approaches. This discussion makes us revert to the problem of the internal evolution of classical tragedy which fell into decline at the beginning of the 19th century and was ready to give way to new approaches and technicques. The 18th century French philosophical tragedy was inspired by faith in the rationalistic harmony of the world and its subject was the victory of this harmony (or the exposing of the "prejudice" that caused a tragic event). But this exposing could take place only against the background of the belief in progress and in the ultimate triumph of harmony. The points of unity and rationalistic treatment were contained in the subject-matter of tragedy as long as the rationalism of the Enlightenment determined the main idea of the subject. The situation changed with the crises of the ideology and philosophy of the Enlightenment brought about by the era of the Revolution. Voltaire's "philosophical" tragedy was replaced by the political tragedy of 1790-1800s. This tragedy did not break away from the principles of tragedies of Voltaire and Enlightenment but its subject no longer contained the idea of the triumph of the ultimate harmony. The delicate balance of political forces which the tragic hero took great effort to maintain and the depiction of the ever-changing political situation resulted in the introduction into tragedy of heterogeneous elements which claimed to have an independent existence. The ontological category of "essence" resumed its position in tragedy -this time in the form of historical and social differences. The rationalistic standards of classicism gradually became a mere problem of form and began to contradict the contents that evolved. That's what romanticists found when they emerged and judged it to be true for the whole period of classicism. The development of Russian drama on the whole presented a similar process. "Mass" theatre turned tragedy into heroic drama, reflecting the trends and ideas of the period of Napoleonic wars. New "exotic" subjects were introduced, "time" and "place" were shown in a new colorful and poetic way. But the above mentioned conflict of ontological values was as alive as ever in Russian tragedy -the tradition that opposed the tragedy of Enlightenment. The contradiction between the two opposite trends was reflected in criticism (P.Plavilshchikov 1790 criticque of Kniazhnin) and in literary disputes of the 1800-ies focusing on Ozerov's tragedies. Ozerov's tragedies which brought him fame "Oedipus in Athenes", "Fingal", "Dmitri Donskoi" present a compromise between the Enlightenment's emphasis on harmony and ontological tragic conflict. It is Ozerov who initiated the active introducton into tragedy of the description of a specific place and specific heroism of the 1800ies. In this paper the sources of his tragedies, their close connection with earlier Russian drama and the inner development of tragic problematics in them, are analyzed. The inner compromise was leading to a crisis which resulted in the last Ozerov's tragedy "Polyxene" that fully restored tragical vision of the world. This tragedy is the only real Ozerov's masterpiece. Its complicated and multishaded problematics embraced the enormous tradition of the genre that couldn't fit within the limits of the Englightenment's aesthetics, for this reason the tragedy was not a success among the contemporaries bringing about the playwright's personal tragedy -he became insane. "Polyxene" makes it possible to reveal the general theme underlying the history of Russian tragedy. While Sumarockov's tragedy was a tragic parable, showing structural 228 Summary foundations of the tragic world and Knjazhnin's tragedy (his "Dido") denoted the tragic world as such in its supreme mythological foundations, now the focus of tragedy became man with his diversified manifestations. Ozerov follows the trend of the late Kniazhnin's tragedies with their intermediary between the empirical self of the hero and the ontological elements of tragic world. This intermediary is not any more the image of "a political figure" as in Kniazhnin's plays, but a type of character deeply rooted into dramatic tradition. His characters are strictly divided between the spheres of "being" and "nature" interacting with one another but within each sphere there is a conflict of its own. "Polyxene" is closely connected with all the preceding history of Russian tragedy: through the haze of pagan beliefs one can clearly see the conflict of "love for God" and "love for fellow man" in nearly the most manifest form among all the Russian tragedies, its characters are on the verge of myth and history, its very Troyan topos is inseparably connected with "Dido"; the play also contains some features of the last Kniazhnin's political tragedies, and earlier Ozerov's works. It is in "Polyxene" that a real meeting of Russian traditon with the age-old history of the genre takes place. Russian tragedy of classicism in all its diversity, Racine's tragedy (mostly "Iphigenia"), Euripides, Seneca and finally Homer such is the "tree" of the literary sources, each of them bringing a semantic layer of its own to supplement the other ones. The profound treatment of the personal aspect of characters mainly derives from Racine's tragedy, the inner balance of various elements, of male and female parts of the tragedy forming the interwoven and, at the same time, independent lines of action are based upon Seneca and Euripides respectively. Greek and Roman tragedies (underlying Corneille's and Racine's tragedies) with their motives of destiny and heroes' impulsive activities are united here in a single perspective. This unity, in its turn, becomes possible due to the epic integrity of "The Iliade", whose shadow is cast on "Polyxene". Male and female characters of "Polyxene" distinctly express the elements of "being" and "nature". Three female and four male characters are individualized, but their images variously reflect traditional features. And at the same time there is the ancient division of four main virtues (in male types) and three types of female characters, having diverse semantic equivalents. Each of the participants of the conflict possesses some dominant characterestic personifying a certain indispensable part of the moral world, a certain "virtue". But their independent efforts are unable to overcome the ontological gap separating them. The end of the tragedy -a sacrificial self-immolation of Polyxene paradoxically combines the glorification of each party involved in the conflict and their condemnation. Polyxene's sacrifice, as it becomes clear from the tragedy itself and Ozerov's letters, is a fundamental mythological event and was associated by Ozerov with Christ's sacrifice, but its essence is not the redemption of sin but the penetration of sin into the world. The main idea of the last Russian classic tragedy may be formulated as the phenomenology of the sin. This idea is far from trivial. The concept of sin was authoritatevely postulated by St. Augustine in western tradition as a spontaneous impulse towards the evil deeply rooted in every human soul. The top of the classics of the 17th century, Racine's "Fedra", also treated the concept of sin, interpreting St. Augustin's ideas at a profound existential level. In this case we have a different conception of sin: not the irrational inclination to the evil but unconformity of various good in essence elements of the human nature -sin as a virtue going beyond its measure and limits. Conclusion "Andromache" by Katenin as the epilogue of the history of Russian classical tragedy 229 Summary "Andromache" is the only original tragedy by Katenin and almost the most significant writing in his heritage. It was his answer to "Polyxene" by Ozerov -practically the only one in the contemporary drama. It is quite an independent work that outlined new aesthetic problems and got high appraisal by Pushkin. This paper regards "Andromache" in the context of aesthetic articles by Katenin. Katenin's standpoint as literary critic is very specific: he is an apologist of the classical tragedy but at the same time flatly rejects the whole of "voltairian trend" (where he attributed Ozerov too). Katenin rejects both the high moral problematics so persistently developed in the "philosophical tragedy" of the 18-th century and the emphasized feelings brought by romanticism. The classical tragic conflict itself meaning opposition of the spheres of personal feelings and absolute morale truths (rooted in "nature" and "being" in our terms) is rejected by him. "Polyxene" became in this respect a most important creative stimulus for Katenin and a most significant subject of polemic repulsion. The plots of Katenin's "Andromache" and "Polyxene" by Ozerov are practically identical but sketches of the same characters are absolutely different in essence. Each character now has ambitious will, personal interest never claiming to express lofty truth and at the same time deprived of a faintest touch of sentimentality. Katenin's character is an individual subject outside the sphere of generalized "cosmic" forces. Autonomous human will at the same time opposes destiny, hostile circumstances. Finally, the tragic collision turns out to be but a trial for the characters whose conflict is harmoniously resolved by "gracious gods". In spite of high appraisal of "Andromache" by Pushkin it has to be admitted that Katenin's characters are mostly all alike and not very expressive like not very expressive is the tragic collision itself. "Andromache" would fit better the place in the history of literature now allocated to Ozerov's tragedies -the position of an imperfect, weak link between two mature types of arts. But nevertheless it is there that the transition to a totally different type of character has taken place -an autonomous person having broken away from the attraction of the generalizing ontological problematics of classicism.