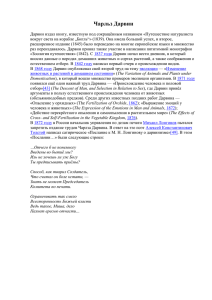Глава 5. Размеры изменчивости домашних животных и
advertisement
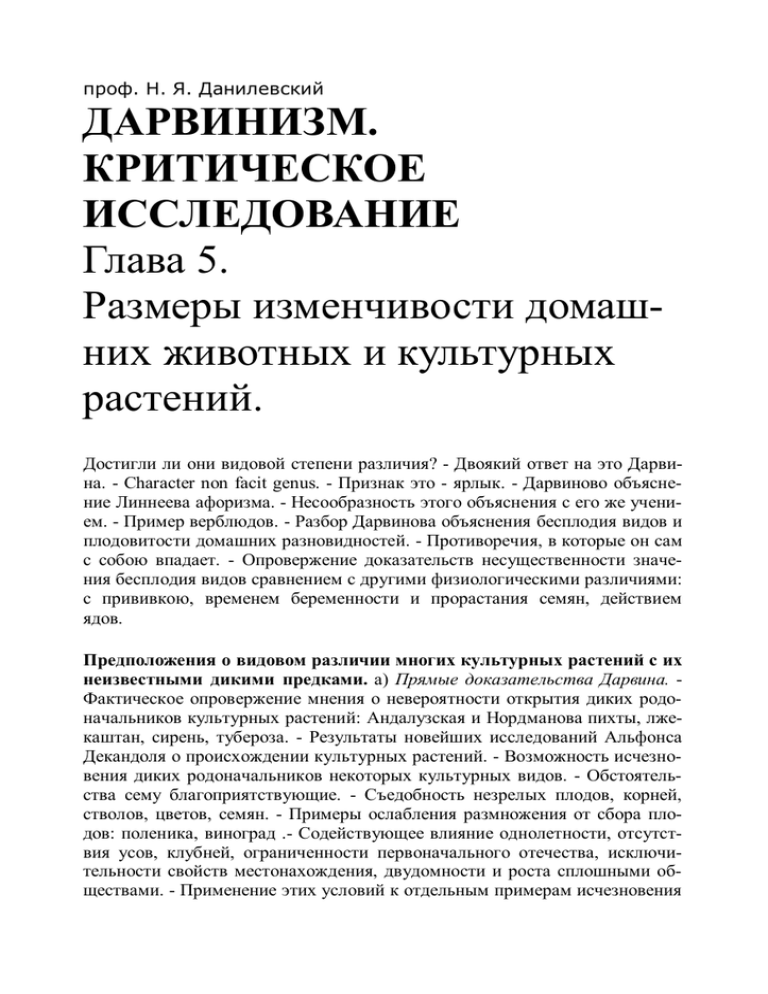
проф. Н. Я. Данилевский ДАРВИНИЗМ. КРИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Глава 5. Размеры изменчивости домашних животных и культурных растений. Достигли ли они видовой степени различия? - Двоякий ответ на это Дарвина. - Character non facit genus. - Признак это - ярлык. - Дарвиново объяснение Линнеева афоризма. - Несообразность этого объяснения с его же учением. - Пример верблюдов. - Разбор Дарвинова объяснения бесплодия видов и плодовитости домашних разновидностей. - Противоречия, в которые он сам с собою впадает. - Опровержение доказательств несущественности значения бесплодия видов сравнением с другими физиологическими различиями: с прививкою, временем беременности и прорастания семян, действием ядов. Предположения о видовом различии многих культурных растений с их неизвестными дикими предками. а) Прямые доказательства Дарвина. Фактическое опровержение мнения о невероятности открытия диких родоначальников культурных растений: Андалузская и Нордманова пихты, лжекаштан, сирень, тубероза. - Результаты новейших исследований Альфонса Декандоля о происхождении культурных растений. - Возможность исчезновения диких родоначальников некоторых культурных видов. - Обстоятельства сему благоприятствующие. - Съедобность незрелых плодов, корней, стволов, цветов, семян. - Примеры ослабления размножения от сбора плодов: поленика, виноград .- Содействующее влияние однолетности, отсутствия усов, клубней, ограниченности первоначального отечества, исключительности свойств местонахождения, двудомности и роста сплошными обществами. - Применение этих условий к отдельным примерам исчезновения диких прародителей. - Неосновательность признания четырех- и шестирядного ячменя и полбы за продукты культуры. - Шарлот, рокамболь, рожь. Персик. - Невероятность происхождения его от миндаля. - Пушистые и арабские персики. - б) Косвенные доказательства Дарвина. - Неверность самого факта недоставления культуре растений странами совершенно некультурными и океаническими островами. - Примеры полезных растений, доставленных островами. - Примеры полезных растений, оставшихся совершенно дикими, как из некультурных, так и из культурных стран. - Обратное принимаемому Дарвином отношение культуры к произведениям страны. Понятия Дарвина об этом предмете составляют типический образчик его мировоззрения. Общий вывод о размерах изменений одомашненных организмов. - Они не достигли видового предела. - Это одно лишает уже Дарвиново учение всякой фактической основы. - Заключения от меньшего к большему часто недопустимы с положительной точки зрения. - Примеры ошибочности таких заключений: качания маятника, планетные возмущения, эксцентриситеты, наклонения орбит и осей вращения к эклиптике, температурные изменения. - И в органических видах изменения суть колебания различной амплитуды около постоянных типов или норм. В этой и в следующей главе нам предстоит определить, во-первых, размер, величину тех отклонений, которые были произведены влиянием культуры в организмах, доставленных человеку природой — предмет настоящей главы; а во-вторых, выяснить и оценить ту степень участия, которую принимали различные факторы в произведении этих изменений, и в особенности разобрать вопрос: имел ли в этом деле так называемый искусственный подбор то преобладающее значение, которое приписывает ему Дарвин — предмет следующей главы. Очевидно, чтобы судить насколько изменения, замечаемые в организмах, подпавших под влияние человека, могут служить основанием для распространения выводов, полученных из наблюдений над ними, к объяснению бесконечного разнообразия и почти неизмеримого различия, замечаемых в органических формах вообще, необходимо составить себе по возможности, точное понятие о величине, о размерах изменений домашних животных и культурных растений. Но размеры различий между организмами определяются не иначе, как отнесением их к различным категориям делений, принятых в зоологической и ботанической систематике. Чтобы определить степень различия, мы говорим: между этими формами существует различие 2 видовое, родовое, отрядовое и т. д. Хотя такие иepapхические степени не строго определенны, не то что метры и километры, граммы и килограммы, но, за неимением других, мы должны ими довольствоваться. Итак, наша задача приводится собственно к вопросу: можем ли мы признать, что в каком-либо домашнем животном или культурном растении полученное различие форм достигло видовой степени? Посмотрим, какой ответ дает на этот вопрос сам Дарвин. Относительно тех животных, которых он специально исследовал в этих отношениях и которыми он посвятил наиболее труда и внимания, как на представляющих уклонения и различия наиболее сильные, — именно относительно кур и в особенности голубей — ответ Дарвина собственно двоякий. Разбирая отдельные признаки голубиных пород, он говорит: «Я нисколько не сомневаюсь, что многие домашние породы полевого голубя отличаются друг от друга по внешним признакам, по крайней мере, столько же, как различные естественные роды». Но сейчас же и прибавляет: «Я нисколько не желаю утверждать, что домашние породы отличаются друг от друга по всей своей организации столько же, как и наиболее отличные естественные роды. [*1] И в другом месте: «Можно принять за общее правило, что прирученные породы различаются между собой в меньшей степени, чем виды, а если и проявляются более значительные различия, то они не столь постоянны» [*2] (а в постоянстве ведь и главное дело). Однако это замечание, из коих первое делается на той же странице столь высоко добросовестным родоначальником учения, обыкновенно забывается его последователями. Так напр. г.Тимирязев в недавно вышедшем сочинении: «Чарльз Дарвин и его учение», в котором он, по моему мнению, хорошо и точно излагает учение Дарвина в его строгой и правоверной форме говорит: «Словом, различие между породами голубей так резко, что если бы они были найдены в диком состоянии то, без всякого сомнения, были бы отнесены к различным видам; более того, ни один орнитолог не решился бы даже соединить все упомянутые породы в один род». [*3] И ничего больше. Орнитолог этот, скажем от себя, на основании впрочем приведенного замечания самого Дарвина, был бы или очень плохой, или очень невнимательный, или принужденный к очень спешной работе; во всяком случае забывший правило Линнея: Character non facti genus — правило, всю силу которого конечно признает и Дарвин. Так в другом своем сочинении он же говорит: «Мы можем понять, почему классификация, основанная на одном характере или органе — будь он даже столь изумительно сложен и важен, как мозг... почти наверно окажется неудовлетворительной». [*4] Но Дарвин смело мог бы пойти далее, заменив последние слова первой цитаты: Естественные роды — словами естественные виды. В сущности (мы осмеливаемся это утверждать) он держится именно того мнения, что ни куры, ни голуби, не говоря уже о других менее изменившихся животных, не переступили в своих изменениях видового предела. Это видно из того, что по его мнению и куры и голуби не только произошли от одного дикого вида, но и 3 до сих пор составляют один вид, потому что первый факт он доказывает главным образом не иным чем, как именно последним. В самом деле, в числе этих доказательств он приводит, что «все домашние породы весьма охотно скрещиваются между собою, и, что одинаково важно, помеси их совершенно плодовиты ...... Я допускаю мнение Палласа, что близкие виды, будучи до известной степени бесплодны при скрещивании в диком состоянии, утрачивают это бесплодие, в случае продолжительного приручения; однако, принимая во внимание значительное различие между такими породами, как дутыши, гонцы и пр. мы должны будем сознаться, что их совершенная или усиленная плодовитость при самом сложном скрещивании, составляет сильный аргумент в пользу их происхождения от одного вида». [*5] Без сомнения не только в пользу этого, прибавлю я, а и в пользу того, что и до сих пор они составляют один вид. Ведь, по учению Дарвина, и вообще все виды каждого рода произошли от одного прародительского вида; но это не помешало им разойтись до того, что они перестали быть плодовитыми между собой и поэтому стали наконец самостоятельными видами, а не разновидностями: домашние же породы голубей, несмотря на все их различия не перешли еще той грани, которая, — все равно, считать ли ее, или не считать теоретически за существеннейшую характеристику вида, — тем не менее принадлежит огромному, подавляющему большинству естественных видов, так что исключения из этого правила, хотя и отыскиваются с величайшим тщанием, но почти никогда не находятся. Так и Дарвин говорит: «Что касается бесплодия при скрещивании домашних пород, то в этом отношении мне не известно ни одного положительного случая у животных». [*6] Вслед за сим, по случаю рассказа Юатта об уничтожении через бесплодие породы, происшедшей от смешения длиннорогого и короткорогого скота он прибавляет: «Предполагая даже, что Юатт доказал справедливость рассказанного случая, можно бы предположить, что бесплодие зависело от того, что обе родительские породы произошли от двух коренных различных видов». [*7] Не значит ли это, в применении к голубям, что все изменения и отклонения их достигли только степени породы или разновидностей? В другом месте он напротив того говорит: «Но когда мы выходим из пределов того же вида, свободному скрещиванию препятствует закон бесплодия». [*8] Не значит ли это опять другими словами, что при всей изменчивости, постигшей голубей при их приручении , они все таки не вышли из пределов своего вида? И действительно это бесплодие гибридов можно по праву назвать законом, то есть фактом такой общности, что для животных он не представляет ни единого исключения, а для растений всего на все только одно положительно констатированное: «Ни в одном из предыдущих случаев» (гибридизма между животными и растительными видами, разобранными Катрефажем) «гибридация в какой бы-то ни было степени, говорит он, не произвела ряда индивидуумов, происшедших друг от друга и сохранивших те же характеры. Однако известно одно исключение из этого общего факта. Оно единст4 венное и произошло в растительном царстве, при скрещивании пшеницы с Aegilops ovata». Во втором томе моего труда я буду подробно говорить об ублюдках и помесях, но настоящий случай столь интересен, что приведу теперь же вполне начатую мной цитату: «Гибрид первой крови (т. е. непосредственно происшедший от обоих видов) от этих двух видов происходит иногда в природе, и был сочтен Реквианом (Requien) за вид. Фабр, также встретивший его в полях, усмотрел в этом начало превращения эгилопса в пшеницу. Позже четырехстепенный гибрид, случайно полученный и культивируемый в течение нескольких лет, дал ему потомков, похожих на ble touselle в южной Франции (вероятно полба). Это был результат возвращения; но Фабр, который не узнал гибридации, поверил в превращение и полагал, что открыл дикий первообраз пшеницы в эгилопсе». «Напротив того, г. Годрон понял природу явления и доказал это путем опыта. Он скрестил пшеницу с эгилопсом и получил первое растение Реквиана, Aegilops triticoides Фабра. Он снова скрестил этот гибрид с пшеницей и произвел мнимую искусственную пшеницу Монпельерского ботаника. Он назвал его Aegilops speltaeformis. «Эту-то последнюю форму, имеющую 3/4 крови пшеницы и 1/4 эгилопса и культивирует г. Годрон в Нанси с 1857 года. Искусный натуралист, ее произведший, полагает, что у него не было случаев возвращения, каковые оказывались в Монпелье и у Фабра. Но в то же время он объявляет, что только лишь особые и мелочные заботы могут сохранить это искусственное растение. Земля должна быть приготовлена с величайшей тщательностью и каждое зернышко от руки посажено в должном положении. Положенным в землю без старания и брошенные в парник, семена эти никогда не прорастают. Г. Годрон полагаетъ, что Aegilops speltaeformis исчез бы совершенно, может быть, в один год, будучи предоставлен самому себе. [*9] Специально относительно голубей Дарвин продолжает: «Аргумент этот» (т. е. что они все между собой плодородно скрещиваются), «становится еще сильнее, когда мы узнаем, что едва ли существует хотя один пример» (а опытов было делано много — изложением их наполнены два столбца мелкой печати у Дарвина), «чтобы ублюдки от двух разных видов голубей» (прибавим — повидимому, гораздо менее между собой различных, чем породы домашних голубей) «были плодовиты между собой, или со своими чистыми родителями». Но и этого еще мало. «Г.г. Буатар и Корбье утверждают, на основании своей долголетней опытности, что чем различнее скрещенные породы (голубей), тем плодовитее ублюдки их». [*10] По совершенно справедливому мнению Дарвина, некоторое различие между родителями усиливает плодовитость их соединения, но только пока раз5 личие это находится на степени разновидностной, породовой; когда же оно усиливается до степени видовой, то, как всем известно, плодовитость эта исчезает. Приведем еще цитату собственно о скрещивании домашних голубей с вяхирем (Columba oenas). «Однако он скрещивается охотно с настоящими полевыми голубями — потомки этого скрещивания бесплодные гибриды». [*11] Из всего этого с очевидной ясностью следует, что видовое различие предполагает такую степень различия организации, при которой — будет ли то по закону соответственности роста (correlation of growth), или по закону соподчиненения признаков Кювье, или по какой бы-то ни было иной причине, — воспроизводительная система оказывается настолько обособленной, специализированной, что уже не может производить плодородного потомства с другими видами. А так как это именно и замечается у пород домашних голубей (а у прочих прирученных организмов и подавно), то это значит, что они не только произошли от одного дикого вида, но и по сей день, несмотря на все изменения и уклонения от типа, продолжают составлять один вид. Но признаки плодовитости и бесплодия суть не единственные, приводимые Дарвином в пользу происхождения домашних голубей от одного вида, а по точному смыслу его доказательств и в пользу принадлежности и ныне к одному виду. Вот еще весьма замечательное место: «За исключением известных характеристических различий, главные породы во всех отношениях чрезвычайно схожи между собой и с Columba livia». Сходства эти перечисляются, и Дарвин затем продолжает: «В тех породах, которые отличаются каким-либо замечательным уклонением в строении, как напр., трубастые — хвостом, дутыши — зобом и проч., другие части остаются почти неизменёнными. Всякий натуралист конечно знает, что едва ли возможно подобрать, в каком бы-то ни было семействе, дюжину естественных видов, которые, сходясь между собой по привычкам и по общему строению, отличались бы весьма значительно только немногими признаками». [*12] В этомто несомненно и заключается смысл того афоризма, который выразил Линней своим лапидарным слогом: «Character non facit genus» — non facit speciem, familiam ordinem, конечно с таким же правом можно бы прибавить. В самом деле, что такое character — признак? Это ярлык, это этикетка, по которым мы распознаем формы, которые обозначают то, что более бросается в глаза, или что легче выразить словами, по возможности краткой фразой. Ярлык может однако ведь быть и неверно привешен, т.е. не обозначать существенно различного в органической форме — такого, что заслуживало бы название вида, различного от других по всему существу своему. Но это различие весьма трудно поддается определению, трудно выразимо словами, почему и приходится часто довольствоваться ярлыком, т.е. характером, 6 признаками; хотя никогда не должно привешивать ярлыки, т.е. придавать признаку видовое (родовое и пр.) значение, если нет этих существенных, хотя и трудно уловимых словами различий. Например, всякий, вовсе не будучи зоологом, увидав совершенно для него новую, и очень уклоняющуюся от всех виденных им пород, собаку, напр. голую американскую, или кривоногую таксу, с первого взгляда скажет: — это собака; а увидав лисицу, хотя бы и прирученную, не назовет ее так. Между тем по описательной фразе различие между лисицей и похожей на нее собакой будет казаться гораздо меньшим, чем, по такому же описанию, между бульдогом и левреткой. Дарвин объясняет только что приведенные его слова о единичности, отдельности изменений так: «Факт этот объясняется действием естественного подбора, в силу которого каждое последовательное изменение строения во всяком естественном виде сохраняется только потому, что оно полезно, а накопление подобных изменений производит большую перемену в привычках, которая в свою очередь ведет к другим изменениям строения во всем организме». [*13] Признаюсь, я этого объяснения с Дарвиновой точки зрения не понимаю, или лучше сказать нахожу, что оно вовсе из его учения не вытекает. В самом деле, полезное изменение может ограничиваться одним органом и накопляться все в одном и том же направлении, и вовсе не влечь за собой перемен в образе жизни. Затем самое изменение привычек, как таковое, вовсе не ведет к другим изменениям. По теории Ламарка это было бы так, но не по Дарвину. Изменения происходят независимо от внешних условий, сами по себе, и только сохраняются, ecли к ним прилажены; в против ном же случае исчезают; но могут и не появиться, ибо нет необходимости, чтобы организмы находились в абсолютной идеальной гармонии с условиями среды, — по Дарвину достаточно, если между ними (т. е. организмом и средой) устанавливается сносный modus vivendi. Но общими выражениями легко все объяснить. Возьмем конкретный пример. Пусть какой-нибудь одногорбый верблюд получить зачаток другого горба (допустив, что прародитель обоих верблюдов был одногорбый; если же принять, что это было наоборот, или что прародитель был вовсе безгорбый — для нашей цели это будет совершенно безразлично), и пусть это изменение оказывается почему-либо для него полезным, напр., в том отношении, что увеличивает запас жира, который поддерживает животное в его странствованиях по пустыне, при бескормице. Тогда этот признак будет постепенно развиваться под влиянием подбора и наконец произойдет новый вид — верблюд двугорбый, который также будет жить в пустынях, как и первый, только почему-то в более холодных. Если бы затем его шерсть сделалась гуще, или ступни обросли твердыми копытами, что помогало бы ему 7 отыскивать пищу под снегом тебеневкой, как делают киргизские лошади, мы бы сказали — да! Действительно! эти новые признаки зависели от перемены в образе жизни, обусловленной в свой очередь нарастанием второго горба (хотя собственно и оставалось бы непонятным, почему второй горб заставляет жить в более холодных странах. Но этой связи могло ведь и не быть, а второй горб мог произойти например оттого, что такое изменение в горбах, сначала в слабой степени, как индивидуальное изменение, выпало прямо на долю индивидуума, жившего уже у озера Лоб-Нор, а не в Аравии или в Африке. Ведь для индивидуальных изменений, в буквальном смысле, закон не писан — в одном месте случилось, в другом нет, да и все тут. Но в этом случае густота шерсти, изменение в копытах не явилось бы уже результатом появления второго горба, ни прямо, ни косвенно через изменение привычек. Но дело все еще не в этом. Мы знаем, что у дромадера во время течки, то выпускается изо рта, то втягивается перепончатый пузырь, а у двугорбого верблюда такого пузыря нет; у дромадера есть миндалевидная косточка между отверстиями в грудобрюшной преграде для прохода нижней полой вены и пищевода; а у двугорбого верблюда вместо этой косточки есть маленькое костяное кольцо, окружающее отверстие, через которое проходит полая вена. Я спрашиваю, вследствие какой перемены в привычках, происшедшей от нарастания второго горба, произошли означенные изменения в организме, или если угодно наоборот — вследствие какой перемены в привычках, происшедшей от потери пузыря или замены миндалевидной кости кольцеобразной, произошли перемены организма, произведшие второй горб? Очевидно, что вопрос, поставленный применительно к верблюду, мог бы быть точно также сделан применительно к каждому животному и к каждому растению. Да и у верблюдов есть много других черт организации, которые могли бы составить предмет подобных же вопросов, и все они показывают, что изменена, или лучше сказать различна в значительной степени вся организация, что и делает из верблюдов два настоящих вида, для которых один и два горба составляют только character или по нашему ярлык. Не менее несомненно и то, что ни на один из этих или подобных вопросов не может отвечать ни один Дарвинист в смысле вышеприведенной цитаты, которая следовательно остается не более, как общей фразой. Конечно у Дарвинистов остается ресурс (о котором уже подробно говорилось во II главе) — это «соответственность роста», который или имеет очень малое значение, или уничтожает всю теорию. (см. стр. 166 и след.). Но теперь этот принцип соответственности роста или развития важен для нас в другом отношении. Я не имею ни малейших оснований оспаривать этого рода связь (совершенно впрочем антидарвинистическую), предположенную между числом горбов с одной стороны и пузырем и формой косточек с другой, ибо я, — впрочем как и все ученые и неученые, — ровно ни8 чего об этом не знаю. Но, однако же, не смотря на это мое незнание, считаю себя в праве заметить, что если уже прибегать к этой ultima ratio, к соответственности роста, то я не вижу, почему бы с укорочением клюва у коротколицых турманов, или с удлинением его у Неймейстерова гонца, или c увеличением числа рулевых перьев у трубастого, или с развитием зоба у дутышей, не произошло бы подобных же изменений и во всем строении означенных голубей, что обратило бы их в настоящие виды. Я понимаю, что голуби, несмотря на изменения, происшедшие в организации, не могут изменить своего образа жизни и привычек, и следовательно признаю, что у них не могло появиться тех изменений организма (по крайней мере, что они не могли фиксироваться, если бы и появились), которые должны бы считаться последствиями изменения привычек; но так как этой переменой привычек в большинстве случаев не объясняются и те изменения в организмах диких видов, (как видно из примера верблюдов), которые сопровождают отклонения действительно полезные, почему, собственно, и приходится прибегать к соответственности роста: то для последней совершенно безразлично – произошло ли изменение, влекущее за собой ряд других изменений, путем естественного, или путем искусственного подбора. Дело очевидно лишь в том, чтобы оно произошло, а раз происшедши, должно уже одинаково или не влечь за собой других изменений, или влечь как значительные, так и незначительные изменения, находящиеся с ним в этой таинственной связи, в обоих случаях, т.е. и при естественном, и при искусственном подборе, следовательно, видовая степень различия могла бы произойти в обоих случаях. Разбираемое замечание Дарвина имеет, во всяком случае, тот смысл, что, как бы ни были велики изменения, достигаемые путем искусственного подбора, они никогда не могут выйти из границ вида, потому что, по сущности этого подбора, ограничиваются отдельными признаками, а не изменяют всего организма, и следовательно, относительно животных, по крайней мере, даже наиболее изменившихся в домашнем состоянии, как куры и голуби – факт, что эти изменения не достигают видовой границы, не только доказан, но даже самим Дарвином признан. Вкратце собственный вывод Дарвина относительно пород домашних голубей, кажется мне, мог бы быть сформулирован так: Все они происходят от одного дикого вида, потому что и до сих пор продолжают составлять один вид, несмотря на уклонения в некоторых признаках, которые, будучи взяты в отдельности, могли бы заставить предположить между ними даже родовое различие. Затруднения для теории, фактическим основанием которой должны служить изменения в домашних животных и возделываемых растениях, проистекающие из того, что, несмотря на кажущуюся значительность этих изменений, они не достигают видового предела по главному его критерию, 9 хорошо понимались самим Дарвином, и он старается выпутаться из них при помощи разных соображений, [*14] но как мне кажется, совершенно неудачно, ибо впадает в несогласимые противоречия. Пусть судит читатель. Изложив в нескольких, специально посвященных этому предмету, главах, огромное число фактов по скрещиванию видов и разновидностей, он говорит: «Приступаем наконец к предмету, подлежащему теперь нашему непосредственному разбору. Каким образом случается, что собаки, куры, голуби, некоторые фруктовые деревья, овощи и вообще, за несколькими исключениями в случае растений, [*15] все одомашненные разновидности, которые различаются между собой по внешним признакам гораздо больше, чем некоторые виды, вполне и даже иногда излишне плодовиты при скрещиваниях; тогда как близко родственные виды почти неизменно бывают более или менее бесплодны»? Из этих слов мы видим, что факт этот очень затруднял Дарвина, и вот что он приводит в его объяснение: «Оставляя в стороне тот факт, что количество внешних различий между двумя видами не составляет верного указания на степень их взаимного бесплодия и следовательно, и в случае одомашненных разновидностей, подобные различия не составляли бы верного указателя; мы знаем, что эта причина бесплодия у видов зависит единственно от различия в их половом сложении». Да, первая половина этого предложения безусловно справедлива и ее-то нельзя оставлять в стороне, ибо в ней и заключается настоящее, единственно возможное объяснение факта. Но каков её смысл? Смысл опять тот же, что character non facit genus (speciem и пр.), т. е. что все эти большие по видимому различия, в отдельности взятые, не составляют еще видового различия, если не влекут за собой соответственного различия во всей организации, а в том числе и в половом сложении. В том и дело, что вид, или вообще органическая форма — не мозаика, или точнее не калейдоскопная фигура, какой она является у Дарвина, т. е. она не случайное сочетание признаков, возникающих из случайных индивидуальных особенностей, а затем накопляемых и сохраняемых опять таки по их случайной соответственности внешним условиям. Эту калейдоскопичность Дарвин старается, или точнее принуждается несколько исправить тем, что называет соответствием роста, но по требованиям своей теории отмежевывает ей самое ничтожное место; а должное место, т. е. место связующего весь организм начала, получает она только тогда, когда обратится в Кювьеровское subordination des organes, вместе с чем, как мы уже и выше заметили, конечно должно рушиться и все Дарвиново учение. Встречаются например шестипалые люди, но это конечно не мешает им быть плодовитыми с обыкновенными пятипалыми, но потому только, что эта шестипалость есть случайно появившийся признак, никакой за собой перемены в целом организме (в том числе и в половом сложении) не влекущий, поэтому этот признак, характер и не составляет в этом случае видового ярлыка. Но будь эта шестипалость нормальной — весь организм был бы до того изменен, что эти шестипалые существа составляли бы не только 10 отдельный вид, но особый отряд, или скорее класс (ибо у всех известных форм позвоночных, имеющих настоящие пальцы, они не превосходят числа пяти), а тогда уже и речи конечно не могло бы быть о взаимной плодовитости их с людьми. Странно выражение: причина бесплодия зависит единственно от различия в половом сложении — С одной стороны это не более как трюизм. Конечно половые явления зависят и от организации половой системы, точно также как явления питания от строения системы питательных органов. Если одно животное питается травой, а другое мясом, то это оттого, что так у них устроены и зубы, и желудок, и кишечный канал, и находящиеся с ними в связи железки. Но если известным образом устроена система органов питания, то соответственно им устроены и органы движения и органы чувств; одним словом вся организация в целом без малейшего исключения. Тут это очевидно, но не менее достоверно и то, что несомненная для системы питательных органов связь со всем организмом, — столь же несомненна, хотя и не столь очевидна, и для строения половой системы: и она в каждом существе находится в столь же тесной И необходимой связи со всем организмом. Но если организм не мозаика, не калейдоскопическая фигура, то с другой стороны он и не механический прибор. В механическом приборе, напр., в часах, каждый винтик, колесцо, зубчик так прибраны и прилажены, что малейшая в них порча или изменение останавливает правильный их ход, совершенно нарушает деятельность прибора. В организме не так, — он обладает более широким простором. В нем могут происходить отдельные изменения и довольно значительные, под влиянием различных обстоятельств, и не влечь за собой общего расстройства в его функциях. Character поп fecit genus: —и потому в домашних животных и возделываемых растениях многое могло измениться, но не повлекло за собой общей перемены в строении этих животных и растений, и они остались теми же видами, несмотря на внешние весьма важные по видимому различия, не потеряли способности к взаимному оплодотворению. В этом и заключается единственно возможное и разумное объяснение факта, и оставлять его в стороне, нельзя, ибо кроме, него никакого другого объяснения и нет. Пойдем далеe. «Если мы допустим теорию Палласа об уничтожении бесплодия» (надо бы сказать вместо уничтожения — ослабления) «посредством одомашнения, а мы едва ли можем отвергнуть ее, то станет в высшей степени невероятным, что одни и те же обстоятельства могли одновременно и вызывать и уничтожать ту же самую склонность», [*16] или как в другом месте Дарвин еще определенее выражается: «Отсюда (т. е. из принимаемого Дарвином Палласова мнения) нелогично было бы ожидать, чтобы породы, произведенные в состоянии приручения, приобрели бы это 11 свойство бесплодия, между тем как приручение уничтожает (опять надо бы сказать ослабляет) его у естественных видов». [*17] Во-первых, это игра слов: «одни и те же обстоятельства». Но ведь обстоятельств, составляющих одомашнение и притом не только просто одомашнение, но еще и причину тех значительных изменений, которые произошли в некоторых одомашненных организмах (чего простое одомашнение еще вовсе не предполагает, как показывают примеры гусей и пр.) — очень много — и одни из них могут ослаблять, а другие (именно те, которые произвели изменения) — вызывать ту же самую склонность к бесплодию. Одомашнение, т. е. доставление разных удобств, ycиление питания, лучшая почва (Паллас имел ввиду собственно растения устранение неблагоприятных влияний может, допустим, в известной степени ослаблять бесплодие между естественными видами. Но к одомашнению присоединяется подбор, сохраняющий и накопляющий случающиеся изменения до степени повидимому равной видовому различию; почему же нелогично бы было принять, что это, хотя и при одомашнении происходящее, но, однако же, совершенно отличное от непосредственного его влияния, обстоятельство, повлечет за собой бесплодие, если изменение для сего достаточно? Во-вторых, как же это согласить со сказанным в первом томе: «Я допускаю мнение Палласа…, однако, принимая в внимание значительное различие между породами (голубей), мы должны будем сознаться, что их совершенная плодовитость составляет сильный аргумент в пользу их происхождения от одного вида» ..? Почему влияние одомашнения не могло бы и тут ослабить или, как г. Дарвин говорит, уничтожить бесплодие между этими несколькими предполагаемыми дикими видами, как оно уничтожает же его между производными формами, достигшими видового различия, или даже превзошедшими его? Если справедливо сказанное во втором томе, то сильнейшее доказательство того, что голуби произошли от одного вида, обращается в ничто, ибо с одомашнением и разные виды могли бы потерять свое бесплодие. Если же различие между ними было бы столь велико, что, несмотря на одомашнение (так как Палласово мнение относится только к очень близким видам) они все-таки не могли бы потерять своего бесплодия (что, по-видимому, по цитате из первого тома, Дарвин собственно и полагал); то, приобретя эти важные различия, они должны бы были приобрести и бесплодие, и в таком только случае сравнялись бы в степени своего органического различия с настоящими видами. В самом деле, ведь рассуждение Дарвина имеет следующий смысл: Породы голубой столь различны, что ежели бы эти различия составляли принадлежность самостоятельных диких видов (от которых будто бы они произошли), то, несмотря на некоторое ослабление бесплодия при одомашнении, — ослабления этого оказалось бы недостаточно, и одомашненные потомки их все-таки должны бы остаться между собой бесплодными. Между тем они не бесплодны, потому что эти различия приобрели уже впоследствии, а происходят они первоначально все-таки от одного вида. Следовательно, говорю я, 12 эти приобретенные впоследствии различия не равняются тем первоначальным различиям, которые необходимо бы было предположить в коренных видах, от коих они могли бы произойти. Следовательно, продолжаю я, эти различия суть только призрачные, случайные, сравнительно ничтожные, а не существенные, и именно потому призрачные, случайные, сравнительно ничтожные, что не повлекли за собой изменений во всем организме, а в том числе и в половом сложении, и наконец, еще раз следовательно,— все эти изменения не достигли видовой ступени. Но справедлив ли, или правильнее, имеет ли общее значение факт, что одомашнение ослабляет бесплодие между видами? Общего значения этот факт, конечно, не имеет; иногда это так, а иногда совершенно наоборот. На тех же страницах Дарвин говорит: «Мы знаем, как часто дикие животные и растения становятся бесплодными в неволе». Как общеизвестный пример можно привести слонов. Неверно также и то положение Дарвина, что «условия, которым подвергались одомашненные животные и возделываемые растения, не вели к таким изменениям воспроизводительной системы, следствием которых бывает уменьшение плодовитости». Некоторые из этих условий, особенно у растений, очень часто именно к этому и ведут: таково чрезмерное усиление питания. Всем известно, что махровость происходить, главным образом, от излишка питания, а махровость есть бесплодие, или, по крайней мере, значительное ослабление плодовитости. Образование бессемянных плодов есть тоже бесплодие, а в культуре таких много известно: груша бессемянка, мушмула без косточек, виноград кишмиш и коринка. Но, оставляя в стороне эти исключительные факты, какому садовнику неизвестно, что сильное удобрение, усиливая и ускоряя рост плодовых деревьев, замедляет время их цветения и плодоношения и даже уменьшает количество плодов? Я читал в Garden Chronicle, но, к сожалению, не могу теперь цитировать года и №, что один садовник хотел выкопать яблоню, в течение многих лет не приносившую плода. Начавши выкопку, причем обрубил уже кругом корни, одумался и решил еще на время её оставить; на следующий год яблоня дала обильный урожаи и затем давала постоянно плоды. Обрубкой корней он, конечно, уменьшил её питание. Впрочем, это факт слишком известный, чтобы нужно было его подтверждать специальными цитатами. У себя в саду я сделал то же самое не над одной, а над тридцатью с лишком сливами, и через год они мне принесли небывалый ypoжай, тогда как прежде только обильно цвели, но плодов не завязывали. Чтобы получить скорее плоды от сеянцев и скорее узнать качество плодов, могущих образовать новую ценную разновидность, пересаживают их два и три раза и получают плоды, уже на седьмой или даже на шестой год, как, например Ван-Монс, занимавшийся в течение всей своей жизни произведением новых сортов 13 груш, яблонь и других плодовых деревьев, и произведший их в большом числе, чем может быть все остальные плодоводы в совокупности. Но пересадка ослабляет питание дерева. Это же замечается отчасти и у животных, именно у домашних птиц, которые несут бесплодные, так называемые жировые, яйца и вообще мало несутся при слишком сильном кормлении. Если этого не замечается у домашних млекопитающих, то вероятно потому что они, за исключением откармливаемых на убой, не получают большего питания, чем в диком состоянии. Правда, что в диком состоянии они иногда подвергаются совершенному голоду и вымирают в большом числе, но обыкновенно, имея в своем распоряжении обширные пастбища (как напр., одичавшие лошади и рогатый скот, в Пампасах), они питаются вдоволь. Следовательно, нельзя видеть в одомашнении причину, всегда усиливающую плодовитость и этим объяснять плодотворность скрещивания домашних разновидностей, по-видимому, столь же или даже более отличных, чем естественные виды. Если одомашненные могло произвести полное бесплодие, или ослабить плодовитость одной и той же породы, почему оно не только но могло бы произвести того же влияния на скрещивание разных пород, но должно было еще устранять это бесплодие, между формами настолько друг от друга уклонившимися, что случись они в диком состоянии, то наверно были бы бесплодными т.е. были бы видами? «Настоящая трудность вопроса, говорит Дарвин, по-моему, заключается не в том, почему одомашненные разновидности не сделались взаимно бесплодными при скрещивании, но почему это так постоянно случается с естественными разновидностями лишь только они изменились достаточно, чтобы сделаться постоянными видами. [*18] Оставив в стороне все, что тут есть гипотетического т. е. постепенное образование видов из разновидностей, мне кажется, что тут нет никакого затруднения. Именно виды бесплодны потому, что, различия между ними заключающиеся, во всем их строении, а не в их отдельных характерах, для этой цели достаточны; домашние же разновидности недостаточно для этою изменились — опять таки в целом, в сущности, а не в отдельных признаках. Как бы чувствуя всю слабость своих доводов, Дарвин старается ослабить вообще значение плодовитости и бесплодия при скрещивании разновидностей и видов, хотя, как мы видели, сам придает ему большое значение, когда ему нужно доказать происхождение всех пород домашних голубей от одного вида. Эту сравнительную, но его мнению, неважность факта взаимного бесплодия видов и плодовитости разновидностей доказывает он, приводя в параллель с ними некоторые другия физиологические различия, которые характеризуют виды того же рода, но не встречаются между разновидностями того же вида и затем, отрицая важность этих последних, гово14 рит: «Я не вижу, почему им (т. е. бесплодию и плодовитости) приписывают, такую первостепенную важность в сравнении с другими различиями в отправлениях». [*19] Но некоторые из этих других различий, могущих подобно бесплодию также быть причисленными к характеристическим особенностям организмов, очень важны и только усиливают то значение, которое мы должны придавать видовой ступени различий; другие же действительно не важны, но Дарвин ошибочно и принимает их за видовые особенности. К таким важным отличиям принадлежат: 1) Что некоторые родственные виды деревьев не прививаются друг к другу, а все разновидности того же вида к этому способны. Это представляется мне весьма важным, как указывающее на то, что между разновидностным и видовым различием есть значительный промежуток — как бы скачок. Между видами иногда только возможны прививки, а между разновидностями всегда возможны. Если неспособность к прививке и не составляет, всегда видового свойства, то способность к прививке есть постоянное свойство разновидностей, как бы они по внешним признакам между собой ни отличались, и это показывает, что органическое различие между ними незначительно. Впоследствии, при специальном разборе вопроса о гибридации, мы подробно рассмотрим этот предмет, пока же заметим, что из аналогии с прививкой Дарвин выводил совершенно неправильное заключение: что «не более причин полагать, что виды были снабжены особою способностью к различной степени бесплодия для предотвращения их скрещивания и смешения в природе, чем думать, что деревья были специально одарены различными степенями затруднительности к взаимной прививке, дабы предупредить их срощение в наших лесах». [*20] Да полагать этого вовсе и не нужно. То и другое, т.е. неспособность к прививке и бесплодие гибридов, суть результаты известного различия в строении, устанавливающее явную грань между растительными формами, — грань, зависящую относительно гибридов в большей степени, а относительно прививки в меньшей степени от систематического сродства их. Эта различная степень зависимости также весьма понятна. Для прививки это зависит главным образом от различий в строении растительных органов, и именно ствола, а для гибридации от различия в органах воспроизведения; а на этих-то последних систематическое сродство существенным образом и основывается, как на таких частях организма, на которые внешние влияния менее непосредственно действуют, и в которых поэтому выражается прямее и сильнее внутренняя сущность организма. Сверх сего, первое не имеет в природе никакого значения, а последнее имеет своим несомненным результатом — сохранение раздельности и чистоты видовых форм, следовательно и составляет вернейший критерий видового различия. Из этого понятно, почему связь между бесплодием и систематической группировкой органических форм гораздо ближе и теснее, чем между этой последней способностью к прививке. Это соотношение, эта связь между способностью к безграничной плодовитости в членах одних групп и бесплодием их с членами дру15 гих групп, весьма хорошо выражена Мильн Эдвардсом, в заключение разбора вопроса о гибридации: «Неспособность содействовать физиологическому труду, результатом, которого является новый индивидуум, предполагает существенные различия в природе организмов; также точно как способность воспроизводиться между собою предполагает такое сходство в их природе, значение которого огромно. Но ежедневное наблюдение научает нас, что эта способность никогда не бывает у животных, которые много друг от друга отличаются в их строении; следовательно мы вправе заключить, что одушевленные существа, очень различные между собою по строению, не принадлежат к одному зоологическому виду». [*21] 2) Период беременности обыкновенно бывает различен у разных видов, но подобного различия не замечаем у разновидностей. И это различие очень важно, потому что периода беременности нельзя ни удлинить, ни укоротить в сколько-нибудь значительной степени внешними влияниями. Если бы это было возможно, то при подборе давно бы обратили на это внимание, ибо практическая польза от укорочения очевидна. С другой стороны к неважным особенностям принадлежат: 1) время потребное для прорастания семян, ибо мы знаем, что оно и ускоряется и замедляется по произволу, до известной степени конечно, с увеличением или с уменьшением температуры, или ускоряется при помощи различных средств: прибавлением напр., кислоты к воде, в которой намачиваются прорастающие семена, или обдаванием кипятком семян акаций и других бобовых. Но напрасно говорит Дарвин, будто «время, потребное для прорастания семян различается подобным же образом (т. е. как период беременности для видов); но я не слыхал, чтобы кто-нибудь заметил какое-нибудь различие в этом отношении у разновидностей». Да это столь обыкновенное явление, что тут и слышать не об чем, и только удивительно, как мог об этом забыть Дарвин. Чем тверже, плотнее оболочка — скорлупа семени, тем медленнее проникает сквозь нее необходимая для прорастания влажность и тем сильнее должно разбухать ядро, чтобы заставить скорлупу раздаться и позволить выйти ростку. Поэтому, чтобы ускорить прорастание; скорлупу подпиливают, и у семянных торговцев таким образом обработанные семена называются — семенами подготовленными — zebereitete Saamen. Но это подготовление к скорейшему прорастанию совершается самой природой во всех тех разновидностях, все равно природных или доманших у которых утонена скорлупа. Например: в тонкокожих миндалях amandier des dames, Princessen Mandeln и других — сравнительно с обыкновенными твердоскорлупчатыми, или в тонкокожих лесных орехах, каковы так называемые в России волошские орехи, а в Крыму фундуки: Трапезунд, Бадем, Керасунд — сравнительно с обыкновенными лесными; в разновидности грецкого оре16 ха, называемой des mesanges потому, что скорлупа его так тонка, что легко пробивается клювом синичек — в сравнении с диким лесным грецким орехом. 2) К таким же неважным отличиям принадлежит и чувствительность к ядам. «До новейшего времени, говорит Дарвин, не знали подобного случая (т. е. различной степени чувствительности) у разновидностей; теперь же доказано, что безопасность от действия какого-нибудь яда находится иногда в соотношении с цветом волос». Не говоря о том, что замечается лишь относительно немногих животных (свиней и баранов) и немногих ядов (корень растения Laechnantes ядовит для белых, но не для черных свиней), и в этих немногих фактах, которые очень интересны сами но себе, не было надобности, чтобы судить о ничтожности этого признака, как видовой или разновидностной особенности, потому что всякому известно, что даже различные индивидуумы обладают весьма различной чувствительностью к действию некоторых ядов. Ядовитые грибы, причиняющие одним сильные припадки и даже смерть, съедаются другими без малейших вредных последствий. Многие постепенно приучают себя к приниманию значительного количества столь сильных ядов, как мышьяк и морфий. Очевидно, что такое свойство, которое каждый индивидуум может развить у себя в значительной степени, не может служить отличительной особенностью вида и ничего аналогического с бесплодием видов не имеет. Если белые свиньи оказываются чувствительными к яду корней лахнантеса, то известно, что белый цвет шерсти, если он не составляет характеристической окраски вида, свидетельствует о некоторой слабости организма, и потому неудивительно, что вредное белым свиньям — безвредно для черных. Итак, заключу я, всеми этими соображениями Дарвину не удалось ослабить значение бесплодия между видами и плодовитости разновидностей. Признак этот остается достаточно точным и определенным критерием для обозначения тех степеней органического различия, которые мы называем видовыми и разновидностными, и столь же достаточными должны считаться доказательства того, что все изменения, происшедшие при одомашнении животных, не достигли видовой ступени различия, а остались на ступени разновидностей. Кроме этого важного различия между настоящими видами и теми изменениями, которые произошли в животных, под влиянием приручения, заключающегося во взаимном бесплодии (полном или ограниченном) первых и в плодовитости последних; между ними существует еще и другое не менее важное. Именно, между тем как виды остаются в существенных своих признаках постоянными, каким бы внешним влияниям они не подвергались, если только могут их вообще перенести, изменения, достигнутые при приручении подбором ли или иным образом, исчезают при не17 сколько значительном изменении условий, при коих они произошли и сохранялись. Мы видели выше примеры одичания, которые Дарвин оспаривает в смысле возвращения формы к её нормальному видовому типу. Я показал несправедливость его возражения, но пусть будет это по его желанно. Тот факт остается несомненным, что признаки, приобретенные при одомашнении, теряются, хотя бы заменялись и другими, а не нормальными видовыми. И этого ужо достаточно для заключения, что все изменения домашних животных видовой степени не достигли, ибо точно так, как к этой степени принадлежит физиологическое свойство бесплодия с другими видами, ей же принадлежит и морфологическое свойство охранения всех существенных черт строения, при всевозможных обстоятельствах. Это признает и Дарвин, говоря: «Можно принять за общее правило, что прирученные породы различаются между собой в меньшей степени, чем виды, а если и проявляются более значительные различия, то они не так постоянны». [*22] В различных местах этого труда представлено много примеров такого непостоянства. Поэтому ограничусь здесь приведением одного, чрезвычайно сильного, о котором упомянуто в Приложении II. Из Японии была привезена порода домашней свиньи, показавшейся столь отличной, что многие английские зоологи сочли необходимыми, признать ее за особый вид Sus pliciceps, голова которой изображена и в русском переводе «Прирученных животных и возделанных растений», Т. I, стр. 72. Но, несмотря на давность одомашнения свиней в тех странах, признаки этой свиньи оказались непостоянными и «потомки пары этих животных, воспитывавшихся в зверинце парижского естественноисторического музея, не замедлили потерять свои характеристические черты». [*23] С китайскими золотыми рыбками сделалось то же самое. Я должен здесь предупредить возражение, которое может быть мне сделано. Именно могут сказать: при изменениях, происшедших путем искусственного подбора, имелась в виду не польза самого животного, а совершенно посторонние для него нужды человека, и потому неудивительно, что они преходящи, тогда как признаки составляющие характеристику вида постоянны, как приобретенные в интересах самого животного. Но, во-первых, очевидно, что интерес или выгода самого животного, не иное что, как приноровленность черт его строения к данным условиям среды. Следовательно, с переменой их, если она значительна, и приноровление прекращается, но характер видовой все-таки остается постоянными, или организм погибает. Во-вторых, изменения домашних животных не в их собственных выгодах могли бы ведь вести только к гибели самих индивидуумов, при ненормальных условиях; — но индивидуумы не гибнут, а только признаки их исчезают. Значит они не глубоко вкоренены в природу существа, составляют как бы посторонние для него наслоения, не проникают его существа насквозь и потому именно и не мо18 гут стоять на одной ступени, не могут равняться с признаками видовыми, принадлежащими к самой сущности организма, хотя бы казалось, что они и менее значительны, чем искусственно приобретенные. Различие между теми и другими существенно. Но и естественные разновидностные признаки носят на себе тот же характер непостоянства, и потому и характеры, приобретенные одомашнением, могут быть приравниваемы только к ним, а никак не к видовым характерам. Но если это неоспоримо относительно тех животных, на которые Дарвин обратил специальное внимание, как на более изменчивых, и притом таких, о которых могли быть собраны многочисленные факты и о теперешнем их состоянии, и об историческом их происхождении, то, где положительные факты его оставляют и где приходится довольствоваться более общими соображениями, — он считает возможным предположить существование изменений столь значительных, что они совершенно скрыли от нас те природные корни, т.е. дикие виды, от которых произошли эти продукты культуры, хоти они, по его мнению, по всем вероятиям и теперь продолжают существовать, но стали уже неузнаваемы, при сравнении со своими изменившимися потомками. Это должно было случиться, по его мнению, изложенному уже в первой главе, со многими из наших культурных растений, диких родичей которых мы не знаем. Тут изменения, вследствие возделывания, должны были достигнуть и даже переступить видовые грани. Дарвин выражает это так: «Значительный итог изменений, медленно и бессознательно накопленных в наших возделываемых растениях, объясняет, как я думаю, хорошо известный факт, что в большом числе случаев мы не можем распознать, а потому и не знаем диких прародителей растений, которые разводились в течение наиболее долгого времени в наших цветниках и огородах» [*24] В пользу этого мнения Дарвин, приводит два соображения или доказательства, — одно прямое, а другое косвенное. I. Прямое состоит в следующем: 1) «что растения полезные большей частью крупны и отличаются заметно от других, что они ни в каком случае не могли произойти из мест пустынных (где жителей не было), очень отдаленных, и недавно открытых островов, что дикари едва ли бы выбрали для возделывания растения редко попадающиеся». [*25] Смысл этого места, очевидно, тот, что нельзя ссылаться на неисследованность флоры многих отдаленных, стран, и трудно надеяться отыскать диких прародителей тех, из наших культурных растений, которые до сих пор остаются неизвестными. Но такому мнению можем мы противопоставить, с одной стороны явно его опровер19 гающие аналогические факты, а с другой фактические доказательства, что многие из культурных растений, происхождение которых было неизвестно в начале пятидесятых годов, когда Декандоль напечатал свою знаменитую Geographie botanique raisonee, были после того открыты в диком состоянии. Аналогические факты заключаются в том, что не только в каких-либо диких, малоизвестных странах, и не только какие-нибудь травы, или хотя бы растения настолько заметные, как большинство возделываемых на пользу человека, но в Европе, в странах исследованных известными ботаниками, были открываемы неизвестные дотоле громадные деревья, поразительно характерные и отличные по своему наружному виду. Так Андалузская пихта (Abies Pinsapo Boiss) дерево более 12 сажен ростом, красоты поражающей, изумительной, вида необычайного и по сизоголубоватому оттенку хвои и по крестообразному расположению молодых веток — была в первый раз описана в 1838, введена в культуру в 1839, открыта, т. е. замечена ботаником только в 1837 году, и это не в какой-нибудь азиатской или африканской трущобе, а в Андалузии, где она образует целые леса по склонам Сиеры-Невады, не на мало доступных местах, а на всем доступной высоте от 3,000 до 6,000 фут. [*26] В том же 1837 году было открыто еще более высокое дерево и почти не уступающее по красоте и поразительному виду — Нордманова пихта (Abies Normandniana Spach) в Абхазии у берегов Черного моря одесским профессором Нордманом. Кефалонская пихта (Abies Cephalonica Link) была открыта в горах Греции в 1824 году, где, между прочим, растет на знаменитом Парнассе. В еще гораздо позднейшее время, именно уже в семидесятых годах, если не ошибаюсь не ранее 1876 года, была найдена сербским ботаником Панчичем (Pancic) в западных Балканах новая ель — Рiсеа Omorica. Подобным же образом был открыт, хотя, и невысокое дерево, но весьма характерно цветущий кустарник — особый вид столь известной сирени в исследованной многими ботаниками Венгрии и Трансильвании Syringa Josikaea Jacq. графиней Розалией Йозике в 1830 или в 1831 году. Следовательно, можно ли терять надежду отыскать многие из наших культурных растений, далеко не обращающих на себя такого внимания, как только что поименованные деревья и кустарники, в странах сравнительно с Венгрией, Испанией и даже с Турцией и Кавказом, можно сказать, почти неизвестных в ботаническом отношении? Так, например, только в 1853 году найдены в горах Малой Азии нашим путешественником Чихачевым целые, на сотни верст тянущиеся, леса знаменитого ливанского кедра, который почти исчез на самих Ливанских горах. Но этого мало, мы можем представить положительные примеры многих культурных растений, отечество которых, почитавшееся неизвестным, было, однако же, отыскано в недавнее время. Начнем с большого общеизвестного и чрезвычайно характерного дерева — с конского лжекаштана Aesculus Hippocastanum L. Он введен в 20 европейскую садовую культуру из семян, полученных Клузием в 1550 году из Константинополя; и какие страны не считались его отечеством: и Гималаи, откуда французское название, Marronier d’Inde, и плоские возвышенности Средней Азии, и горы Персии И только в 1876 году было оно в действительности найдено. «Отечество лжекаштана долго составляло задачу для ботаников. Задача однако же была разрешена афинским профессором Орфанидесом, который по заметке во французском переводе Гризебаховой «Растительности земного шара», сделанной г. Чихачевым, открыл это дерево в диком состоянии на материке Греции, подтверждая таким образом мнение, давно ужо выраженное Декеном, [*27] прибавим и сообщение Сибтрона, что лжекаштан растет в горах северной Греции. То же самое можно сказать и об обыкновенной сирени (Syringa vulgaris L.). Столь известный и красивый кустарник этот был описан в первый раз Маттиолем в 1565 году и три года перед тем введен в европейскую культуру возвратившимся в 1562 году из Константинополя Бусбеком — посланником императора Фердинанда I при султане Солимане II. Поэтому и полагали, что сирень происходит из Малой Азии или Персии, с которыми сношения Константинополя были часты и обыкновенны. Но нигде в этих странах дикая сирень найдена не была, и Дарвин еще говорить: «что многие растения, разведенные в садах с самых древнейших времен, напр., некоторые розы, так называемый царский венец, тубероза и даже сирень в диком состоянии вовсе неизвестны». [*28] Но и относительно сирени разгадка разгадалась, не прибегая к изменению до неузнаваемости, до переступления через видовую грань типической дикой формы — культурой. Знаменитый русский путешественник Пржевальский, нашедший и дикого верблюда, нашел и обыкновенную сирень дико растущей в долинах хребта Алашан, в княжестве того же имени в южной Монголии в углу между провинцией настоящего Китая Гань-су и великим изгибом или лукой реки Хуан-хо, там, где она изменяет свое восточное направление в северное. Страна эта, хотя и лежит под 39° с. ш., но по высокому своему местоположению (не ниже 2,000 ф. у самого русла Хуан-хо, а на плоскогорье; до 5,000 ф). имеет очень холодные зимы. [*29] Этим и объясняется, разведение этого кустарника даже до Архангельска. Кажется, что напрасно Дарвин считает неизвестным в диком состоянии и туберозу (Polianthes tuberosa L.), по крайней мере, в подробной монографии этого растения Ричарда Салисбури прямо сказано: растет дико в Мексике в холодной и умеренной полосе. [*30] И это на следующих основаниях: Паркинсон, неправильно разделивший это растение на два вида, Hyacinthus indicus major и H. indicus minor говорит в 1656 году: «Оба растут дико в ВестИндии, откуда привезены испанцами и распространены между любителями. В 1504 году Симон де Товар культивировал ее уже в Севилье и мог получить туберозу только из Америки, ибо в Индии испанцы владений не имели. Всего же важнее свидетельство Гернандеца, который прямо говорит: «provenit in frigidis et temperatis regionibus, veteri incognita mundo»; [*31] с 21 другой стороны авторы, упоминавшие о туберозе в Индии, считают ее там культурной. Лурейро говорит, что она растет лишь в садах Кохинхины; Румфий, что на Амбонну она привезена голландцами из Батавии в 1674 г., но Камель дополняет, это известием, что тубероза привезена испанцами на Люсон из Мексики. В Мексике имеет она и местное туземное название омизохитль. Основываясь на сочинении Альфонса Декандоля Geographie botanique raisonnee, 1855, Дарвин делает следующие выводы: «У Декандоля перечислено 157 наболее употребительных культурных растений. Из них для 40 сам Декандоль считает происхождение сомнительным: а) как по причине некоторого отличия, представляемого ими при сравнении с ближайшими к ним дикорастущими видами, так и потому еще, б) что эти последние не окончательно признаны дикими и сами могут быть лишь одичавшими особями. А 32 растения Декандоль признает совершенно неизвестными в диком состоянии». «Но при этом нужно заметить, продолжает Дарвин, что Декандоль не включает в свой список многих растений, отличающихся неопределенностью типов, как-то различных форм тыкв, проса, сорго, фасоли, долихоса, стручкового перца, индиго». [*32] Через 28 лет, после своей ботанической географии, Декандоль, который, заметим, сделался приверженцем Дарвинова учения, издал новое сочинение, специально трактующее о происхождении культурных растений, в которое он включил и все эти, отличающиеся неопределенностью типа, растения, и вот какие произошли с тех пор числовые изменения по обозначенным у Дарвина категориям. Всех растений перечислено 247, т. е. на 90 более чем прежде; сомнительных из них оказалось вместо 40 только 27, в том числе из ряда а) единственного, могущего быть истолкованным в смысле выгодном для Дарвинова мнения только 3; совершенно неизвестными в диком состоянии оказалось вместо 32 уже только 27, а таких, которые найдены в диком состоянии, оказалось 193, т. е. на 36 больше, чем обозначено всех культурных растений в прежнем списке. Так что, между тем как в 1855 году сомнительные по происхождению виды составляли более 1/4 всех культурных видов, к 1883 году они составляют уже менее 1/9, а число видов вовсе в диком состоянии не находимых от 1/5 уменьшилось до 1/9 же. Это очевидно указывает на то, что чем ботанические исследования станут многочисленнее и точнее, чем лучше будут исследованы малоизвестные страны, тем число неизвестных в диком состоянии культурных растений будет уменьшаться. Надежда эта еще тем основательнее, что эти 27 неизвестных в диком состоянии растений происходят из стран мало исследованных. Надежду эту выражает и Декандоль, говоря, «чтобы достигнуть этого надо, чтобы тропические страны были лучше исследованы, чтобы собиратели обращали более внимания на ме22 сто нахождения, и чтобы были изданы многие флоры стран ныне плохо известных, и хорошие монографии некоторых родов, основанные на признаках, подверженных наименьшему изменению культурой». [*33] Но еще важнее для нас другой вывод, который сам Декандоль делает из своих исследований, именно, что это нахождение в диком состоянии культурных растений вовсе не находится в соответствии или в связи с давностью их культуры. Так из 67 растений, культура которых моложе 2000 лет, 56 известны в диком состоянии, т. е. 83%; но из 49 растений, культура которых в старом свете старее 4000 лет, а в новом свете продолжается уже вероятно от 3000 до 4000 лет — найдено 40 в диком состоянии, т. е. опять 82%. После этих общих соображений представим список главнейших культурных растений, отечество коих считалось неизвестным за с небольшим 25 лет тому назад, но которые в последнее время были найдены в диком состоянии. 1) Helianthus tuberosus L.Земляная груша — в штате Индиана. 2) Allium Сера лук обыкновенный. Стокес нашел его в Белуджистане диким на Чегил-Туне, Грифит привез его из Афганистана, а Томсон из Лагора. Буасье имеет дикий обращик из гористых мест Хоросана, Гегель-сын нашел его к югу от Кульджи. 3) Allium fistulosum L. дикий, считавшийся долго неизвестным, найден русскими ботаниками в Алтае, у Байкала и в киргизских степях. 4) Scandix Cerefolium L. Происхождением этого маленького зонтичного наших огородов еще недавно было неизвестно. Стевен указывает его в лесах Крыма, а Буасье получил несколько экземпляров из южной части Закавказья, из страны туркменов и с гор северной Персии. 5) Cichorium Endivia L, салатный цикорий, оказался тождественным с С. Pumilum Jacq. до того, что Декандоль считает должным заменить это последнее название первым, как более старым. Растет дико во всей области Средиземного моря до Палестины, Кавказа и Туркестана. 6) Nicotiana Tabacum L., табак настоящий. Эдуард Андре собрал в республике Эквадор у Св. Николая на западном склоне вулкана Каразона в девственном лесу, вдали от всякого жилища экземпляры, которые сообщил Декандолю и которые оказались несомненно принадлежащими к этому виду, и ростом почт до1 1/4 сажени. 23 7) Morus nigra L. шелковица с черными ягодами — Чихачев и Кох находили в диких и высоких местах Армении. Я сам видел старые экземпляры на Мангншлакском полуострове близ Ново-Петровска (ныне НовоАлександровское укрепление) — местности, куда конечно никакая культура не могла их занести. 8) Anano squamosa, коричное яблоко. После многих сомнений относительно настоящего отечества этого тропического плодового дерева, оно было найдено садоводом Мак-Набом на сухих равнинах Ямайки и в густых лесах островов Св. Креста и Девы (St. Croix and Virgin Islands). 9) Anona Cherimolia Lam. Отечество, сомнительное в 1855 году, определилось открытием г. Эд. Андре, который нашел это дерево в одной долине Юго-Зап. части республики Эквадор. 10) Hibiscus esculentus L., Бамия, употребительная на Востоке, отчасти и в Крыму — огородный овощ. Найдена Швейнфуртом и Ашерсоном в Нубии, Кордофане, Сенааре, Абиссинии и по Бар-эль-Абиаду. 11) Citrullus vulgaris Schid, арбуз. Происхождение было сомнительно, пока его не нашли по обе стороны экватора в тропической Африке, где Ливингстон видел обширные пространства им покрытые. Они бывают сладкие и горькие, ничем не обнаруживая этого снаружи. 12) Cucumus sativus L, огурец. В 1855 году происхождение огурца было еще неизвестно, но у подошвы Гималая найден был дикий огурец, названный С. Hardwickii Royle, который оказался тождественным с культурным огурцом, отличаясь от него только горьким вкусом, что не имеет никакого значения, так как и в наших посевных огурцах часто встречаются горькие. 13) Phaseolus lunatus L. найден в Приамазонских странах центральной Бразилии. 14) Glycine subterranea L. fil., вандзу, овощ, сорт бобов употребительных в тропических странах. Отечество оставалось долго неизвестным, пока Швейнфурт и Ашерсон не нашли его в диком состоянии у берегов Нила от Хартума до Гондокоро. 15) Polygonum Fagopyrum L., гречиха обыкновенная найдена академиком Максимовичем по берегам Амура и еще прежде в Даурии и у Байкала, а также в горах северной Индии. 24 16) Triticum monococcum L., однозерная полба найдена Г. Панчичем дико в Сербии, а также в Греции под именем, Tril. Baeoticum и прежде в 1854 году найдена была на горе Сипиле в Малой Азии, Г. Баланзой, который ошибочно принял ее за обыкновенную пшеницу. Итак, всего шестнадцать культурных растений, которые были или совершенно вновь открыты со времени выхода в свет Ботанической Географии Декандоля, или нахождение которых в диком виде прежде сомнительное, было подтверждено положительным образом. Очевидно, нет оснований отчаиваться отыскать со временем и еще большее число этих видов. Нам следовало бы теперь еще рассмотреть специально некоторые из растений, отечество которых вовсе не найдено, или сомнительно, чтобы убедиться насколько вероятна гипотеза, что это ненахождение их в диком состоянии зависит от того, что культура настолько изменила их потомков, что мы уже не распознаем их первоначальной видовой тождественности. Но прежде разберем второе предположение Дарвина, по которому действительное исчезновение диких предков многих культурных растений должно считаться невероятным. 2) Второе из прямых доказательств или соображений Дарвина заключается в мнении, что предки культурных растений, не встречаемых более в диком состоянии, не могли однако же совершенно погибнуть. Относительно этого он выражается так: «Эти затруднения могли бы устраниться еще предположением, что по мере распространения цивилизации дикие экземпляры постепенно истреблены рукой человека. Но Декандоль доказал, что этого по всей вероятности не случалось. Как только в данной местности какое-либо растение делалось предметом культуры, какая надобность была полудиким обитателям этой местности разыскивать по полям отдельные экземпляры и таким образом истреблять растение в диком состоянии, и даже если бы такая надобность случилась в голодный год, все-таки в почве уцелели бы хоть замерзшие семена». [*34] Едва ли нужно доказывать, что изложенное соображение Дарвина не выдерживает критики. Культура могла начаться и даже должна была начаться с очень слабых, опытов, как Дарвин сам говорит: «Какой-нибудь необыкновенно роскошный и крупный экземпляр туземного растения мог попасться на глаза какому-нибудь разумному старому дикарю; он его заметит, пересадит, или соберет семена и посеет их». [*35] Затем его семейство, или немногие из его соотечественников начнут подражать его примеру, и в таких тесных размерах эта полукультура может длиться десятки и сотни лет; а главное добывание растительной пищи все продолжаться на счет диких расте25 ний. Да к чему брать примеры диких. Разве теперь еще не продолжается то же самое. Орехи, различные фруктовые деревья — груши, яблони, в особенности кизил, растут везде по садам Крыма, а между тем всякий урожайный на дикие фрукты год татары собирают дикие орехи и фрукты в огромных количествах. Собирание диких груш составляет целый промысел в губерниях Харьковской и Полтавской, несмотря на то, что у крестьян ведь есть сады; не везде ли собирается дикая земляника, малина и смородина, где они растут, несмотря на разведение их в садах? Правда, собирание этих плодов не ведет к исчезновению приносящих их деревьев и кустарников; но ведь это совершенно побочное и случайное обстоятельство, и если бы собирание вело к этому результату, оно, тем не менее, производилось бы. Единственной причиной, могущей вести к уничтожению вида в известной стране, вследствие деятельности человека, признается лишь изменение в характере местности, производимое им: так напр. с вырубкой лесов, или с осушением болот могут и должны пропасть лесные и болотные растения. Но есть еще и другие условия, которые обыкновенно упускаются из вида, но которые в несколько продолжительный период могут вести к такому же результату относительно многих растений, при некоторых особенностях тех качеств, которыми они именно полезны человеку. Тем более странно, что на это не обращено внимания, что обстоятельство, о котором я намерен говорить, совершенно в духе Дарвинова учения в том, что оно заключает в себе верного и справедливого. Представим себе, что какое-либо растение приобрело вредное для себя свойство, или, если угодно, произошла такая перемена внешних условий, вследствие которой некоторые свойства растений стали для него вредными. Очевидно, что это должно будет повести к постепенной гибели этого растения. Но относительно многих из культурных растений это именно и произошло самым несомненным образом, но только с того времени как в той местности, где они росли, появился человек, но даже некоторые млекопитающие и птицы. Вообще съедобность плодов может считаться выгодным для растений условием, потому что это есть одно из средств рассеяния семян, тем ли что птицы, например, съедая одни плоды, разбрасывают множество других; или тем что, проглотив семена, разносят их, а прохождение семян через их кишечный канал большей частью еще облегчает и ускоряет их прорастание. Но если плод съедобен и даже преимущественно съедобен в незрелом состоянии, то, очевидно, что это составит чрезвычайно вредное для растения условие, которое может повести к совершенному его уничтожению, особливо если вмешается в дело человек. В таком именно положении находятся многие бобовые и тыквенные растения, например огурцы. Их съедают и человек, и даже млекопитающие животные почти всегда в незрелом состоянии; а так как эти растения однолетние, не имеющие других способов размножения кроме семян, 26 то, как только человек начнет отыскивать огурцы для употребления в пищу, растение должно мало-помалу исчезать. Конечно, можно рассчитывать, что некоторым огурцам всегда удастся избегнуть этих поисков и достигнуть зрелости; но при ничтожности количества тех, которым удастся высеяться и прорасти, есть все шансы на то, чтобы эти немногие были заглушены другими растениями, т. е. шансы на поражение их в борьбе за существование после того, как они лишились главнейшего орудия для этой борьбы — изобилия семян. Мне возразят на это, что именно огурцы однако же сохранились под формой Cucumis Hardwickii Royle, признаваемой Декандолем тождественной с настоящим огурцом. Но сохранилась ведь, во всяком случае, горькая, т. е. несъедобная разновидность. Предположить, что все дикие огурцы были горьки и сделались сладкими только в культуре невозможно, ибо при этом они никогда бы в культуру и не вошли. Но если горькая природная разновидность росла отдельно от сладкой, как это часто бывает с разновидностями, то последняя могла быть уничтожена тем путем, который я указал, а первая сохраниться. Правда, что подобного не случилось с арбузами, но у них и горькие и сладкие растут совместно, а по наружным признакам (как и огурцы впрочем) неотличимы; а главное арбузы в незрелом состоянии не съедобны, или, по крайней мере, преимущественно съедобны зрелые. Таким образом, сладкие огурцы, исчезнув в природе, сохранились в культуре не иначе, как через посредство таких старых разумных дикарей, как предполагаемый Дарвином. Прежде, чем рассматривать, на какие растения указываемая мной причина уничтожения диких видов могла оказать свое влияние, и какие условия ему содействуют и препятствуют, приведем положительные примеры, как съедобность плодов, при некоторых обстоятельствах, может вести к ослаблению размножаемости растения, а, следовательно, и к постепенному его исчезновению. Поленика (Rubus arcticus L.) распространена сравнительно узкой полосой по Швеции, Норвегии, северной Европейской России и Сибири, на юг не идет дальше Ярославской и Новгородской губерний, а в средней части Архангельской она уже неизвестна как ягода. Кроме этого, местности, на которых она растет, довольно исключительны — это преимущественно кочки с торфяной и вересковой землей, на сырых лугах в перелесках. Сырая почва лугов доставляет им постоянно достаточно влажности, а кочки с легкой, свободно пропускающей влагу, землей, как бы постоянно дренированы. Растение это многолетнее, но не имеет ни усов (подобно землянике), ни вообще никаких других способов размножения, кроме семян. В тех местностях, которые уже довольно заселены, как напр., западные уезды Вологодской губернии, ягоды поленики собираются с большой тщательностью, так 27 как приготовляемые из них варенье и наливка очень ценятся, и растение уничтожается очень быстро и становится уже редкостью; хотя удобных для роста его местностей еще очень много, но оно почти лишено возможности размножаться, хотя и многолетнее, ибо, пропадая от разных случайностей, уже в очень слабой степени заменяется вновь прорастающим из семян. С земляникой этого, даже в гораздо более населенных местах, не случается, хотя и её ягоды собираются постоянно и в большом количестве, потому что она размножается не только семенами, но еще и усами. Влияние сбора ягод на уменьшение размножения растений, если при этом семена почему-либо делаются негодными к прорастанию, или просто удаляются из местности, еще яснее покажет следующий пример. На южном берегу Крыма, для уничтожения занесенной туда филоксерной заразы, было уничтожено более 25 десятин виноградников и много кустов дикого или одичавшего винограда. В одной местности, близ зараженного виноградника, этот дикий виноград рос в таком изобилии, перепутывая своими вьющимися стволами целый участок леса, что для уничтожения могущих в нем заключаться центров заразы, пришлось весь этот участок, пространством около десятины, уничтожить сплошь глубокой до полусажени и более перекопкой и тщательным извлечением корней и корешков. Это было сделано зимой. На следующее лето весь этот перекопанный кусок покрылся тысячами молодых виноградных сеянцев, которые надо было вырывать, чтобы виноград снова не занял всего этого пространства. Между тем, на двадцати пяти десятинах уничтоженного культурного винограда таких сеянцев, или вовсе не попадалось, или так редко, что много, много если всего набралось с десяток. Дикий виноград не собирается, а, или падает на землю дозревши, или поедается птицами, которые всегда более обобьют ягод, чем съедят. Как только почва была разрыхлена перекопкой и состязавшиеся с виноградом разные травы были устранены, семена проросли и виноград готов был завладеть всем участком. Напротив того на культурных виноградниках весь виноград собирается для вина и если частью и съедается на месте, то срезчики и другие рабочие едят ягоды вместе с кожицей и семенами, а более деликатные в этом отношении люди, когда сорвут кисть съедают ее обыкновенно гуляя по дорожкам, или вне виноградника. Семян на почву здесь поэтому совсем почти не попадает. Если, следовательно, нечто подобное случалось бы с диким растением, и оно не было бы подобно винограду древесным, долго живущим растением, то это конечно должно бы было послужить сначала к уменьшению его размножения, а через это и к совершенному уничтожению, при борьбе за существование. Перечислим теперь те свойства, которые, на основании только что изложенного, должны были приводить к более или менее быстрому и полному ис28 чезновению тех вошедших в культуру растсений, которым они принадлежали и которые прежде и после возделывания собирались в диком состоянии. 1) Съедобность плодов в незрелом состоянии, т.е. раньше, чем семена их получают способность прорастать. 2) Съедобность корней, луковиц и т.п, которые выкапываются и тем уничтожается само растение также до созревания 3) Употребительность самих стволов или цветорасположений, если срывая или срезая их, тем самым, не допускают до развития семян. 4) Употребление цветов, цветочных почек, что, если возможно, еще вреднее, чем самая съедобность незрелых плодов. 5) Съедобность семян, или такое употребление их, при котором уничтожается их способность прорастать. Все эти невыгодные для сохранения культурных растений свойства усиливаются следующими условиями: а) Однолетностью растения (конечно, когда вырывается корень растения, то это становится безразличным). б) Размножаемостью одними только семенами, а и не другими способами совместно с семенами, как напр. отделяющимися клубнями, как у картофеля, орхидных, Ranunculus Ficaria, или усами, как у земляники. в) Ограниченностью первоначального отечества. г) Исключительностью местонахождения или почвы, на которой растет растение, как мы видели в примере поленики. д) Двудомностью растения, ибо если случится, что оставшиеся невыкопанными, несрезанными растения — мужские, то они плодов дать не могут, а если и женские, но мужские кругом уничтожены, то их оплодотворение затрудняется так, что вообще, и для оставшихся растений, шансы семенного размножения уменьшатся в несколько раз. е) Произрастанием сплошными обществами, а не рассеянными отдельными экземплярами. 29 Последнее обстоятельство требует, может быть некоторого разъяснения, тем более что относится к самым важным культурным растениям, между которыми очень много таких, которые в диком состоянии или совершенно уже исчезли, или, во всяком случае, близки к исчезновению — я говорю о злаках. Если бы наши пшеницы, рожь, просо и прочее росли отдельными рассеянными экземплярами, то конечно никому не вошло бы никогда в голову собирать их мелкие семена, для употребления в пищу. Они должны были и в диком состоянии, как на теперешних полях, занимать собой сплошь, или почти сплошь, довольно значительные пространства. Тогда у них срезали, вероятно, только верхушки, колосья или метелки и уносили с собой, употребляя всего вероятнее, разварив в воде в виде каши. Конечно, некоторые колосья при этом оставались, а из других ранее сбора отчасти высыпались семена. Но произраставшие от них немногие растения, переставали уже тем самым быть общественными, и мало-помалу заглушались другими, в особенности многолетними, занимавшими их место. Что начинал человек, то довершалось борьбой за существование с другими растениями, — соискателями места в природе. Просмотрим теперь с этих точек зрения список растений, как вовсе в диком состоянии до сих пор не открытых, так и тех, нахождение которых в настоящем диком состоянии сомнительно, по легкости смешения их с одичалыми — по категориям, принятым Декандолем. Чтобы не прописывать всякий раз причин, к которым вероятно может быть отнесено их исчезновение, я после названия каждого растения ставил те цифры и буквы, под которыми перечислены эти вероятные причины и содействующие им условия. А. Растения ни в диком, ни в одичавшем состоянии не открытые. а) но которым, по мненио Декандоля, может быть, надо присоединить к известным уже диким видам, к коим они близки. 1) Arachis Hypogaea. 5, a 2) Caryophyllus aromatica. 4. (гвоздичное дерево). [*36] 3) Convolvulus Batatas 2. (батат). 4) Dolichos Lubia 5. 5) Manihot utilissima. 2. (маниок). 30 6) Phaseoulus vulgaris 5 и 1, a,b. (фасоль). б) растения, которые более отличны от известных диких видов и не могут быть к ним приурочены. 7) Amorphophallus Konjak 2 и вероятно в. 8) Arracacha esculenta. 2. 9) Capsicum annuum. 1 и 5, a, б (стручковый перец). 10) Chenopodium Quinoa 5, а, б. (киноа). 11) Cucurbita ficifolia 5, а, б. [*37] 12) Dioscorea alata 2, д. 13) — Batatas. 2, д. 14) — sativa. 2, д. (породы не настоящих бататов). 15) Eleusin Caracana. 5, а, б, e. (Африканский злак). 16) Nephelium Litchi (китайское плодовое дерево). 17) Pisum sativum 1, 5, а, б. (горох сахарный). 18) Saccarum officinarum 3 (сахарный тростник). [*38] 19) Sechium edule, 1, 5, а, б. [*39] 20) Trichosantes anguina 1, 5, а, б. 21) Zea mais, 1,5 а, б, вероятно и е. (кукуруза). [*40] в) Растения, происхождение которых от других видов вероятно. 22) Hordeum Hexaltichom. 5, а, б и е. (ячмень шестирядный). 23) — vulgare, 5 а, б и е. (ячмень обыкновенный). 24) Triticum spelta, 5, а, б и е. (полба). 31 ПРИМЕЧАНИЯ [*1] Дарв. Прируч. живот. и возд. раст. I, стр. 138. [*2] Дарв. Прируч. Живот. и возд. раст. I стр. 443. [*3] Тимирязев. Дарвин и его учение. 1883 г , стр. 64. [*4] Darw. The descent of man and selection in relation to sex. 1871, I p. 188. [*5] Прируч. живот. и возд. раст. I, стр. 193. [*6] Прир. живот. и возд. раст. II, стр. 110. [*7] Ibid, стр. 111. [*8] Ibid., стр. 194. [*9] Quatrefage. L'espece humaine. V ed. 1879, p. 57. [*10] Прируч. живот. и возд. раст. I, стр. 192 и 194. Этот чрезвычайно неудобный для теории факт, как устанавливают, что бы там ни говорили, весьма резкую грань между видом и разновидностью, было бы конечно приверженцам её весьма желательно устранить, и поэтому всякий случай, указывающий по видимому на безграничное плодородие гибридов принимается ими как факт. Впрочем странно, как мог г. Тимирязев (стр. 74) говорить: «наиболее известная помесь между зайцами и кроликами, разводимая в последнее время во Франции под названием лепоридов», когда сам Дарвин признает недостоверность этого факта. «В IV главе 1 тома я с некоторым сомнением говорил о новой породе называемой leporides, … которая будто бы оказалась способной к размножению. В настоящее время положительно утверждают, что это была ошибка» (Прир. жив. и возд. раст. II, 105). Вот что находим мы об этом предмете у Катрефажа в только что приведенном сочинении, стр. 53. «Эта пропорция крови 3/8 + 5/8 по видимому очень благоприятна для сохранения гибридных пород, потому что она характеризует знаменитых лепоридов . . . Эти гибриды, о коих столько говорилось, сохраняются ли, не представляя явлений возвращения? Свидетельства тех, которые проверяли и оспаривали мнения гг. Ру п Гайо, не оставляют на этот счет никакого сомнения. Исидор Жоффруа, веривший сначала их постоянству, и говоривший об этом как о приобретении, не колеблясь признал впо32 следствии возвращение. Факт этот был констатирован в акклиматизационном саду.... Наблюдения и опыты, произведенные в парижском обществе акклиматизации, ясно доказывают, что лепориды, присланные самими производителями их, совершенно возвратились к типу кроликов». Об этих лепоридах и некоторых других скрещиваниях между близкими видами говорит и Мильн Эдвардс в последнем томе своей большой сравнительной анатомии и физиологии (стр. 300 и 301). «Флуран удостоверился во взаимной плодовитости собаки и шакала до четвертого поколения; у других млекопитающих, родившихся от скрещивания коз и баранов, как и у лепоридов, родившихся от соединения кролика и зайца, способность к воспроизведению продолжается еще долее, но в этих последних случаях, произведения, представляющие вначале смешение характеров, свойственных обоим производителям, становятся все более и более похожими на одного из них, так что тут является возвращение к одному из первобытных зоологических типов, а не произведение промежуточного типа. Про гибриды коз и баранов, называемых пеллонами, разведением коих занимаются в Чили, добавлено: «тем не менее, кажется, что плодовитость их сохраняется только в течение небольшого числа поколений». [*11] Прируч. живот. и возд. раст. I, cтp. 183. [*12] Прируч. живот. и возд. paст. 1, стр. 195. [*13]Прируч. живот, и возд. pacт. I, cтp. 193. [*14] Прируч. живот. И возд. Раст. II, стр. 208, 209 и 210. [*15] Мы видели, что и для растений есть всего только одно действительное исключение. [*16] Дарв. Прируч. жив. и возд. раст. т.II, стр. 208. [*17] Ibid, стр. 441. [*18] Дарв. Прир. жив. и возд. раст. т. II стр. 209. [*19] Дарв. Прир. жив. и возд. раст. т. II, стр. 210. [*20] Darw. Orig. of spec. VI ed., p. 262. 33 [*21] М. Еdw. Lecons de Phys. Et d’Anat. Comp. T. XIV, р. 297. [*22] Дарв. Прир. жив. и возд. раст. II стр. 443. [*23] М. Еdw. Lecons de Phys. Et d’Anat. Comp. T. XIV p. 317. Подстрочное примечание. [*24] Darw. Orig. o spec. II Americ. Edit. P, 40, и VI edit., p. 27. [*25] Прируч живот. и возд. раст. I, стр. 318. [*26] Spach. Hist. Natur. Des vegetaux phaner. T. XI; p. 404. [*27] Gard. Chron. Vol. V. p. 130 June 24, 1876. [*28] Прируч. живот, и возд. раст. I, стр. 317. [*29] Из письма Вице-Президента Географического Общества Н.Н. Семенова, получившего эти сведения непосредственно от г. Пржевальского. [*30] Transaction of the Horticult. Society. T. I, p. 41. [*31] Произрастает в холодной и умеренной полосе (Мексики); в старом свете неизвестна. [*32] Прируч. живот. и возд. раст. 1, стр. 317. [*33] Alph. Decand. Origine des plantes cultivees, p. 368. [*34] Прируч. живот, и возд. раст., I стр.318. [*35] Прируч. жив. и возд. раст. I, стр. 321. [*36] Про гвоздичное дерево должно заметить, что то, которое отличается сильным гвоздичным запахом, составляет может быть не особый вид, а только разновидность. Для нас, в рассматриваемом теперь отношении, это было бы совершенно безразлично. Та разновидность, которая отыскивалась человеком, погибла бы вследствие недопускания до образования семян и следовательно до размножения; а не пахучая разновидность при этом бы 34 сохранилась. Но невозможно предположить, чтобы пахучая пряная разновидность была бы продуктом культуры: во-первых потому, что, если бы это свойство не было природным, не из-за чего было бы его и культивировать; а во-вторых потому, что, хотя многие свойства были приданы растениям культурой, мы видели уже однако, что нет примера, чтобы этим путем был придан запах растению не душистому, или даже чтобы запах был усилен или улучшен иначе как гибридацией с природно душистыми видами или разновидностями. [*37] Относительно тыкв надо вообще заметить, что, не будучи съедобными незрелые, они и вообще не привлекательны в сыром состоянии. Их, следовательно, не едят на месте, как арбузы, причем семена могли бы рассеиваться, а уносят домой и варят, причем семена или также съедаются, или пропадают, или размножаясь отчасти около жилищ, становятся таким образом, как бы культурными, а для размножения дикого вида по всяком, случае пропадают. [*38] Впрочем растение это едва ли следует считать исчезнувшим в диком состоянии, так как Лурейро положительно говорит, что оно в изобилии растет в Кохнихине. [*39] Имеет всего только одно семя, при большой мякоти, тем более следовательно имело шансов погибнуть. [*40] Про кукурузу и Декандоль замечает, что это весьма невыгодно устроенное растение для выдерживания борьбы за существование. © Институт славянских исследований им. Н.Я.Данилевского. 35 проф. Н. Я. Данилевский ДАРВИНИЗМ. КРИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Глава 5. (продолжение) Относительно ячменей и Декандоль предлолагает возможным, происхождение их от менее плодовитого ячменя двурядного – H. distichum, который находится до сих пор во многих местах западной Азии диким. Именно он говорит: «Из этих данных можно извлечь две гипотезы. 1-е. Происхождение четырех и шестирядных ячменей от двурядного — происхождение, которое восходило бы к доисторичским культурам, предшествовавшим постройке древних египетских памятников (потому что, по крайней мере шестирядный ячмень, находится в этих древних памятниках) и 2-е ячмень шестирядный и четырехрядный были также некогда дикими видами, исчезнувшими в исторической эпохи. В этом случае было бы странно, что не осталось никакого следа этих растений во флорах, обширной страны между Индией, Черным морем и Абиссинией, в которой можно быть уверенным, что шестирядный ячмень по крайней мере возделывался» [*41] Но по изложенным нами соображениям не трудно объяснить исчезновение таких злаков. Не трудно также представить удовлетворительное объяснение, почему именно должны были погибнуть эти лучшие ячмени, тогда как худшие остались еще кое-где в диком состоянии. Очевидно, что если где эти три сорта росли совместно, то первобытные жители преимущественно собирали, а тем и уничтожали те, которые при одинаковом труде давали наибольший сбор семян, и действительно в памятниках Египта двурядного ячменя вовсе не нашли. Конечно это могло происходить от того, что Египтяне уже в то время оставили культуру не изменившегося двурядного ячменя, а занимались возделыванием только улучшившегося шестирядного; но это могло быть и так , что в их странах двурядный вовсе не рос, или что первобытные жители страны и начали сбор семян прямо с лучшей дикой породы, с которой начали впоследствии и культуру, как везде, где росли совместно двурядный и шестирядный ячмень. Но и там, где шестирядного не было в диком состоянии, по получении его семян, могли забросить и сбор и культуру двурядного. Из этого видно, что нет ни малейшей необходимости прибегать к изменению двурядного ячменя в шестирядный через культуру, и отрицать само 36 существование последнего в дикой природе, тем более, что мы не имеем никаких положительных фактов о перерождении двурядного ячменя в обыкновенный (четырехрядный) или шестирядный в новейших культурах, что, однако же, должно бы было происходить и теперь, если происходило прежде под влиянием культуры. Что касается до полбы, то хотя Декандоль считает возможным допустить происхождение ее от обыкновенной пшеницы, я из его изложения не вижу необходимости прибегать к этой гипотезе. В самом деле, Оливье, путешествовавший по западной Азии в начале нынешнего столетия, прямо говорить, что находил полбу несколько раз в Месопотамии на правом берегу Евфрата к С. От Анага (Anah) [*42] в местности непригодной для культуры. Можно бы предположить, что Оливье ошибся, но его показание подтверждается нахождением полбы в диком состоянии уже настоящим ботаником Андреем Мишо в Персии около Гамадана, за несколько лет до него, именно в 1783 году. Декандоль сомневается в этом последнем показании на том основании, что Дюро-де-ла-Майль говорить, что Мишо послал семена Боску, который посеял их в Париже и получил обыкновенную полбу, о чем однако же не упоминается ни Ламарком в составленной им статье Энциклопедического Лексикона, ни самим Боском в изданном им в 1809 году Dictionnaire d’agriculture под статьей Epeautre. Но неупоминание не есть еще опровержение факта; а главное, — показания Дюро-де-ла-Майля о посеве этой дикой полбы и самая посылка семян ея может быть недостоверно, но нисколько не мешает быть вполне достоверным факту нахождения дикой полбы у Гамадана. Сомневаться в этом нет оснований, и невозможно предположить, чтобы ботаник ошибся в определении столь известного растения. Наконец, на каком основании доверять тому же путешественнику Оливье, когда он говорит о нахождении пшеницы и не доверять, когда он говорит о полбе, найденных им в той же самой местности. Из этого мы видим, что нет никакой необходимости прибегать к гипотезе о перерождении пшеницы в полбу культурой, тем более, что это даже не улучшение, а скорее ухудшение, на которое конечно земледельцам не было никакого резона обращать внимание. С одной стороны исчезновение полбы объяснялось бы весьма удовлетворительно приведенными мной соображениями, с другой же даже и в них нет надобности, так как она была найдена дикой по свидетельству лиц, но верить которым нет оснований. Б) растения, дикое нахождение коих сомнительно по возможности смешивания их с одичалыми. 37 а) Могущия быть отнесенными к близким видам, как происшедшие от них культурные формы: 1) Allium Ascalonicum 2. (шарлот). 2) Allium Scorodoprasum (рокамболь). 3) Secale cereale. 5, а, б, e. (рожь). Шарлот происходит по мнению Декандоля от обыкновеного лука, а рокамболь от чеснока. Что касается до первого, то он достоверным образом нигде диким найден не был; но все его отличие от лука заключается в том, что он редко дает цветы, что приводится в связь с изобилием выделяемых им луковиц; когда же он цветет, то все различие от обыкновенного лука ограничивается цветочной ножкой и листьями менее раздутыми, хотя также дудчатыми (т. е. внутри полыми). Так как эти различия в сущности менее значительны, чем существующие между многими разновидностями огородных растений, то они видовой границы не достигают и шарлот оказался бы только культурной разновидностью лука. Разновидность эта по мнению Декандоля произошла около времени Рождества Христова, по соображениям историческим и лингвистическим. Что касается до рокамболя., то он был найден в очень многих местах в диком состоянии, следовательно, его никак нельзя считать исчезнувшим в диком состоянии. Но, принимая во внимание незначительность его отличительных признаков от чеснока, Декандоль считает возможным существование одного вида, распространенного по значительной части Европы и соседним странам Азии, в нескольких разновидностях, к числу которых были бы отнесены и чеснок и рокамболь. Наконец и относительно ржи в тексте, трактующей о ней статьи, Декандоль высказывает только предположение, что она должна была расти дикой на пространстве между Австрийскими Альпами и севером Каспийского моря. Но в конце тома, при классификации культурных растений на различные категории, относительно нахождения их в диком состоянии, он выражает мысль — но форма ли это одной из диких многолетних ржей? Но и на это, высказываемое им в виде вопроса, мнение он имел основание потому только, что считал возможным сомневаться в нахождении дикой ржи Г. Северцовым в Туркестане. Так как, замечает он, не сказано, чтобы какой-нибудь ботаник проверил образчик. Но в списки растений, собранных П. П. Семеновым в странах по сю и по ту сторону р. Или, определенным д-ром Реге38 лем, помещена и настоящая рожь Secale careale, под № 1148, как найденная в Туркестане Северцовым [*43] и даже обозначены две её разновидности, из коих одна признана за a typicum. Таким образом возражение это уже не может более иметь места и отнимается всякое основание считать нашу рожь за продукт культуры. Прибавим, что и по лингвистическим соображениям, приводимым самим же Декандолем, невероятно, чтобы отечество ржи находилось в пределах нынешних Австрии и Южной России. В таком случае у славян и у германцев были бы для обозначения этого главного возделываемого ими злака разные названия, между тем как по совершенно верному замечанию Пикте, приводимому Декандолем: происхождение слов Roggen, Rig, рожь, должно восходить к эпохе, предшествовавшей разделению Германцев от Славяно-Литовцев. Но так как и по-татарски рожь называется арешь (или арежь), очевидно фонетически тождественное (аржаной); то это указывает на местность, где последние из арийских выходцев соприкасались с Тюркскими племенами. Следовательно, по ботаническим и по лингвистическим соображениям гораздо вероятнее, что отечество ржи Туркестан, а не восточная Европа. б) Растения находимые может быть только в одичалом состоянии. 4) Agave Americana. 3. (столетнее дерево). 5) Amaranthus Gangeticus 3, a, б. 6) Areca Calechi 5. 7) Avena orientalis. 5, а, б. (овес восточный). 8) — saliva. 5, а, б. (овес обыкновенный) 9) Cajanus indicus. 5, 1. 10) Cicer arietinum 5, а, б. 11) Cucurbita moschala. 5, а, б. (сорт тыквы). 12) Dioscoraca japonica. 2. (вид ненастоящего батата). 13) Ervum Ervilia. 5, a, 6. [*44] 39 14) Ervum Lens. 5, а, б. (чечевица). 15) Fagopyrum emarginatum 5 а, б. (сорт гречихи). 16) Gossypium barbandense 5, а, б. (хлопчатобумажник Sea Island). 17) Holcus saccharatus. 5, а, б. (сахарное сорго). 18) — Sorghum. 5, а, б. (обыкновенное сорго). 19) Lepidium sativum. 3, 1, а, б. (крес-салат) [*45] 20) Marantha arundinacea. 2, (арау-рут). 21) Panicum miliaceum. 5, а, б. (просо). 22) Raphanus sativus. 2. (редька). Относительно этих последних 19 pacтений напомним, что про них нельзя утверждать, что они исчезли, но что трудно решить, встречаются ли они только вполне дикими, или только одичалыми в природе; кроме того для большинства этих pacтений, как и для всех вышепоименованных, отечество составляют страны недостаточно еще исследованные в ботаническом отношении. 3атем из культурных pacтений, доселе не найденных в диком состоянии или с нахождением сомнительным, остаются следующие не подходящие под мои объяснения: Из первых: 1) Brassica sinensis (китайская капуста). 2) Citrus nobilis (мандаринка). 3) Lucuma mammosa (тропическое плодовое дерево). Из вторых: 40 1) Amygdalus persica (персик) 2) Citrus decumana (бодрянка). 3) Indigofera tinctoria (индиго). 4) Nicotiana rustica (табак тютюн). 5) Spergula arvensis (торица). Но из них: о таковом растении, как китайская капуста, происходящем из ботанически столь мало исследованной страны, как Китай, конечно нельзя еще сказать, чтобы оно исчезло из дикой природы притом, так как это овощ, то, без сомнения, срывалась целиком первыми собирателями и следовательно до плодоношения не допускалась, и потому могла бы быть обозначена знаками 3, а, б. Lucuma mammosa напрасно причислена Декандолем к растениям исчезнувшим, потому что про это тропическое плодовое дерево в тексте прямо сказано: Гумбольдт и Бонплан находили его диким в лесах Оренокских массой. Если не верить Гумбольдту и Бонплану, то кому же верить? Nicotiana rustica. Хотя в табаке употребляются только листья, но про диких потребителей его наверно можно сказать, что они срывали целое растение и не давали производить плода; да и без этого, растение лишенное листьев не доведет своих семян до зрелости; так и Nicotiana Tabacum найден лишь в исключительной и очень уединенной местности. Притом, это однолетние растения и иными способами кроме семян не размножаются. Наконец, почему Spergula arvensis помещена Декандолем в число растений, нахождение которых в диком состоянии сомнительно по смешиванию с одичавшими, можно объяснить себе только тем, что он руководствовался при этом лишь западно-европейскими наблюдениями. В средней России оно растет повсеместно, я могу указать на губернии Орловскую, Рязанскую, Тамбовскую, Владимирскую, Ярославскую, Тверскую, Новгородскую. Оно не могло здесь одичать, потому что никогда не разводилось как кормовая трава, да и вообще в сороковых годах, когда я находился в Орловской губернии, кормовых трав, за исключением разве клевера, тимофеевки и изредка люцерны, и не разводилось. И так остается только персик, два лимона (мандаринка и бодрянка) и индиго. Но эти три плодовые деревья растут в странах столь еще мало обследованных, что трудно утверждать, чтобы они не нашлись где-нибудь в глухих местах несомненно дикими. О бодрянке говорится у Декандоля: «в островах, лежащих к востоку от Индейского архипелага, встречается наиболее указаний на существование в диком виде», а Земан более утвердительно говорит относительно островов Фиджи: 41 «очень обыкновенна и покрывает берега речек»; было бы удивительно, если бы в столь дикой стране это было бы только результатом культуры. И о мандаринке Лурейро говоритъ: растет (habite) в Кохинхине, а затем прибавляет: «и в Китае, хотя в Кантоне и не видал». Что касается до персика, то вопрос этот столь важен, потому что Дарвин склоняется к мнению, что персик есть только культурой измененный миндаль, — что должно рассмотреть его с некоторой подробностью. Если бы мнение Дарвина, выраженное им вслед за Нейтом, было справедливо, то мы действительно имели бы пример изменения культурой, перешагнувшего видовой предел. Доказательства этого мнения почерпнуты частью из данных истории и ботанической географии, частью из садоводной практики. Пока принималось, что родина дикого персика есть Персия, то действительно было некоторое основание предполагать, что плод этот есть продукт культуры. Римляне узнали персик очень поздно, т. е. после Рождества Христова, так как о нем упоминается в первый раз у Колумеллы; из греков первый упоминает о нем Теофраст, как о растущем в Персии; следовательно они узнали этот плод вероятно только вследствие похода Александра Македонского. Более древние писатели, например Ксенофонт, ничего об них не упоминают, что было бы весьма странно, если бы персики были обыкновенны в Персии во время отступления десяти тысяч. Но в заметках римских писателей упоминается о каком-то плоде — tuber, привезенном из Сирии, который Нейт и считает за нечто среднее между миндалем и персиком, [*46] т.е. за разновидность, соединяющую в себе свойства обоих этих плодов. Эти туборы были бы таким образом первыми шагами к переходу миндаля в персик — переходу, свершившемуся в Персии, или где-либо в западной Азии вследствие культуры. Но не говоря уже о том, что невозможно определить, что такое были tuber Римлян, о которых Декандоль говорить, что они также точно могли быть Унаби (Ziziphus vulgaris), хурма (Diospyrus Lotus), или плодом какого-нибудь боярышника, как и персика, [*47] такое происхождение становится невозможным, если персик есть растение первоначально китайское, как это теперь доказано. Пусть даже его в Китае не существует в диком виде, но, во всяком случае, есть свидетельство о существовании персика в Китае в X веке до Р. X. Напротив того, миндаль — уроженец западной Азии, и как его теперь нет в Китае, так и в древних Китайских источниках о миндале, как об растении, возделываемом в Китае не упоминается, а упоминается напротив того в сочинении X или XI века по Р. X., что это есть дерево стран магометанских. И теперь в Китае нет миндаля, даже как культурного дерева; откуда же взялся там персик, если не от дикого же персика? Вот теперь факты из садовой практики, приводимые Дарвиным. [*48] 42 1) Во Франции существует разновидность называемая миндале-персиком — Amandie-peche. Посмотрим, в чем она состоит. (Миндале-персик разделяет свойства обыкновенного миндаля и персика, но обыкновенно в большей степени первого чем второго. Плод его то покрыть тонкой и сухой кожурой (brou) как миндаль, то толстой и сочной оболочкой как персик, но вещество его горько. Часто случается, что оба сорта плодов соединены на том же дереве, а иногда на той же ветке: те и другие бывают крупны, округлены, или немного удлинены, зеленоваты, слегка пушисты; они заключают в себе большую косточку, почти гладкую, содержащую сладкую миндалину». [*49] 2) Нейт прислал в сентябре 1817 года в Английское садовое Общество ветку с персиковидными плодами, выросшую на миндале. «Дерево, пишет Нейт, произвело шесть персиков, кроме тех которые послал вам; три из них растреснулись подобно миндалям, когда они почти поспели; между тем как другие сохранили форму и характер персиков и мясо всех было вполне сочное и тающее». [*50] 3) Люизе сообщает в «Revue Horticole», что миндале-персик, привитый к персиковому дереву, давал с 1836-го по 1864 год одни миндали, но в 1865 году дал 6 персиков и ни одного миндаля. Каррьер, разбирая это явление, приводит случай, где миндалевое дерево с махровым цветом; дававшее несколько лет миндали, начало вдруг два года сряду давать круглые, мясистые, персикообразные плоды, а в 1865 году вернулось снова к прежнему состоянию и производило крупные миндали. [*51] Все эти случаи, которые мы нарочно привели со всеми подробностями и собственными словами авторов, — в одном роде. Но что же они доказывают? Есть ли малейшее подобие между ними и тем, что нам представляют несомненные разновидности плодовых деревьев. Никакого, но подобные явления часто случаются при гибридации, при которой бывает как бы раздвоение признаков: одни растения, или части растения носят преимущественно характер материнский, а другие отцовский. Так сообщенный Нейтом случай и им самим приводится, как результат, произведенной им гибридации. «Я посылаю их, говорит он, единственно по странности их происхождения, так как это потомки (offspring) сладкого миндаля и только от цветения персика». [*52] Относительно миндале-персиков Дюгамель говорит в продолжении только что сделанной выписки: «Эта разновидность повидимому одно из тех гибридных растений, которые происходят от миндаля, цвет которого был оплодотворен пылью тычинок персикового цветка». Люизе говорить тоже о миндале-персике. Какое же основание в таких явлениях гибридации видеть доказательство происхождения персика от миндаля путем культурных изменений? 43 Другие факты, приводимые Дарвином в пользу своего мнения, если возможно, еще менее доказательны. «Риверс посадил несколько персиковых косточек, привезенных из Соединенных Штатов, где их собирают для выращивания штамбов, и от некоторых из выведенных, им молодых деревьев приучил плоды весьма похожие с виду на миндаль: они были мелки, тверды и теряли последнее свойство только поздней осенью». [*53] Нo из этих слов нельзя вывести ни малейшего сходства этих дрянных персиков с миндалями; последние (т. е. их кожура, о которой только и может тут идти речь) не теряют своей твердости ни поздней, ни ранней осенью, а продольно лопаются с одной стороны, раскалываются на две половинки, а если зерно в них недообразовалось, то совершенно ссыхаются, кожура прирастает к скорлупе более или менее пустого ореха. Совершенно тоже относится до приводимого вслед за сим наблюдения Ван-Монса. Персики попали и в Америке, и в Англии, и в Бельгии в несоответствующий для них климат, или вообще в неблагоприятные обстоятельства, и произвели многие дрянные плоды, но все-таки персики; тогда как обыкновенно, попадая в хорошие условия, как напр., на острове Хуан-Фернандец, где персики столь многочисленны, что невозможно составить ce6е понятия о количестве собираемых там плодов, — вообще они очень хороши, несмотря на дикое состояние, в которое они возвратились», говорит Бертеро. [*54] Тоже замечается и во многих местах Америки, в Ю. Франции и у нас на Ю. берегу Крыма. Такое сохранение качеств плода через посев семян делает гораздо вероятнее, что персик есть самостоятельный вид, а не продукт культуры. Что значат после того следующие слова Дарвина: «От таких низких сортов персика (Ван-Монса, Риверса) мы через сорта среднего достоинства, с приросшим к косточке мясом, переходим к лучшим и наиболее сочным персикам»? [*55] Совершенно справедливо: как и во всех почти плодах, от дрянных диких переходим к отличным, но это не мешает им принадлежать к тому же виду. Другое дело, если бы эти низкие персики были миндалями, но как мы видели, ничего подобного нет — сходство с миндалями появляется только при гибридации, как это всегда бывает. В этом мнимом ряду еще та неверность, что нет основания, ни по качеству плодов, ни но мнимому большему сродству с миндалем, считать персик с приросшим к косточке мясом за среднюю форму. Эти персики, известные под именем павий, бывают отличного качества; а у миндалей косточка во всяком случае еще более отдельна от кожуры, чем у каких бы-то ни было персиков, и сообразно с этим и в гибридной форме, полученной Нейтом, как то замечено в описании плодов, присланных садовому Обществу: «Косточка также весьма ясно отделялась от мяса, только несколько коротких нитей приросли к ней». [*56] 44 Есть ли после этого достаточная причина приходить к заключению: «На основании этой постепенности (т. е. постепенности от дрянных, мелких персиков к сочным, хорошим) и случаев внезапного изменения происходящих от гибридации и потому вовсе не внезапных — в английском тексте вероятно сказано spontaneous); наконец, на основании того обстоятельства, что персиковое дерево не было найдено в диком состоянии (по всей вероятности он дик в Китае; но если бы и действительно там в диком состоянии более не находился, то все же произошел в Китае и никак не от миндаля, которого там не было и нет), мне кажется всего вернее персик считать потомком миндаля». [*57] Наконец и сам Дарвин с обычной своей добросовестностью первый приводить факт бесплодия миндале-персиков, полученных через гибридацию, что также подтверждает самостоятельность обоих видов. Весьма вероятно, что обыкновенный персик и так называемый арабский персик или нектарин и брюньйон (Persica laevis) суть также различные виды, или две природные разновидности, которые гибридировались между собой. Тогда сами собой объясняются все странные факты, что из семян обыкновенных пушистых персиков происходили арабские и наоборот, что дерево, дававшее простые персики на одной из ветвей своих, начинало внезапно давать арабские, что наконец вырастали плоды наполовину или иную долю одного сорта, и наполовину или частью — другого. Это были так называемые раздвоения, нередко случающиеся именно у гибридов. «К доказательству, что мы имеем тут дело с двумя видами, говорить Декен, ведет то, что нередко наблюдаются на той же ветке, посредством явления раздвоения (disjonction) персики простые и apaбские, совершенно также, как это замечается у Адамова ракитника (Cytisus Adami)» [*58] Но и те культурные растения, дикая родина которых хотя и была находима, но чрезвычайно редко и которые по мнению Декандоля суть исчезающие виды, — тоже подходит под объяснения, которые я предложил. Таковы: 1) Cucurbita maxima. 5, а, б. (большая тыква). 2) Faba vulgaris. I, 5, а, б. (обыкновенный боб). 3) Nicotiana Tabacum (табак американский). См. замечание сделанное o N. rustica. 4) Garthamus tinctorius. 4, а, б. (сафлор). 5) Triticum vulgare. 5, а, б. (обыкновенная пшеница). 45 В числе растений, не находимых более в диком состоянии, надо упомянуть еще об артишоке, который должно считать разновидностью кардона (Cynara Cardunculus), так как по наблюдениям Мориса в туринском ботаническом саду первый может произойти от последнего культурой. Всего вероятнее, что первоначально образовалась природная разновидность, которая была уничтожена тем, что не допускалась до плодоношения, так как съедобную часть составляют молодые цветочные головки. И косвенное доказательство Дарвина к которому теперь переходим, состоит в следующем: «Если потребовались сотни и тысячи годов для улучшения или изменения большей части наших растений до теперешней степени их полезности человеку, то мы в состоянии понять, каким образом случилось, что ни Австралия, ни мыс Доброй Надежды и никакая другая страна, обитаемая совершенно нецивилизованными людьми, не доставили нам ни одного растения, заслуживающего культуры. Причина не в том, чтобы эти страны, столь богатые видами, не обладали, по странному стечению обстоятельств, первоначальной породой (aboriginal stocks) какого-либо полезного растения; но в том, что туземные растения не были усовершенствованы непрерывным подбором до той степени совершенства, которая могла бы идти в сравнение с приобретенными растениями стран издревле цивилизованных». [*59] Мысль эта столь странна, столь невероятна, так несогласна с фактами — хотя и вполне в духе учения, что, признаюсь, я не верил глазам своим и подразумевал какое-нибудь недоразумение и непонимание с моей стороны, пока не нашел её в другом сочинении Дарвина гораздо яснее и полнее выраженной. Привожу вполне это место: «Многие замечали, что мы ни одним полезным растением не обязаны ни Австралии, ни мысу Доброй Надежды, тогда как обе названные страны необычайно богаты растениями собственно им свойственными, эндемическими; мы не заимствовали полезных растений ни из Новой Зеландии, ни из Америки к югу от Pиo-Платы, ни даже, по свидетельству некоторых авторов, из Северной Америки к северу от Мексики. Кажется также, что, за исключением канареечной травы, ни одного питательного и вообще полезного растения не получили мы с океанических или необитаемых островов. Если бы почти все наши полезные растения, происходящие из Европы, Азии и Ю. Америки, были уже первоначально в том самом виде, в котором мы их теперь знаем, то крайне было бы удивительно, что ни одна из обширных стран выше названных не подарила нас ни одним растительным продуктом, столь же полезным. Если же предположить, что наши полезные растения так уже изменены и улучшены культурою, что вовсе не походят на дикие виды, то понятно, почему те страны не произвели растений для нас полезных: жители их или вовсе не возделывали 46 почвы, как напр. в Австралии и на м. Доброй Надежды, или же возделывали очень дурно, как в некоторых частях Америки. Эти местности также производят растения полезные для туземных дикарей — в одной Австралии д-р Гукер насчитывает их до 107 видов; но растения эти вовсе не подвергались культуре, не улучшены и потому естественно не могут соперничать с теми, которые в течение тысячелетий возделывались и улучшались в цивилизованных странах». [*60] И далее: «По свидетельству Декандоля мы имеем 32 полезных растения из Мексики, Перу и Чили; это и неудивительно, если сообразили, как высока была местная цивилизация в эпоху открытия Америки… Несколькими растениями обязаны мы также и Бразилии — и первые путешественники, именно Веспуций и Кабраль рассказывают, что застали эту страну густо населенной и обработанной. Если бы С. Америка пользовалась цивилизацией также долго, как Европа или Азия, и была бы населена также густо, то вероятно туземный виноград, лесные орехи, шелковица, дикие яблони и сливы, пережив длинный ряд изменений под влиянием культуры, дали бы наконец великое множество разновидностей, в иных случаях совершенно не похожих на свой первообраз, а случайно одичавшие породы их, как в Новом, так и в Старом свете, повергли бы исследователей в величайшее затруднение насчет своего происхождения и видовых отличий». [*61] Да это действительно было бы так, должно бы так быть, если бы Дарвинова теория была справедлива. Но на деле, на факте это не так: только очень немногие растения и то весьма слабым и сомнительным образом, — как мы видели на примерах полбы, и некоторых ячменей, одного или двух луков, — повергают исследователей в подобные затруднения. Следовательно, теория несправедлива, по крайней мере, во сколько она основывается на предположении сильной изменчивости культурных растений, доводящей до неузнаваемости их диких первообразов. Прежде всего, заметим — и это чрезвычайно странно, — как Дарвин упустил из виду то обстоятельство, что сам факт им приводимый неверен. Новая 3еландия, по крайней мере, доставила нам два культурных растения: новозеландский или летний шпинат и новозеландский лен. Первый, Tetragonia expansa Murrey, имеет, при почти одинаковом вкусе, немаловажное преимущество перед обыкновенным шпинатом тем, что может быть употребляем в пищу в течение всего лета, тогда как обыкновенный шпинат (Spinacia oleracea L.) годится только весной. Растение это было ввезено в Англию Иосифом Банксом, сопровождавшим Кука в одном из его знаменитых путешествий, и в настоящее время находится у всех торговцев овощными семенами. Впоследствии нашли это растение и в Тасмании, на юге и на юго-западе Австралии, в Ю. Америки (Чили) и в Японии. Но в этих последних местно47 стях, замечает Декандоль, оно может быть только натурализировалось, потому что указывается около городов. Что касается до новозеландского льна, Phormiun tenax L., то волокно его превосходит крепостью все прочие прядильные растения. По опытам Лабильярдьера, если крепость волокна американской агавы (Agave americana L.) принять за 7, волокна льна будут иметь 11 3/4, пенька 16 1/3, а Новозеландского льна 23 5/11, шелка 24. Опыты разведения, и удачные, были сделаны во Франции, в д-те Дромы, г-ном Фрейсине, также у Шербурга. [*62] Английский флот предпочитал его волокна для всяких веревок кроме канатов. Если, тем не менее, растение это малоупотребительно, то лишь вследствие затруднительности отделения волокон от мякоти, так как способ, употребляемый для этого новозеландцами, был бы слишком дорог в Европе. [*63] В Австралии растет кустарник Macadamia triternata, дающий отличные орехи, превосходящие вкусом наши лесные; если он мало распространен в тропических странах, то потому, что страны эти и без того изобилуют всякого рода плодами. Из С. Америки к северу от Мексики именно: из штата Индианы введена земляная груша Helianthus tuberosus; вообще из умеренных частей Соединенных Штатов — виргинская земляника, тыквы: Cucurbita Реро и Melopepo, виргинская хурма Diospyros Virginiana. Наконец из совершенно диких стран Африки, да еще и с острова, имеем мы лекарственное растение Aloe succotorina, дающее известный сабур. Нельзя сказать, чтобы все эти растения были слишком маловажны для того, чтобы стоило обращать на них внимание — ведь упоминается же Дарвином, как об исключении даже о канареечном семени, — а почти все поименованные мной растения важнее его. Также и с океанических островов получилось весьма ценное плодовое дерево — бодрянка, Citrus decumana (отечеством его означены у Декандоля острова Тихого Океана к востоку от Явы) и превосходный тропический плод Spondias dulcis с островов Товарищества, Дружбы и Фиджи, который был оттуда ввезен на Иль-де-Франс и Бурбон, на Антильские острова; в 1782 году в Ямайку и оттуда на С. Доминго. «Отсутсвие его во многих жарких странах Азии и Африке, замечает Декандоль, зависит вероятно оттого, что вид этот был открыт только век тому назад на маленьких островах — без сообщения с чужими землями». [*64] 48 Но не в этих случайных пропусках главное дело, некоторые из них могли быть и неизвестны Дарвину. Чтобы показать всю несостоятельность его мнения, достаточно обратить внимание на то, что во всех странах, обитаемых как дикими, так и в различной степени цивилизованными народами, есть множество растений, не введенных в культуру, которые однако же по своим природным свойствам заслужили общее внимание, тщательно собираются жителями и ценятся наравне, а иногда и выше культурных. Если они не возделываются, то или потому, что в этом не предстоит надобности, по изобилию и превосходству качеств продуктов, доставляемых дикими растениями, или потому, что возделыванию их противостоят препятствия, которые до сих пор не могли быть побеждены. С другой стороны есть многие другие растения, которые хотя и введены в культуру, но продукты диких их родичей продолжают тем не менее собираться, так как они не уступают возделываемым, иногда даже в некоторых отношениях превосходят их, но во всяком случав настолько с ними сходны, что сомнения в их видовом тождестве быть не может, так что культура не положила даже и начала к их неузнаваемости. В примере первых, приведу из стран тропических различные породы хинного дерева, ипекакуану, которые недавно только стали англичане возделывать в Индии; американские и бразильские орехи (Bertholletia excelsa Humb. et В., Lecythis Ollaria .L. u Lecythis Zabucajo Aubl.). Вот что говорится про первые: Орехи превосходного вкуса, когда они свежи. Португальцы из Пары привозят целые грузы их в Kaену под именем Тука, посылают и в Лиссабон, где их называют каштанами Мараньянсктми; американские испанцы называют их almandros, что значит миндаль. Бертоллетию начинают впрочем, уже тщательно культивировать в Гвиане. Про Lecythis Ollaria говорится, что орехи их очень вкусны и ничем не уступают фисташкам; про L. Zabucajo Обле говорит, что ореховые плоды его едят, они сладки, деликатны и превосходнее европейских миндалей. [*65] Ваниль тоже дикое растение и почти не возделывается, во всяком случае возделанная нисколько не превосходит дикую. Все деревья, дающие резинку и недавно найденное в лесах Суматры гуттаперчевое дерево (Isonandra Gutta) суть также дикие растения, нисколько не улучшенные и не измененные культурой. Обратимся к нашему северу, и мы найдем на нем две превосходные по вкусу ягоды: морошку и поленику, культура которых до сих пор не удавалась. Морошка собирается и у нас и в Норвегии в огромных количествах. Наша обыкновенная и с. американская клюква (Охусосcos macrocarpa) и брусника составляют предмет довольно значительной торговли, отправляются с севера далеко на юг. Если их не возделывают, то потому что дикие ягоды столь изобильны и в своем роде хороши, что в этом не представляется надобности, а также что культура торфяных болотных pacтений (как клюква и морошка) представля49 ют много трудностей. Таковы же наши ежевика и куманика, худо поддающаяся культуре, и из коих первая, в совершенно диком состоянии, дает в Крыму ягоды, не уступающие по величине знаменитым американским Larochelle. Все это — растения, которые нисколько не будучи улучшены культурой, имеют превосходные природные качества, и если бы таковые находились в Австралии и других поименованных Дарвином странах, то их стоило бы ввести в культуру и на них конечно обратили бы внимание, прямо в диком их виде, так как они для сего ни в какой культуре бы не нуждались. Почему же их там нет? Во всяком случае, не потому, что жители их совершенные дикари. Надо ли упоминать, что дикий миндаль, грецкий орех, простой лесной орех, хотя и получили в культуре некоторое улучшение, состоящее преимущественно в утончении скорлупы, а не в улучшении вкуса ядра, суть во всяком случае, столь замечательные произведения растительного царства, по полезности их для человека, и в совершенно диком состоянии, что если бы подобные росли в указанных Дарвином странах, то их и оттуда ввели бы в культуру. Дикие или одичавшие оливки дают даже, говорят, масло лучшего качества, чем культурные. Возьмем теперь такие растения, которые вошли в культуру, но сохранились и дикими. Все сорта земляники, как наши полевая земляника (Fragaria vesca) и клубника (Fragaria collina), так и американские (Fr. Virginica, grandiflora, Chiloensis), обыкновенная малина, смородина красная и в особенности черная, хотя и вошли в культуру, но продолжают собираться в огромном количестве по лесам, холмам, болотам, и если садовая земляника крупнее нашей полевой, то уступает ей в аромате; лесная малина хотя мельче, но также ароматнее и слаще садовой; дикая черная смородина, растущая, например, в изобилии по берегам Кубенского озера, даже крупностью ягод не уступает садовой, и в окрестностях везде употребляется на варенье и наливки. Таким же образом и в тропических странах дикое коричное яблоко (Annona squamosa), найденное г. Андре в каменистой местности долины реки Магдалины, — по его замечанию, дает плоды превосходные (fruits delicieux); тоже относится и к другому виду A. Cherimolia. Апельсины составляют природную, а не культурную разновидность померанцев, хотя и этот плод, несмотря на свою горечь, конечно обратил бы на себя внимание и заслужил бы почет культуры, если бы подобный ему был найден на м. Доброй Надежды или в Австралии. Но и сладкие апельсины встречаются дикими: по Ройлю «есть дикие сладкие апельсины в Силлете и в Нильгирийских горах... Экспедиция Турнера рвала дикие и бесподобные апельсины в Букседваре — местности, лежащей к северо-востоку от Рунгпура в Бенгалии; Лурейро описал один сорт, который он назвал кисло-сладким (acido-dulcis); апельсины есть в Кохинхине и растут там и в возделанном и в невозделанном состоянии. Лучший плод в миpе - Garcinia Mangustana L. растeт наверное диким в лесах Зондских островов и полуострова Малакки. Сладкие арбузы растут в тропической Африке совместно с горькими — значит и сладость их не есть при50 обретение культуры. Розовое яблоко, Eugenia Iambosa L. растeт дико на Суматре, на Малакском полуострове, в Сикиме и на севере Бенгалии. Шоколадное дерево, растет дико в Приамазонски лесах, кофе растет дико до сих пор в Абиссинии, Судане на Гвинейском и Мозамбикском берегах), а культурный в разных странах Америки и южной Азии скорее ухудшился, чем улучшился, но во всяком случае мало изменился. Культура кофе вообще недавняя, а если употребление его древнее в Абиссинии, чем обыкновенно полагают, то, как замечает Декандоль, это не доказывает, чтобы культура его была очень древняя (при культуре употребления его вероятно скорее бы распространилось по соседним странам). Весьма вероятно, что в течение веков собирали ягоды в лесах, где конечно они были очень обыкновенны. На Гвинейском берегу — в Либерии — недавно найден новый вид кофе (Coffea Liberica), который только что вводится в культуру, достигшую уже впрочем, довольно значительных размеров на С. Доминго. Значит, вполне дикий вид обратил на себя внимание и без всяких культурных улучшений оказался не только хорошим, но могущим даже соперничать с растением довольно долгое время находившимся в культуре, и притом найден в стране столь же некультурной, как и поименованные Дарвином. Про чай можно сказать то же самое — он найден диким в верхнем Асаме и в провинции Кашаре. С лишком четыре с половиной тысячи лет культуры вовсе не изменили растения и никто не сомневается в тождестве дикого и возделанного чая. Допустим даже, что многие из приведенных мной примеров относятся не к настоящим диким, а к одичавшим растениям — не говорит ли и про них Дарвин: «а случайно одичавшие породы культурных растений, совершенно непохожих на свой первообраз, повергли бы исследователей в величайшие затруднения насчет своего происхождения». На всех этих примерах мы видели, что ничего подобного нет, что их без всякого затруднения отождествляют с культурными видами, и что если в чем и есть затруднение, то в явлении совершенно противоположном — в невозможности отличить коренную дикую форму от одичавшей. Так напр., знаменитый тропический плод, соперничающий с мангустанами, Mangifera indica L., который находят диким в лесах Цейлона, в Арракане, в Пегу, на Андамонских островах, был ввезен в Америку, где одичал, как и в Старом свете. Он превосходно удался на Ямайке. Когда кофейные плантации были брошены, во время освобождения рабов, это дерево, косточки которого негры повсюду разбрасывали, образовало на острове леса, которые сделались одним из богатств края тем, что почва ими отеняется, и тем, что они доставляли питательное вещество. Про одичавшие маслины можем сказать то же самое. Обратим внимание еще на один предмет. Австралия, Новая Зеландия, мыс Доброй Надежды, оконечность Южной Америки потому не дали нам полез51 ных растений, говорит Дарвин, что, хотя грубый материал их существует без сомнения и в этих странах, но, не будучи развит продолжительной культурой, — он не подходит под тот уровень совершенства, который мы привыкли требовать от растений, стоящих культуры. Это относится к растениям, удовлетворяющим нашим материальным нуждам; но почему же не относится это к тем, которые удовлетворяют и нашим эстетическим потребностям? Почему и мыс Доброй Надежды и Австралия могли представить нам столько прелестных по красоте цветов, наполняющих наши сады и оранжереи? Этим я не хочу сказать, чтобы некоторые из них не были усовершенствованы культурой, как иные пеларгонии, гладиолусы; но многие, независимо от этого, прелестны в том виде, в котором их представила дикая природа, как многие амариллисы, все эрики, протеи, банксии, эпакрисы. Что справедливо относительно одной категории человеческих нужд и потребностей, то должно бы быть справедливым и по отношению другой категории. И еще: грибы конечно нигде и ни для одного вида не усовершенствованы культурой, так как и разводить-то мы умеем пока только два вида — шампиньоны давно, а сморчок только недавно. Между тем они составляют тонкое, деликатное, вполне гастрономическое и, вопреки старинному предрассудку, здоровое и самое питательное изо всех продуктов растительного царства, кушанье. Почему же природа, без всякой помощи культуры, могла придать эти качества этим тайнобрачным растениям, но не могла бы сделать того же для растений явнобрачных; так что совершенство этих последних в приноравлении ко вкусам и нуждам человека, заставляло бы предполагать долговременное воздействие на них продолжительной цивилизации тех народов, в отечестве которых они растут. Что же показывают нам все эти примеры, число которых мы могли бы удвоить и утроить? Они показывают, что количество доставляемых известной страной полезных для человека растений не находится ни в малейшей связи со степенью культуры населяющих её народов, а зависят от её климатических и почвенных и других условий, обусловливающих собой её флору. Я сказал: нe находится ни в малейшей связи со степенью культуры населяющих ее народов. Это неверно. Связь эта существует, но совершенно обратная той, которую предположил Дарвин в подкрепление своей теории. Он и тут смешал причину со следствием, как и в некоторых других его рассуждениях. Одна из причин отсталости, дикости народов Австралии, южных оконечностей Америки и Африки заключается без сомнения в отсутствии в их флоре полезных для человека растений, который могли бы доставить достаточный повод к их культуре, обеспечить его материальный быт и тем вызвать на дальнейшие шаги в цивилизации. 52 Справедливое по отношению к одному царству природы — растительному, должно бы точно также быть справедливым и к другому. Австралия не дала нам полезных растений, говорит Дарвин, потому что грубость её обитателей оставила их до сих пор в первобытной дикости; а если бы они были более цивилизованы, то сумели бы зачатки полезных растений, которые без сомнения и там находятся, довести до степени примененности к человеческим нуждам, которая заставила бы и европейцев, по ознакомлении с ними, причислить и их к своим растительным сокровищам, как то случилось после открытия Америки с растениями перуанскими, чилийскими, мексиканскими и отчасти бразильскими — Будто бы усовершенствованными культурой ацтеков и инков. Если это так, то нечто подобное должно бы ведь произойти и с животными, т. е. если бы Австралия была издревле цивилизованной страной, подобно Индии или Китаю, то и кенгуру и прочие двуутробки должны бы были обратиться в полезных домашних животных. И древние американцы, которые, по мнению Дарвина, были, во всяком случае, достаточно цивилизованы для того, чтобы оставить нам в наследство около полусотни полезных и частью даже очень полезных растений (картофель, маис, какао, ананас, бермудский хлопчатник, табак, помидор, лучшие сорта земляники, английский перец; ваниль, ипекакуану, хину и проч.) — доставили, однако же, всего только одно полезное домашнее животное — индейку, да, кроме того, для себя приручили еще ламу и вигонь. Отчего же это зависело? неужели от того, что цивилизация их была не довольно древняя, продолжительная и высокая? А будь она таковой, то и муравьеды, и армадилы, и ленивцы «пережив длинный ряд изменений под влиянием культуры», обратились бы в полезных домашних животных! Не от того ли скорей, что, между тем как американская флора, в тропической части, по крайней мере, была богата видами, пригодными для потребностей и нужд человека, в первоначальном диком своем состоянии, — фауна ее была напротив того в этом отношении очень бедна? В Америке не было ни крупных, толстокожих, ни лошадей (в историческое время, по крайней мере), ни овец, ни коз, ни рогатого скота; а если и были бизоны, тождественные с нашими зубрами, то эта порода и в Старом свете оказалась неприручимой. В этой-то бедности фауны и заключается одна из причин, почему цивилизация древних мексиканцев и перуанцев не подвинулась очень далеко вперед, а не наоборот. И так долго останавливался на этом косвенном доказательстве Дарвина значительности перемен, произведенных в растительных формах культурой, которое в общей связи учения может иным показаться маловажным, по нескольким весьма важным причинам: 53 а) В странной гипотезе Дарвина как нельзя ясно выражается то общее Дарвинское миросозерцание, по которому целесообразность мирового устройства представляется лишь чем-то кажущимся, миражем, обманом чувств или скорее мысли, под которыми кроется отсутствие всякой цели, всякого преднамеренного прилаживания и приспособления. Человек, как животное травоядное по происхождению своему, питался, конечно, растениями в том виде, в коем они предлагаются природою; мало-помалу он совершенствовался, развивался и в своем развитии, так сказать, влек за собою и некоторое число растений для него нужных, полезных, которые, под влиянием этого бессознательного подбора, но только все более и более прилаживались к его нуждам, но и совершенствовались по мере усложнения и усовершенствования этих нужд. Все тот же закон непредустановленной, бесцельной эволюции, но производящий мираж предустановленности и целесообразности. б) Мы видим на столь небольшом отрывке из общего, если позволено так выразиться, Дарвинского порядка вещей, что на деле это вовсе не так, что некоторое число растений, по самым природным свойствам своим, было уже изначала пригодно для человека — не он приспособил их к своим нуждам, а они были уже предприлажены, предприспособлены к ним. Если бы этого не было, он остался бы на степени грубости и дикости, как и остается там, где этого действительно не было, напр. в Австралии, в южной Африке, в южнейшей оконечности Америки. Улучшения, которые он сообщил своими усилиями, т.е. культурой, этим уже по природе своей пригодным для него растениям, были в большинстве случаев ничтожны сравнительно с их коренной природной полезностью. в) Это, по-видимому, столь простое и остроумное объяснение представляет наглядное и поразительное доказательство того, как Дарвин позволял себе увлекаться фантазией, как легко принимал всякое более или менее остроумное сближение, если оно шло ему на руку, не подвергая критике впавшую ему на мысль счастливую идею, по-видимому, служащую подтверждением его гипотезе. Он был зорок и проницателен для одних фактов и слеп для других; я говорю слеп, потому что небольших соображений требовалось для того, чтобы усмотреть всю несостоятельность его объяснений, все противоречие его фактам общеизвестным, но на это время им забытым, упущенным из виду. Не очевидно ли после этого примера, что и ко всем объяснениям, выводам, доказательствам его должно всегда относиться с большой осторожностью и недоверчивостью? г) Наконец и вообще предмет этот очень важен при обсуждении Дарвинова учения, ибо если культура ни у животных, ни у растений не произвела изме54 нений, достигающих видовой ступени то ведь все здание теории лишается своего фундамента. И действительно, из всего подробного анализа размеров изменений, которым подверглись организмы в культуре, явствует, что как для самых изменчивых животных, так и для растений, изменения эти не достигают видового предела. Ни про одно из изменившихся животных или растений нельзя хотя бы с некоторой основательностью утверждать, чтобы оно вышло из границ своего вида. Если такому выводу противопоставят вечное возражение неопределенности видового понятия, мы в этот спор не вступим, ибо это будет спор о словах; а лучше придадим несколько иную форму нашему выводу и скажем: Ни одно из измененных культурой животных или растений не изменилось настолько, чтобы результаты этой изменчивости: разновидности, породы, перестали быть безгранично между собой плодовитыми. Но эта безграничная плодовитость между особями, принадлежащими к известной группе, и напротив этого бесплодие, или, по крайней мере, ограниченная плодовитость их с особями других групп и составляет самый существенный критерий вида, что признает и сам Дарвин, говоря: «Но когда мы выходим из пределов того же вида — свободному скрещиванию препятствует закон бесплодия». [*66] Следовательно, не взирая на все редкие более или менее сомнительные исключения, многим ли мы ошибемся, даже с точки зрения Дарвинизма, если скажем, что все культурные изменения не доходят до видового предала? Этим одним Дарвиново учение лишается уже всякой положительной основы. В самом деле, что могут сказать его приверженцы, придерживаясь методы положительного мышления? По-моему только: у прирученных животных и у возделанных растений произошли от таких-то и таких-то причин сравнительно небольшие изменения, которые мы должны считать разновидностями, так как они видового предела не достигают; следовательно, мы вправе приписать подобные же изменения, встречаемые в диких животных и растениях, тем же причинам. Совершенно вправе, и никто против этого не станет и спорить. Но вместо этого Дарвин и последователи его говорят: у домашних животных и возделанных растений произошли от известной причины или точнее от известной комбинации причин изменения сравнительно незначительные, ибо они никогда не достигают той степени, при которой уже начинается взаимное бесплодие, или ограниченная плодовитость; однако же, не смотря на это, мы все-таки считаем необходимым приписать подобной же комбинации причин все те неизмеримо великие различия, которые встречаются в организмах природы. Такое умозаключение не может конечно считаться согласным с законами строгой логики. Кто доказал большее, тот конечно тем самым доказал и меньшее, но кто доказал только меньшее, ни коим образом не доказал еще этим самым и большего. Нужны еще доводы в возможности, и даже необходимости такого распространения 55 выводов от меньшего на большее. Мы уже имели случай рассмотреть одни из этих доводов: о несравненно большем могуществе природы сравнительно с человеком, о праве переносить полученные выводы от домашних организмов к диким, и пр., о значении разновидностей в природе, и пришли к отрицательным заключениям. Другие доводы заключаются в том, что множество фактов из различных областей биологических знаний получают удовлетворительное объяснение теорией, что она удовлетворяет пытливости нашего ума, заставляющей нас доискиваться причин явлений устраняет таинственное; приводит необъяснимое разнообразие форм органического мира в одну категорию с явлениями ежедневно нами наблюдаемыми точно так, как это сделал Лейел относительно геологических переворотов. Но все эти доказательства, которые нам предстоит рассмотреть в последствии, принадлежат, так сказать, к разряду философских; а пока мы все-таки получили право утверждать, что строго фактических основ теория не имеет; что делаемое ею заключение от меньшего к большему произвольно с положительной точки зрения, т.е. на основании положительных фактов. Обыкновенно говорят: вот довольно значительные изменения, которые несомнительно произошли накоплением легких индивидуальных отличий посредством искусственого подбора; — если мы найдем нечто вполне аналогическое этому подбору в явлениях дикой природы, то какое основание остановиться на той или другой ступени этой лестницы изменений и не взойти до её вершины, или точнее не низойти и до самого её основания? Мы скоро обратимся к вопросу: справедливо ли по-видимому бесспорное утверждение, что культурные изменения произошли путем накопления подбором мелких индивидуальных отличий и что в природе есть фактор вполне аналогичный с подбором; но прежде посмотрим, неужели в самом деле нет причин остановиться на какой-либо из ступеней этой лестницы? Если бы вид существенно отличался от разновидности — а мы видели, что старания Дарвина поколебать существенность этого различия не достигают своей цели — то ступень, где должно остановиться, была бы найдена. Но и этого собственно не нужно. Для того чтобы остановиться в обобщениях — в распространении выводов от малого на большее — было бы достаточно, чтобы ступени лестницы не отстояли друг от друга на равные расстояния. Если часть лестницы занята весьма близко друг от друга отстоящими ступенями, а затем следуют большее промежутки, через которые должно перешагнуть, а после многих ступеней этого последнего расстояния, промежутки еще большие, через которые нужно уже делать громадные скачки, чтобы попасть на ближайшую (книзу или кверху) ступень, и так далее: — то каж56 дый из этих, все возрастающих и возрастающих, промежутков мог бы служить основанием для такой остановки. Что лестница так устроена — это свидетельствуется тем фактом, что вообще, и ученые, и неученые люди отличают в органическом мире разновидности, виды, роды, семейства, отряды, классы, типы, то есть отделы, каждый из которых и соответствует этим все большим и большим промежуткам отдельных групп ступеней к лестнице живых существ. Не будь таких неравномерных промежутков, не могло бы и составиться только что перечисленных систематических понятий. Исследования, расширившиеся на все страны земного шара и углубившиеся во все времена его существования, послужили только к утверждению означенного взгляда, как я сказал, в сущности общего и ученым и неучёным людям. Все так называемые соединительные звенья, которые удалось открыть частью между существами ныне населяющими землю, частью между существами прежде её населявшими, во-первых, составляют лишь бесконечно малую долю живущих и живших существ (см. Вышеприведенную цитату из путешествия академика Миддендорфа, стр. 247); а во-вторых послужили только к частным переменам в их группировке так что уединенно стоявшая форма — напр. отдел однокопытных состоящий ныне из одного рода — обогатился новыми родами; рамка его наполнилась, причем конечно явились и более разнообразные отношения к другим отрядам, — так называемые отношения сродства. Иногда переменялся состав групп, некоторые, почитавшиеся отдельными, соединились, другие к ним присоединяемые выделились, но самое систематическое понятие групп, видов, родов, семейств и проч. осталось незыблемым. Что из того, что доказали, что дикие формы составляют не два, а только один вид, что виды неправильно были сгруппированы в два или несколько родов, а их следует соединить в один, если понятие о виде и роде все-таки осталось, потому что оно обозначает собой нечто действительно существующее в природе, именно обозначает собой в лестнице существ промежутки различной величины, различного систематического расстояния? Следовательно, с точки зрения положительной, на факты опирающейся методы, должно бы представить, по крайней мере, хотя один пример прорыва видовой преграды домашними организмами, чтобы заключить из него об изменениях подобного же размера в организмах диких, не говоря уже об изменениях большого размера. Чтобы показать к каким ошибкам и ложным выводам могут повести подобные обобщения и распространения от малого на большее, приведу следующий гипотетический пример. Положим, что физик начинает делать наблюдения над качаниями маятника, что маятник заключен, для большей точности опытов в футляре, не дозволяющем ему делать больших размахов. Наш физик наблюдает скорость качания, отклонив маятник на 1/2 градуса от вертикального положения, затем увеличивает размахи его до 1°, 1 1/2°, 2° и 3°. Во всех этих случаях, число качаний будет одинаково в равные времена. Стенка футляра не допускает увеличивать угол отклонения; — да и зачем, ска57 жет он, разве повторенный опыт, при различных хотя и небольших углах отклонения, не достаточно выяснил закон изохронизма? Мы знаем однако же, что заключение нашего физика было бы ложно, что вынь он маятник из футляра и заставь его делать размахи в 5, 10, 20, 40 градусов, число качаний, в единицу времени, все бы уменьшалось, с увеличением угла отклонения от вертикали. Наши наблюдения над изменениями организмов заключены в весьма тесный футляр, из которого мы вынуть их не можем. Не сделаем ли и мы ошибки, подобной ошибке нашего воображаемого физика, заключив, из небольших отклонений от типа форм домашних животных и растений, о беспредельности таких изменений в природе Наш пример показывает только возможность такой ошибки — другие покажут не только возможность, но и вероятность её, и сверх того укажут и на вероятную причину ошибки. Представим себе, что законы движения планет нам совершенно неизвестны, но что наши орудия наблюдения: телескопы, дуги, разделенные на градусы, минуты и секунды, хронометры чрезвычайно усовершенствованы и точны; что с этими средствами мы начали делать наблюдения так сказать с близорукой точки зрения, очень точно, мелочно, но урывками и не в непрерывной последовательности. К каким заключениям пришли бы, в таком случае, астрономы? Планеты, как известно, движутся по эллипсисам, но эти эллипсисы, собственно говоря, суть только идеальные линии — типы орбит, которые в действительности только иногда пересекаются планетами. Чтобы наглядно изобразить их действительный путь, мы должны себе представить, что эти идеальные эллипсисы — как проволока — обвиты курчавыми шерстинками, прихотливые изгибы которых, то вступают внутрь эллипсиса проволоки, то выступают из него, то немного поднимаются над его плоскостью, то опускаются под нее. Наблюдая, по предположенному нами способу, астрономы только и могли бы заметить, что эти отклонения то в ту, то в другую сторону, и принуждены были бы сказать, что движения планет представляют хаос; что они то удаляются от солнца, то приближаются к нему самым прихотливым образом, что они движутся не в какой-либо определенной плоскости, а могут стоять то выше, то ниже (употребляю эти выражения для краткости), что посему, предполагая возможность долговременного следования одному из этих случайных направлений, — предположение, которому ничто не препятствует (ибо и Кеплеровы законы и система Коперника предполагаются неизвестными), они могут совершенно удалиться от солнца, или приблизиться к нему в разных направлениях, и или рассеяться в пространстве, или упасть на солнце. Мы знаем, что это не так, но почему? Потому, что с более дальнозоркой точки зрения, обнимающей цельное, общее, убедились, что все эти отклонения планет, известный под именем возмущений, суть не более как колеба58 ния около некоторого среднего положения, некоего идеального эллипсиса, от которого они удаляются в разных направлениях, но непременно опять к нему возвращаются. Для действительного планетного пути этот эллипсис служит следовательно типом, а прихотливые изгибы нашей курчавой шерстинки суть изменения — отклонения от типа. Возьмем другой пример, тоже астрономический. Bсе планеты имеют различные эксцентрицитеты и различный наклонения осей к плоскостям своих орбит. Эти особенности (в соединении с некоторыми другими) мы можем считать как бы их видовой характеристикой. Но с другой стороны, для каждой отдельной планеты эксцентрицитет меняется, так что напр., зависящая от него продолжительность зимнего и летнего полугодия на земле может изменяться на несколько дней; также меняется и наклонение оси, от которого зависят различия времен года, а как частный случаи — и безразличие их при перпендикулярности оси к плоскости эклиптики. Если и на эти явления мы станем смотреть с близорукой и урывчатой точки зрения, то также можем придти к заключениям, отрицающим всякую видовую характеристику планет (в этих отношениях), и сказать, что всякая планета может принять эксцентрицитет или наклонение оси свойственные в настоящее время другой планете, так что эти свойства планет могут переходить один в другие, что например и на земле могут уничтожиться различия во временах года, как на Юпитере, у которого экватор почти лежит в плоскости его орбиты. Но мы знаем, что и это не так, потому что все; изменения в условиях планет колеблются около некоторых средних идеальных положений — своих типов. Возьмем еще пример из круга явлений более нам близких. Еще до всякого научного наблюдения, мало-мальски наблюдательные люди заметили, что, как в различных местах земли, так в одном и том же месте в течение года или дня, изменения температуры главнейшим образом зависят от высоты солнца над горизонтом. Но прибегнем к предположению наших точных, но урывчатых наблюдений, не имеющих ввиду целого, общего. Мы найдем, что, например (я беру действительные, а не выдуманные цифры) на южном берегу Крыма, где я это пишу, в декабре 1876 года было 16° Реомюра в тени, а в июле; бывало в иные годы не более 8°. Случалось даже, что средняя месячная температура декабря была выше не только мартовской, но даже и апрельской; сентябрьская выше июньской, также точно ночью температура иногда бывает гораздо выше, чем около полудни, даже летом, не только зимой. Обращая внимание лишь на эти факты изменчивости, на эти уклонения, можно бы утверждать, что нет закономерности в распределении тепла в течение дня и года, что можно ожидать урожая плодов зимой и морозов — летом. Но имея ввиду не только наукой выведенное, но и житейским 59 опытом приобретенное знание закономерности распределения теплоты в течение года, мы должны признать приведенные факты за уклонения, за колебания (в этом примере очень значительные) около идеальной нормы. Эти примеры показывают, что не только вообще рискованны, ненадежны обобщения, делаемые от малого к большому; но что в данном случае, т.е. применительно к распространению выводов, полученных из наблюдения над сравнительно незначительными изменениями у домашних животных и возделываемых растений, на неизмеримо большие различия, существующие между организмами к природе, аналогия говорит в пользу того, что и тут имеем мы дело с колебаниями в разные стороны около известной нормы. Норма же эта есть понятие о постоянстве видов, полученное сначала обыкновенным житейским опытом, — понятие, впоследствии подтвержденное научными наблюдениями, проникающими во многих случаях не только на тысячелетия, но на сотни тысячелетий вглубь времен и еще ни в одном случае не опровергнутыми. Так представляется этот вопрос со строго положительной точки зрения. С точки зрения умозрительной, со стороны философского стремления к обобщению фактов, к устранению таинственного и непонятного, к подведению явлений самых необычайных к процессам, подлежащим вседневному наблюдению — дело принимает другой оборот и гипотеза, обещающая нам истолковать самые загадочные явления физического мира — происхождение разнообразных форм организмов из общеизвестных явлений, беспрестанно повторяющихся на наших глазах, из тех начал (хотя в сущности и непонятных), которые произвели многочисленные изменения в формах и свойствах организмов, подчиненных человеку, получает чрезвычайную привлекательность, заставляющую, до поры до времени, забыть её фактическую неудовлетворительность и недостаточность. Но эта снисходительность должна иметь свои пределы. Мы во всяком случае вправе требовать от теории, чтобы тот основный принцип, которым она думает объяснять явления, был ей верно оценен, чтобы по крайней мере в том малом круге фактов, из которого он извлечен, — принцип этот, т. е. подбор, был действительно главным действующим фактором. Из анализа наблюдений, сделанных над домашними животными и возделываемыми растениями, мы пришли к следующим выводам: 1) Что изменения эти, нигде не достигаю видового предала. 2) Что изменения разновидностной степени, которые только и можно признать в организмах подвластных человеку, всегда и всеми признавались за результат внешних влияний, каковы бы они впрочем ни были в своей сущности, и что сомнения в действительности и достаточности их собственно только и начинаются у видо60 вого предела. 3) Что распространение выводов от малого к большему, и, в особенности, от очень малого к очень большому вообще рискованны и неблагонадежны. 4) Что в природе вообще не замечается того отсутствия гибкости, которыми характеризуются механизмы, а напротив того почти всегда замечаются колебания около известной нормы, которая и составляет, идеальный тип явления, процесса, формы, от которого действительные, реальные явления, процессы, формы, непрерывно отклоняются на большее или меньшее расстояние и вновь к нему возвращаются. Что за такие нормы, за такие идеальные типы и должно быть признано, по всем строго положительным наблюдениям, то, что зоологи и ботаники называют видами. 5) Наконец, что следовательно изменения домашних животных и возделанных растений, не говоря уже о доказанной прежде неосновательности распространения наблюденных у них, фактов на организмы дикой природы, по самым размерам своим, не представляют достаточного оазиса для такого распространения. Теперь мы рассмотрим изменения домашних животных и возделываемых растений с другой стороны. Именно, постараемся определить те факторы, которым должно приписать эти изменения, независимо от того, велики ли они, или малы. ПРИМЕЧАНИЯ [*41] Alph. Decand. Origine des plantes cultivees, p. 297. [*42] Anah под 32° 22' с. шир. и 42° з. долг, от Гринвича. [*43] Regel el Herder Enumeratio plantarum in regionibus cis et transilensibus a cl. Semenovio anno 1857 collectarum. [*44] Теперь это pacтение возделывается в южной Европе, как кормовая трав, но в древности употреблялись его семена, как свидетельствуют раскопки на месте древней Трои. [*45] Поставленная здесь цифра 1 относится не к незрелым плодам, но к молодости всего растения при употреблении в пищу. [*46] Transactions of the Horticulturel Society III, p. 3. [*47] Я должен заметить, что эти предположения невозможны потому, что по словам Нейта, цитирующего Плиния, Lib. 17, cap. 14, он прививался к сливе. По трем, чертам, сообщаемым о тубере Плинием: его прививке к абрикосам, пушистости плода, как на айве, и времени цветения после абрикоса, всего вероятнее, что это был пушистый или черный абрикос Prunus dasycarpa Ehrh., который действительно и цветет в апреле, тогда как обыкновен61 ный цветет в марте. Качеством он хуже абрикоса, и потому неудивительно, что у Римлян не причислялся к лучшим плодам, а был только редкостью. [*48] Прир. живот. и возд. раст. I, стр. 357 и 358. [*49] Duhamel. Traite des arbres et arbustes. Nouv. edit. 1806. III. Appendice, p. 114. [*50] Transactions of The Horticult. Society. III, p. 2, где приложен и рисунок этих персиков. [*51] Прир. живот. и возд. раст. I, стр. 358. [*52] Transactions of the Horticull. Society. Ill, p. 1. [*53] Прир. живот. и возд. раст. I. стр. 358. [*54] Alph. Decand. Orig. des pl. cult., p. 181. [*55] Дарв. Прируч. живот. и возд. раст. I, стр. 338. [*56] Transaction of the Hortic.Society, t. III, p. 6, в описании присланных видов секретарем общества Иосифом Сабином. [*57] Прир. Живот. и возд. раст. 1. 358. [*58] Descaisne. Jardin fruitier du Museum. Т. VIII, p. 7 et 8. Cytisus Adami есть странное дерево, происшедшее от гибридации ракитника — золотой дождь (Cytisus Laburnum) и ракитника перпурного (С. purpuraea), которое дает то кисти цветов как бы смешанного колера (желтого с краснолиловым), то одни кисти желтые, как у золотого дождя, а другие пурпуровые, то иногда и все желтые. Тут природа обоих видов не могла слиться в одно, и каждый как бы особенным образом налагает свою печать на цветочные кисти дерева. Это и называется раздвоением — disjonction. [*59] Darw. Origin, of species. VI edit., p. 27. [*60] Дарв. Прир. живот. и возд. раст. I., стр. 322 и 323. [*61] Ibid., стр. 323 и 321. [*62] Diction, des sciences natur. en 60 vol. T. XL, статья Phormium. [*63] Spach. Hist. nat. des veget. phan. T. XII, p. 289. [*64] Decand, Orig. des pl. cult., p. 161. [*65] Spach. Hist. nat. des veg. phan. T. IV, p. 190—196. [*66] Дарв. Прируч. живот, и возд. раст. II, стр. 191. © Институт славянских исследований им. Н.Я.Данилевского. 62