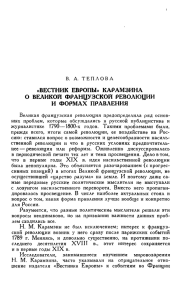Питер Вагнер - Prognosis.ru
advertisement
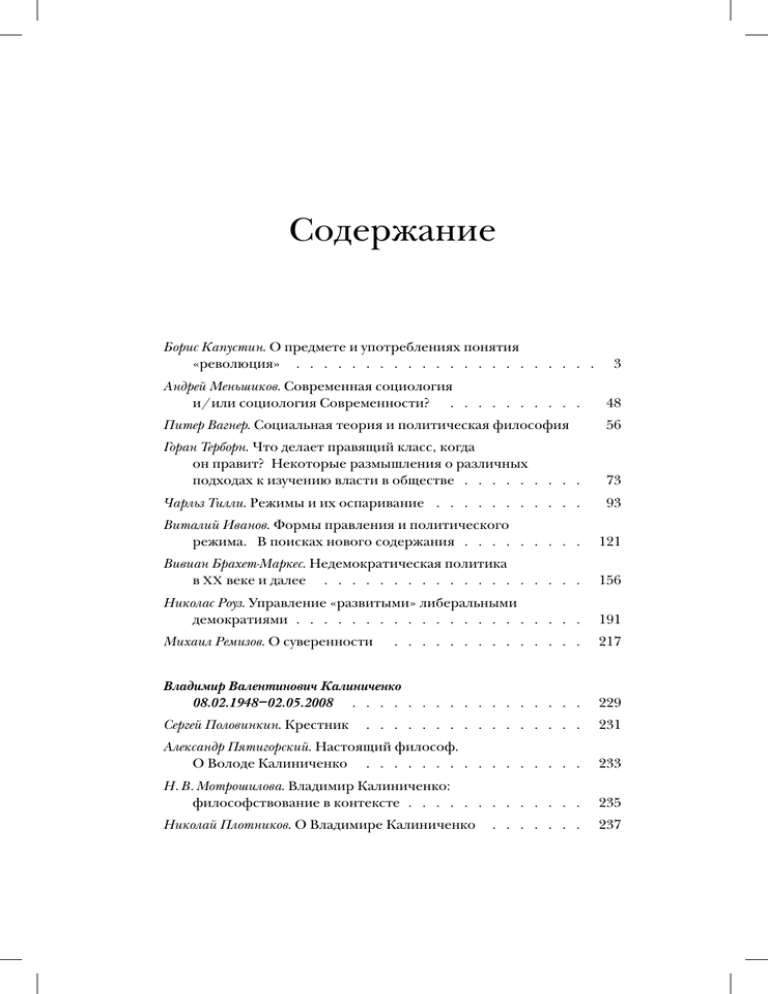
Содержание Борис Капустин. О предмете и употреблениях понятия «революция» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Андрей Меньшиков. Современная социология и/или социология Современности? . . . . . . . . . . 48 Питер Вагнер. Социальная теория и политическая философия 56 Горан Терборн. Что делает правящий класс, когда он правит? Некоторые размышления о различных подходах к изучению власти в обществе . . . . . . . . . 73 Чарльз Тилли. Режимы и их оспаривание . . . . . . . . . . . 93 Виталий Иванов. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания . . . . . . . . . 121 Вивиан Брахет-Маркес. Недемократическая политика в XX веке и далее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Николас Роуз. Управление «развитыми» либеральными демократиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Михаил Ремизов. О суверенности . . . . . . . . . . . . . . 217 Владимир Валентинович Калиниченко 08.02.1948 — 02.05.2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Сергей Половинкин. Крестник . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Александр Пятигорский. Настоящий философ. О Володе Калиниченко . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Н. В. Мотрошилова. Владимир Калиниченко: философствование в контексте . . . . . . . . . . . . . 235 Николай Плотников. О Владимире Калиниченко 237 . . . . . . . Л О ГО С #, философско-литературный журнал издается с г., выходит раз в год Главный редактор Валерий Анашвили Редакционная коллегия Виталий Куренной (научный редактор), Петр Куслий (ответственный секретарь), Александр Бикбов, Михаил Маяцкий, Николай Плотников, Артем Смирнов, Руслан Хестанов Научный совет А. Л. Погорельский (Москва), председатель С. Н. Зимовец (Москва), Л. Г. Ионин (Москва), †В. В. Калиниченко (Вятка), М. Маккинси (Детройт), Х. Мёкель (Берлин), В. И. Молчанов (Москва), Н. В. Мотрошилова (Москва), Н. С. Плотников (Бохум), Фр. Роди (Бохум), А. М. Руткевич (Москва), К. Хельд (Вупперталь) Adressed abroad: “Logos” Editorial Staff c/o Dr. Michail Maiatsky Section de Langues et Civilisations Slaves Université de Lausanne, Anthropole CH - 1015 Lausanne Switzerland michail.maiatsky@unil.ch “Logos” Editorial Staff c/o Dr. Nicolaj Plotnikov Institut für Philosophie Ruhr-Universität Bochum D - 44780 Bochum Germany nicolaj.plotnikov@rub.de Центр современной философии и социальных наук, Философский факультет МГУ Выпускающий редактор Елена Попова Художник Валерий Коршунов E-mail редакции: logos@orc. ru http: 6 www. ruthenia. ru / logos Отпечатано в ООО Типография «Момент» 141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 11 Тираж 1000 экз. Заказ № 0000 V KWX Q YZ [ \Q ] X^ О предмете и употреблениях понятия «революция» Моей Наташе Ц ель данного эссе — способствовать прояснению предмета понятия «революция». Это возможно только в контексте полемики, в котором это понятие существует. Непосредственным полемическим контекстом для настоящего эссе служит недавно опубликованный сборник «Концепт „революция“ в современном политическом дискурсе»¹. Я начну с «предварительных замечаний», в которых в тезисной форме обозначу собственную позицию по рассматриваемому вопросу. Далее — в полемике с авторами сборника и, разумеется, другими участниками современной теоретической дискуссии о «революции» — я попытаюсь обосновать изложенные в «предварительных замечаниях» тезисы, затрагивая следующие темы: «многозначность понятия революции», «революция и Современность (modernity)», «онтология непредсказуемости революций», «революция как политическое событие». Итогом работы, хотя скорее политическим, чем теоретическим, можно считать заключительную часть параграфа о «революции как событии». Предварительные замечания Под прояснением предмета понятия «революция» я не имею в виду достижение такого его определения, которое — вследствие его логического и концептуального совершенства — «окончательно» бы устранило разночтения «революции». Более того, я считаю сами попытки двигаться в этом направлении бесперспективными и неплодотворными. Аргументация в пользу такой точки зрения будет приведена ниже, а сейчас укажу на следующее. «Окончательное» определение революции возможно только в рамках и в качестве продукта универсальной теории рево¹ Концепт «революция» в современном политическом дискурсе / Под ред. Л. Е. Бляхера, Б. В. Межуева, А. В. Павлова. СП б.: Алетейя, . ЛKOKQ 6, 2008 3 люции, которая потому и может считаться универсальной, что схватывает некую неизменную сущность революции (своеобразно обнаруживающуюся в разных революционных явлениях). Такую сущность можно описывать по-разному: методами философии истории, («ортодоксального») исторического материализма, общей социологической теории революции или иначе, но универсалистская претензия на познание причинной обусловленности «эмпирических» явлений революции от этого не изменится. Я солидарен с теми, кто сомневается в целесообразности и даже возможности построения универсальной теории революции². Если, как я постараюсь показать ниже, революции есть особый вид историко-политической практики — с атрибутами «случайности», «свободной причинности» (в смысле прекращения или приостановки действия некоторых причинно-следственных детерминаций, определявших дореволюционный статус-кво), спонтанного появления дотоле неизвестных форм идентичности и субъектности коллективных акторов, то революции не могут мыслиться в качестве проявлений предпосланных им и как бы существующих «до» них и независимо от них сущностей. Они сами в своих конкретных проявлениях и есть свои «сущности». Это, с одной стороны, есть лишь парафраз ницшеанского возражения против философского «удвоения мира» (в данном случае — против «удвоения» революций на их сущность и проявления последней). Но, с другой стороны, это есть тезис против общей теории революции, ее претензий на способность объяснять и предвидеть революции, пусть и «в общих чертах», на уровне «закономерностей», а не конкретных деталей и точных дат³. Соответственно, это тезис направлен и против возможности «окончательного» определения понятия «революция». Если тезис верен, то мы останемся с понятиями (во множественном числе!) революций как продуктов теорий конкретных событий, находящихся в компетенции исторической политической социологии⁴, а отнюдь не спекулятивной «мета² ³ ⁴ Объяснение таких сомнений, впрочем, весьма отличное от того, которое далее дам я, см. Skocpol T. (with M. Somers), «The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry», in Social Revolutions in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, . P. . Объяснение и предвидение являются сторонами одного и того же спекулятивнотеоретического синдрома, и они невозможны одно без другого. Ведь объяснение, исходящее из метасобытийной сущности или закономерности, есть и предсказание того, как эта сущность или закономерность будут, или не будут, проявлять себя в других событиях в будущем. Гегелевская философская сова Минервы, разумеется, вылетает только в сумерки, но то, как она апостериорно и сущностно объяснила Французскую революцию, стало в то же время предсказанием «конца истории» и невозможности подобных событий в будущем. В духе того ее варианта, который сформировался в американской исторической социологии и который называется «социологией событий». Репрезентативные примеры такого подхода см. Abrams P. Historical Sociology. Ithaca (NY ): Cornell University Press, , особенно с. – ; Sahlins M. «The Return of the Event, 4 Борис Капустин исторической» теории того или иного вида. Но, как мы увидим дальше, и этим плюрализм «концептов революции» не ограничивается. Что же тогда остается на долю «общего» понятия «революция» и как тогда можно прояснить его предмет? Отказывая общему понятию «революция» в способности схватить «сущность» революции (толкуют ли ее как некие «обязательные» следствия революции, ее «характерные» движущие силы, «типичные» методы — вроде «революционного насилия» — или иначе), мы все же можем признать, что оно в состоянии фиксировать некие общие условия, благодаря которым происходят события, именуемые революциями. Эти условия не предопределяют то, что и как в революциях происходит. Но они устанавливают их практическую возможность и, соответственно, их теоретическую мыслимость⁵. Я полагаю, есть три таких важнейших условия. Первое — общий контекст современности, понимаемой, разумеется, не в смысле «происходящего в настоящее время», а в качестве культурной и политико-экономической динамики, в которой находится наш мир где-то с XVII – XVIII веков и которая в свою очередь «запущена» возникшими примерно тогда же и не поддающимися «окончательным» решениям проблемами⁶. Второе условие — событийный характер революций, имея в виду под «событием» не просто любое случающееся нечто, а именно определенную форму протекания исторических практик с присущими ей разрывами эволюционного континуума, приемами «денатурализации» того, что Пьер Бурдье называл «doxa», и соответствующих структур подчинения⁷, ролью в них «свободной причинности» и т. д. Тре- ⁵ ⁶ ⁷ Again», in Clio in Oceania: Toward a Historical Anthropology. Washington, DC : Smithsonian Institution Press, ; Abbot A. «From Causes to Events», Sociological Methods and Research. . Vol. . No ; Griffin L. «Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology», in Sociological Methods and Research. . Vol. . No. ; Sewell W. H., Jr. «Historical Events as Transformations of Structures», in Theory and Society. . Vol. . No. и др. Практическая возможность и теоретическая мыслимость необходимо взаимосвязаны. Роберт Дарнтон показывает то, как наш политический словарь возникает из усилий революционных практик осмыслить себя. «Вначале был опыт, затем — концепт», — резюмирует Дарнтон свое рассуждение. См. Darnton R. «What Was Revolutionary about the French Revolution?» in The French Revolution in Social and Political Perspectives, ed. P. Jones. L.: Arnold, . P. . Более подробно о таком понимании современности я писал в другой работе. См. Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН , . C. – . Под этим имеется в виду «подъем более-менее значительной части доксы до уровня эксплицитных высказываний», что открывает возможность теоретического и практического оспаривания дотоле принимавшихся за самоочевидное элементов «картины мира» и легитимируемых ими (опять же — в качестве «естественных», т. е. безальтернативных) структур господства. «Денатурализация» доксы, согласно Бурдье, является важнейшим условием и аспектом политической борьбы. См. Bourdieu P. Pascalian Meditations, tr. R. Nice. Stanford (CA ): Stanford University Press, . Pp. ff. ЛKOKQ 6, 2008 5 тье условие — способность коллективных акторов выступать в качестве политических субъектов. При этом под «субъектом» мы будем подразумевать обусловленную историческими обстоятельствами и определенным образом организованную силу, способную своей деятельной волей менять (до некоторой степени) сами обстоятельства своего образования, а не излюбленную мишень деконструктивистской критики — фантастического «философского (или „метафизического“) субъекта»⁸. С учетом этих трех условий революции мы можем дать общее ее определение: революция есть современное событие, определяемое возникновением и (последующим) исчезновением политической субъектности. Данное определение является в содержательном отношении бедным и абстрактным. Оно может иметь только служебную роль — давать исходную ориентацию теоретическим исследованиям конкретных революционных практик. Оправданность его зависит от того, насколько такая ориентация способна содействовать плодотворности подобных исследований. Логико-теоретическая состоятельность и надежность предложенного определения должны постоянно проверяться посредством его полемического «трения» о другие определения революции, возникшие в иных концептуальных форматах. Именно так, а не через наивное его сопоставление с «реальными фактами», может производиться его корректировка. По этой причине для настоящего эссе важен сборник «Концепт „революция“…». Конечно, он не содержит всю карту современного дискурса о «революции». Однако он представляет богатую палитру взглядов на понятие «революция». Более того, он содержит размышления о революции на уровнях и ее общей теории, и концепций конкретных революционных практик (Французской революции, европейской «весны народов» года, русских революций – и годов, недавних «цветных» революций и т. д.). Это делает его для нас вдвойне полемически интересным. О блуждании метафоры «революция» (вместо рецензии) Написание рецензии на сборник «Концепт „революция“…» не входит в задачи данного эссе. Но уклониться от оценки этой книги, учитывая ее значение в качестве полемического контекста для моей работы, было бы неправильно. Выход данного сборника, как бы ни относиться к его недостаткам, ⁸ Логика проводимого мной противопоставления «исторического субъекта» и «философского субъекта» близка к той, которой следует Винсен Декомб, обосновывая противоположность «suppositum» (субъекта действия) и картезианско-кантовскофихтеанского «субъекта философии субъекта» и показывая политическую иррелевантность деконструктивистских борений с последним. См. Descombes V . «A propos of the „Critique of the Subject“ and of the Critique of this Critique», in Who Comes after the Subject? Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, . 6 Борис Капустин можно только приветствовать по двум главным, с моей точки зрения, причинам. Первая: он — крайне редкое в нашей литературе явление многоаспектного и полифонического представления тех ключевых категорий политического мышления, которые Рейнхарт Козеллек относил к «основным историческим понятиям», имея в виду их роль в самои миропонимании современного человека. Из отечественных публикаций двух последних десятилетий мне трудно припомнить что-то, сопоставимое в этом плане с «Концептом „революция“…»⁹. Отметим для себя, что этот сборник преследует цель, как ее четко формулируют его составители, «сделать предметом исследования не столько само понятие [революции], сколько специфику его бытия в рамках политического дискурса»¹⁰. Это — важная формулировка, к которой мы еще вернемся. Вторая причина заключается в том, что «Концепт „революция“…», наряду с другими знаковыми публикациями последнего времени¹¹, как хотелось бы надеяться, знаменует начало сдвига российского политического мышления от бесконечно затасканной и несущей печать либерального конформизма тематики «демократических транзитов» и «переходов к рынку» к такой радикальной и в то же время классической проблематике политической теории, как «революция». От этого сдвига, если он в самом деле происходит¹², еще огромная дистанция до осмысления революции как альтернативы тому миру, в котором «демократические транзиты» и «переходы к рынку» выступают — и то только на периферии североатлантической зоны! — максимально радикальными формами политических изменений. Однако правда, что само использование понятия «революция» неизбежно имеет «политически провокативный характер»¹³. И это уже лучше, чем использование понятий, имеющих характер политических транквилизаторов. ⁹ Исключение составляет разве что известный сборник «Теория и практика демократии. Избранные тексты». Под ред. В. Л. Иноземцева и Б. Г. Капустина. М.: Ладомир, . Но этот сборник — продукт американских ученых. ¹⁰ Бляхер Л., А. Павлов. Концепт «революция»: mobilis in mobile 6 Концепт «революция»... С. . ¹¹ Среди них стоит выделить — Магун А. Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта. СП б.: изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, , тематические блоки статей о революции российских и зарубежных авторов в журналах «Логос» (. № ) и «Прогнозис» (. № ), а также вышедшую несколько раньше книгу Мау В., И. Стародубровская. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, . ¹² Мне не ведомо, на чем основывается утверждение Бляхера о том, что «революция» является одним из «наиболее активно используемых понятий, оттеснившим даже базовый для постсоветской политики концепт демократии» (Бляхер Л. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала 6 Концепт «революция»... С. ). Я согласен с Данном, что современное понятие революции по-прежнему находится «в жалком положении» (см. Дан (так в сборнике, обычная русская транскрипция фамилии — «Данн») Д. Революция 6 Концепт «революция»... С. ). ¹³ Дан Д. Указ. соч. С. . ЛKOKQ 6, 2008 7 Однако в сборнике многое огорчает, причем безотносительно оценке его теоретического содержания. Он сделан неряшливо. Некоторые переводы явно нуждаются в хорошей литературной правке. В отдельных случаях они дезориентируют. «Subaltern», к примеру, нельзя переводить как «особые» — из-за этого «восстания угнетенных (или подчиненных)» оказываются какими-то «особыми восстаниями». «Selfnegating» имеет в русском языке эквиваленты в виде производных от «самоотрицания», что совсем не равнозначно «самоотносящемуся»¹⁴. Курьезом редакторской работы выглядит содержащаяся в одном из примечаний отсылка к будто бы включенной в данный сборник статье (F. Moshiri, «Revolutionary Conflict Theory»), которая в нем отсутствует. С этим соперничает вопросительный знак вместо номера того тома полного собрания сочинений В. Ленина, в котором можно найти его произведение «Детская болезнь левизны в коммунизме»¹⁵. Увы, подобные примеры я мог бы продолжить. Неряшлива, по-моему, и общая структура сборника. В два первых его раздела статьи сгруппированы по признаку их принадлежности двум основным полям современного дискурса о «революции» — политической философии и политической науки. Но два следующих раздела сфокусированы на определенных версиях «революционной теории» — «глобальной демократии» и «консервативной революции». Почему составители отдали предпочтение именно этим версиям, а не иным (скажем, национально-освободительным революциям или так называемым революциям сверху¹⁶), остается загадкой. Но, в любом случае, единый принцип построения разделов оказывается сломан. Последний же раздел «Мейнстрим: от якобинства к большевизму» лишен какого-либо организующего принципа. В него включены статьи (Ганса Кона, Юлии Ерохиной), в которых ни якобинство, ни большевизм даже не фигурируют. Трудно понять, почему интеллектуально заурядное и пришедшее к нам из -х годов прошлого века эссе Сидни Хука представляет марксистскую революционную традицию и — еще удивительнее! — современный политический дискурс, которому, как говорит название сборника, он должен быть посвящен целиком и полностью. Однако вернемся к уже упомянутой главной цели сборника, которая заключается в освещении «специфики бытования» концепта «революция» в современном политическом дискурсе¹⁷. Зачем читателю, интересующемуся политикой революции, нужно знать эту «специфику быто¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ См. Концепт «революция»... С. , . См. там же. С. , . Об «элитных революциях» см. классическую работу Э. Тримбергер — Trimberger E. K. «A Theory of Elite Revolutions», in Studies in Comparative International Development. . Vol. . No. . А. Павлов — применительно к собственной статье — еще более отчетливо формулирует эту цель: «не дать дефиницию концепту „революции“, а рассмотреть те основные точки системы координат философско-политического дискурса XIX столетия, 8 Борис Капустин вания» концепта? Ради коллекционирования мнений о нем разных мыслителей? Возможно, это неплохо для досуга, но к изучению революционных практик отношения не имеет. Да и что могут дать для такого изучения заведомо неадекватные мнения «слащавых иллюзионистов» и «горьких мистификаторов», т. е. левых и правых участников «революционного дискурса»? А других персонажей в нем нет! Это — суждение Питирима Сорокина, с которым, надо думать, солидарен А. Павлов (ни намека на возражение Сорокину в его тексте нет)¹⁸. Или читателю не следует принимать и Сорокина всерьез, а просто включить это суждение в качестве очередного экспоната в создаваемую коллекцию? А чем для познания революций полезен концепт «революция» в качестве неопределенно используемой метафоры, блуждающей из одного «семантического гнезда» в другое, даже если при таких перемещениях она сохраняет память о посещенных ею ранее «гнездах», как представляет «революцию» Л. Бляхер? Только тем, чтобы через аналогию с собственной «спецификой бытования» намекнуть на карнавальный характер всех революций¹⁹? Но даже признавая наличие карнавального элемента в революциях, неясно, чем помогает нам бляхеровская аналогия объяснить то, в чем заключается его связь (и какого именно она рода?) с их победами или поражениями, с их исторической плодотворностью или бесплодием? Да и как нам при помощи «блуждающей метафоры» отличить собственно революционные карнавалы от тех, благодаря которым власть, по выражению Ж. Баландье, «позволяет ритуально оспаривать себя с тем, чтобы более эффективно себя консолидировать»²⁰? Этот второй вариант по сути контрреволюционного карнавала, в основе которого лежит «превращение в товар даже недовольства [существующими порядками]» и описан столь ярко в концепции «общества зрелища» Ги Дебора²¹. Парадоксальность рассуждений, которые ведут Бляхер и Павлов, заключается в том, что при всей их, казалось бы, безграничной дискурсивной гибкости в обращении с концептом «революция» они опираются на наивный догматизм. В самом деле, коллекционирование мнений, различных до такой степени, что «революция» в качестве их общего предмета становится не идентифицируемой, предполагает обладание самим коллекционером знанием о «сущности» революции, превосходя- ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ в котором этот концепт стал главной темой обсуждения» (Павлов А. «Понятие» революции в политической философии – гг. 6 Концепт «революция»... С. ). См. Павлов А. Указ. соч. С. . См. Бляхер Л. Революция как «блуждающая метафора»: семантика и прагматика революционного карнавала 6 Концепт «революция»... С. , . Balandier G. Political Anthropology, tr. A. Sheridan Smith. NY : Random House, . P. . См. Debord G. The Society of the Spectacle. Detroit: Black & Red, . Para. . Автор приносит читателям извинения за то, что вынужден ссылаться на иноязычные издания текстов, имеющихся в русских переводах. Последние в период написания данного эссе были ему недоступны. ЛKOKQ 6, 2008 9 щим все эти мнения. Иначе у него не будет критерия отбора подходящих для его коллекции мнений. Равным образом протейность «блуждающей метафоры» революции предполагает наличие фиксированной позиции, с которой все метаморфозы этой метафоры могут быть опознаны в качестве именно ее метаморфоз. Но такое «сущностное» знание и такая фиксированная позиция не могут принадлежать самому дискурсу о «революции», который и есть стихия мнений о ней и ее метаморфоз. Принадлежность к такой стихии обесценило бы «сущностное» знание и фиксированную позицию, превратив их в «еще одно» мнение о «революции» и «еще одну» ее метаморфозу. Откуда же тогда взять это «сущностное» знание и эту фиксированную позицию? Только из подлинно авторитетных источников. И оба наших автора находят такие источники… в популярных словарях — Историкоэтимологическом словаре современного русского языка, Словаре русского языка С. И. Ожегова и Философско-энциклопедическом словаре года²². Такое понимание авторитетов и такое отношение к ним я и назвал наивным догматизмом. Дело даже не в теоретическом качестве дефиниций революции, которые дают эти популярные издания. Важнее нерефлексивное принятие этих определений и их устранение из полемического контекста «дискурса о революции», в котором только и существуют и обладают смыслом любые определения «революции». Однако рассуждения Бляхера и Павлова обозначают, пусть не эксплицируя ее, очень важную проблему познания революций. Это — проблема неустранимой протейности, точнее — поливалентности, понятия «революция», обусловленной его синхронным и диахронным присутствием в разных полях и пластах культуры, в каждом из которых оно живет по присущим данному полю или пласту «законам». Вместе с тем эти разные жизни понятия «интерферируют» и неким образом переливаются друг в друга. Такая поливалентность характерна для всех «основных исторических понятий» Козеллека — никакой уникальностью концепт «революция» в этом плане не обладает. Но без учета такой поливалентности мы не поймем, почему все усилия дать «единственно правильное» определение революции оказались неудачными²³. В самом деле, «революция» существует и как продукт (и орудие) воображения определенных эпох и социальных групп, и как идеологический троп и даже политическое клише (в партийных программах, агитации и пропаганде и т. д.), и как собственно «понятие», т. е. как инструмент исследовательской академической работы²⁴. Невозмож²² См. Концепт «революция»... С. – , . ²³ В отношении понятия «демократия» ²⁴ это убедительно показывает Джон Данн. См. Dunn J. «Capitalist Democracy: Elective Affinity or Beguiling Illusion», Daedalus. . Vol. . No. . P. . Я заимствую логику и понятийный аппарат описания поливалентности «революции» из отличной работы двух американских антропологов, посвященной понятию «гражданское общество». См. Comaroff J. L. and J. «Introduction», in Civil 10 Борис Капустин ность «окончательного» определения «революции» обусловлена в первую очередь тем, что ее бытие в качестве аналитического инструмента никак не может быть полностью изолировано от ее же бытия в качестве продукта и орудия культурного воображения и политико-идеологического тропа²⁵ — хотя бы вследствие того, что любой мыслитель всегда неким образом позиционирован в конкретном культурном и политическом контексте и зависим от него. Такую зависимость исследования «революции» от конкретных историко-политических контекстов Франсуа Фюре элегантно передал противопоставлением изучения эпохи Меровингов и осмысления Французской революции. Первое тоже не свободно от дискуссий, но они сейчас не имеют маркеров «идеологических позиций» и не переливаются в вопросы о «легитимности» как существующих общественных институтов, так и самой исторической науки. Изучению же революции — независимо от желаний и убеждений самих историков — «само собой разумеющимся образом» приписываются легитимирующая и делегитимирующая функции. Но в период самой Французской революции именно исследование эпохи Меровингов выполняло те самые легитимирующие / делегитимирующие функции, которыми ныне наделено изучение этой революции: в культурном воображении той эпохи она приобрела значение освобождения «простолюдинов», ассоциируемых с галло-римлянами, от аристократов как потомков франкских завоевателей²⁶. Так меняющиеся поля культурного воображения и идеологических практик влияют на то, что происходит на поле академической жизни. Но между этими полями, конечно же, есть и обратная связь. «Блуждание» метафоры «революция» по «семантическим гнездам» не так произвольно, как оно выглядит у Бляхера. Можно и нужно прослеживать то, как именно определенный теоретический концепт «революции» связан с его бытованием на соответствующих полях культурного воображения и идеологии²⁷, и такие цепочки связей явят нам не размывание семантики «концепта», а, напротив, ее сгущение и кристаллизацию. Другое дело, что в каждую эпоху современного мира, в каждом его ²⁵ ²⁶ ²⁷ Society and the Political Imagination in Africa: Critical Perspectives, ed. J. L. and J. Comaroff. Chicago: The University of Chicago Press, . Pp. – . То же самое можно было бы объяснить и иначе, скажем, показывая — в духе Майкла Полани — то, как связаны «подразумеваемое» знание (tacit knowledge) с эксплицитным знанием. В логике нашего рассуждения первое можно связать с бытованием «революции» в широкой культуре, а второе — с ее артикуляцией в академической жизни. Классическое освещение различий и связи «подразумеваемого» и эксплицитного знания см. Polanyi M. Tacit Dimension. NY : Anchor Books, . См. Furet F. «The French Revolution Is Over», in The French Revolution in Social and Political Perspectives. Pp. – . Логика исследования связей такого рода неплохо разработана применительно к понятию «Просвещение». О взаимозависимостях между так называемыми «высоким» и «низким Просвещением» см. Porter R. The Enlightenment. Basingstoke (UK ): Macmillan, . P. ff. ЛKOKQ 6, 2008 11 отдельном историко-политическом контексте мы обнаружим несколько таких цепочек, и их совокупным эффектом, действительно, окажется невозможность «окончательного» и «общепринятого» определения революции. Если же окидывать получающийся в результате этого «революционный дискурс» взглядом сверху, с той внешней по отношению к нему позиции, занять которую призывает политологов Бляхер²⁸, то этот дискурс предстанет всего лишь коллекцией разных мнений о революции или грядкой «семантических гнезд». Однако во многих других статьях сборника содержатся достаточно строгие и концептуально развернутые, хотя противоположные друг другу, определения «революции». С ними я и буду сопоставлять мое определение предмета понятия «революция», приведенное в «предварительных замечаниях». Революция и Современность Политически актуальный поворот темы «революция и Современность» задается вопросом «возможны ли революции в наше время и в будущем?». Более общее теоретическое выражение этого вопроса таково — «является ли революция атрибутом Современности или только ее прологом, тем, что ввело ее в историю?». В историческом плане эта тема ставит вопрос «были ли революции до Современности или они — уникально современные явления?». Начнем с последнего из них. Вопрос о «досовременных революциях» теоретически наиболее проработан в отношении классической античности, применительно к так называемым «афинским демократическим революциям» и «римской революции» (в период от братьев Гракхов до Юлия Цезаря). Аргументы оппонентов в этом споре известны. С точки зрения М. Финли, перенос понятия «революция» на античность ведет к такой его «универсализации», которая делает его бессодержательным и эвристически бесплодным. Водораздел между современными революции и теми явлениями, которые именуют античными «революциями», обусловлен следующими обстоятельствами. Последние «вписаны» в циклическую схему культурно-исторического времени, из которой они не могли выйти, тогда как современные революции определяются открытостью творимому ими будущему. Разный характер культурно-исторического времени, которому принадлежат и которое создают современные и «досовременные революции», — первое различие между ними. Второе состоит в том, что «досовременные революции» не приводили к глубоким изменениям социальных отношений, смене форм собственности и т. п., хотя результатом их бывала перестройка «политической конституции». Наконец, античные «революции» не выводили на арену борьбы и тем более — не приводили к власти новые социальные силы, ²⁸ См. Бляхер. Л. Указ. соч. C. . 12 Борис Капустин создаваемые самой революцией из «социального материала» старого порядка. Политическая борьба в Риме и Афинах — это раунды схватки между одними и теми же соперниками (патрициями и плебеями, олигархами и демосом), хотя их организация могла меняться с ходом истории²⁹. Аргументы оппонентов Финли (включая его предшественников, которым он возражал) в логическом отношении однотипны, но содержательно они существенно различаются³⁰. Они строятся на демонстрации тех или иных сходств, полагаемых решающими, между «античными революциями» и революциями современными и на показе соответствия тех или иных современных концепций революции политическим явлениям античности, «революционность» которых тот или иной автор стремится доказать³¹. В спорах об «античной революции» мы наблюдаем те же явления, которые применительно к современному дискурсу о революции Бляхер и Павлов описывают в терминах «семантической неопределенности» концепта «революция» и «блуждания» «революционной метафоры». Но на первый план выходит нечто новое: трудность и спорность идентификации исторических явлений в качестве революции. То, что для одних выглядит бесспорной и эпохальной революцией, для других не представляется революцией, либо оказывается революцией с «противоположным знаком» (скажем, «эфиальтова революция» может трактоваться и как «радикально демократическая», и как «консервативная», не говоря о том, что и в первом, и во втором качестве она может оцениваться противоположным образом). Вывод, вытекающий из трудности и спорности опознавания неких явлений в качестве «революции», заключается в том, что революция не есть «абсолютное событие», как его понимает А. Филиппов. Последнее определяется им в качестве такого события, относительно которо²⁹ ³⁰ ³¹ См. Finley M. I . «Revolution in Antiquity», in Revolution in History, ed. R. Porter and M. Teich. Cambridge: Cambridge University Press, , особенно с. – , , – . См. статью Робина Осборна, содержащую обзор и критический анализ концепций «античной революции» в англофонской литературе. См. Osborne R. «When Was the Athenian Revolution?» in Rethinking Revolutions Through Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press, . В известном смысле Финли идет тем же путем: он открыто признает зависимость своей трактовки «революции» от Маркса. Вследствие такой трактовки этого понятия он и не находит ему соответствия в античном мире. См. Finley M. I . Op. cit. P. . Разные трактовки того, какие именно черты «античных революций» считать решающими и сближающими их с современными революциями, неизбежно ведут к тому, что различные явления античной политической истории квалифицируются в качестве «революционных». Разные версии «античной революции» см. Grote G. History of Greece. Vol. . L.: J. Murray, . Pp. , , ; Walker E. M. «The Periclean Democracy», in Cambridge Ancient History. Vol. , ed. J. B. Bury et al. Cambridge: University Press, . Pp. ff; Forrest W. G. The Emergence of Greek Democracy. L.: Weidenfeld and Nicolson, . Pp. – , ; Davies J. K. Democracy and Classical Greece. Cambridge (MA ): Harvard University Press, . Pp. – и др. ЛKOKQ 6, 2008 13 го у «данного сообщества наблюдателей» «есть уверенность не только по поводу его завершения, но и по поводу его начала». «Абсолютное событие» выступает таковым «в силу квалификации объекта, имплицирующей событие», поскольку иначе сами эти квалификации теряют смысл в сообществе наблюдателей (именно это характерно для «учредительных событий», т. е. революций, в первую очередь) ³². Иными словами, идентификация «абсолютного события» «в наименьшей степени зависит от произвола наблюдателя»³³. В случае с «античной революцией» мы видим, что в сообществе профессиональных «наблюдателей» нет ни малейших признаков единодушия в отношении «абсолютных событий»³⁴. Но от этого «революция» как квалификация событий не теряет смысл — он только множится. И это происходит потому, что «революция» есть именно относительное, а не абсолютное событие. Она есть культурный конструкт, и весь вопрос в том, отношением к чему обусловливается его относительность — к произволу наблюдателей, провозгласивших себя «экспертами», или к чему-то исторически и политически гораздо более значительному. Это «более значительное» — устойчивые историко-культурные традиции, либеральные, консервативные, марксистские, анархистские и т. д., в рамках которых, при помощи которых и против которых мыслят «античную революцию» ее сторонники и противники³⁵. Вне спора таких традиций вопрос об «античной революции» не был бы, по Брехту, «убедительным вопросом». И «убедительным» его делает борьба этих традиций, в условиях которой «власть над вопросом» (как он формулируется и решается) есть составляющая и проявление актуальной или потенциальной власти над конкурирующими традициями. Борьба за «символическую власть» есть то, что релятивизирует концепт «революции». ³² ³³ ³⁴ ³⁵ Филиппов А. К теории социальных событий 6 Логос. . № . C. . Филиппов А. Триггеры абсолютных событий 6 Логос. . № . C. . Перефразируя Филиппова, наблюдатели именно не «видят одно и то же» в наблюдаемом явлении (см. указ. соч. с. ), результатом чего выступает бесконечный спор, конституирующий, между прочим, само сообщество наблюдателей в качестве профессиональной академической корпорации. Единодушие сделало бы такое сообщество невозможным, а с точки зрения общества, финансирующего его, — излишним. Рассуждение Д. Обера о «примере Французской революции», выступающем «основным внешним „дополнением“» объяснения «античной революции», есть не наивный анахронизм его подхода или предосудительная «модернизация» классического материала, а честная экспликация того необходимого методологического хода, который вынуждена делать — скрыто или явно — любая версия «античной революции» (используемыми «примерами» могут быть и другие современные революции). То, что берет во Французской революции Обер и что это «высвечивает» в «революции Клисфена», которой он занимается, обусловлено современной радикальнодемократической традицией, ориентирующейся на спонтанные протестные действия низов, самоконституирующихся в качестве «политического субъекта». См. Ober J. «The Athenian Revolution of / B. C.: Violence, Authority, and the Origins of Democracy», in The Athenian Revolution: Essays on Ancient Greek Democracy and Political Theory. Princeton (NJ ): Princeton University Press, . Pp. , – . 14 Борис Капустин Традиции, о которых мы ведем тут речь, не следует сводить к сугубо интеллектуальным традициям, существующим в академическом мире. Традиции, о которых говорим мы, есть сторона и элемент более широких культурно-политических практик, которые соотносят себя с явлениями, именуемыми «античными революциями», и таким образом включают их в себя. Это — то, что Вальтер Беньямин называл установлением констелляций «нашего» времени с определенным прошлым, в которых явления прошлого теряют личину застывших неизменных «фактов» и начинают жить в событиях и посредством событий, которые могут быть удалены от них на тысячелетия³⁶. Это уже не чисто познавательное отношение к явлениям прошлого, и спор идет не о том, «какими они, в самом деле, были» (в чем видел суть исторического ремесла Ранке). Это — деятельно-практическое отношение к прошлому, в котором из него черпают те или иные символические ресурсы, коды поведения и мысли, схемы мировосприятия, включаемые в практики настоящего. То, в каком виде явление прошлого живет в настоящем, и есть его «настоящая» и единственная действительность, над которой произвол «наблюдателей» не имеет власти. Но они могут наблюдать разные способы включения прошлого в настоящее, вернее, его включение в разные практики настоящего, и это-то будет отражаться в либеральных, консервативных, марксистских и т. д. версиях «античной революции», равно как и в отрицании того, что она вообще имела место. Мы приходим к выводу, который не парадоксален, но выразить который, увы, я способен лишь в форме парадокса: «античные революции» «были», поскольку они есть в настоящем, в их включенности в определенные современные практики, и их, конечно, не было бы, не будь современных революций, которые эти практики «запустили». Вопрос об «античных революциях», о том, были они или нет, есть в сущности своей вопрос о том, «революционна» или нет современность. И что представляет собой эта «революционность», если она есть. Это и побуждает перейти ко второму поставленному в начале данного параграфа вопросу. В рамках литературы, которую с идеологической точки зрения можно назвать «центристской» (подчеркивая ее отличие от лево- и праворадикальной), Современность предстает принципиально нереволюционным явлением. Революции — это события, которые расчищают путь модернизации, делают ее политически возможной. Сама же модернизация, понимаемая прежде всего как формирование демократических политических и рыночных капиталистических структур, т. е. как развитие современного общества, протекает в мирных, нереволюционных формах³⁷. ³⁶ ³⁷ См. Benjamin W. «Theses on the Philosophy of History» (A, а также VI и XVI ), in Illuminations, ed. H. Arendt. NY : Schocken Books, . Pp. , – . Классическую формулировку таких представлений дал Бэррингтон Мур: «В западных демократических странах революционное насилие (а также другие его формы) были частью целого исторического процесса, который сделал возможным ЛKOKQ 6, 2008 15 В наше время революции, конечно, возможны. Но они происходят именно в отставших, несовременных странах и выполняют ту же функцию, которая была присуща великим революциям, введшим в историю западную Современность, — открыть путь модернизации³⁸. Однако в такой трактовке связи революции и Современности кроется противоречие. Как бы не понималась Современность более конкретно (различия в таком понимании и образуют то, что Хабермас называет «философским дискурсом Современности»), она неизменно отождествляется с качественно уникальной динамикой, не знающей и не признающей раз и навсегда положенных ей структурных или нравственных пределов. Поэтому, если говорить об этосе Современности, он определяется бесконечной самокритикой, самообоснованием и самосозиданием, причем под «критикой», как подчеркивал Фуко, в данном случае следует понимать не (кантовскую) рефлексию над необходимыми ограничениями, а «практическую критику в форме возможности [их] преодоления»³⁹. Не важно, описывается ли такая динамика в виде веберовской инструментальной или хабермасовской инструментальной и нормативной рационализации мира, шумпетеровского «созидательного ³⁸ ³⁹ последующие мирные изменения». Логика модернизации (в характерном стиле -х годов) распространяется им и на тогдашние коммунистические страны, предполагая «демократический капитализм» лишь одним из вариантов «современного общества»: «И в коммунистических странах революционное насилие было частью разрыва с репрессивным прошлым и усилий создать менее репрессивное будущее». См. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon Press, . P. – . Видимо, вследствие «остаточного неомарксизма», в котором его упрекали критики, Мур был несколько амбивалентен в отношении того, как преодолеть нараставшую, по его мнению, иррациональность западного демократического общества и обеспечить продвижение к «обществу полного ненасилия». Но до обсуждения перспектив новых революций на Западе он не доходил. Критику такой амбивалентности Мура см. Rothman S. «Barrington Moore and the Dialectic of Revolution: An Essay Review», in The American Political Science Review. . Vol. . No. . Pp. ff. К примеру, именно в этой логике Тимоти Гартон Эш характеризует сербскую «цветную» революцию как последнюю революцию в Центральной и Восточной Европе, завершающую в этом регионе «конец коммунизма» и знаменующую начало строительства «нормального», т. е. буржуазно-демократического, общества. См. Garton Ash T. «The Last Revolution», in The New York Review of Books, . November (Vol. . No. ). Я не могу в данной статье останавливаться на двух проблемах, очень важных для понимания логики такого подхода, и только зафиксирую их. Первая: почему один и тот же общественный строй — на уровне доминирующих в социальных науках концепций — переквалифицируется из «современного» в «досовременный» (или наоборот) и кто обладает достаточной «символической властью», чтобы делать это? Вторая: те же «почему» и «кто» должны объяснить, каким образом лишь бенефициарии Современности, которая — по определению — существует как глобальная реальность, узурпируют право считаться «современными», тогда как жертвам этой же самой глобальной Современности в таком праве отказано (странам бывшего третьего мира или тем же постсоветским «переходным» обществам). Фуко М. Что такое Просвещение? Пер. Н. Т. Пахсарьян 6 Вестник Московского университета. Сер. . Филология. . № . С. . 16 Борис Капустин разрушения» или адорновско-хоркхаймеровской «диалектики Просвещения», сутью ее будет то, что Маркс передал гениальной формулировкой из «Манифеста Коммунистической партии»: «Все застывшие… отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть»⁴⁰. Но если так, то модернизация оказывается уже не путем к какому-то (институционально и нормативно) определенному состоянию, признаваемому «полностью современным», а собственным способом существования Современности⁴¹, — ведь любые институты и воззрения, которые сегодня считаются «фирменным знаком» Современности, могут завтра стать «пределами», подлежащими преодолению. Но если бесконечная (в условиях Современности) модернизация способна устранять «все застывшие отношения», перешагивать любые пределы развития, то чем она отличается от «революции», если ее мыслить «перманентной» и не привязывать «догматически» к событийной форме ее протекания и насильственным методам осуществления? Ничем. Эту мысль настойчиво и весьма убедительно проводит один из авторов сборника «Концепт „революция“…» В. Куренной: «…Буржуазная система приобрела невиданную устойчивость за счет того, что смогла сделать революцию имманентным структурным моментом своего существования»⁴². Получается, что «запущенное» революциями на заре Нового времени современное общество, является настолько динамичным, что новые революции ему уже не нужны. Оно имманентно революционно вследствие, так сказать, интернализации революции. Эту мысль можно еще более радикализовать: коли буржуазное общество обладает таким имманентным динамизмом, то к чему ему революционные «запуски» на заре Нового времени? Исторически они не нужны, а если и происходили, то в силу «случайного» стечения обстоятельств и не имели особого зна⁴⁰ ⁴¹ ⁴² Маркс К. и Ф. Энгельс. Соч. Т. . М.: Политиздат, . С. . Утверждая это, я позволю себе пройти мимо идеологических агиток, вроде тех, которые когда-то предназначались «освобождающимся» странам Юга, а сейчас экспортируются в постсоветский мир. Суть таких продуктов в свое время классически зафиксировал Марион Леви: «Я называю систему модернизированной в соответствии со степенью, в которой она приближается к типу системы, существующей в современных западных обществах, беря Соединенные Штаты за достигнутый к настоящему времени предел» (Levi M. J. «Some Social Obstacles to Capital Formation in Underdeveloped Areas», in Capital Formation and Economic Growth, ed. M. Abramovitz. Princeton (NJ ): National Bureau of Economic Research, . P. ). В. Куренной. Перманентная буржуазная революция. В кн. Концепт «революция»…, с. и далее. Идея «перманентной буржуазной ревлюции» не является изобретением Куренного. Нейл Дэвидсон дает обстоятельный критический обзор подобных взглядов, как они сложились в рамках «миросистемного анализа» в духе И. Валлерстайна и в так называемой бреннеровской школе. (См. Davidson N. «How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?» in Historical Materialism, . Vol. . No. . Pp. ff). ЛKOKQ 6, 2008 17 чения для развития буржуазного общества. Как писал Роберт Бреннер, «… поскольку буржуазное общество развивает само себя и „растворяет“ феодализм, постольку буржуазная революция вряд ли могла играть необходимую [для его развития] роль»⁴³. Получается, что концепция «перманентной революции» оказывается антитезой революции как политического события. В этой нереволюционности «перманентной революции» нет ничего парадоксального. Действительно, устраняя «событийные» революции, «перманентная революция» становится неотличимой от «исторического развития» (в его буржуазной форме), т. е. от той самой эволюции как наращивания и развертывания в непрерывном времени одного и того же качества, противоположностью которой является революция как событие, как прерывание преемственности и введение в действие нового культурно-исторического времени. Какое же качество эволюционно развертывается в «перманентной буржуазной революции»? Это, конечно, — капитал с его логикой накопления, воспроизводства абстрактного труда и господства над ним и прогрессирующей коммодификацией сфер общественной жизни и условий существования человека. Темпоральность этого процесса и производимые им структурные, мировоззренческие, психологические и иные изменения и есть специфическое культурно-историческое время буржуазной «перманентной революции» и ее содержание⁴⁴. Таким эволюционно наращиваемым качеством является и представительная демократия как важнейший политический стабилизатор буржуазного развития, исключающий альтернативы ему посредством деполитизирующего переключения «политической жизни» с конкуренции программ на конкуренцию между «собирателями голосов» избирателей. И к настоящему времени демократия, действительно, стала главным противоядием против революции, а избирательная урна доказала свою способность служить гробом для революционеров⁴⁵. Те «застывшие отношения», которые «перманентная революция» разрушает, есть результаты эффективного отбора, который «автоматически» производит рынок, отделяя их от других отношений, не только консервируемых, но и культивируемых им⁴⁶. Ясно, что ни одна рево⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ Brenner R. «Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism», in The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone, ed. A. L. Beier et al. Cambridge: Cambridge University Press, . P. . Подробнее об этом см. Anderson P. «Modernity and Revolution», in New Left Review, . No. . Pp. ff. Последнее есть легкий парафраз афоризма Д. Гудвина — «The ballot box is the coffin of revolutionaries» (Цит. по The Future of Revolutions, ed. J. Foran. L.: Zed Press, . P. ). В более общем плане рассуждение о противодействии демократии революции см. Halliday F. «Utopian Realism: The Challenge for ‘Revolution’ in Our Times», in ibid. P. ff. Блестящее описание рынка как механизма различения «допустимых» и «недопустимых изменений», эффективных санкций за «ослушание» и «пленения политики» и самого политического мышления как гарантии своего бесперебойного функцио- 18 Борис Капустин люция не могла дать «абсолютный» разрыв с прошлым, что максимум революционного радикализма может состоять лишь в частичной реконфигурации того, что унаследовано от «старого порядка», и чему придаются новые смыслы⁴⁷. Тем не менее между такими революциями и буржуазной «перманентной революцией» есть огромная разница. Первые все же производят реконфигурацию «старого порядка», меняя его «операционный принцип», политико-правовой, но также — в случае социальных революций — и политико-экономический. Вторая же наращивает эффективность такого «принципа» и распространяет его действие на те сферы и отношения, которые до того были вне его досягаемости. Первые есть альтернатива статус-кво. Вторая есть упразднение альтернативы, зрелым выражением чего является нынешняя глобально-капиталистическая идеология TINA (There Is No Alternative). TINA и есть, говоря языком Маркузе, «герметизация дискурса и поступка», подавление будущего и торжество «одномерного» общества⁴⁸. Так как же ответить на поставленный вопрос о том, является ли революция атрибутом Современности? Даже в буржуазной «перманентной революции» событийная революция присутствует как симптоматика — во фрейдистском смысле — забытого и вытесненного. Назвать новый крем для лица «революцией в косметике» считается удачным (и стандартным для рекламного бизнеса) ходом. В известном смысле вся буржуазная Современность — а не только ее пролог! — есть история «революций»: научно-технической, индустриальной, постиндустриальной, сексуальной, художественной и т. д. От такого множества «революций», конечно, и получается бляхеровская «блуждающая метафора», но в плане симптоматики в высшей мере примечательно то, что все эти разнородные явления легитимируются посредством их ассоциирования с революцией. Это верно даже для тех из них, которые имеют прямо антиреволюционный эффект подчинения вместо освобождения. Пример тому — «индустриальная революция», заменившая «формальное» подчинение труда капиталу «реальным». Но важнее другое. Само забывание и вытеснение событийной революции приводит к столь же реальным изменениям в функционировании «перманентно-революционного» общества, какие аналогичные явления вызывали в поведении пациентов доктора Фрейда. Забывание и вытес- ⁴⁷ ⁴⁸ нирования см. Lindblom C. E. «The Market as Prison», in The Journal of Politics, . Vol. . No. , особенно с. , , , . См. Castoriadis C. «The Idea of Revolution», in The Rising Tide of Insignificance. P. ff. (http:6www.notbored.org / RTI . pdf). В этом плане можно говорить о неустранимой «консервативности» всех революций, как ее понимали А. де Токвиль и Ж. Сорель. Подробнее об этом см. Finlay C. J. «Violence and Revolutionary Subjectivity», in European Journal of Political Theory, . Vol. . No. . P. . См. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование об идеологии Развитого Индустриального Общества. М.: REFL -book, . C. , , , , . ЛKOKQ 6, 2008 19 нение революции, этого парадигмально политического явления, ведет к той фундаментальной деполитизации общественной жизни, которая стала характерной тенденцией эволюции «демократического капитализма» (конечно, не только его — вспомним о современной России)⁴⁹. То, что эта тенденция несет с собой растущую беззащитность мира труда и непривилегированных групп и слоев в целом, вряд ли может беспокоить героев буржуазной «перманентной революции». Но то, что эта же тенденция угрожает самой динамике и эффективности капиталистического производства корпоративно-административным склерозом с одной стороны⁵⁰, а с другой — подрывом собственно рыночных механизмов манипулятивно-лоббистской деятельностью «групп интересов», с отвращением описанной Фридрихом Хайеком под рубрикой «демократия торга»⁵¹, не может не вызывать у них тревогу. Эта тревога и выражается в попытках «вернуться» к рынку посредством «минимизации государства» (и его бесчисленной клиентуры) и отрегулировать неким образом деятельность «групп интересов», ограничивая их влияние на функционирование государства. Но именно на этих направлениях «буржуазная перманентная революция» оказывается особенно малоуспешной. Но революция присутствует в созданных ею современных обществах не только в виде описанной выше симптоматики. Она присутствует также как «эхо», если воспользоваться метафорой Эрика Хобсбаума об «эхе „Марсельезы“»⁵². Такое «эхо» есть вся сумма влияний революции на последующую историю — в той мере, в какой она была историей сопротивлений новым формам угнетения и неравенства, характерным для современного общества, и историей движения противоречия, заложенного самой революцией в modus operandi этого общества. Это — противоречие между универсальной свободой, покоящейся на равенстве, что только и делает ее универсальной и характерно современной свободой, и необходимо партикулярными институциональными формами ее воплощения / отрицания (от «нации-государства» до капиталистических механизмов хозяйствования) с присущими им делениями на «включенных — исключенных», «господствующих — подчиненных», «богатых — бедняков» и т. д⁵³. ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ Подробнее о связи вытеснения революции и деполитизации см. Wang Hui. «Depoliticized Politics, from East to West», in New Left Review, . No. . Яркое описание этого явления можно найти, в частности, в известной книге Мансура Олсона — Olson M. Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. New Haven, CT : Yale University Press, . См. также его более позднюю работу, в которой эта концепция распространена на анализ упадка и развала «реального социализма», — Olson M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. NY : Basic Books, . См. Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty. Vol. . Chicago: The University of Chicago Press, . Pp. ff. См. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». М.: Интер-Версо, . Отличный анализ этого противоречия (хотя его вышеприведенная формулировка принадлежит мне — Б. К.) и его основных политических и нравственных прояв- 20 Борис Капустин Знаменитый тезис Руссо, которым открывается первая глава первой книги «Об общественном договоре», — «человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» — нельзя понимать в качестве характеристики антропологического состояния человека вообще. Но он не является и формулировкой задачи, решить которую призван справедливый «общественный договор», и — уже в якобинской трактовке — революция. Этот тезис есть формулировка ее цели (конечно, не той, которую преследовали или даже могли преследовать ее участники и лидеры) — внести в общественное бытие напряжение противоречия между свободой, на которую «по праву рождения» в современном обществе может законно претендовать любой его член, и никогда до конца не устранимыми «оковами» институциональных форм существования этого права в современном обществе. Возможно, такая трактовка тезиса Руссо способна разочаровать иных поборников революции, представляющих ее себе как «последний и решительный» бой, открывающий путь в «царство свободы». Ведь согласно данной трактовке вместо устраняемых сегодня «оков» завтра возникнут другие. И будут ли они легче сегодняшних (для нас завтрашних)? «Царство свободы» исчезает как практическая цель борьбы, а свобода приобретает значение не состояния, которого можно достичь, а самой практики освобождения. Но разве обесценивает недостижимость «царства свободы» ликвидацию того, что мы сегодня, «здесь и сейчас», считаем недопустимым и оскорбительным? Разве отказ от устранения сегодняшних «оков» не превратит нас в ницшеанских «последних человеков», радующихся существованию в одномерном мире беспрепятственно прогрессирующей «буржуазной перманентной революции»? То, что такой мир пока не возник⁵⁴, — тоже следствие революции и ее след в современном обществе в виде того напряжения между свободой и «оковами», о котором я рассуждал выше. В этом и заключается ответ на первый вопрос, который я поставил в начале данного параграфа, — возможны ли революции в наше время и в будущем? Революция присутствует в современном мире — в качестве симптоматики вытесненного и забытого, в качестве «эха» и в качестве напряжения между универсальной свободой и ее (всегда конкретными для данной ситуации) институционально-партикулярными «оковами». Во всех этих качествах она есть действительность современного мира ⁵⁴ лений дает Этьен Балибар. Он же удачно показывает противоположность современной свободы, основанной на равенстве, и античной свободы, которая в качестве предпосылки и привилегии лежала в основе равенства, очерчивая партикулярный «круг равных». См. Balibar E. «Citizen Subject», in Who Comes After the Subject? Pp. ff. Но лишь конкретные политические сопротивления могут предотвратить возникновение такого «одномерного» мира. Опасения, что они могут оказаться недостаточными, сквозят в рассуждениях о том, что понятие «современность» утрачивает содержание, делающее его отличимым от понятия «капитализм». См. Jameson F. A Singular Modernity. Essays on the Ontology of the Present. L.-NY : Verso, . Pp. – . ЛKOKQ 6, 2008 21 (и только его), так что сам вопрос о ее «возможности» — при его серьезном понимании — может означать только одно: способна ли революция сейчас явиться в еще одном качестве — в качестве актуального события. Непредсказуемость революций и ее значение для теории революции Характерной чертой революций является их непредсказуемость. «Патриоты» Национального собрания, уже провозгласившие себя представителями народа-суверена, но не способные в течение нескольких дней узреть во взятии Бастилии уже начавшуюся революцию, «штабом» которой им вроде бы надлежало быть⁵⁵. Ленин в Цюрихе, ошеломленный вестью об уже свершившейся в России Февральской революции года и отказывающийся ей верить⁵⁶. Памятные кадры растерянного Горбачева, возвращающегося из Фороса в Москву в августе года, — после стольких лет «перестроечных» заклинаний о революционном продолжении «дела Октября». Множить ли подобные примеры? Уже сказанное заставляет усомниться в понимании революции как «программы» или «проекта». «Революция — это гигантская историческая программа, — пишет Б. Межуев, — приведенная в действие в конце XVIII в. и доселе не остановимая». Ее основными компонентами он называет «делегитимацию всякой власти», «демократизацию, т. е. неприятие любой иерархии» и «секуляризацию» как «отрицание любого воздействия религиозного начала на жизнь общества»⁵⁷. Чьей «программой» была такая революция? Наверное, не тех легендарных ее «детей», кого она одного за другим «пожирала». Вряд ли и тех, кто духовно «готовил» ее или витийствовал о ней. Разве не известно, что ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ Яркое описание замешательства и смятения депутатов Национального собрания после взятия Бастилии, восприятия ими этого события как «ужасной новости» см. Sewell W. H. Jr. Op. cit. P. . См. Солженицын А. Ленин в Цюрихе 6 Ленин в Цюрихе. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Екатеринбург: У-Фактория, . C. – . Межуев Б. «Оранжевая революция»: восстановление контекста 6 Концепт «революция»… С. . Я готов оспорить каждый из указанных Межуевым «компонентов» революции-как-программы, исполнением которой стала вся Современность. Но за неимением места укажу лишь на следующее. Революции Современности не делегитимировали «всякую власть», а создавали неизвестные дотоле механизмы легитимации постреволюционной власти. «Демократизация» принесла все, что угодно, только не «отмену иерархий». Анализ специфики иерархичности современного общества красной нитью проходит через серьезную социологию Современности, начиная с ее зарождения в трудах Конта, Маркса, Макса Вебера и т. д. «Секуляризация» обернулась (если мы принимаем за чистую монету отделение церкви от государства) вытеснением религии в частную жизнь и ее институты, а вовсе не отрицанием любого воздействия религии на жизнь общества (о собственно «религиозных» революциях Современности не стоит здесь и говорить). В указанном описании революция-как-программа должна быть признана провальной, вернее, тем, что на английском называется «non-starter». 22 Борис Капустин та же Французская революция была не «реализацией» идей «энциклопедистов» и других «просветителей», а их «переворачиванием» и критикой? Что «Просвещение» в качестве «духовного пролога» революции есть ее собственный поздний продукт (как и продукт ее контрреволюционных противников), «подводимый» ею под себя в усилии самолегитимации (или контрреволюционной делегитимации)? Как точно выразился после революции один из видных (и удивительным образом уцелевших) умеренных деятелей года Мунье, «не влияние этих принципов (Просвещения. — Б. К.) создало Революцию, а, напротив, Революция породила их влияние»⁵⁸. А многое ли из «марксизма Маркса» или даже более позднего марксизма Каутского, Плеханова или самого Ленина, как его марксизм был сформулирован в «Государстве и революции» буквально накануне Октября, можно найти в том, чем реально стала большевистская революция? Еще менее вероятно, что авторство революции-как-программы принадлежит массам, в ней участвовавшим и составившим ее ударные армии. Не только вследствие тех страданий и разочарований, которые им революция несет в первую очередь и которые едва ли могли быть их «программной целью»⁵⁹. Важнее то, что цели, с которыми низшие классы входили в революцию, в принципе не могли осуществиться вследствие ее победы. Ведь именно она обычно трансформирует общество так, что старые классы разрушаются и на смену им приходят новые, для которых (дореволюционные) цели их предшественников утрачивают значение. Это и показало ускорение «пролетаризации» крестьян и ремесленников как одно из важнейших следствий «буржуазных революций», уничтожение рынка труда и формирование «промышленных армий», а также «коллективизация» крестьянства как новые формы закабаления работников, введенные большевистской революцией, и т. д. На основе таких наблю⁵⁸ ⁵⁹ Цит. по Hampson N. The Enlightenment: An Evaluation of Its Assumptions and Values. Harmondsworth: Penguin, . P. . Известно, что именно просвещенные абсолютные монархии, а отнюдь не революции, мыслились самими «просветителями» в качестве наиболее адекватных воплощений их «реформаторских» программ. См. Gagliardo J. G. Enlightened Despotism. Arlington Heights (IL ): Harlan Davidson, . P. VI ff. Разочарование низов и его массовые проявления в ходе Французской революции побудили американского исследователя Уильяма Дойла аналитически развести понятия «контрреволюция» и (как неологизм) «антиреволюция». Второе означает реставраторское стремление (в основном, «свергнутых классов») повернуть революцию вспять. Первое же отражает недовольство тем, что революция не отвечает предреволюционным требованиям (и ожиданиям от нее, когда она началась), которые во Франции были столь наглядно зафиксированы в cahiers, собранных по всей стране по приказу короля накануне созыва Генеральных штатов. «Контрреволюция» нацелена на придание революции «другого направления» — в соответствии с предреволюционными ожиданиями перемен, а не на возврат к «старым добрым временам». См. Doyle W. «Revolution and Counter-Revolution in France», in Revolution and Counter-Revolution, ed. E. E. Rice. Oxford: Basil Blackwell, . Pp. – .. ЛKOKQ 6, 2008 23 дений Эрик Хобсбаум сделал вывод о том, что о революциях вообще нельзя судить по намерениям тех, кто в них участвует (или по тем намерениям, которые их участникам приписывают историки). Намерения, конечно, необходимое слагаемое революций (без решимости действовать их бы не было), но то, как они свершаются и к чему приводят, такими намерениями не определяется⁶⁰. Коли сказанное верно, то остается ли нам истолковать революциюкак-программу конспирологически — в духе Эрика Фегелина — в качестве дьявольского заговора рвущихся к власти интеллектуальных элит, исторически менявших свою форму от republique des letters на заре Современности через салоны и клубы пред- и революционной Франции и инсургентские и националистические ассоциации Германии и Италии XIX века до диктатур этих элит в их фашистских, нацистских и коммунистических воплощениях в XX веке⁶¹? Неужели революции непредсказуемы только потому, что Интерпол и соответствующие национальные службы, несмотря на подсказки Фегелина и его единомышленников, никак не могут «сесть на хвост» этого злокозненного многовекового заговора? Но, может быть, дело проще (что не всегда значит — «лучше»). Если революция — не (чья-то) «программа», а проявление неких закономерностей, исторических или, так сказать, ситуационных, которые складываются в результате сочетания определенных социальных, экономических, внешнеполитических, культурно-идеологических и иных обстоятельств, то непредсказуемость революций может быть объяснена просто несовершенством научного инструментария исследования или же оплошностями тех, кто составляют научное сообщество. Иными словами, непредсказуемость революций предстанет не характеристикой их «онтологии», а изъяном процесса их познания. Не будем тогда удивляться тому, что в эпоху «неразвитости» строгих социальных наук ни Франклин не мог предвидеть Американскую революцию, ни Руссо — Французскую, ни Гегель — «весну народов» года или хотя бы июньскую года революцию во Франции, которую он успел застать при жизни, ни Маркс — Парижскую коммуну и т. д. Интереснее то, почему в эпоху «развитых» социальных наук революции продолжают заставать нас врасплох. Кто предвидел «красный май» года? А Иранскую революцию? Почему «антикоммунистические революции» – годов в Центральной и Восточной Европе⁶² ста⁶⁰ ⁶¹ ⁶² См. Hobsbawm E. «The Making of a ‘Bourgeois Revolution’”, in Social Research. . Vol. . No. . Pp. – . См. Voegelin E. From Enlightenment to Revolution, ed. J. H. Hallowell. Durham, NC : Duke University Press, . P. , , . У меня нет сейчас возможности реагировать на очень интересную в теоретическом отношении полемику о том, были ли события – годов «революциями» и, если да, то какими именно. Эта полемика получила некоторое отражение на страницах сборника «Концепт „революция“…» — в виде отрицания революционного 24 Борис Капустин ли для западных социальных наук, по выражению Адама Пжеворского, «гнетущим провалом»⁶³? Этот последний «провал» — вследствие и грандиозности явления, его засвидетельствовавшего, и превращения прогнозирования чуть ли не в главный признак «научной эффективности» — особенно сильно задел за живое адептов социальных наук и породил целую индустрию его объяснения. Наиболее взвешенные и проработанные его версии, призывая социальные науки в целом умерить свои прогностические претензии, приписывают данный «провал» специфическим идеологическим и политическим трудностям познания «коммунизма», а также защищают «честь мундира» ссылками на те отдельные публикации, в которых все же поднималась тема возможного «коллапса советской системы»⁶⁴. Последний аргумент мне кажется лишенным какой-либо убедительности. У З. Бжезинского, Р. Конквиста, А. Амальрика и других авторов, на которых ссылаются в этой связи, нет ничего похожего на предсказание того, что произошло в действительности, т. е. предвидения демонтажа советского строя самой коммунистической номенклатурой при массовых (в ряде стран) выступлениях низов в условиях ненасилия, превзошедшего — по незначительности жертв оппозиции и репрессий властей — триумф гандизма против британского колониализма в Индии. Предсказания же «коллапса советского строя» как бы в общем виде в аналитическом отношении вряд ли чем-то отличаются от ленинско-сталинских пророчеств неизбежной гибели капитализма: она ведь, в самом деле, когда-нибудь произойдет — хотя бы потому, что ничто не вечно в этом мире. Но действительным провалом социальных наук, причем провалом философско-методологическим, является само осознание непредсказанности «антикоммунистических революций» в качестве «провала». Никакого провала у них не было: они правильно делали все, что должны были делать, и именно поэтому предсказать революцию не могли в принципе. Тому есть две причины. ⁶³ ⁶⁴ характера этих событий Куренным (см. с. ). Противоположная точка зрения ярко представлена в нашей литературе Магуном (см. Магун А. Указ. соч. C. – ). Przeworski A. Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press, . P. . См. Lipset S. M. and G. Bence. «Anticipations of the Failure of Communism», in Theory and Society. . vol. . No. . Pp. – , – . Более безжалостный анализ прогностических способностей всех теорий революции дает Тимур Курань, но и его эссе завершается выводом о том, что непредсказуемость революций есть следствие невозможности совершенного наблюдения за преференциями людей и, соответственно, трудностей измерения их поведенческих «революционных порогов». Получается, что причины данного «провала» имеют все же гносеологический, а не онтологический характер. См. Kuran T. «Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of », in World Politics. . Vol. . No. , указанный вывод — на с. . См. также интересный анализ этого вопроса у Sharman J. C. «Culture, Strategy, and State-Centered Explanations of Revolution, and », in Social Science History. . Vol. . No. . ЛKOKQ 6, 2008 25 Первая заключается в том, что сама «теоретическая логика» современных социальных наук, т. е. то, как они подходят к своему предмету, как «видят» его, какие вопросы ставят, следовательно, какими методами и инструментами с ним работают, делает их «науками о порядке». Поэтому даже «социальные изменения» концептуализируются в их рамках как нечто, вытекающее из тенденций и закономерностей самого данного порядка, как продолжение его логики, иными словами, они могут быть представлены только как его эволюция. Разрыв с «логикой порядка», который может означать только возникновение новой логики нового порядка, а не «беспорядок», т. е. революция в собственном смысле слова, лежит за рамками их познавательных возможностей. Обусловленную этим трактовку революции по модели эволюции Шелдон Волин точно называет «укрощением проблемы революции» в социальных науках, обстоятельно и конкретно показывая то, как именно такое «укрощение» достигается в парадигмальном для них случае социологии Парсонса⁶⁵. Непосредственным следствием «укрощения проблемы революции» является стремление интегрировать эту проблему в политическую науку (или социологию), подвести ее под «более общие понятия», типа «социальные изменения», «политическая нестабильность», «коллективные действия» и т. п., с которыми социальным наукам привычно и удобно работать в их эволюционистской «теоретической логике». Такое стремление отчетливо обнаруживает один из авторов сборника «Концепт „революция“…» А. Никифоров. Он верно отмечает то, что интеграция «революции» в социальные науки означает ее «переопределение в более нейтральном смысле», т. е. нейтрализацию, прямо по Карлу Шмитту, того, что является уникальным в «революции» и делающим ее несводимой ни к одному из перечисленных выше «общих понятий»⁶⁶. Что же подавляет в «революции» ее научная интерпретация? Ответ Джона Данна — ее уникальность в качестве события определенного типа, то, ⁶⁵ ⁶⁶ См. Wolin S. «The Politics of the Study of Revolution», in Comparative Politics. . Vol. . No. , особенно с. – , – . Очень показательно то, что одна из заметных попыток «реабилитировать» социальные науки за «провал» непредсказанности «антикоммунистических революций» прямо апеллирует к эволюционизму Парсонса, представляя его в качестве того теоретического ресурса, который мог бы помочь предсказать и объяснить эти революции, но был проигнорирован социологами – -х годов. Это при том, что сам Парсонс в -е годы был сторонником теории «конвергенции» капитализма и социализма, а отнюдь не коллапса последнего! См. Mouzelis N. «Evolution and Democracy: Talcott Parsons and the Collapse of Eastern European Regimes», in Theory, Culture and Society. . Vol. . No. , особенно с. . См. Никифоров А. Революция как объект теоретического осмысления: достижения и дилеммы субдисциплины 6 Концепт «революция»… C. – . Пожалуй, лучшим из доступных на русском языке изложений такого подхода к «революции» следует считать статью немецкого ученого Петры Штыков. См. Штыков П. Деконструкция революции 6 Повороты истории. Т. . Науч. ред. В. Гельман. СП б.: Летний сад, . 26 Борис Капустин что «революция» является категорией, центрированной на «действующих лицах» и не допускающей чисто «внешнюю», объективную и «натуралистическую» идентификацию ее⁶⁷. Здесь мы приходим к пониманию второй причины того, что я считаю философско-методологическим провалом социальных наук. Дело в том, что философии давным-давно известно — акты свободы не предсказуемы в принципе. Такова их онтологическая «природа», укротить которую не в силах никакая методология познания, даже та, которой обладают «самые передовые» современные социальные науки. Как писал Кант, «…в том и беда, что мы не можем встать на точку зрения, с которой возможно предвидение свободных поступков, ибо это была бы точка зрения провидения, недоступная человеческой мудрости, распространяющаяся также и на свободные деяния человека, которые хотя и могут быть им увидены, однако не могут быть предвидены со всей определенностью (для божественного ока здесь различия нет)»⁶⁸. Все, что определено естественной «причинностью природы», предвидеть — при известном совершенстве орудий познания — можно, но то, что определено «причинностью свободы», — нет, ибо второе не вытекает из первого, а само становится для создаваемой им цепи явлений «абсолютно первым началом не в отношении времени, а в отношении причинности»⁶⁹. Если революция есть хотя бы до некоторой степени акт свободы, то предвидеть ее нельзя, и в этом неправильно усматривать «провал» социальных наук. Ибо сие зависит не от них, а от характера самого данного события. Но в том-то и дело, что в социально-научных употреблениях «революция» все больше отдаляется от «свободы», так что связь между ними становится незаметной и аналитически несущественной или случайной. Наглядный пример этому дает тот же сборник «Концепт „революция“…». Поразительно, но во всех статьях российских авторов слово «свобода» либо отсутствует совсем, либо возникает лишь в цитатах из работ зарубежных писателей (Гегеля — в эссе А. Павлова, Ш. Эйзенштадта — у В. Куренного, французских «энциклопедистов» — у К. Аршина). Похоже, российским участникам сборника решительно нечего сказать о свободе в связи с «революцией», с какой бы стороны последнюю не рассматривать. Не знаю, входило ли это в замысел составителей сборника, но контраст между текстами российских и зарубежных его участников получился шокирующий: для Арендт, Хабермаса, Данна, Маркузе, Селбина, Монбиота и многих других «революция», конечно, немыслима вне связи со свободой и без ее «освободительных эффектов». Достаточно сказать, что у Арендт само событие революции опреде⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ См. Dunn J. Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, . Pp. , . Кант И. Спор факультетов. В Соч. в томах. Т. . М.: Чоро, . C. – . См. Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. Лосского. М.: Мысль, . C. – . ЛKOKQ 6, 2008 27 ляется как такое, которое уже есть свобода (а не только движение к свободе), — «ведь быть свободным и совершать поступки — одно и то же»⁷⁰. С другой стороны, такой контраст — лишь свидетельство того, что зарубежные авторы сборника подобраны «неправильно»: в их числе нет настоящих представителей социальных наук (вместо них в сборник попали преимущественно политические философы и культурологи), которые и на Западе написали о «революции» горы литературы без какой-либо рефлексии над свободой. Очевидным проявлением разъятия «революции» и «свободы» выступает, к примеру, трактовка прихода нацистов к власти в Германии как тоже революции⁷¹. И в статье А. Михайловского «консервативная революция» — тоже революция, только с «ярко выраженными авторитарными и антиэгалитарными чертами»⁷². А почему бы нет? «Социальные изменения», «политическая нестабильность», «коллективные действия» и все остальные «общие понятия», под которые мы должны подвести «революцию», — налицо в случае нацизма или «в задумке» — в случае «консервативной революции». И остается всего лишь отбросить наивную, унаследованную еще от Просвещения веру в то, что «революция» как-то связана со свободой⁷³, чтобы стереть последние различия между «революцией» и «реакцией», угнетением и освобождением и объявить все это «социальными изменениями», которые будут «нейтрально» изучаться социальными науками, готовыми служить без разбора подонкам и героям. Но если — в противоположность всему этому — свободу считать не только неотъемлемой, но определяющей чертой «революции», то как понимать ее в контексте революционных событий? Как она возникает? Каким образом проявляется? К чему приводит? Ответы на эти вопросы образуют ядро политико-философской теории революции как события, абрис которой я попытаюсь представить ниже⁷⁴. ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ Arendt H. «What Is Freedom?» in Between Past and Future. NY : Penguin, . P. . См. Calvert P. Revolution and Counter-Revolution. Milton Keynes (UK ): Open University Press, . P. . Михайловский А. Консервативная революция: апология господства 6 Концепт «революция»… C. . Питер Калверт, призывающий очистить теорию революции от этого архаического наследия Просвещения, говорит непосредственно о «прогрессе», а не о «свободе», но данные понятия неразрывно связаны в отвергаемом им наследии (см. Calvert P. Op. cit. P. ). Вряд ли нужно пояснять, что «постклассическое» переосмысление свободы давно отделило ее от (линейного) прогресса, так что революционная освободительная борьба отнюдь не обязательно означает «прогрессивную» борьбу за переход к следующей общественной формации. Объем данной статьи заставляет меня ограничиться лишь абрисом теории политического события. Стремясь к ее экономной реконструкции, я буду использовать некоторые важные с точки зрения целей данной статьи идеи Алена Бадью и Эрнесто Лаклау без того критического их анализа, которого они заслуживают, и без наведения методологических «мостов» между концепциями этих во многом очень разных мыслителей. Это, к сожалению, придаст черты эклектики моему повество- 28 Борис Капустин Революция как событие Первое, что нужно иметь в виду, обсуждая данную тему, — это то, что не всякое изменение есть событие. Как пишет Бадью, «внезапность, темп и дезорганизация [привычного уклада жизни. — Б. К.] могут быть лишь симулякрами события, а не обещанием его истины»⁷⁵. Изменение как событие, на мой взгляд, определяется четырьмя основными чертами, которые я назову «реверсом времени», «конституированием субъекта» (точнее — субъектов), «двойным самоотрицанием» и «зависимостью от будущего», т. е. от того, что следует за событием как таковым и в чем оно продолжает «жить» после своего завершения. Я постараюсь прояснить каждую из этих характеристик, иллюстрируя мои рассуждения общеизвестными событиями Французской революции. I. Начнем с «реверса времени». Это понятие отражает образование революционного события задним числом, поворотом времени вспять, хотя таким образом поворачивается время самого события, а не время того общественного порядка, который им отрицается. Более того, способность события так повернуть время означает отмену времени «старого порядка», т. е. то, что его время «подошло к концу». Событийное поворачивание времени и дает тот «взрыв» континуума истории, о котором писал Беньямин в тезисе XV его «Тезисов о философии истории», и введение нового исторического «календаря», точкой отсчета в котором становится данное революционное событие⁷⁶. Образование революционного события благодаря «реверсу времени» осуществляется посредством включения в него явлений и происшествий, случившихся до события и в логике той причинности (вместе с ее «сбоями»), которая присуща не событию, а отрицаемому им «старому порядку». Иными словами, то, что составляет содержание события, возникло до него и не в его логике. Однако позже (задним числом) оно было реконфигурировано в соответствии с новой логикой, которая, как и писал Кант о «причинности свободы», не вытекает из предшествующей логики («старого порядка»), породившей явления и происшествия, образующие революционное событие. В этом и заключается суть дела: явления и происшествия, порожденные «старым порядком» ⁷⁵ ⁷⁶ ванию. Более развернутое изложение теории политического события дает Артемий Магун (см. Магун А. Указ. соч., особенно — глава ). В ряде моментов оно перекликается с моими взглядами, но я не могу ограничиться простой отсылкой к концепции Магуна в силу немаловажных расхождений между нами. Badiou A. Infi nite Thought. Truth and the Return to Philosophy, tr. O. Feltham and J. Clemens. L-NY : Continuum, . P. . См. Benjamin W. Op. cit. P. . ЛKOKQ 6, 2008 29 (и его «дисфункциями»), входят в состав революционного события, но не являются его причиной. Напротив, само их включение в революционное событие определяется им самим, а не их «имманентной природой», и в этом смысле Бадью прав, называя события «беспричинными», т. е. имеющими причину в самих себе, что и есть — «свободная причинность». Конечно, такое рассуждение поднимает сложный вопрос о том, кто или что «принимает решение» о таком «реверсном» конструировании события путем включения в него некоторых явлений и происшествий «старого порядка». Я думаю, у Бадью не получается удовлетворительным образом справиться с этим вопросом, вследствие чего в его философии возникает полумистическая фигура «оператора», отличного от «множества», которое составляет событие, и дающего событию «имя», т. е. «решающего событие»⁷⁷. Преодолением этой трудности мне видится концепция «гегемонии» (восходящая к идеям А. Грамши), позволяющая объяснить возникновение такого «оператора» из хода политикоидеологической борьбы, которая всегда имеет ситуационный характер и не предопределена какими-либо «сущностями» или «законами», предшествующими ситуации или лежащими вне ее. Но о событийном «конституировании субъекта» речь пойдет, когда мы будем рассматривать вторую главную черту революции как события. Теперь обратимся к явлениям и происшествиям, группируемым как событие «взятие Бастилии»⁷⁸. июня года делегаты Генеральных штатов от третьего сословия уже объявили себя «Национальным собранием», но продолжали заседать в королевском Версале, и о низложении монарха, учреждении республики, отмене феодальных привилегий и всем прочем, что составило «суть» Французской революции, слышно не было. Само слово «революция» было в ходу и даже существовала довольно популярная газета под названием «Les Révolutions de Paris», но оно ни в коем случае не имело современного значения «легитимного» ниспровержения существующей власти народомсувереном и по сути означало любое заметное изменение политического устройства, включая то, которое мог производить сам король⁷⁹. ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ См. Badiou A. «On a Finally Objectless Subject», in Who Comes After the Subject. P. . Об этой и других трудностях концепции события в философии Бадью см. Bensaid D. «Alain Badiou and the Miracle of Event», in Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy, ed. P. Hallward. L –NY : Continuum, . Pp. – . См. также Clemens J. and O. Feltham. «The Thought of Stupefaction; Or, Event and Decision as NonOntological and Pre-Political Factors in the Work of Gilles Deleuze and Alain Badiou». P. ff. http:6whiteheadresearch.org / event-and-decision / #papers В их изложении я буду следовать нарративу Жака Годешо, представляющемуся наиболее скрупулезным и систематическим их освещением. См. Godechot J. The Taking of the Bastille: July , , tr. J. Stewart. NY : Charles Scribner’s Sons, . О предреволюционных коннотациях термина «революция» во Франции и их трансформации в связи со «взятием Бастилии» см. Baker K. M. Inventing the French 30 Борис Капустин июля король, похоже, принимает решение восстановить «порядок»: он отправляет в отставку популярного министра Неккера и начинает стягивать к Парижу верные ему войска. Город охватывают страх и возбуждение. Пламенный оратор Камилл Демулен в Palais Royal произносит перед толпами собравшихся речи о подготовке новой резни в стиле Варфоломеевской ночи⁸⁰. В этой ситуации Национальное собрание практически бездействует, однако парижане начинают действовать спонтанно: в поисках запасов продовольствия они захватывают монастырь Saint-Lazare, освобождают из нескольких тюрем тех, кого сейчас назвали бы «политзаключенные», разрушают парижские таможни, наконец, стремясь вооружиться для самообороны, они овладевают арсеналом в Hôtel des Invalides. За исключением мелких стычек с немецкими наемниками все эти действия не встречают вооруженного сопротивления. Но в захваченном арсенале парижане обнаруживают только мушкеты и несколько пушек, патронов и снарядов к ним там не было. Так возникает идея штурмовать Бастилию — многие полагали, что в крепости хранятся запасы пороха⁸¹. В военном плане штурм и взятие Бастилии, действительно, были незначительной операцией. Ж. Годешо, конечно, прав, подчеркивая, что бескровный захват Hôtel des Invalides в этом отношении имел гораздо большее значение, — он показал ненадежность королевских войск в противодействии бунтующим парижанам⁸². Узников же в Бастилии к году почти не осталось. Как уже отмечалось, акции парижан – июля — и в особенности взятие Бастилии — повергли «представителей народа» в Национальном собрании в смятение и уныние. Предлагались даже резолюции, осуждающие эти акции. Они — в соответствии со стереотипами времени, когда современная революция еще не была изобретена, — рассматривались большинством членов Собрания в качестве бунтов толпы, бессмысленных как таковые и, хуже того, дающих оправдание жесткой политике короля в отношении «народных представителей». Одна- ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² Revolution: Essays on the French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, . Pp. – . См. Godechot J. Op. cit. Pp. – . Обратим внимание: мобилизация массовых действий начинается посредством указания на возможность повторения прошлых преступлений «старого порядка», а не призывов к его ниспровержению ради «светлого будущего». О таком повороте дела не говорит в это время даже Демулен! Конечно, восприятие Бастилии в качестве символа жестокостей «старого порядка» сыграло в этом свою роль. Но не забудем и о более «прагматических» мотивах: по слухам Бастилия имела большое значение для грядущей расправы над парижанами — из ее пушек якобы собирались расстрелять Сент-Антуанское предместье. Делегация горожан, впущенная в крепость накануне ее штурма, удостоверилась в том, что пушки Бастилии не находятся в боеготовности. Но устойчивые фобии не рассеялись. См. Lusebrink H-J. and R. Reihardt. The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom, tr. N. Schurer. Durham (NC ): Duke University Press, . P. , . См. Godechot J. Op. cit. P. . ЛKOKQ 6, 2008 31 ко произошло неожиданное: король отдал приказ войскам отойти от Парижа (и к июля они были отведены) и восстановил в должности Неккера. С другой стороны, группа членов Собрания, сделавшая вылазку в Париж во второй половине дня июля, обнаружила, что он не только не охвачен яростью бессмысленного бунта, но и преисполнен лояльности к «народным представителям». июля в Национальном собрании прозвучали первые высказывания в том духе, что взятие Бастилии — оправданный ответ народа деспотизму. Но только и июля было окончательно решено, что произошедшее июля является именно легитимным восстанием народа. В большой мере такое решение было вызвано стремлением «народных представителей» остановить самодеятельность парижан, продолжавшуюся и после июля. Для этого новые акты насилия и неповиновения властям противопоставлялись как «незаконные» «законному» выступлению народа против деспотизма июля. Так июля стало началом великой революции, и в этом выражалось стремление ее «штаба» закончить ее той же датой: дальнейшие самочинные действия народа оказывались уже преступными, а изменения — в том скромном их понимании, какое господствовало в умах «представителей народа» в июле года, — должны были в последующем осуществляться только законным путем, т. е. по их собственному решению и под их контролем. К этому остается добавить, что закончить революцию так быстро не получилось. Парижские бунты имели ряд непредвиденных следствий. Одним из важнейших было усиление панических настроений среди крестьян, явление, известное как «Великий страх». Его вызвали опасения реквизиций со стороны властей из-за угрозы голода, слухи о бандах горожан, отбирающих продовольствие, и т. д. На селе не просто интенсифицировалось брожение — разразилось то, чему Жорж Лефевр дал название «крестьянской революции»⁸³. Оперативной реакцией на это стали знаменитые законы «ночи августа», положившие юридический конец феодализму во Франции. Революция шагнула к новому рубежу. Но и на нем ее остановить не удалось. Революция продолжала вбирать в себя все новые происшествия и явления, переопределяя их в собственной логике и подчиняя их ей. За счет этого она «развивалась», обогащалась новым содержанием (можно сказать — радикализировалась) и приобретала свою историю, уже вполне автономную от истории «старого порядка», из которого она вышла и который «породил» ее лишь в том узком смысле, что дал податливый «материал» (явлений, происшествий, но также и человеческих ресурсов) для лепки ею себя. Что все это говорит нам о «реверсе времени» как определяющей черте революции? июля стало началом революции никак не раньше ⁸³ См. Lefebvre G. The Coming of the French Revolution, tr. R. R. Palmer. Princeton (NJ ): Princeton University Press, (гл. ). 32 Борис Капустин или июля. Его сделали таким началом не сами по себе происшествия этого дня, а реакция на них, с одной стороны, короля, а с другой — тех, кто до или июля были лишь «знаком без обозначаемого», т. е. «представителями народа», который еще отсутствовал. Hôtel des Invalides и Бастилию брал не народ-суверен. Их брали толпы возбужденных и напуганных парижан. И сами по себе эти акции вписывались в логику «старого порядка» — мало ли он знал бунтов, вызванных его преступлениями и «дисфункциями», в ходе которых мятежники одерживали и гораздо более впечатляющие победы, чем бескровный захват Hôtel des Invalides или овладение Бастилией, защищаемой небольшой командой отставных ветеранов? Но эти сами по себе довольно заурядные происшествия были таким образом признаны верховной властью, т. е. королем, и «генералами без армии», т. е. Национальным собранием, что они оказались включены в совершенно новую, дотоле неизвестную логику — логику «свободной причинности», наделившей эти происшествия достоинством Начала и «основополагающего акта». Ошибочно считать, будто эта новая логика была кем-то (королем или членами Собрания) придумана или будто эти происшествия были всего лишь названы Началом, так что их подлинная «сущность» от такого переименования не изменилась. Нет, новую логику никто не придумал — она сложилась непреднамеренно из действий и решений, преследующих цели, которые соответствовали modus operandi «старого порядка». Король отвел войска и призвал Неккера, т. к. ему, вероятно, нужна была пауза для консолидации сил и поскольку — в логике бунтов, а не революций — иногда бывает лучше дать беспорядкам возможность истощить себя собственной бесплодностью. А «генералам без армии» была нужна армия — прежде всего как угроза королю для усиления своих позиций в торге с ним. Но в том и дело, что пути следования этим вполне «посюсторонним» целям пересеклись таким образом, что достичь ни одну из них в логике «старого порядка» стало невозможно. Он треснул, и в этой трещине — помимо сознательных целей и устремлений всех тогдашних действующих лиц — возникла новая логика: логика революции. И она сразу преобразовала всех участников драмы: парижские толпы превратились в народ-суверен и стали все более уверенно вести себя в этом качестве; «генералы без армии» обрели ее и стали-таки представителями народа (хотя бурные преобразования последнего в ходе революции лишали их одного за другим этого звания и отправляли — кого на эшафот, кого в изгнание, кого в политическое небытие). И король приобрел новое качество — еще не «гражданина Капета», но уже, как сказал при его встрече июля года новый мэр Парижа, «короля, отвоеванного народом» — в противоположность качеству Генриха IV , который въезжал в столицу как «король, отвоевавший свой народ»⁸⁴. ⁸⁴ Цит. по Sewell W. H. Op. cit. P. . ЛKOKQ 6, 2008 33 II . «Конституирование субъекта» (субъектов) — другая определяющая черта революции как события. Иллюстрацией этому и может служить описанное выше обретение королем, членами Национального собрания, парижскими толпами (и не только парижскими) нового качества, или идентичностей, как сейчас принято говорить, и их практические действия в логике этого нового качества или этих новых идентичностей. К их числу, конечно, нужно добавить и такие новые идентичности, как «контрреволюционеры», «колеблющиеся» (названные якобинцами «подозрительными»), «попутчики» и другие, которые создает сама революция, которые отнюдь не совпадают с политическими и социально-экономическими категориями, описывающими группировки и деления обитателей «старого порядка», и подвижные, меняющиеся взаимоотношения между которыми и составляют «процесс революции». Исходным пунктом рассуждений о «конституировании субъекта» является тезис о том, что субъект революции не предшествует ей, а создается ею самой. Дело не обстоит таким образом, что еще до революции имеются силы, готовые ее осуществить и чьей программой она является, а также другие силы, решившие революцию предотвратить, а коли она начнется, то подавить ее⁸⁵. Представление об уже запрограммированных на определенные виды деятельности силах, для которых практика — лишь исполнение их программ, а не творческое одновременное изменение обстоятельств и человеческой деятельности, т. е. самих людей, как определял в «Тезисах о Фейербахе» революционную практику Маркс, необходимо предполагает именно «метафизического субъекта». Этот субъект стоит в своей полной определенности, цельности и законченном самопонимании перед практикой, которая для него — лишь способ самореализации, т. е. реализации того, что он уже есть до и вне этой практики. Он автономен по отношению к практике — любым возможным видам практики («сущность» сил, «готовых к революции», не меняется от того, приходится ли им действовать в условиях торжества реакции или наступления революции), как кантовский моральный субъект автономен по отношению к любой гетерономии. Поэтому такой субъект в принципе является «универсальным», т. е. независимым от ситуаций и контекстов, в которых он себя обнаруживает. Такому субъекту теория события противопоставляет другого субъекта. Как описывает его Бадью, «этот субъект будет исключитель⁸⁵ О революции можно сколько угодно говорить, «готовить» и даже предчувствовать ее, но это ничего не скажет о готовности реальных сил ее совершить. Бляхер с точной иронией замечает, что в Европе начала XX века (но также и последних десятилетий века XIX ) просто не было «нереволюционеров» (см. Концепт «революция».., с. ). Стоит только добавить, что после Парижской коммуны не было и никаких революций. 34 Борис Капустин ным, а не универсальным, и он будет исключительным, поскольку всегда будет являться событием, которое конституирует субъект как свою истину»⁸⁶. Создание революционным событием своих собственных исполнителей, т. е. революционных субъектов, нуждается в объяснении: ведь им просто неоткуда взяться, иначе как из объектов «старого порядка», т. е. тех организованных и воспроизводимых им социальных групп, которые подчинялись присущей его природе «естественной причинности». Как происходит трансформация объектов в субъекты? Рассуждение об этом следует начать с того, что ни одно общество не является монолитным, «системой» в строгом смысле данного понятия, воспроизводящейся и развивающейся в соответствии со своей имманентной логикой. Оно всегда является «чешуйчатым» — наложением друг на друга экономических, социальных, политических, культурных структур, имеющих разное происхождение и разные логики функционирования, но (до поры до времени) удерживаемых вместе скрепой некоей доминантной логики, скажем, капиталистического способа производства или феодальных сеньориальных отношений. Этот «чешуйчатый» характер общества на уровне методологической рефлексии и применительно к построению его «общей теории» точно ухватил Йозеф Шумпетер. Приведу полностью его формулировку: «Каждая социальная ситуация является наследием предыдущих ситуаций и перенимает от них не только их культуру, предрасположенности и их „дух“, но и элементы социальной структуры и концентраций власти. <…> Ни одна социальная пирамида не бывает сделана из однородной субстанции и не бывает бесшовной. Нет единого Zeitgeist — разве что в виде [теоретического] конструкта. Это означает, что, пытаясь объяснить исторический путь или историческую ситуацию, необходимо принять во внимание наличие в ней многого такого, что чуждо ее собственным тенденциям и что существует как «пережитки». Все это самоочевидно, но часто выступает причиной практических трудностей и проблем с диагностикой социальных ситуаций. Другое следствие этого состоит в том, что сосуществование принципиально разных ментальностей и групп «объективных фактов» должно стать частью любой общей теории [общественной жизни]»⁸⁷. Взаимодействие доминантной логики данного общества с тем «многим» в нем, что ей «чуждо», многообразно и противоречиво. Результатами его могут быть и ассимиляция части этого «многого» доминантной логикой (классический пример — капиталистическая трансформация аграрных отношений), и эксплуатация другой его части в качестве своих опор (неоплачиваемый женский труд внутри семьи по воспроиз⁸⁶ ⁸⁷ Badiou A. Infinite Thought... P. . Schumpeter J. A. Imperialism and Social Classes, ed. P. M. Sweezy. NY : A. M. Kelley, . Pp. – (курсив мой. — Б. К.). ЛKOKQ 6, 2008 35 водству потребляемой капиталом рабочей силы), и модификация / адаптация самой доминантной логики к третьим элементам этого чуждого ей «многого» (мутация капитализма, включая частичную декоммодификацию рабочей силы, в условиях «государства благосостояния»). Так или иначе, доминантная логика и непосредственно воплощающая ее доминантная структура всегда соотносится с Другим (чуждым ей «многим»), полагает себя через Другого и тем самым полагает Другого через его соотнесение с собой. В таких соотнесениях и полаганиях, которым всегда присуща та или иная степень напряженности и конфликтности, доминантная логика стремится воспроизвести общество в качестве повторяющегося образца сочетания и взаимоувязки того «многого», что составляет данное общество. Пока такие повторения образца происходят, хотя абсолютно точными они никогда не могут быть⁸⁸, социальные группы данного общества воспроизводятся в качестве объектов доминантной логики, условия существования которых с необходимостью детерминированы ею. Положение меняется, когда такие повторения дают сбои, когда доминантная логика не может по «прежним правилам» положить себя в Другом, а Другое — по тем же правилам — соотнести с собой. Другое оказывается в недостаточной степени детерминировано доминантной логикой, а она сама ищет нестандартные, не присущие ей самой способы сохранить себя в качестве modus operandi данного общества и таким путем — вопреки возникшим трудностям — добиться все же повторения образца. Такой выход доминантной логики за ее собственные рамки Лаклау передает понятием «смещения (dislocation) структуры», а такую недостаточную детерминированность Другого — «заброшенностью в ситуацию неопределенности», которая и есть возможность свободы⁸⁹. Канун Французской революции дает этому отличную историческую иллюстрацию. Глубокий фискальный и финансовый кризис монархии, вызванный ее собственными операциями и обычаями (от милитаризма и военных авантюр до расточительности двора и усиления традиционного давления на крестьянство и городские низы в целях пополнения казны), потребовал нестандартных действий, выходящих за рамки логики абсолютизма. Таким шагом был, как известно, созыв Генеральных штатов, не собиравшихся с года, что само по себе показывает чуждость этого органа механизму абсолютной монархии. Но подготовка этого шага потребовала целого ряда таких действий, включая резкое ослабление цензуры и создание форм политической артикуляции недовольства населения — в виде собираемых по всей стране для Генераль⁸⁸ ⁸⁹ Экспансивное развитие по модели «перманентной буржуазной революции», которая обсуждалась нами ранее, можно рассмотреть в качестве повторения образца «буржуазного общества» на все более разрастающемся социально-экономическом и культурном материале, беря такое разрастание в эволюционной перспективе. См. Laclau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. L-NY : Verso, . Pp. – . 36 Борис Капустин ных штатов Cahiers de doléances, которые сами по себе привели к существенному «смещению структуры». Дальнейшее известно. Важно иметь в виду, что такое «смещение» есть не необходимый момент в восходящем развитии общества, а открытие поля возможностей, которое для самой «сместившейся» доминантной структуры выступает непреднамеренным следствием ее действий, направленных на самовоспроизводство, на повторение старого образца. В собственной логике доминантная структура не признает возникновение этого поля, и само его существование зависит от того, что кто-то вопреки такому непризнанию начинает использовать «смещение структуры» как возможность для действий нового типа, немыслимых ранее. Поле возможностей как следствие «смещения структуры» есть, таким образом, не «объективная данность» социального бытия, а характеристика практик, могущих возникнуть благодаря их недостаточной детерминированности доминантной структурой, но не предопределенных этой недостаточностью. Вследствие этого такие практики случайны — в смысле их невыводимости из «естественной причинности» «старого порядка» и зависимости от «стечения обстоятельств», одним из которых выступает сознательное отношение социальных групп к возникшему факту их недостаточной детерминации «сместившейся структурой». Но (то или иное) сознательное отношение к этому факту становится необходимостью: автоматическое следование ритуалам повседневности, делающее рефлексивное самоопределение не столько в принципе исключенным, сколько излишним и чересчур обременительным, становится невозможным в ситуации недостаточной детерминированности. Какие-то нестандартные решения приходится принимать просто потому, что знакомая и вошедшая в рефлексы организация жизни не срабатывает. Это крайне важно: свобода есть порождение ситуационных неудобств и опасностей, а не атрибут автономного Разума. Она есть бремя, которое приходится на себя взваливать, а не данная нам (богом, человеческой природой или добродетельными правителями) благодать. Люди становятся субъектами, т. е. существами, способными к «самозаконодательству», по принуждению обстоятельств, с которыми они не могут иным образом справиться, а не по зову своей нравственной природы. И эта свобода, и эта субъектная форма их существования есть для них средства преодоления возникших затруднений, а не самоцель. Трудно представить себе что-то более неверное, чем дышащая истинным благородством формула Токвиля — «кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее саму, тот создан для рабства»⁹⁰. Или точнее сказать так: это — чисто аристократическое видение свободы, подходящее для тех, для кого «социальный вопрос» — по Арендт — может быть оставлен по ту сторону политики, и только в тех ситуациях, в которых повседневность ⁹⁰ Токвиль А де. Старый порядок и революция. М.: Кушнарев, . C. . ЛKOKQ 6, 2008 37 как фундамент их жизни не пошла трещинами и не обернулась сверхвопросом «а как же жить в таких условиях дальше?». Хотя, с другой стороны, на определенном этапе развития субъектности и революции свобода-средство может превращаться в свободу-самоцель, вернее — подобно тому как аристотелевская справедливость является для полиса и высшим благом, и благом как средством для иного — совмещать инструментальность и самоценность в качестве своих ипостасей. И это тоже нужно понять в динамике революции как события. Однако от открытия поля возможностей на уровне индивидуального самоопределения до возникновения коллективных революционных субъектов — неблизкий и отнюдь не прямой путь. Маневр «смещения» доминантной структуры может у нее получиться, и она «повторит» себя, пусть в измененном виде, но зато подавив ростки политической субъектности. Вероятно, так можно интерпретировать маневр нэповского «отступления», по выражению Ленина, большевистской власти после «военного коммунизма», закончившийся сталинской ее консолидацией в конце -х годов. Или «смещение» может привести к формированию политических субъектов только на уровне (противоборствующих) элит, и в таких случаях возникнут так называемые революции сверху, классическими примерами которых являются японская «революция Мэйдзи» и «кемалистская революция» в Турции. Но и развитие политической субъектности «снизу» может быть остановлено (и даже повернуто вспять) на разных его фазах. Более того, формируемая самой революцией доминантная структура стремится к тому, чтобы сделать это, как только ей удается более-менее встать на ноги, на каждом очередном этапе революции, на который ее переводит именно неудача предыдущей попытки остановить идущий «снизу» рост демократических революционных субъектов. Об этом и свидетельствует описанная выше попытка самого Национального собрания закончить революцию, начавшуюся июля, той же датой, переведя дальнейшее развитие сугубо в «законное русло» и исключив новые вспышки самодеятельности низов. Поскольку это не удалось, постольку революция вышла на этап, ознаменованный законами «ночи августа». И якобинцы стремились положить конец росту революционной субъектности, причем им это удалось много лучше, чем предшественникам (посредством разгрома эбертистов и «бешеных», ослабления народных секций и т. д.), что и сделало возможным Термидор как полную — в рамках Французской революции — остановку развития революционных субъектов и начало их разложения, итог чему подвел бонапартизм. В свете этого контрреволюцию — в отличие от «антиреволюции»⁹¹ — следует понимать не как то, что манихейски противостоит революции, но как внутренний момент последней. Контрреволюция — необходи⁹¹ См. сноску . 38 Борис Капустин мый момент структурирования самих революционных субъектов, которое в то же время есть их отрицание, т. е. подавление их самодеятельности организацией, необходимой для их же успеха. В этом смысле контрреволюционерами были не только термидорианцы, но и сами якобинцы, революционно действовавшие, конечно же, только под давлением низов⁹², которых они стремились обуздать, и «патриоты» Национального собрания, желавшие завершить революцию июля года, и вообще любое руководство революции на любом ее этапе. Как и почему это происходит, объясняет теория гегемонии. Гегемония есть метод (наряду с насилием) конструирования и воспроизводства «исторического блока»⁹³, который предполагает «этико-политическое» руководство одних сил при «добровольном согласии» других, подчиненных сил. Это есть «правление посредством постоянно организованного согласия»⁹⁴. У Грамши под «силами» фигурируют «классы», хотя и предстающие в их политическом, «гегемонном», а не «корпоративно» — экономическом бытии, т. е. как акторы жизни общества в целом, а не как персонификации факторов экономического производства⁹⁵. Но такое «классовое» прочтение гегемонии оправдано лишь постольку, поскольку имеет место, действительно, «постоянно организованное согласие» подчиненных. Такая организация их согласия и обеспечивает их бытие именно в качестве классов, т. е. устойчивых «общностей», этико-политически детерминированных доминантной структурой настолько, что они уже могут — в качестве объектов такой детерминации — болееменее автоматически воспроизводиться экономикой. Созданный по классовым параметрам и на основе «постоянно организованного согласия» «исторический блок» и есть то завершение развития революционного субъекта, которое в то же время есть его конец — в виде структурного «окостенения» и превращения в повторяющийся образец отношений субординации «ведущих» и «ведомых». Революционный субъект есть незавершенная структура гегемонии, спо⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ А. Тарасов, ссылаясь на А. Собуля и Я. Захера, верно подчеркивает, что «лишь под постоянным нажимом „снизу“, под прямым действием санкюлотов Комитет [общественного спасения] шел на шаги, которые… спасли революцию и республику» (Тарасов А. Необходимость Робеспьера 6 Концепт «революция»... C. , ). Сжатое и четкое представление грамшианской концепции «исторического блока» см. Bobbio N. «Gramsci and the Conception of Civil Society», in Gramsci and Marxist Theory, ed. C. Mouffe. L.: Routledge and Kegan Paul, . Pp. ff. См. Gramsci A. Selections from the Prison Notebooks, tr. Q. Hoare and G. Nowell Smith. L.: Lawrence and Wishart, . Pp. n, , . У меня нет здесь возможности обсуждать то, каким образом экономическое бытие классов и их экономические «идентичности» конституируются политически, что и позволяет «экономике» в капиталистической формации выступать детерминирующей политику (и другие общественные сферы) силой. Об этом см. Balibar E. «Marx, the Joker in the Pack (or the Included Middle)», in Economy and Society. . Vol. . No. . Pp. – ; Rosenthal J. «Who Practices Hegemony? Class Division and the Subject of Politics», in Cultural Critique. . No. . Pp. – . ЛKOKQ 6, 2008 39 собная вновь и вновь дестабилизировать себя на каждом новом этапе своего развития. Революционный субъект как коллективный многосоставный актор невозможен без организации и, следовательно, без отношения «ведущих» и «ведомых». Толпы парижан, захватывающие Hôtel des Invalides и Бастилию, были именно толпами, а не революционным субъектом, которым они стали, лишь вступив в определенные практические отношения «лояльности» к новому политическому классу, формирующемуся в Национальном собрании и вокруг него. Но если бы эти отношения приобрели черты «постоянно организованного согласия», то революция, действительно, завершилась бы июля. Она продолжилась именно потому и постольку, поскольку «ведомые» в революционной структуре гегемонии низы раз за разом подрывали «организованное согласие» своими самостоятельными акциями, перетряхивая ими и верхи, и всю структуру гегемонии в целом. Получается, что революционный субъект не просто конституируется революцией, но она сама есть его конституирование, и длится она ровно столько, сколько это дело продолжается⁹⁶. III . «Двойное самоотрицание» есть способ, которым революция, во-первых, конституирует себя⁹⁷ в качестве события радикального обновления общества («основополагающего события»), во-вторых, легитимирует себя в этом качестве. Ни одна революция не начинается с борьбы против статус-кво как такового или с борьбы за свободу как таковую, якобы подавленную или отчужденную существующим порядком⁹⁸. Революция (или пред-революция) начинается с конкретных многообразных и рассредоточенных ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ Не буду подробно обсуждать то, что самоочевидно: никакой политический субъект не может конституироваться в одиночестве, хотя бы потому, что главным условием этого является открытая борьба, а она может быть только борьбой с другими субъектами. Революция конституирует субъектность (естественно, различным образом) «по обе стороны баррикады». Именно в этом Жорж Сорель видел нравственное достоинство пролетарского насилия, которое было призвано «вдохнуть в буржуазию некоторую долю ее прежней энергии», присущей ей тогда, когда она «субъектно» закладывала основы современного мира (см. Сорель Ж. Размышления о насилии / Пер. В. М. Фриче. М.: Польза, . С. , ). Понятие «субъект» (за рамками метафизики) по определению предполагает интерсубъективность в качестве и своей предпосылки, и следствия. Это, конечно, гипостазирующий эвфемизм: в действительности так конституирует и легитимирует себя формирующаяся в ходе революции доминантная структура. Мишель Фуко справедливо отмечал, что представления о борьбе за свободу как таковую предполагают метафизического субъекта, который будто бы утратил ее как то, что принадлежит ему по праву. В действительности исторические обстоятельства формируют и людей, и то, что является для них свободой (разной в разных исторических контекстах). Борьбой свобода создается, а не возвращается из плена. См. Foucault M. «The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom: 40 Борис Капустин сопротивлений конкретным явлениям угнетения, ущемления, унижения, дезориентации и т. п., которые обнаруживаются, возникают или начинают восприниматься как «нестерпимые» именно вследствие того «смещения структуры», о котором говорилось выше. Лаклау прав в том, что — на этой стадии — борьба идет не против «структурности доминантной структуры», а против эффектов, вызванных ее деструктурированием, т. е. отсутствием достаточной структурированности существующего порядка⁹⁹. Непременное условие начала революции как таковой есть стягивание всех (или значительной части) этих разнородных и разнонаправленных сопротивлений в один узел, т. е. придание им единого смысла и единой направленности противостояния «режиму», «структурности структуры», точнее, ее способности реструктурироваться и (в том или ином виде) «повторить себя». Если это удастся, то борьба уже не будет распадаться на самооборону парижан от ожидаемой резни, на голодные бунты, на возмущения от чрезмерных поборов и т. д. — она выстроится как противостояние «суверенного народа» нестерпимому деспотизму. В этом и заключался великий смысл запоздалого опознания взятия Бастилии в качестве «законного» акта «народа-суверена». Так и возникла (ранняя) форма гегемонной структуры революционного субъекта¹⁰⁰. Стягивание разнородных сопротивлений в один узел означает, что они теряют самостоятельное значение в универсальной борьбе против «режима» как такового. Их разнообразные причины не столько сводятся к общему знаменателю, сколько «снимаются» в революционном антагонизме к универсальному врагу¹⁰¹. Благодаря такому «снятию» революция делает себя основополагающим актом Нового Мира, который строится как бы с «чистого листа», будь таким Новым Миром «Новый Иерусалим» кромвелевской революции, «республика добро- An Interview with Michel Foucault», in Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Michel Foucault, – , ed. P. Rabinow. Vol. . L.: Penguin Books, . P. . ⁹⁹ См. Laclau E. Op. cit. P. . ¹⁰⁰ Но даже это еще не гарантирует перерастание борьбы с эффектами «смещения структуры» в борьбу против «структурности структуры». Лишь развитие первой в определенных условиях может привести к ее трансформации во вторую. О многом в этом плане говорит то историческое свидетельство, что даже участники боев при Лексингтоне, Конкорде, Банкер Хилле и Тикандероге, оказавшихся великими вехами Американской революции, продолжали считать себя лояльными подданными британской Короны, боровшимися лишь против «заговорщиков», которые окопались на разных уровнях государственной власти. См. Countryman E. The American Revolution. NY : Hill & Wang, . P. . ¹⁰¹ В самом деле, причину того же драматического ухудшения положения с продовольствием в предреволюционной Франции трудно увидеть в самом существовании абсолютистского режима. Причин этого было много, в том числе — сохранение с ветхозаветных времен таможенных барьеров, разделявших провинции и города Франции, устранить которые вроде бы был должен сам абсолютизм в соответствии с присущей ему централизаторской логикой. ЛKOKQ 6, 2008 41 детели» Робеспьера или «коммунизм» большевиков¹⁰². Это и есть первое самоотрицание революции — отрицание ею и своих реальных истоков (самостоятельного значения сопротивлений и протестов, приведших в движение ранее политически статичные классы и тем самым сделавших возможным образование революционного субъекта), и своей «материи», которой ведь являются не только противоречия «старого порядка», но и созданные им ресурсы, от интеллектуальных и духовных до экономических и военных, позволивших революции осуществиться. Разрушение старого мира «до основания» и строительство нового с «чистого листа», т. е. основоположение Нового Мира, можно назвать «фикциями» революции или даже ее «ложным сознанием» и самосознанием. «Фикцией» при таком понимании будет и то, что мы назвали первым самоотрицанием революции. Но так же, как в известном примере Маркса «ложное» товарно-фетишистское сознание лондонского лавочника есть необходимое условие его функционирования в качестве лавочника и уже по этой причине есть необходимая сторона определенной исторической действительности, «фикции» революции не совсем фиктивны, более того, они тоже есть сторона действительности. Стягивание дореволюционных причин революции в один узел и их «снятие» в ней и есть то, что позволяет ей (к лучшему или к худшему) «штурмовать небо», преодолевать «естественную причинность» «старого порядка» и невозможным в его собственной логике образом трансформировать его. Согласимся с Бреннером и его единомышленниками в том, что капитализм может развиваться и подчинить себе общество и без того, что называют «буржуазными революциями» (см. сноску ). Но «капи¹⁰² Ленин, пожалуй, наиболее отчетливо представил логику такого «снятия», объясняя легкость победы большевиков в октябре -го тем, что они на том этапе революции выполняли эсеровскую программу («Мир! Хлеб! Земля!»), тогда как к реализации «принципов коммунизма» перешли позже (см. Ленин В. И. Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала 6 Полн. собр. соч. Т. . М.: Политиздат, . C. ). В логике такого «снятия» произошла кардинальная перестройка структуры гегемонии, определявшей революционный субъект на начальном этапе революции. Как писал Л. Троцкий, в демократической революции пролетариат осуществляет «гегемонию» (в отношениях с крестьянством), но при переходе к социализму он устанавливает «диктатуру» (См. Trotsky L. The History of the Russian Revolution. Vol. 6 Tr. M. Eastman. NY : Simon & Schuster, . P. – ). «Гегемония пролетариата» у Троцкого и есть то, что для Ленина было «революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства». Называть эту концепцию «нонсенсом» и «бредом» — на том основании, что будто бы возможна диктатура одного человека или социального слоя, но никак не двух, как это делает С. Земляной в статье в сборнике «Концепт „революция“…» (см. с. ), несуразно. История знает немало примеров не только диумвиратов и триумвиратов, но даже «тиранию тридцати». Но важнее то, что данное суждение свидетельствует о непонимании или незнании азов теории гегемонии и структурирования революционного субъекта, в логике которой формулировалась эта ленинская концепция (что, разумеется, не есть гарантия ее безукоризненности). 42 Борис Капустин тализм с революциями» и «капитализм без революций» оказываются все же весьма разными видами капитализма, и они — по крайней мере в среднесрочной исторической перспективе — открывают весьма разные возможности и для политических свобод, и для самообороны угнетенных низов. Второе самоотрицание революции есть «снятие» ею собственного событийного характера и даже сокрытие его посредством представления себя в качестве неизбежности. В рамках историзированного мировидения, которое в решающей мере — продукт самой революции, она принимает облик неизбежного проявления законов истории, изображаемых так или иначе. Так выражается стремление революции к самолегитимации, продиктованное самыми «земными» и конкретными политическими потребностями (но, как и почти любой крупный политический маневр, этот маневр может быть успешен тогда, когда в него искренне верят). Механизм этого самоотрицания в принципе такой, каким Ницше описал «забывание» в качестве явления или процесса, позволяющего установить «полезное» отношение с прошлым¹⁰³. Такое «забывание» активно, избирательно и продуктивно. Оно целенаправленно (в модальности истинного убеждения «ложного сознания») отсеивает одни элементы прошлого и сохраняет другие с тем, чтобы — в данном случае — снять событийную случайность революции и придать ей значение необходимого следствия «естественного» хода истории и в то же время — необходимой причины дальнейшего прогрессивного развития. Это и есть «натурализация» революции. Ницше был прав, говоря о том, что «забывание» есть условие неисторической длительности существования — ведь история отличается от длительности природы (и «натурализованной» эволюции) именно своей событийностью и прерывистостью. Изображение в коммунистической идеологии советского периода Октябрьской революции в качестве закономерного продукта противоречий капитализма (пусть и взорвавшихся в «слабом звене» цепи империализма, которым была Россия) и в то же время — как определившего все последующее развитие начала «строительства социализма и коммунизма», есть наглядный (и даже утрированный) пример того, как срабатывает «забывание». Только «забывание», о котором тут идет речь, не следует смешивать с сознательными фальсификациями истории, которым советская историография того же Октября дает обильные и зачастую чудовищные свидетельства. «Забывание» не только производится «честно», но и входит в механизм самого исторического действия, а не камуфлирует его (в чем состоит главная функция фальсификаций). Когда, к примеру, Че Гевара ¹⁰³ См. Ницше Ф. О пользе и вреде истории 6 О пользе и вреде истории. Сумерки кумиров. О философах. Об истине и лжи во вненравственном смысле. М.: Харвест, . C. – . ЛKOKQ 6, 2008 43 в одной и той же работе писал, что революции делаются революционерами (и в этом состоит их долг) и что они — «историческая необходимость и неизбежность»¹⁰⁴, он не стремился кого-либо мистифицировать или фальсифицировать характер Кубинской революции, хотя противоречивость этих двух утверждений очевидна. Нет, он четко и адекватно передал самопонимание и мотивационную структуру тех, кто шел на смерть ради революции, кто сделал ее и кто без такого самопонимания и такой мотивационной структуры, вероятно, не мог бы ее сделать. IV . Революции остаются в последующей истории не только в виде созданных ими (и так или иначе модифицируемых) институтов, но и в отношении к ним. Через такое отношение к ним они входят в настоящее: отношение к революциям влияет не только на то, каким люди видят мир вокруг себя, но и на то, как они ведут себя в этом мире. Отношение к революциям, как правило, противоречиво. Такие противоречия в отношении к революциям в их политическом значении для настоящего есть спор о «смысле» (той или иной) революции, а не о ее «фактах». Именно спор о «смыслах» может доходить до того, что ту или иную революцию отказываются считать революцией и переквалифицируют ее в событие другого рода. Либеральная или, наоборот, леворадикальная переквалификация Октябрьской революции в «большевистский переворот» — лишь один из примеров зыбкости бытия прошлых революций в настоящем¹⁰⁵. Но чем это, кроме силы резонанса в общественном мнении, отличается от суждения о том, что «Американская революция» — «это хорошая пропаганда, но плохая история и плохая социология»¹⁰⁶? О нескончаемых спорах относительно того, были ли события – годов в Центральной и Восточной Европе и СССР «революцией» или нет, я уже упоминал (см. сноску ). Аналогичным образом спорят о том, являются ли события, все же признаваемые «революциями», победоносными или потерпевшими поражение. В чем, в самом деле, критерии, по которым мы отличаем ¹⁰⁴ См. Che Guevara E. «Guerilla Warfare: A Method», in Venceremos! The Speeches and Writings of Che Guevara, ed. J. Gerassi. NY : Macmillan, . Pp. , . ¹⁰⁵ Переквалификацию Октябрьской революции в «государственный переворот» в сборнике «Концепт „революция“…» производит С. Земляной. См. Земляной С. Якобинская метафора и большой террор 6 Концепт «революция…». C. . ¹⁰⁶ См. Moore B. Op. cit. Pp. – . В «стандартной» английской историографии кромвелевскую революцию аттестуют не иначе, как «Великое восстание» и «междуцарствие» (Interregnum), тем самым буквально стирая революционность данного события (об этом кратко упоминает и Данн в его статье в сборнике «Концепт „революция“…». См. с. – ). Или взять нынешние споры о Французской революции, проходящие под знаком вопроса, «а имела ли она вообще место?». Обзор и анализ таких споров см. Магун А. Указ. соч. C. и далее. 44 Борис Капустин победу революции от ее поражения? Считать ли победоносной якобы пролетарскую революцию Октября года, если ее итогом стало то, что критики Октября не без основания называют (бюрократической) «диктатурой над пролетариатом», подменившей «диктатуру пролетариата»? А с другой стороны — якобы потерпевшая поражение европейская революция года. В чем состоит это поражение, помимо военных неудач революционеров, если торжествующая контрреволюция сама выполнила основную часть либеральной программы революции в скором времени после своей военной победы (от принятия конституций и установления — в тех или иных формах — режима гражданских и политических прав до отмены сеньориальной юрисдикции и феодальной административной системы)¹⁰⁷? Связь революции с настоящим осуществляется во времени и посредством времени. Наше отношение к ней в огромной мере зависит от того, каким образом во времени развертываются следствия революционного события, причем такое развертывание само зависит от борьбы политических сил в каждый данный момент времени. Это обстоятельство побуждает некоторых исследователей говорить о «бесконечности» события (концепция «бесконечного события»), т. е. считать «бесконечность» атрибутивным признаком события как такового¹⁰⁸. В результате получается еще одна версия «перманентной революции», хотя содержательно отличная от той обсуждавшейся ранее, которую предложил Куренной. «Перманентной революцией» оказывается уже не постоянное эволюционное самообновление капитализма, а растянувшееся в бесконечность событие, подобно событию «разрушения „социализма“», начавшемуся в году и продолжающемуся, по мнению Магуна, до сих пор¹⁰⁹. Я думаю, что «бесконечное событие» есть сontradictio in adjecto. Дело не только в том, что при таком понимании «событие» становит¹⁰⁷ Подробнее об этом см. Klima A. «The Bourgeois Revolution of – in Central Europe», in Revolution in History… Pp. – . В теоретическом плане такие наблюдения заставляют поставить по крайней мере два важных вопроса. Первый — насколько существенно для понимания революции и для самой квалификации неких событий в качестве революции то, что считается ее «победой» или «поражением» по военно-политическим меркам? Второй — кто вправе судить о том, «победила» или нет та или иная революция: те, кто пришли благодаря ей к власти, или «поверженные» ими, или будто бы беспристрастные наблюдатели (из числа современников и / или потомков)? Глубокое обсуждение этих вопросов, вдохновленное арендтовской философией революции, см. Tassin E. “…‘sed victa Catoni’: The Defeated Cause of Revolutions», in Social Research, . Vol. . No. . ¹⁰⁸ См. Магун А. Указ. соч. C. . Такая концепция есть противоположность идее Бадью о «верности событию» (уже завершившемуся), благодаря которой возникает «истина этого события» в виде существующего в настоящем субъекта. Такой «верный» субъект способен к мышлению и, как можно предположить, к действиям, аналогичным по типу (но не по конкретному содержанию) тем, которые характеризовали субъекта прошлой революции. См. Badiou A. «On a Finally Objectless Subject». P. . ¹⁰⁹ См. Магун. Указ. соч. C. . ЛKOKQ 6, 2008 45 ся не отличимым от «процесса» и «исторического развития» вообще и потому лишается differentia specifica. Не менее важно, что оно утрачивает связь с субъектной формой бытия своих действующих лиц, которая, в самом деле, определяет революцию, — ведь не может же Магун думать, будто «быть субъектом» есть субстанциальная, «бесконечная» и неизменная, характеристика политических сил. Что в той же России после октября года ничего в этом плане не изменилось, что публичная политика не стала быстро угасать, а в начале -х годов не исчезла практически полностью. Нет, революционные события не бесконечны, но они, действительно, своими следствиями, вокруг которых продолжается политическая борьба, входят в настоящее. Свойство так входить в настоящее есть атрибут политического, тем более — революционного, события, и именно его я назвал их «зависимостью от будущего». На языке Бадью то же самое можно выразить так: одним из определяющих революционное событие свойств является его способность вызывать к себе «верность» (см. сноску ). Эту способность нельзя понимать ни как имманентное свойство революций, которое в качестве безотказно действующей причины вызывает в нас в качестве своего следствия «верность», ни как то, что всецело зависит от нашего произвола — от того, как нас угораздит отнестись к революции или как мы предпочтем это сделать. Революция как событие, воплощающее «свободную причинность», обладает императивностью вызова и, если угодно, «соблазна». На вызов приходится так или иначе отвечать нам, живущим в логике другой, «естественной причинности» объективированных и «повторяющих себя» социально-экономических и политических порядков, но осознающим, что сами эти порядки есть продукты отрицания и самоотрицания революций. «Соблазну» свободы можно противостоять или поддаваться, но это тоже требует выбора. Императивность революции проявляется в ничем не остановимых спорах о ней, и ими же подтверждается ее сила. Поэтому конец споров о революции, достижение окончательного и бесспорного ее определения и понимания (я возвращаюсь к тому, о чем писал в самом начале эссе) засвидетельствовали бы смерть революции как события, способного проникать в настоящее и влиять на него. Нелегко представить себе, что в этом случае осталось бы от нашей Современности. Возможно, как раз то, что Куренной назвал «перманентной буржуазной революцией». Попыткам и практикам окончательно похоронить революцию нет числа. Наиболее яркие среди них — официальные чествования революций (кое-кто из нас, наверное, может припомнить, как праздновались годовщины Октября в СССР ). Грандиозный праздник -летия Французской революции прошел под знаком «революция окончена». Даже в том смысле, что о ней больше нечего спорить: либерально-умеренная «истина» революции, устанавливающая ее «суть» в Декларации прав человека и гражданина и видящая ее главного героя в Кондорсэ 46 Борис Капустин (уже не в Дантоне и, боже упаси, не в Робеспьере), утвердилась окончательно. Но после парада, прошедшего от Champs-Élysées до Place de la Concorde, тем же маршрутом двинулась «контрреволюционная» колонна с муляжом гильотины, который она намеревалась водрузить на той самой революционной площади Франции, на которой сек головы его исторический оригинал. А потом прошли китайские юноши с велосипедами, напоминая о зверстве на другой площади — Тяньанмень, о несостоявшейся революции, подавленной во имя другой, якобы победоносной коммунистической революции¹¹⁰. И получилось так, что спор о революции продолжился в рамках того самого представления, смысл которого был превратить ее в музейный экспонат. Окончательно похоронить революцию, пока продолжается Современность, в самом деле, очень непросто. ¹¹⁰ Я использую описание празднования -летия Французской революции в книге Lusebrink H-J. and R. Reichardt. Op. cit. Pp. vii-ix. ЛKOKQ 6, 2008 47 Z^ ²W ³ ´ µ³ ^¶ · XYK¸ Современная социология и/или социология Современности?¹ Двадцатый век — век общественных наук? Д вадцатый век фундаментальным образом изменил нашу жизнь, на первый взгляд благодаря, прежде всего, развитию техники и естественных наук². Но не стоит забывать и о роли общественных наук: именно в двадцатом веке они переживали свой расцвет, стали профессиональным занятием большого количества людей, были институционализированы в общественно-благотворительных, академических, учебных, исследовательских учреждениях и на протяжении всего столетия оказывали значительное влияние на то, каким образом наши общества должны быть устроены и как они должны функционировать. Социаль¹ ² Автор выражает искреннюю признательность профессору Бьорну Витроку, директору Шведского Коллегиума, Упсала, главе Международного Института Социологии, а также фонду ИНТАС за поддержку проведенной работы (грант INTAS YSF - -). См. Lepenies, W. Between Literature and Science: The Rise of Sociology. New York: Cambridge UP , . Discourses on Society: The Shaping of the Social Science Disciplines. Sociology of Sciences Yearbook. Eds. by Peter Wagner, Bjorn Wittrock, Richard P. Whitley. Dordrecht: Kluwer, . Wagner P. After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity 6 European Journal of Social Theory. () , – . Wagner P. Epistemology and Critique 6 European Journal of Social Theory. () , – . Wagner P. Two Ways of Vindicating the Political 6 European Journal of Social Theory. () , – . Wagner P. A History and Theory of the Social Sciences. Not All That Is Solid Melts Into Air. London: Sage, . Wagner, Peter. Social Theory and Political Philosophy 6 Contemporary European Social Theory. Ed. G. Delanty. London, New York: Routledge, ; – . Wagner P. Modernity as Experience and Interpretation. A New Sociology of Modernity. Cambridge: Polity, . См. Также Доклад Питера Вагнера для ЮНЕСКО , сделанный в г. 48 Андрей Меньшиков ные «технологии» потребовались как на государственном уровне — для организации огромного количества людей и ресурсов в ходе массовых войн (в особенности мировых), для решения социальных и экономических проблем, вызванных миграцией, урбанизацией, индустриализацией («социальный вопрос») и становлением национальных государств («национальный вопрос»), для организации политического процесса в массовых демократиях и для контроля над массами в тоталитарных режимах; так и на уровне негосударственных организаций — для организации массовых производств на крупных предприятиях, для эффективного менеджмента на микроуровне, для исследований массового спроса и т. п. И всe это осуществлялось как в прикладном, так и в академическом аспекте. Но кажется, что с завершением двадцатого столетия наступает и закат общественных наук, ибо на первый план выходят подходы и методы, альтернативные собственно социологическим: внимание переносится с сообществ на индивиды, нарративные интерпретации доминируют над социологическими обобщениями данных³. В целом, общественные науки также вытесняются из «дискурса властвующих», утрачивают свою легитимирующую убедительность, вырождаясь в «мониторинг» «общественного мнения». Тем не менее «основные вопросы» социологии и проблематики, артикулированные общественными науками, не исчезают. Возможно, мы переживаем период «смены парадигм», а не заката общественных наук? Для ответа на этот вопрос необходимо очертить историческую траекторию становления и институционализации общественных наук. Особый интерес в этой связи у меня вызвали работы Питера Вагнера (прежде профессора Института «Европейский Университет», Флоренция, ныне профессора университета Тренто), который несколько десятилетий своих исследовательских трудов посвятил прояснению становления общественных наук и их исторической роли в контексте Современности, который они во многом и определяли. В этом предваряющем введении я лишь кратко представлю его основные посылки и выводы касательно становления общественных наук, относительно же смысла, которым Вагнер наделяет общественные науки, точнее их современного смысла, читатель сам сможет прочесть в переведeнном тексте, следующем за этим введением. Свобода и предсказуемость Буржуазные революции, в особенности американская и французская, поставили «основные вопросы» социологии: есть ли причины, силы, факторы, которые заставляют людей делать то, что они делают; и каков коллективный результат того, что делает каждый индивид в отдельно³ См. The Return of the Grand Theories in the Human Sciences. Ed. Quentin Skinner. Worcester: Cambridge UP , . ЛKOKQ 6, 2008 49 сти, — со всей остротой и даже жестокостью. Ибо слом внешнего принуждающего авторитета (сакральности политической власти) предоставил свободу общественно-политического действия индивидам, опирающимся на собственное решение, но, перефразируя Бёрка, прежде чем поздравлять себя с наступившим освобождением, хотелось бы знать, что же собственно будут делать новоосвобождeнные и не окажемся ли мы в пучине хаоса и беззакония. Общественные теории были попыткой восстановить предсказуемость и тем самым стабильность общественной жизни через обнаружение «объективных закономерностей общественных процессов». Более того, именно это новое состояние, открывшее «апорию свободы», сделало наши знания об обществе основой и инструментом улучшения общественной жизни, ибо отсутствие внечеловеческой предзаданности делает нас способными к реформированию и ответственными за наше общество. Камеральные науки и науки о правлении (прикладные познания правителей и правительств), с одной стороны, и этика (практическая философия, более чем абстрактно рассуждающая о добродетелях индивидов и идеальном обществе) — с другой, отступают и замещаются новыми подходами и новой повесткой. Можно выделить в общем виде три варианта осмысления закономерностей общественных отношений, которые сформировались в общественных науках: во-первых, предсказывать действия исходя из общественного положения индивидов, из их принадлежности либо к некой группе людей, разделяющих общие ценности и ориентации (прежде всего «наций», как делается в разнообразных теориях культур), либо к некой группе людей, разделяющих общие социально-экономические интересы (прежде всего «классов», как делается в разнообразных теориях классов), но и в том, и в другом случае предполагается наличие некой до-индивидной общности, определяющей поступки индивидов, становящихся своего рода функциями своего «общественного места» (социология); во-вторых, предсказывать действия исходя из рациональности индивидов и целенаправленности их поступков, которые обеспечивают общий достаточно сбалансированный результат, но, предполагая тем самым известное внутреннее устройство индивида (разум доминирует) и возможность разделения сфер общественной жизни (на сферы интересов и сферы страстей) (экономика); и, наконец, предсказывать действия исходя из подсчeта позиций и поступков индивидов без выяснения причин и потому без особых предположений, но по законам больших чисел (статистика). Проблематики общественных наук и их развитие Завоевание общественными науками позиции в общественном контексте в разных странах складывалось по-разному, но общим было то, что их институциональной основой стали университеты (производя- 50 Андрей Меньшиков щие систематическое исследовательское знание в рамках дисциплинарных повесток), а мировоззренческим горизонтом — национальные государства (нация как горизонт всякого размышления, «методологический национализм»). Две эти особенности Вагнер называет академикоинституциональная дилемма и политико-институциональная дилемма, на пересечении которых формировались фундаментальные проблематики общественных наук, последние необходимо рассмотреть более подробно. I . Локальное и универсальное Во-первых, локальное становление и развитие (от романтических теорий о выражении в науках национального духа и о пребывании знания в национальных языках до вполне практических различий в стилях академического письма и правилах академической работы) самих наук вступало в противоречие, с одной стороны, с универсальными претензиями их теоретических построений, а с другой — с постепенной интернационализацией академического процесса (в учреждается Международный Институт Социологии, начинают проводиться международные конгрессы и конференции, устанавливаются стандарты письма и правила работы), связанной со стремлением понять состояние Современности, в котором волей-неволей постепенно оказывались все. При неравенстве условий сотрудничества-соперничества борьба подходов и теорий шла на всех направлениях (институциональном — академический интерес или прикладной, общемировоззренческом — либеральные или социалистические доктрины, методологическом — количественные или качественные методы), но с -х гг. всплеск разнообразных посттеорий (постмодернизм, постколониализм, феминизм) и «антропологический переворот» (наряду со многими другими — герменевтический, лингвистический, исторический, диалогический и т. п. и т. д.) продемонстрировали как укоренeнность и незаменимость общественных наук, так и неизбежную «полипарадигмальность» подходов, которые участвуют в «глобальном обмене» интерпретаций Современности. II . Системность и применимость Во-вторых, требование теоретической ясности и систематичности исследования далеко не всегда благополучно сочетается с возможностью применения на практике и конкретной эффективностью, потому общественные науки пережили смену нескольких моделей своей полезности. Здесь важнейшим оказывается различение описательного и нормативного измерений общественных теорий. Если в классический период они гармонично сочетались: исследовательская установка на автономию человеческого действия и политическая приЛKOKQ 6, 2008 51 верженность ценности свободы — именно последнее обеспечивало возможность «цивилизованных» форм социальностей; то при анализе современных массовых обществ действия индивида и коллективные процессы уже не соединяются через признание нормативного понятия свободы, потому их чаще всего обходят методологическими средствами, скрывающими сильное присутствие нормативности. Опыт организации огромных масс, регулирования общественных процессов и контроля над экономикой во время Первой мировой войны и еe последствий, борьбы с глобальным экономическим кризисом конца -х гг., сочетаясь с вариантами позитивистской философии, продемонстрировал эффективность государственного планирования (от организованного капитализма до административного социализма) и придал оптимизма «социальным инженерам» разных мастей. Однако эффективность политического вмешательства, исходившего из разных, вплоть до противоположных, теоретических построений, не могла обеспечить мировоззренческого, теоретического единства науки. После Второй мировой войны альянс теории социальных систем Парсонса, ориентации на средний уровень исследования Мёртона и эмпирической методологии Лазарсфельда обеспечил фактическую гегемонию определeнного направления в общественных науках, завоевал доверие правительств и управленцев (менеджеров) разных уровней и сфер посредством учреждения политического консалтинга (policy sciences), а также превратился в политическую идеологию — теорию модернизации, тем самым объединив теорию и практику, системность и прикладную эффективность. Однако сочетание политического и когнитивного господства над обществом задавало достаточно узкое поле зрения: знание об обществе становится знанием лишь об обществе управляемом (administered society), а превращение «критического интеллектуала» в policy designer вызывает недовольство возникновением «нового господствующего класса» — менеджеров. Сложности со становлением государства благосостояния, «неровности» мирового процесса модернизации, а также параллельные процессы переоценки наших когнитивных возможностей, уже упомянутые выше, признание значимости интерпретативных подходов, и в особенности проблемы связи между знанием и применением знания на практике, приводят к разочарованию в союзе государства и общественных наук, «кризису социологии» и всплеску неолиберализма. Тем не менее сложности понимания общества (или даже возможная непознаваемость) не снимают потребности в теоретическом знании и прикладном исследовании. III . Цельное мировоззрение и дисциплинарные рамки В-третьих, необходимость конкретных дисциплинарных исследований вступала в противоречие с необходимостью мировоззренческо- 52 Андрей Меньшиков го когнитивного единства. Поскольку в ходе национального становления общественных наук сложились разные «констелляции» дисциплинарных компонентов (эмансипация их от философии или истории, или экономики, доля математических или интерпретативных методов, баланс теории и применимости), а также вследствие различий в национальных критериях дисциплинарных демаркаций единая матрица дисциплин была невозможна, более того, это предполагало бы, что мир структурен и делим на сферы в соответствии с нашими представлениями. Всe углубляющаяся специализация демонстрировала, что общество не «схватывается» специализированными «сетями» дисциплинарных исследований и требует не-, транс- междисциплинарных исследований, т. е. вела к «дисциплинарной эрозии» и попыткам «новых синтезов», как например, социология Больтански и Тевено. IV . Научный статус и научная конкуренция В-четвeртых, борьба за научность самих общественных наук, за самостоятельность и профессионализацию приводила их к конфликту-сотрудничеству с другими устоявшимися науками, в результате чего требовалось консолидировать собственное специфическое мировоззренческое и методологическое «ядро» (к -м гг. — количественные методы, эмпирические исследования, отказ от метафизических установок), максимальным выражением которого стали заявления о «конце идеологии», свидетельствующие об эпистемическом закрытии, но критические подходы (история, социология и антропология самих общественных наук) настаивали на исторической обусловленности всего проекта «изобретения общества» (Донзело), создании «социологической позиции» (Манан) и «практик обоснования» (Больтански и Тевено). Потому конкуренция с другими науками, а также подходов внутри самих общественных наук, сохраняет свою силу и гарантирует плюрализм. Новые перспективы и наследие прошлого Историческая динамика вышеописанных проблематик свидетельствует о фундаментальной переоценке когнитивных оснований, мировоззренческого содержания, методологических установок и претензий на легитимность общественно-научного знания, однако их институциональная база, как академическая, так и прикладная, может служить хорошим ресурсом для того, чтобы этот кризис пережить и решать назревшие теоретические и практические проблемы. Следующие направления размышлений, по мнению Вагнера, представляются наиболее важными: во-первых, размышлять об условиях собственной возможности; во-вторых, помнить, что обязательство и обещание общественных улучшений посредством прикладных исслеЛKOKQ 6, 2008 53 дований не должны затемнять академическую универсальность; в-третьих, не принимать сложившуюся дисциплинарную структуру за естественное деление мира и признать разнообразие возможных метафизик; в-четвeртых, осознавать, что «конституционные» вопросы остаются и пересматриваются (существует многообразие миротворчества и общение поверх границ лишь поможет прояснить возможности их существования). Профессионалы и простецы: кто знает общество лучше? В целом, происходящие перемены можно назвать, пользуясь предложенным в Ежегоднике социологии знания термином, демократизацией экспертизы. Демократизацией, которая проистекает не только из политического климата, но и из эпистемологии: как показали Больтански и Тевено, обществоведы-профессионалы и простые люди, ориентирующиеся в обществе, обладают не просто теми же способностями, но и сходными методами по осмыслению тех общественных процессов, в которых они участвуют и за которыми они наблюдают. Потому меняется роль практик обществоведческой экспертизы: смещается граница между всеми известными публичными экспертами (академическими — исследователями, медийными — opinion makers, специализированно-профессиональными — лоббисты, консультанты и т. п.) и частными экспертами — простыми людьми, которые обсуждают и обдумывают происходящее в обществе, но в своeм кругу, в сети своих горизонтальных коммуникаций⁴. Осознание важности роли «знания об обществе» простых людей, ибо именно их знание структурирует их практики, а тем самым и само общество, а также понимание того, что именно из осмысленных акторами практик состоит ткань общества, и того, что реальные общественные изменения возможны только при изменениях на этом микроуровне, фундаментально меняет повестку обществоведческих исследований. Подводя итоги, хочу напомнить, что мы рассмотрели становление и динамику общественных наук в двадцатом столетии по четырeм направлениям-проблематикам (локальное—универсальное, теоретическое—практическое, мировоззренческое—дисциплинарнное, статусное—конкурентное) и обнаружили смену парадигм как на методологическом (плюрализм методов, важность интерпретативных методик, междисциплинарность), так и на онтологическом уровнях (общество существует в и через действия индивидов, общественные институты существуют через практики людей, в современном обществе не столь⁴ См. для сравнения два методологически альтернативных подхода: Boltanski L., Thévenot L. On Justification, Economies of Worth. Tr. by C Porter. Princeton: Princeton UP , . The Social Logic of Politics. Personal Networks as Contexts for political Behavior. Ed. Alan S. Zuckerman. Philadelphia: Temple UP , . 54 Андрей Меньшиков ко «доминирующий дискурс», или «знание господствующих», сколько коммуникативные практики и смыслы, которые создаются и реализуются простыми людьми, определяют, что оно — современное общество — собой представляет). В этой перспективе, мне кажется, текст Питера Вагнера «Социальная теория и политическая философия» приобретает особенно актуальное звучание. ЛKOKQ 6, 2008 55 [X ]³ W ¸ Z O ^³W Социальная теория и политическая философия С вои ключевые вопросы общественные науки унаследовали от политической философии. С такого утверждения свое исследование «Об обосновании» (; ) начинают Люк Больтански и Лоран Тевно, чтобы затем показать, что даже наиболее четко выделенные теоретические подходы в общественных науках — онтологический холизм в большей части социологии и индивидуализм в экономике — следует считать социальными метафизиками, пусть противостоящими, но едиными в своей неспособности понять общий принцип, лежащий в их фундаменте. Пытаясь найти теоретическое объяснение возможности согласия между индивидами, каждый из подходов предполагает лишь единственное основание для такого согласия — «коллективную идентичность либо рыночную стоимость» () — пренебрегая, однако, рассмотрением того, каким образом возникает именно такая, а не иная форма согласия. Больтански и Тевно называют эту операцию «редукцией политической метафизики в общественных науках» () и посвящают свое исследование «обнаружению скрытой политической метафизики». Эта операция, однако, «довольно трудна вследствие разрыва с философией, посредством которого экономика и социология конституировали себя как научные дисциплины... И та и другая родились от политических философий, служивших им матрицами, тех философий, в которых их метафизические положения вполне очевидны» ()¹. Реконструкция различных метафизик, лежащих в основании общественно-научных логик, проделанная в «Об обосновании», обеспечила «смену научных парадигм», породившую исследовательские проекты группы Больтански и Тевно, которые я уже рассматривал (Вагнер , Вагнер ). Резервуары морально-политических оценок, к которым ¹ Переводы мои собственные. 56 Питер Вагнер обращаются люди при необходимости обосновать свои действия и мнения, являются практическими политическими философиями, происходящими от канонических подходов в политической теории. Таким образом, нормативная политическая философия действительно обнаруживается эмпирически в общественной жизни; проявляется же такая форма рассуждения и моральной аргументации, как и полагается «политическому», тогда, когда возникает нужда в «основании для согласия», т. е. когда необходимо достичь консенсуса об интерпретации ситуации. Хотя эта программа является одним из главных интеллектуальных событий в социологии и политологии за последние два десятилетия, она не отвечает на все ею же самой поставленные вопросы. Наряду с другими критическими замечаниями наиболее важным было обвинение в том, что такой подход способствует возвращению «политического», пусть и в особой форме, и пренебрегает или даже опустошает «общественное». Несмотря на необоснованность такого обвинения по отношению к исследователям, этот упрек тем не менее указывает на неискоренимость барьера, возникшего вместе с подъемом общественных наук, между «политическим» и «общественным». В этой связи на первый план выходят вопросы о том, что именно было сутью «разрыва с философией», породившего общественные науки, что стало его причиной и каковы его последствия? Не стремясь дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, данный очерк лишь утверждает их важность и, возможно, намечает некие направления, где могут быть найдены ответы. Для того чтобы вполне представить себе проблемы, затрагивающие сам фундамент современной социальной теории, следует вкратце реконструировать исторический процесс разделения «общественного» и «политического» и постепенного вытеснения «политического». Отделение социальной теории от политической философии, диагностированное Больтански и Тевно, часто связывают с упадком политической философии. Если б это было так, то следовало бы утверждать, что общественные науки являются путем решения политических вопросов иными, чем философия, средствами, поскольку сами политические вопросы не исчезают. При ближайшем же рассмотрении, произошло в действительности не исчезновение политической философии, но слияние определенной формы политической теории, имеющей индивидуалистический либерализм в своей сердцевине, с довольно технократической линией в общественных науках. Этот союз жанров правил общественно-политическим миром в течение большей части послевоенного периода. Если сегодня заметны признаки конца этого господства, то самое время озаботиться пониманием его способа управления. Возникновение «общественного» из недр «политического» Со времени своего первого появления в Древней Греции термин «политическое» указывает на то, относительно чего люди (в любом сообщеЛKOKQ 6, 2008 57 стве) действуют совместно, либо на саму эту совместную деятельность относительно определенных проблем. Термин «общественное» — и его эквиваленты в других европейских языках — в свою очередь, указывает на связанность человека с другими людьми. Можно сказать, что он позволяет нам обсуждать ситуации, в которых люди выстраивают отношения друг с другом. Логически, по крайней мере, представляется, что «общественное» должно включать «политическое»: не всегда в своих отношениях с другими людьми мы выстраиваем эти отношения с целью решения общих проблем; но всегда, когда мы решаем общие проблемы, мы выстраиваем отношение друг к другу². Однако подъем общественных наук, начавшийся с конца восемнадцатого столетия и продолжающийся по сей день, вместо простого указания на разницу между формами человеческих отношений предложил особую интерпретацию этого различия. Точнее, совершенно новый способ обсуждения связей между людьми появился с вводом термина «общество»; в результате возникший в восемнадцатом столетии термин «общественные науки» постепенно, но неуклонно заменял или по меньшей мере вытеснял с центральных позиций термины «моральные и политические науки» и «наука о государстве». Термин «общество» прошел несколько ступеней в своей карьере. Первоначально он не имел прямого политического значения. «Обществом» было добровольное объединение людей, собиравшихся с определенной целью (Хейлброн : ). Постепенно, однако, он стал использоваться в моральных и политических науках, в частности в ходе дебатов во Франции и Шотландии, и стал там обозначать главный объект общественно-политической жизни. В таких сочетаниях, как «политическое общество» и «гражданское общество», он означал не что иное, как государство — но через призму теории общественного договора, т. е. как объединение людей, собравшихся с некой целью, подразумевая в данном случае, что все люди на некой территории согласны с этой целью, в отличие от более раннего «частного» смысла «общества». Таким образом, он сохранил свое изначальное значение, но использовался теперь — посредством аналогии или гипотетического допущения — для объяснения возникновения политии в условиях равной свободы. Очевидно, что термин «общественный» использовался здесь в сфере «политического»: связь между людьми была политической; люди были связаны друг с другом лишь вследствие общей потребности или цели. Однако это также был и особый способ мыслить «политическое». В гипотетическом природном состоянии, т. е. «до» заключения общественного договора, политика не существует при таком понимании. Такой подход был чужд политической мысли античности, в которой человек был существом политическим, или, другими словами, в которой совместное ² Интерпретацию политического дискурса современности как попытки снизить эту необходимость посредством «иммунизации» индивидов см. Эспозито . 58 Питер Вагнер действие было фундаментальной проблематикой человеческой жизни. Наоборот, в теории общественного договора, опирающейся на модернистский индивидуализм, человек мыслился прежде всего как существо без политических связей. Только по причине непредсказуемости или даже явной конфликтности своих общественных отношений люди устанавливают политические связи³. Вследствие такого выведения «политического» из «социального» в индивидуалистических теориях, с конца восемнадцатого века возникает в качестве следующего шага концептуального развития новая форма разделения «политического» и «общественного». «Общество» теперь стало рассматриваться как нечто вполне самостоятельное по отношению к политии, хотя и осуществляло себя через нее. В этом представлении об «обществе» как реальности sui generis между политией и индивидами (или домохозяйствами) продолжилась линия упомянутого концептуального нововведения, утверждающего, что между людьми существуют общественные связи, которые отличны от их политических связей. В большинстве общественных теорий девятнадцатого века характер и объем социальных связей концептуализировался таким образом, что мог включать и политические связи (Вагнер ). Итак, «общественное» использовалось для решения проблемы «политического», проблемы, которая оказалась неразрешимой, как я покажу далее, в условиях индивидуальной свободы. Такой подход продолжает господствовать над нашим пониманием «политического». Представление о «социальном субстрате» лежащем в основании всякой политии используется, например, для анализа отношений между европейскими демократическими национальными государствами и возникающей европейской политией (Оффе ). Правда, что в некоторых теориях, наиболее очевидно в марксизме, именно противоречие между структурой общественной связи и структурой политической связи было движущей силой изменений. Но марксизм не столько предлагает альтернативный подход, сколько переворачивает вверх ногами идею о необходимости некой структуры социальных связей для политии. Общественные связи были отделены от политических концептуально только для того, чтобы быть вновь к ним присоединенными на следующем этапе концептуального развития⁴. Отделение было необходимым изначально для утверждения индивидуалистического понимания свободы; восстановление единства было необходимо для введения свободы в рамки предсказуемости. Даже при наличии полной автономии, согласно представлениям общественных наук, люди будут руководство³ ⁴ Реконструкцию возникновения «общественной» терминологии из «политической» см. Хальберг и Виттрок ; предложение восстановить связь между «общественным» и «политическим» см. Карагианнис и Вагнер . См. очень похожие наблюдения Бруно Латура о разделении «природного» и «общественного» в «Мы никогда не были современными» (). ЛKOKQ 6, 2008 59 ваться ограниченным количеством понятных склонностей. А такая связь свободы и предсказуемости была чрезвычайно важна в тот исторический период, когда навязываемые извне ограничения на свободное принятие решений, казалось, исчезают — в период Американской и Французской революций. Революционный момент Эти революции придали институциональное оформление политическому аспекту более широкой культуры индивидуальной автономии, которая является ключевым элементом современности. В этом смысле большую часть истории с приходом современности можно рассматривать как высвобождение людей из навязанных связей, но такое освобождение не лишено проблем. Как описал некогда эту черту современности Клод Лефор (: – ): «став независимым, индивид не сменяет… одну определенность на другую... Новый модус существования индивида в горизонте демократии возникает не просто как возможность контролировать свою собственную судьбу, но также, и это не менее важно, как утрата уверенности в собственной идентичности — уверенности ранее проистекавшей из заданного индивиду положения, социального места или возможности присоединиться к легитимному авторитету». Освобождение интерпретируется здесь как рост неопределенности и случайности в жизни людей. Если бы такой взгляд был самоочевиден, то следовало бы ожидать, что после этих революций навеки в интеллектуальной сфере станут доминировать философии случайности — например, в стиле Ричарда Рорти (), — объединившие силы с либерально-индивидуалистической политической теорией⁵. Однако исторически это не так. Наоборот, «исторический момент, о котором мы говорим, проявляется таким образом, что подлинный взлет „политического“ уже содержал в себе его падение» (Манан : ). На самом деле, исторический момент свободы совпал с подъемом социальной теории. «Общество» как объект общественных наук оказалось постреволюционным открытием; или точнее, «социологическая позиция учреждается в тот момент, когда свобода становится главной чертой мира людей» (Манан : и )⁶. Такой явный парадокс вскрывает апорию политической мысли после освобождения. Сильно обобщая, можно сказать, что социальная теория и была ответом на новые условия — навлеченные, следует добавить, ⁵ ⁶ Как Рорти (: ) в самодовольстве и историко-политическом невежестве действительно утверждает: «Западная общественная и политическая мысль претерпела последнюю необходимую концептуальную революцию». Размышления об этой тезе см. Гандер . Ранний — вдохновленный Альтюссером — анализ возникновения социологии «между двумя революциями» см. Терборн . 60 Питер Вагнер собственными усилиями людей — принципиальной неопределенности и случайности. Лишившись возможности полагаться на навязываемые извне ограничения, общественно-политические мыслители начали поиск закономерностей и непрерывностей, которые не были бы результатом чьего-либо повеления или результатом творения каким-либо высшим существом. Общественная теория была способом уменьшения случайности. Проблема постреволюционной свободы Этот интеллектуальный переход может быть понят, если взглянуть на глубокий шок, который вызвали революции в общественной и политической мысли (Вагнер ). Говоря несколько схематично и в первом приближении, этот опыт потребовал замены республиканского понимания свободы либеральным⁷. Со времен Гоббса и Локка, либералы определяют свободу как невмешательство. Государство, возникшее как результат свободного договора, господствует над индивидами, но вмешивается в их свободу только в той степени, в которой это необходимо для поддержания порядка. Либеральная традиция нуждается в четкой границе между общественным и частным; каковы бы ни были общественные связи в частной сфере, они не оказывают влияния на публичную сферу, форма которой задается лишь разумом. Поскольку невмешательство «публичного» в «частное» является высшим принципом, то такой подход может предложить лишь «слабое» участие и асоциальное членство в политии. Напротив, республиканцы определяют свободу как не-господство. Опираясь через посредство Макиавелли на римскую (и греческую) политическую мысль, не-господство понимается в более сильных терминах, чем невмешательство; оно требует гарантий против вмешательства. Такие гарантии проистекают, по крайней мере, частично, от самих отношений между гражданами, т. е., другими словами, от их общественных связей, в которых водораздел между частным и публичным менее четок, и имеются более «сильное» участие и членство в политии, чем в либерализме (Петит , Скиннер , из последних работ). Историки политической мысли сегодня согласны — в большинстве своем, может быть даже слишком поспешно, но здесь не место обсуждать этот вопрос, — что республиканские ценности были в целом забыты в начале девятнадцатого века, а либеральные ценности, не бывшие до этого ни особенно сильным, ни достаточно последовательным мировоззрением, очень скоро оказались в центре политической теории в постреволюционных политиях. Несмотря на то, что именно республиканская мысль вдохновляла революции, сами революционеры ⁷ Детальная реконструкция республиканской политической мысли в Европе см. Ван Гельдерен и Скиннер . ЛKOKQ 6, 2008 61 стремились соединить две цели, которые оказались мало совместимыми. С одной стороны, они хотели преобразовать государственный суверенитет в руках монарха в народный суверенитет, т. е. опирались на расширенные понятия гражданства и свободы. С другой стороны, они мыслили эти преобразования политии только в рамках существовавших территориальных государств. Такое двойное преобразование подразумевало, во-первых, что существовавшие социальные связи между людьми, подозреваемые в том, что они пронизаны господством и привилегиями, свойственными феодальному обществу, должны были быть ослаблены или устранены. Но вследствие этого отвергался главный имевшийся ресурс для подлинного, «сильного» основания современной республики. Во-вторых, идея распространения, как можно шире, политических прав ставила под сомнение осуществимость понятии свободы, которая в республиканской традиции требует усилий от граждан и имеет существенное общественное содержание. Осторожность, казалось, требовала — в не меньшей степени от более консервативных наблюдателей — ограничить суть понятия свободы именно в тот момент, когда оно расширялось. В результате публичная сфера, полития, была лишена большей части своего «общественного» содержания, а вместо нее на первый план вышел формальный процесс, посредством которого принимались общие решения. Принятие того или иного варианта такого процедуралистского индивидуалистического либерализма стало главной причиной упадка традиции политической философии. С отказом от всякого сущностного общественного основания политии и «опорой в управлении всецело на индивидуальные эгоизм и согласие» (Вуд []: и , об учреждении США ), неизбежным казался вывод о том, что после того как разумная воля индивидов приобрела институциональную форму, политический порядок является в сущности удовлетворительным (Манан : – ). Подъем социальной теории Не все, однако, посчитали такое решение осуществимым, в особенности в Европе, где революционная борьба за права на самоопределение казалась внутренне связанной с возможностью террора. «Следствием свободы для индивидов становится то, что они могут делать, что пожелают. Мы должны знать, что они пожелают делать, прежде чем начнем всех поздравлять» (Берк []: – ), как отметил Эдмунд Берк в своих знаменитых размышлениях о Французской революции. Хотя индивидуалистический либерализм предлагает такое понимание свободы (негативное, т. е. свободы как невмешательства), каковая в принципе может соответствовать Берковским требованиям, при условии, однако, что государство способно поддерживать порядок ради и над индивидами; существует все же и другой выход из апории свободы, а именно: постараться выяснить, «что они пожелают делать» иными средствами. 62 Питер Вагнер Американская и Французская революции, таким образом, чрезвычайно способствовали изучению того, что объединяет людей: как они, собственно, организуют свою жизнь как индивидуально, так и в «ассоциациях» (Алексис де Токвиль) или «общественных движениях» (Лоренц фон Штайн), либо же в рамках политии или «нации»; какие можно ожидать закономерности и модели устройства обществ, если людям позволено их выстраивать собственными действиями без навязываемых ограничений. Это был новый поиск общественных связей, который был одновременно и главным корнем социальной теории, и политически мотивированным исследованием. Вскоре стало ясно, что имеются различные варианты концептуального рассмотрения того, «что они пожелают делать», и данное разнообразие задает именно ту социальную метафизику, с которой решили начать Больтански и Тевно в реконструкции практической политической философии. Некоторые изучаемые стратегии начинают непосредственно с положений индивидуалистического либерализма. Единственным мыслимым как онтологическим, так и методологическим основанием науки о политике в постреволюционный период стал индивид, обладающий полнотой свобод. После того как права человека были повсеместно признаны неотъемлемыми и самоочевидными, казалось само собой разумеющимся, например, для Тюрго и Кондорсе, что права человека были также и «логическим основанием науки об обществе» (Бейкер : ). В либерализме, опирающемся на права индивида, именно индивид является единственной категорией, которая не подлежит, да собственно и не может подвергнуться, обсуждению. Как только было принято это положение, открылись два главных направления для науки о «политическом». Обе теоретические формы увязывают модернистскую политическую философию, т. е. индивидуалистический либерализм, с наукой о «политическом»⁸. С одной стороны, можно было установить посредством теоретического анализа главные признаки основной единицы мышления — индивидуального человеческого существа, а также его поступков. С тех пор как эта единица стала онтологическим началом, лишенным всяких специфических, исторических или общественных связей с миром, характеризовать ее было возможно только исходя из неких внутренне присущих свойств. В ходе ранних обсуждений эти свойства представлялись двояко: как страсти и как интересы. В контексте позднего Просвещения рациональную сторону этой дихотомии сочли доступной для систематического рассмотрения, что позволило выстроить научный подход в изучении хотя бы одной сферы человеческой деятельности — производства и рас⁸ Это версии «социальной теории» в нашем нынешнем понимании термина, несмотря на то, что их понимание «общественного» чрезвычайно «слабо» или точнее их сущностный интерес в «общественном» весьма ограничен; гораздо больший интерес для них представляет результат взаимодействия. ЛKOKQ 6, 2008 63 пределения материального богатства⁹. С этого началась традиция политической экономии, которая затем преобразовалась в неоклассическую экономику, а еще позднее в теорию рационального выбора. Прежняя моральная и политическая философия раскололась на политическую теорию, опирающуюся на идею общественного договора, и рационализированную моральную теорию, основанную на идее обмена. И в том, и в другом случае началом для всякого рассуждения и базовой единицей анализа остается индивид. Хотя политическая экономия опиралась на весьма абстрактный, и потому весьма привлекательный, тезис о рациональности человека, другой вывод из базового индивидуалистического принципа был гораздо скромнее. Избегая каких бы то ни было предположений о движущих человеком силах, статистический подход, часто именуемый политической арифметикой, ограничился сбором выражаемой в числах информации о человеческом поведении. Такой подход фактически выхолостил всякие сущностные предположения, но обратно пропорционально увеличил методологическую зависимость от математики (Дерозьер ). Итак, два направления политической мысли, существовавшие и развивавшиеся в течение некоторого времени, поднялись на новый уровень и утвердились как политическая экономия и политическая арифметика. Как свидетельствуют сами названия, в конце восемнадцатого века они явным образом были связаны с политикой. Но и той, и другой предстояло утратить эту связь (и прилагательное «политическая») в девятнадцатом столетии, по мере того как они консолидировали свои методологии, а также по мере того, как использование свойственных им когнитивных форм стало господствовать в политических процессах обсуждения и принятия решений, затрагивающих общие интересы, по крайней мере, по мнению многих экономистов и статистиков. Это терминологическое изменение рассматривалось главным образом как автономизация когнитивных подходов и дифференциация наук в дисциплины. Тем не менее не следует утверждать, что экономика и статистика отдельны от политики: признав общезначимость подходов экономики и статистики, мы более не имеем для изучения ничего политического. «Общее» попросту возникает: либо из предположения о рациональности, либо из совокупности индивидуальных действий. Распространение экономического и статистического способов мыслить «общественный» мир не осталось без критики; более того, они нигде не смогли стать единственными способами. Однако как критики, так и те, кто предлагал альтернативные подходы, приняли фундаментальное изменение в политическом мышлении после появления поли⁹ Как показал Альберт Хиршман (), такая логика предполагала преобразование общественных конфигураций в направлении постоянно усиливающихся «коммерческих связей» за счет уменьшения роли других общественных связей. 64 Питер Вагнер тии, основанной на установке о свободе индивидов¹⁰. Но по мере того, как такая полития складывалась, появлялись новые проблемы. Это были главным образом проблемы либеральные, они происходили, можно сказать, из наблюдения, что не все, что требовалось для организации либеральной политии, можно было вывести из «изначальной позиции» (Ролз ). Можно выделить два основных типа проблем в связи с гипотетической «изначальной позицией», в каковой индивиды находятся под «покровом неведения». С одной стороны, из рассмотрения, опирающегося на предположение о свободе и равенстве индивидов, проистекает весьма ограниченное количество выводов. Отношения таких индивидов структурировались в соответствии с политически значимыми «до-политическими» социальными фактами, т. е. с ориентациями и связями между людьми, которые, предполагалось, существовали до того, как индивиды вступили в политическую коммуникацию и обсуждение принятия решений. С другой стороны, действие самих либеральных норм порождает новые типы общественных отношений, «пост-политических» отношений, которые в свою очередь оказывают структурное влияние на политию. Все попытки теоретизировать «до-политические» отношения начинаются с критического замечания о том, что человек, вступающий в политические отношения, не соответствует описываемому либеральной политической теорией индивиду, а допущение какой-либо «изначальной позиции» ведет лишь к серьезным ошибкам в выводах. Такая критика подчеркивает укорененность любого человека в контекстах, из которых только и проистекает всякая возможность осмысливать мир. Наиболее широким интеллектуальным движением такого типа стала культурно-лингвистическая теория границ политии, ознаменовавшая культуралистское мышление в социальной теории, а также послужившая одним из источников национализма. Контексты, однако, не обязательно определять в коллективистских формах; за последние два столетия были выработаны две альтернативы. Их можно представлять как модусы интерсубъективности, обусловленной изначальной общественной природой и взаимодействием, как например, в ранних работах Гегеля (см. напр., Хоннет , Йоас ), либо можно отталкиваться от изначального состояния «бытия-в-мире» и «бытия-с», как предложено Хайдеггером и его последователями (см. напр., Нанси ; ). И в том, и в другом случае альтернативные допущения не ведут столь прямо к концепциям о форме политии, как это происходит в коллективистских теориях. Другая основная линия постреволюционной общественной мысли исходила из представлений, во-первых, о том, что базовые либераль¹⁰ Поскольку все политии в девятнадцатом веке налагали ограничения несовместимые с полноценным индивидуалистическим либерализмом, следует уточнить, что такая полития возникла на горизонте политических дискуссий благодаря революциям, но не приобрела действительной институциональной формы. ЛKOKQ 6, 2008 65 ные установки, став эффективными правилами жизни, окажут длительные и значимые влияния на то, что обществоведы впоследствии назовут «структурой» общественных отношений. В этом смысле мы можем именовать такие отношения «пост-политическими». А во-вторых, проблемы таких отношений выступили на первый план в общественной и политической мысли в связи с тем, что либеральные установки оказались неспособны сами по себе создать и легитимировать политический порядок. Наблюдение за структурами представительства использовалось для укрепления стабильности и предсказуемости политических процедур, которые иначе казались бы подверженными любой случайности, по причине упразднения какой бы то ни было легитимности предустановленного порядка. Возможны две основные стратегии восстановления определенности: системное наблюдение и рефлексивная концептуализация. Два этих интеллектуальных ответа на политическую проблематику заложили основы двух последующих способов теоретизировать «политическое»: бихевиоризм и опирающийся на теорию представительства общественного интереса структурный функционализм. В отличие от экономики и статистики, они не исходят из индивидуалистических установок, но стремятся рассматривать общественно-политическую жизнь в чисто общественных формах. Общественная и политическая связь после подъема социальной теории Итак, все главные подходы в социальной теории можно рассматривать как способы разрешить проблему случайности после того, как утвердилась свобода человека. Теории «общественного» предлагаются для того, чтоб прояснить возможные условия и просчитать вероятности поступков и их последствий в пространстве «политического», которое распахнулось в момент, когда лишь свободная воля ее участников начала формировать политию. Философии «политического» уже давно осознавали ставки в этой игре, и с эпохи античной политической мысли вплоть до Ренессансного гуманизма они старались сформулировать доводы и сформировать пути как для принятия открытости «политического», так и для ограничения ее воздействия. Исходя главным образом из представления, что политика — это человеческая деятельность по природе открытая, плюралистичная и разнообразная (Арендт ), какая-либо когнитивная спайка свободы действия и предсказуемости результата невозможна. Но никогда еще политической философии не доводилось строить свои рассуждения на предпосылке о равной свободе всех индивидов — участников политии; именно в этих обстоятельствах, весьма парадоксально, «социологическая позиция задается в тот момент, когда понятие свободы становится главным выражением человеческого мира», перефразируя Манана еще раз. 66 Питер Вагнер Недавно такое социологическое мышление подверглось суровой критике, главным образом по причине присущего ему детерминизма. Упорядоченные результаты могут возникать только вследствие спланированных или рутинных, привычных действий, — работа и труд в терминологии Ханны Арендт, — относительно которых уверенность присутствует до того, как начаты сами действия. Напротив, политическое действие в условиях свободы не может не сопровождаться случайностью и непредсказуемостью последствий. С точки зрения Арендт, социальная теория устанавливает тем самым невозможную связь. Пытаясь выявить правила и закономерности человеческих поступков и общественного развития, социальная теория неизбежно порывает с наследием политической философии, подчеркивающей творческую активность, неискоренимое разнообразие и постоянную открытость непредсказуемым начинаниям. Именно в свете таких проблем мы стали в дискуссиях конца двадцатого века свидетелями возрождения политических философий свободы, часто выходящих за рамки понимания свободы в либеральной политической теории. Эти работы, таких авторов, как Клод Лефор, Пьер Манан или исторически ориентированный Квентин Скиннер, не являются просто вкладом в политическую философию или ее историю, они, скорее, ставят под сомнение само разделение социальной теории и политической философии. Как бы ни была с этих позиций важна критика социальной теории, простое возвращение к политической философии не сможет разрешить возникшие проблемы. Многие из исследователей не смогли учесть причины исторического упадка политической философии и сопутствующего взлета социальной теории. А те, кто смог, часто приходят к нормативному выводу о необходимости отвергнуть «открытие „общественного“» (Донзело ), поскольку прежде всего имеют в виду движение к «администрированию „общественного“» (Арендт ), забывая, однако, то, насколько политика изменилась в ответ на действительно проблемные ситуации, а не просто вследствие недопонимания «политического». Именно на таких основаниях этот очерк стремился реконструировать, пусть и чрезвычайно кратко, исторический сдвиг от «политического» к «общественному» с особым вниманием к сложившимся интерпретациям политической и общественной связи. В нашей краткой интеллектуальной истории мы видели, как за последние два столетия в европейской (и североамериканской) истории на первый план выходит понятие равной свободы. Это понятие тесным образом связано с допущением «общности человечества», выделенного Больтански и Тевно для определения общих принципов социальной метафизики. Можно отметить, что Больтански и Тевно смотрят лишь на современные способы обоснования или, точнее, что они в своей реконструкции опираются на источники политической современности. Несмотря на то, что они обращают внимание на проведенную ими таким образом границу, например в своем рассмотрении евгеЛKOKQ 6, 2008 67 ники, они не задумываются о концептуальном отношении этого допущения со способами обоснования, которые ею управляются. В нашей реконструкции демонстрируется, что это допущение находится в сердцевине индивидуалистического либерализма, доминирующей теории политической современности. Если она принимается, что в некотором смысле неизбежно, то возможны три варианта взаимодействия с этим подходом. Во-первых, можно признать индивидуалистический либерализм вполне достаточным для нормативного обоснования «современных обществ». Все, что требуется принять за аксиому, — это равная свобода наделенных правами индивидов, а все остальное можно оставить для свободного решения самих индивидов. Именно такому мнению противостоял Берк. В принятой мною терминологии оно мыслит лишь «слабую» политическую связь между людьми и не способно помыслить никакую общественную связь, которая представляла бы хоть какой-то интерес. Во-вторых, можно утверждать, что равная свобода есть лишь начало для размышлений о политической современности, для которой характерно коммуникативное взаимодействие между людьми, с целью определить, что именно они вынуждены регулировать сообща и как они должны это делать. Это республиканская позиция, которая, несмотря на привлекательность, оказывается малоосуществимой в условиях массовых обществ со сложными формами взаимодействия. Она опирается на существенное допущение о том, что политические связи складываются и постоянно пересматриваются в общественном взаимодействии, но почти ничего не говорит о сути этих связей. В-третьих, можно постараться удовлетворить желание узнать больше об основаниях человеческого взаимодействия посредством наблюдения за способами взаимодействия и их концептуализации различными вспомогательными инструментами. Именно этим путем пошли социальная теория и общественные науки, и были обвинены в сверхдетерминизме. Этот подход опирается на «сильное» понятие об общественной связи, или точнее, на множество таких понятий, но в целом предал забвению вопрос о «политическом», лежавший у его истоков. Всеобъемлющая политическая социология, вновь открывающая связь между социальной теорией и политической философией, и могущая в этом опереться на теорию обоснования в работах Больтански и Тевно, расположилась бы между второй и третьей возможностью, принимая элементы первой в качестве фона. Она принимает сущностные допущения, опора на которые задает результаты взаимодействия и позиции людей в обществе, работая в этом смысле в рамках социальной теории. Но также полагает, что опора на эти сущностные допущения сама является предметом интерпретации и возможного пересмотра, вынуждая тем самым к некому коммуникативному процессу обсуждения принятия решений, что находится в центре республиканской 68 Питер Вагнер политической философии. Итак, существует возможная теоретическая позиция, восстанавливающая единство того, что было разъединено в ходе интеллектуальной истории на протяжении последних двух столетий, — понимание «политического» и «общественного». Предстоит, однако, показать, в определенной степени вопреки установкам самих Больтански и Тевно, что из этой позиции можно развить социологию крупных общественных конфигураций, сохраняя внимание к политическим формам. Не имея возможности вдаваться в детали, проиллюстрирую это лишь на примере политической истории после Второй мировой войны в Европе¹¹. Нынешние современные политии и их потребность в обосновании Восстановление политий в этот период было отмечено особым вниманием к гражданским свободам и верховенству закона, большим, чем на всем протяжении девятнадцатого и первой половины двадцатого столетий. Мы признаем здесь влияние индивидуалистического либерализма как нормативной политической философии, лежащей в основе этой политики. Однако при ближайшем взгляде мы увидим, что относительно стабильные европейские политические системы «тридцати славных лет» (Жан Фурастье ) не были основаны на чистом процедурализме индивидуалистического либерализма. Во внутренних делах либерально-демократические национальные государства с постепенно усиливающейся политикой благосостояния демонстрировали скорее признаки компромисса между логикой либеральных обоснований и логикой, свойственной культурно-лингвистическим теориям и теориям общественного интереса. Таким образом, они соединяли рационально-индивидуалистические, культурно-лингвистические и структурно-функционалистские теории — иначе известные как либерализм, национализм и социализм, — в некое целое, которое ни в малейшей степени не было последовательным и логичным, но было вполне приемлемо для большинства населения, что и проявилось в нарастающей массовой лояльности вплоть до конца шестидесятых годов. Смутно осознавая непоследовательность этого либерально-культурно-социального компромисса, европейские политии попытались увязать эти логики в единое целое прибегнув к эмпирической науке о политике и обществе, опиравшейся на средства бихевиоризма и статистики, которая должна была вести по пути богатства и лояльности, но использование которой никогда на освободилось от технократизма. Исторически существующие политии можно в принципе считать институционализированными компромиссами базовых вариантов раз¹¹ Одно важное допущение, позволяющее сделать этот шаг таково: в условиях политической современности правила политической жизни всегда нуждаются в обосновании, или шире, от них могут потребовать обоснования. ЛKOKQ 6, 2008 69 ных способов обоснования. Индивидуалистический либерализм предоставил фон и задал ключевую проблематику, относительно которой реализовывались другие способы обоснования. Это позволяет рассматривать проблему учреждения (constitution) политии как подлинно политический вопрос, как фундамент соглашения в условиях свободы, но препятствует его рассмотрению традиционными средствами политической философии. На помощь для решения созданных таким образом проблем выступают допущения об общественной связи, в особенности культурно-лингвистической и структурно-функционалистской. Они оказываются не просто социальными теориями, но обеспечивают резервуары для обоснования, имеющего прямое касательство до политических действий. Они могут использоваться для определения, с точки зрения принципов, является ли человек членом данной политии и каково его / ее место в этой политии. Наконец, эти резервуары обоснований сами по себе недостаточны для такого определения. Ибо их использование и понятия должны быть преобразованы в категории действия, которые позволили бы точно указать конкретного человека в качестве «случая» («case»), к которому можно применять это обоснование. (см. Вагнер и Циммерманн ). Эта задача может быть выполнена прежде всего с помощью права (law), в прямой связи с наделенным правами индивидом либерализма, и статистики, в прямой связи с культурными и общественными логиками рассуждений. Эти средства позволяют создать те инструменты, которые могут стабилизировать сложные институциональные компромиссы между способами обоснования, свойственными современным политиям. Сравнительное исследование современных политий в рамках союза социальной теории и политической философии должно тогда сосредоточиться на трех вопросах: анализ разнообразных форм политической современности на основе имеющихся институциональных комбинаций индивидуалистического либерализма — в качестве неизбежной точки отсчета политической современности — с более насыщенными общественно интерпретациями человеческого бытия в мире, которые имеются в, за неимением лучшего термина, культурных и социальных теориях (см. Ламон и Тевно ; Вагнер ); исследование «культурного» разнообразия современности в рамках существующих комбинаций упомянутых теорий в качестве основных способов общественного самопонимания или, в терминах Корнелиуса Касториадиса, «значений общественного воображаемого»; и исследование использования способов обоснования с целью преодоления противоречия между (политическим) волюнтаризмом и (социальным) детерминизмом в качестве реализации верности принципу свободы в ситуационном контексте, или, в терминах Чарльза Тэйлора (), «свободы в конкретной ситуации». 70 Питер Вагнер Библиография Arendt H. (1958) The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press. Baker K. M. (1975) Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics. Chicago: University of Chicago Press. Boltanski L., Thévenot L. (1991) De la justification. Paris: Gallimard. Burke E. (1993 [1790]) Reflections on the Revolution in France. Oxford: Oxford University Press (ed. L. G. Mitchell). Desrosières A. (1993) La politique des grands nombres: Histoire de la raison statistique. Paris: La découverte. Donzelot J. (1984) L’invention du social: Essai sur le déclin des passions politiques. Paris: Fayard. Esposito R. (1998) Communitas: Origine destino della communità. Turin: Einaudi. Fourastié J., Cohen D. (2004) Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 1946 à 1975. Paris: Hachette Littératures. Gander E. (1999) The Last Conceptual Revolution: A Critique of Richard Rorty’s Political Philosophy. Albany: SUNY Press. Hallberg P., Wittrock B. (2006) «From koinonia politiké to societas civilis», In P. Wagner (ed.) The Languages of Civil Society. Oxford: Berghahn. Heilbron J. (1995) The Rise of Social Theory. Cambridge: Polity. Hirschman A. (1977) The Passions and Interests: Arguments for Capitalism before Its Triumph. Princeton: Princeton University Press. Honneth A. (1992) Kampf um Anerkennung. Frankfurt / M: Suhrkamp. Joas H. (1992) Die Kreativität des Handelns. Frankfurt / M: Suhrkamp. Karagiannis N., Wagner P. (2005) «Towards a Theory of Synagonism». In The Journal of Political Philosophy 13 (1): 232 – 265. Lamont M., Thévenot L. (eds.) (2000) Rethinking Comparative Cultural Sociology. Cambridge: Cambridge University Press. Latour B. (1991) Nous n’avons jamais étés modernes. Paris: La découverte. Lefort C. (1986) «Réversibilité: Liberté politique et liberté de l’individu». In Essais sur le politique. XIX – XX siècles. Paris: Seuil: 197 – 216. Manent P. (1994) La cité de l’homme. Paris: Fayard. Nancy J-L. (1986) La communauté désoeuvrée. Paris: Bourgois. Nancy J-L. (2001) La communauté affronté. Paris: Galilée. Offe C. (1998) «Demokratie und Wohlfahrtsstaat: Eine europäische Regimeform unter dem Stress der europäischen Integration». In W. Streeck (ed.) Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie. Frankfurt / M: Campus: 99 – 136. Pettit P. (1997) Republicanism: A Theory of Freedom and Government. Oxford: Clarendon. Rawls J. (1971) A Theory of Justice. Cambridge, MA : Harvard University Press. Rorty R. (1989) Contingency, Irony, Solidarity. Cambridge: Cambridge University Press. Skinner Q. (1998) Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press. Taylor C. (1975) Hegel. Cambridge: Cambridge University Press. Therborn G. (1976) Science, Class and Society: On the Formation of Sociology and Historical Materialism. London: New Left Books. Van Gelderen M., Skinner Q. (eds.) (2002) Republicanism: A Shared European Heritage. Cambridge: Cambridge University Press (2 vol.). ЛKOKQ 6, 2008 71 Wagner P. (1998) «Certainty and Order, Liberty and Contingency; the Birth of Social Science as Empirical Political Philosophy». In J. Heilbron, L. Magnusson, B. Wittrock (eds.) The Rise of the Social Sciences and the Formation of Modernity. Dordrecht: Kluwer: 241 – 263. Wagner P. (1999) «After Justification: Repertoires of Evaluation and the Sociology of Modernity». In European Journal of Social Theory 2 (3): 341 – 357. Wagner P. (2001) A History and Theory of Social Sciences. London: Sage. Wagner P. (2004) «Soziologie der kritischen Urteilskraft und der Rechtfertigung: Die Politik- und Moralsoziologie um Luc Boltanski und Laurent Thévenot». In S. Moebius, L. Peter, Französische Soziologie heute. Konstanz: UVK / UTB : 417 – 448. Wood G. S. (1998 [1969]) The Creation of the American Republic 1776 – 1787. Durham: University of North Carolina Press. 72 Питер Вагнер OKWZ^ ]³WVK W^ Что делает правящий класс, когда он правит? Некоторые размышления о различных подходах к изучению власти в обществе¹ К аково место власти в обществе? Каковы отношения между классом и властью? Не сложно предсказать, что ответы на эти вопросы различаются в зависимости от очевидного значения класса и власти для оценки данного общества. Сам вопрос, однако, кажется простым и незамысловатым. Оставляя в стороне идеологические пристрастия, кажется, что речь идет об известном вопросе научного метода, о том, какой метод лучше всего подходит для ответа на поставленный вопрос². Но так ли в этом вопросе все просто и ясно? Из того, что мы знаем о «парадигмах» (Кун) и «проблематике» (Альтюссер) науки, насколько велика вероятность того, что, например, пролетарского революционера и критика политической экономии (Маркс), немецкого академического историка и социологического последователя австрийского маржинализма (Вебер), сторонника джефферсоновской демократии (Миллс), поклон¹ ² Göran Therborn. What Does The Ruling Class Do When It Rules? Some Reflections on Different Approaches to The Study of Power In Society, in: Rhonda F. Levine (ed.), Enriching the Sociological Imagination: How Radical Sociology Changed the Discipline. Boulder, CO : Paradigm, . P. – . См., напр.: R. Dahl. A Critique of the Ruling Elite Model. American Political Science Review (APSR) . . P. – ; N. Polsby. How to Study Community Power: The Pluralist Alternative. Journal of Politics. . . P. – : P. Bachrach — M. Baratz. The Two Faces of Power. APSR. . . P. – ; P. Bachrach — M. Baratz. Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework. APSR. . . P. – ; R. Merelman. On the Neo-Elitist Critique of Community Power. APSR. . . P. – ; APSR. . . P. – ; F. Frey. Comment: On Issues and Nonissues in the Study of Power. APSR. . . P. – ; R. Wolfinger. Rejoinder to Frey’s ‘Comment’. APSR. . . P. – . Общее представление можно составить по книге: R. Bell, D. Edwards, and H. Wagner, (eds.) Political Power. New York: Free Press, . ЛKOKQ 6, 2008 73 ника современной либеральной экономики (Бьюкенен и Таллок, Парсонс) или приверженца некоторых господствующих сегодня политических идей (Даль, Гидденс)³ волновала одна и та же проблема и один и тот же вопрос, даже когда они использовали одни и те же слова? Оставляя в стороне более тонкие моменты и различия, мы можем выделить по крайней мере три основных подхода к изучению власти в обществе. Первым и наиболее распространенным подходом является субъективистский. С Робертом Далем, спрашивающим: «Кто правит?»⁴, или с Уильямом Домхоффом: «Кто правит Америкой?»⁵, или, по выражению британского теоретика стратификации У. Г. Рансимена, «кто правит и кем управляют?»⁶, или в воинственном плюралистическом варианте Нельсона Полсби: «Этим обществом вообще кто-то правит?»⁷ Этот субъективистский подход к проблеме власти отличается от «субъективного» в так называемых субъективных концепциях стратификации, которые рассматривают стратификацию с точки зрения субъективной оценки и признания, в отличие от стратификации, скажем, по уровню доходов и образования. Этот подход является субъективистским в том смысле, что он ищет субъекта власти. Прежде всего, он ищет ответ на вопрос: кто обладает властью? Немногие, многие, сплоченный класс семей, институциональная элита высокопоставленных лиц, занимающихся принятием решений, конкурирующие группы, все или никто? Основное внимание субъективистов сосредоточено на субъекте, обладающем властью и осуществляющем власть⁸. Общий субъективистский вопрос можно изучать и отвечать на него по-разному. Это стало причиной весьма оживленных методологических и предметных дебатов в Соединенных Штатах в – -х годах, которые идут и по сей день, между «плюралистами» и теоретиками элиты и правящего класса⁹. В сущности, это были дебаты в рамках либераль³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ Согласно Гидденсу, Соединенные Штаты являются наиболее развитым демократическим обществом в мире: A. Giddens. The Class Structure of the Advanced Societies. London: Hutchinson, . P. . Представления Даля о режиме, преобладающем в Соединенных Штатах, излагаются, среди прочего, в: R. Dahl. Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent. Chicago: Rand McNally, . R. Dahl. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale Univ. Press, . W. Domhoff. Who Rules America? Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, . W. G. Runciman. «Towards a Theory of Social Stratification», in F. Parkin, ed. The Social Analysis of Class Sructure. London: Tavistock, . P. . Polsby. Op. cit. P. . В эгалитарном подходе Бакрака и Бараца эта сфокусированность дополняется поиском того, кто, если он вообще существует, получает выгоду, а кто страдает от подобной «мобилизации». Помимо уже названных статей, см.: Bachrach and Baratz. Power and Poverty. New York; Oxford University Press, . В содержательных дебатах с элитисткой стороны выступали: F. Hunter. Community Power Structure. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, ; Миллс Ч. Р. Властвующая элита. М.: Иностранная литература, ; W. Domhoff. Op. cit. Bachrach and Baratz. Op. cit.; M. Parenti. «Power and Pluralism: A View From the Bottom», in 74 Горан Терборн ной политической идеологии и либеральной политической теории, которые брали либеральную концепцию демократии в качестве отправной точки, а затем смотрели, соответствуют или нет современные проявления либеральной демократии в современных Соединенных Штатах или других странах Запада этой концепции. Но в них также приняли участие марксистские авторы, которые в основном ограничивались этими рамками, соглашаясь сражаться на поле, выбранном врагом¹⁰. Последний случай, среди прочего, свидетельствует о глубоком влиянии господствующей идеологии, которая даже определяет формирование оппозиции самой себе. Помимо субъективистского уклона и полемики внутри него относительно различных методов и ответов, некоторые авторы, отталкивающиеся от либеральной экономической идеологии и либеральной экономической теории, подняли вопрос другого рода. Мы можем назвать это экономическим подходом. В совершенно деловой манере вопрос здесь касается не того, кто, а того, сколько. Власть считается прежде всего способностью достигать целей. Главный акцент делается на «власти к», а не на «власти над», и ключевым вопросом является не распределение, а накопление власти. Как теория власти, экономический подход имеет два основных варианта — социологический и утилитарный. Главный сторонник первого — Толкотт Парсонс. Парсонс считает власть «посредником, тождественным деньгам»¹¹, и видит в ней проявление «обобщенной способности, состоящей в том, чтобы добиваться от членов коллектива выполнения их обязательств, легитимизированных значимостью последних для целей коллектива, и допускающей возможность принуждения строптивых посредством применения к ним негативных санкций, кем бы ни являлись действующие лица этой операции»¹². В утилитарных «экономических теориях демократии» феномену власти и его осмыслению уделяется не слишком много внимания. Поли- ¹⁰ ¹¹ ¹² M. Surkin — A. Wolfe, eds., An End to Political Science. New York: Basic Books, . P. – ; M. Creson. The Un-Politics of Air Pollution. Baltimore: The John Hopkins Press, . Из работ плюралистов см.: S. D. Riesman, et al. The Lonely Crowd. New York: Doubleday Anchor, ; R. Dahl. Who Governs?; E. Banfield. Political Influence. New York: Free Press, . О методологических дебатах см. выше прим. . Наиболее важный пример: R. Miliband. The State in Capitalist Society. London: Weidenfeld & Nicolson, . Полностью противоположную позицию среди марксистов см.: N. Poulantzas. Political Power and Social Class. London: NLB , . Последний критиковался за неспособность понять проблематику своих оппонентов и, как следствие, указать на ее недостатки: E. Laclau. «The Specificity of the Political: The Poulantzas / Miliband Debate». Economy and Society (). P. – . Ограничиваясь в основном различиями между подходами к проблеме власти, настоящая статья пытается учесть критику Пуланцаса и Милибанда. В то же самое время я признателен им обоим за их ценные замечания. Парсонс Т. О понятии «политическая власть» 6 Антология мировой политической мысли. Т. . М.: Мысль, . С. . Там же. С. . ЛKOKQ 6, 2008 75 тика рассматривается с позиций «индивидуалистической теории коллективного выбора», а значение власти выводится из предполагаемого благословения рыночного обмена. «Этот подход, — пишут Бьюкенен и Таллок, — включает политическую деятельность как специфическую форму обмена, и, как и в рыночных отношениях, взаимная выгода для всех сторон предположительно вытекает из коллективных отношений. Поэтому во вполне реальном смысле политическое действие считается средством, которое позволяет увеличить власть всех участников, если мы определяем власть как способность управлять вещами, желательными для человека»¹³. Хотя можно сказать, что они разделяют общий подход к власти, вдохновленный либеральной экономикой, сосредотачивая внимание на неконфликтной «власти / способности к», между этими двумя основными вариантами экономического подхода также имеются расхождения, которые никак нельзя назвать несущественными. В социологическом варианте власть производится и действует в социальных отношениях, тогда как в утилитарной концепции она в основном представляет собой безотносительный актив. Но в обоих случаях проблемы класса и власти испаряются. Экономический подход к власти (с незначительным теоретическим развитием идей, упомянутых ранее авторов) также применялся к проблемам политического развития и «модернизации»; примером здесь могут служить работы Сэмюеля П. Хантингтона. Хантингтон придавал большее значение «накоплению власти», чем ее распределению. Он начинает свою книгу «Политический порядок в меняющихся обществах» с заявления о том, что «самое важное политическое различие между странами связано не с формой правления, а с его степенью. Различие между демократией и диктатурой — это не столько различие между странами, политика которых воплощает согласие, общность, легитимность, организацию, эффективность, стабильность, и странами, политика которых лишена этих качеств»¹⁴. «Современные политические системы различаются по объему власти в системе, а не по ее распределению»¹⁵. Хантингтон отталкивается от общих либеральных идей об экономическом развитии, а не от либеральной экономической теории. Третий подход можно было бы назвать структурно-процессуальным. Но, принимая во внимание его сфокусированность на обществе как объективной структурированной тотальности и на противоречиях, раз¹³ ¹⁴ ¹⁵ J. Buchanan — G. Tullock. The Calculus of Consent. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, . Р. . Несколько менее оптимистичный взгляд на власть Энтони Даунса касается не «власти над», а неравной «власти / способности к», из-за неравенства в информации и доходах. A. Downs. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper & Row, . P. – . S. Huntington. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale Univ. Press, . P. l. Ibid. P. . 76 Горан Терборн витии и изменениях, нам, возможно, лучше называть этот подход диалектико-материалистическим, воплощенным в новом научном изучении истории и общества, основанном Марксом, историческом материализме. Здесь основной акцент делается на исторических социальных контекстах и модальностях власти, а главный вопрос звучит так: какого рода общество? Затем: каково влияние государства на это общество, на его воспроизводство и изменение? Главная задача «Капитала» состояла не в установлении того, кто богат, а кто беден, или кто правит и кем правят, а, как заметил автор в своем предисловии, в изложении голого «экономического закона движения современного общества». То есть Маркса интересовало, прежде всего, как (вос) производятся богатство и бедность, господство и подчинение и как они могут быть изменены. Основное внимание исследования сосредоточено не на собственности или собственниках, а на капитале, то есть на (сособых исторических) производственных отношениях и их связи с производительными силами и с государством и системой идей. II Этот третий подход к проблеме власти в обществе обязан своим более «окольным» характером тому обстоятельству, что он всерьез и систематически пытается заниматься двумя фундаментальными проблемами, которыми во многом пренебрегают другие подходы. Одна касается «власти / способности к», другая — «власти над». Первый вопрос, нуждающийся в серьезном рассмотрении, звучит так: власть к чему, для чего? Какое количество власти используется для этого? Утилитарный ответ — для максимизации полезности — едва ли удовлетворителен, учитывая огромное многообразие исторических форм общества и, соответственно, систем власти. Поэтому парсонсовское рассмотрение власти с точки зрения осуществления «коллективных целей» оказывается здесь бесполезным¹⁶. Не нужно априорно считать или делать частью определения, что, как утверждает Парсонс, власть осуществляется «в интересах эффективности коллективного действия в целом»¹⁷, а не в интересах эксплуатации одного класса другим. Содержание «власти / способности к» зависит от типа общества, в котором она действует. Марксистский анализ всякого данного общества прежде всего сосредоточен на его способе или способах производства, его системе или системах производственных отношений и производительных сил. Выделяя производственные отношения, марксистский исследователь одновременно устанавливает, существуют ли в данном обществе классы и каковы эти классы, потому что классы в марксистском смыс¹⁶ ¹⁷ Парсонс. Указ. соч. С. . Там же. С. . ЛKOKQ 6, 2008 77 ле — это люди, которые занимают определенные позиции в обществе, определяемом производственными отношениями. Если непосредственное производство — в земледелии, сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте и т. д. — и присвоение и контроль произведенных излишков разделены между различными ролями, а не соединены в человеке или коллективе, тогда можно говорить о существовании классов. И различные формы разделения (рабство, феодализм, капитализм и т. д.) означают различные классы¹⁸. Определение производственных отношений относится не только к контексту политической власти. Оно также напрямую связано с вопросом власти, так как разделение между непосредственными производителями прибавочного продукта и теми, кто его присваивает, приводит к появлению особых отношений господства и подчинения¹⁹. Эксплуататорские производственные отношения напрямую связаны с отношениями господства, и в том, что можно назвать ключевым пассажем материалистической интерпретации истории у Маркса, он говорит: «специфическая экономическая форма, в которой неоплаченный прибавочный труд выкачивается из непосредственных производителей, определяет отношение господства и порабощения, каким оно вырастает непосредственно из самого производства, и, в свою очередь, оказывает на последнее определяющее обратное воздействие» (). Маркс продолжает и излагает свои представления об отношениях между экономикой и государством (содержание, истинность и плодотворность которых вызывает споры): «на этом основана вся структура экономического строя [Gemeinwesen], вырастающего из самых отношений производства, и вместе с тем его специфическая политическая структура. Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям — отношение, всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производи¹⁸ ¹⁹ Мой анализ марксистского понятия класса см.: G. Therborn. Klasser och okonomiska system. Staffanstorp: Cavefors, . См. также первую часть статьи: G. Therborn. Classes in Sweden – , in R. Scase, ed., Readings in the Swedish Class Structure. Oxford: Pergammon, . Власть в обществе, конечно, следует изучать не только с точки зрения неспецифической, надорганизационной власти организационных элит, но и с точки зрения самой формы организации, особенно формы организации труда, который различается по типу и объему господства и независимости. Но марксистский акцент на эксплуатации и классе связан с рассмотрением власти лишь в общем понимании последней — в смысле А, оказывающего значительное влияние на Б в ситуации возможных негативных санкций за строптивость Б. Определение власти с точки зрения ответственности, выбора и согласия и разграничение между судьбой, принуждением, авторитетом, манипулированием и властью присущи субъективистскому дискурсу и как таковые лежат за рамками собственно марксистского анализа. Последний начинается не с «точки зрения действующего лица», а точки зрения разворачивающихся социальных процессов. 78 Горан Терборн тельной силе последнего, — вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства»²⁰. Для сторонников субъективистского подхода — как в плюралистическом, так и в элитистском варианте — формулирование проблемы «власти, чтобы делать что?» означает вопрос: Что делают правители, когда они правят? Куда вожди ведут ведомых? Утверждение или допущение, что правители, когда правят, поддерживают свое правящее положение, в лучшем случае тривиально — и зачастую совершенно ошибочно. Намеренно или нет правители влияют или не влияют на управляемых, и одни и те же субъекты власти — с точки зрения личной истории и существующих межличностных отношений — могут влиять на управляемых совершенно по-разному. При плюрализме или элитизме влияние оказывается различным, и то же можно сказать и о военных правительствах и централизованных «олигархических» организациях²¹. И правящий класс может осуществлять и поддерживать свое правление множеством способов, не обязательно поставляя политические кадры из своих собственных рядов. Поэтому, возможно, лучше утверждать, что правители и правящие классы разумнее выделять не по их именам и численности, их социальному происхождению и карьере во власти, хотя все это, конечно, играет свою роль, а по их действиям, то есть по объективным следствиям их действий. С этой точки зрения марксисты вмешиваются в субъективистскую дискуссию, поляризованную вокруг демократии и диктатуры или, в ее современной, несколько менее высокопарной версии, плюрализма и элитизма со своим вопросом: демократия какого класса, диктатура какого класса? У того, что делают правители, когда они правят, имеется еще один аспект. Толкотт Парсонс как-то критиковал утилитаристов за их неспособность объяснить социальный порядок²². В отличие от них, субъективистские теоретики элиты и правящего класса неспособны объяснить социальные изменения. Примечательно, что классические теоретики элиты, которые всерьез продумывали последствия своих теорий, в основном исходили из того, что общество оставалось неизменным. Вместо этого они рисовали картину вечного цикла возвышения, правления, вырождения и падения элит. Это касается всех из них: Гумпловича, Моски, Парето и Михельса²³. В конце концов, они склонны были ²⁰ ²¹ ²² ²³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. . Ч. II . С. . Возьмем, к примеру, неспособность михельсовской теории организации объяснить различия в поведении социал-демократических и коммунистических партий в августе и сентябре года соответственно. Парсонс T. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, . См.: G. Therborn. Class, Science and Society. London: NLB , . Ch. .. ЛKOKQ 6, 2008 79 сводить людей и человеческое общество к биологии²⁴. И хотя люди, конечно, являются биологическими организмами, все же очевидно, что человеческое общество менялось за время своего существования и принимало множество форм. Задача социальной науки состоит в анализе этих различных исторических форм и их изменения. Но этого нельзя сделать, взяв за отправную точку субъектов власти, их душу, их волю; необходимо рассматривать социальный контекст, в котором они правят. Общество, в котором правители правят, имеет определенные возможности и тенденции изменений. Правители правят на определенном этапе развития определенной социальной структуры, и их правление влияет на и само испытывает влияние тенденций и противоречий, присущих этой структуре. Субъективисты останавливаются перед анализом этих тенденций и противоречий и обычно заключают: «Посмотрите, власть находится в руках немногих, а это плохо!» Или: «Посмотрите, власть есть у многих, и это хорошо!» Надо отметить, что в этом контексте власти и изменения важно влияние власти — не на самих людей или приобретения и потери, которые она приносит индивидам и группам²⁵, а на социальную структуру и социальные отношения, в которых живут индивиды, потому что именно последняя, а не тот простой факт ограничения их свободы и эксплуатации, определяет возможности изменения и восстания. Помимо проблемы «власти / способности к», существует также важная, но упускаемая из виду проблема, связанная с «властью над». Связаны ли между собой различные моменты осуществления власти кого-то над кем-то? Если мы не считаем, что социальная жизнь является полностью произвольной и незакономерной или что она представляет собой сплоченную коллективную деятельность на основе согласия, то каким образом следует изучать отношения и каким образом они могут быть «схвачены»? На первый взгляд утверждение, что эта проблема «упускается из виду», может показаться необоснованным, поскольку именно об этом ведется содержательная полемика между плюралистами и элитистами. Но из-за их общего субъективистского ядра плюралисты и элитисты занимались второстепенным аспектом проблемы. Они обсуждали существование межличностных отношений между различными проявлениями власти в обществе: существует ли сплоченная элита, которая объединяет различные формы осуществления власти, принимая реше²⁴ ²⁵ Парето «развил» теорию классовой борьбы, выдвинув идею, что «борьба за жизнь и благополучие является общим феноменом для всех живых существ». V . Pareto. Les Systemes Socialistes. Paris, – . . P. . Михельс описывал борьбу между организованными рабочими и штрейкбрехерами как «борьбу за пастбище». R. Michels. Political Parties. Glencoe: Free Press, . P. . В этом состоит отличие от подхода: Bachrach — Baratz. Op. cit. 80 Горан Терборн ния в различных областях? Или же решения принимаются различными небольшими и не связанными между собой группами? Эта постановка проблемы не учитывает того, что межличностная фрагментация принятия решений не обязательно означает, что различные проявления власти являются случайными и незакономерными. Наоборот, основное и, по-видимому, обоснованное допущение социологии состоит в том, что события в человеческом обществе в какой-то степени всегда закономерны и потому поддаются научному анализу. Теоретики же плюрализма и элитизма сосредотачивались на существовании или несуществовании одной возможной формы закономерности власти в обществе и, надо добавить, на форме, которая едва ли представляется самой важной в современных сложных обществах. Отсылка к другому виду межличностной идентичности, нежели тот, что обеспечивается одновременной принадлежностью к различным сплоченным властным группам, — скажем, отсылка к общей идентичности идей, к согласию относительно ценностей — при ответе не выдвинутое возражение мало что дает²⁶. Каким образом объяснить определенный консенсус и его поддержание²⁷ и каким образом он на самом деле действует в таком общем и абстрактном виде, в котором он существует в современных обществах? Какие объективные социальные структуры и отношения создаются и / или поддерживаются, как жизни людей определяются различным воздействием власти, относительно которой предположительно существует согласие? Важная методологическая критика плюрализма была предложена ²⁶ ²⁷ Даль пишет: «…демократическая политика — это ерунда. Это поверхностное проявление, отражающее поверхностные конфликты. До политики, за ней, развивая ее, ограничивая ее, определяя ее, находится основополагающий консенсус… между преобладающей частью политически активных участников». R. Dahl. A Preface to Democratic Theory. Chicago: Univ. of Chicago Press, . P. . Но что, если «консенсус» — это поверхностное проявление чего-то еще, «развивающего, ограничивающего и определяющего» электоральную политику? В этом состоит слабое место в остальном вполне обоснованной критики плюрализма у Милибанда (Miliband. Op. cit.). Милибанд воздерживается от реального изучения правительств, кадры которых не набираются из экономической элиты и где высшие эшелоны власти могут комплектоваться иначе. В этих случаях он просто рассматривает идеологию политических лидеров как часть буржуазного консенсуса (см.: Ch. . Part IV ). Он действительно приводит некоторый эмпирический материал и высказывает предложения относительно изучения этой проблемы, но она остается за рамками его модели контроля. Для анализа развитых буржуазных демократий, реформизма, фашизма и военных режимов необходима более сложная модель. Точно так же важные работы Уильяма Домхоффа о принадлежности к высшей буржуазии и связях с ней американских политиков и администраторов, а также о сплоченности высшей страты американской буржуазии только выиграли бы, если бы они были включены в гораздо более сложную концептуализацию и анализ американской властной структуры и противоречивого развития американского общества. ЛKOKQ 6, 2008 81 Бакраком и Барацом²⁸, а также Льюксом;²⁹ первые указали на важный институциональный «мобилизационный аспект» и «отказ от принятия решений»³⁰, а последний — на латентные конфликты и последствия бездействия³¹. Но они не поднимают главной проблемы, проблемы «власти над». На деле субъективистская ориентация этих авторов, по-видимому, не позволяет уйти от элитизма. Их утонченные методы позволяют обнаружить менее заметные проявления элитарного правления, но они вряд ли могут найти социальные закономерности осуществления власти, отличные от тех, что связаны со сплоченным властным субъектом. У Бакрака и Бараца об этом свидетельствует их взгляд на власть и связанные с ним понятия как на межличностные отношения между А и Б³². У Льюкса это вытекает из моралистической озабоченности автора ответственностью. Поэтому Льюкс не проявляет интереса к безличным формам господства и стремится рассматривать случаи, когда можно допустить, что исполнитель власти мог поступить иначе, чем он поступил на самом деле. В этом контексте он даже вводит различие между властью и судьбой!³³ По Льюксу, в изучении власти важен прежде всего поиск субъектов власти, опознаваемых, свободных и ответственных творцов действия (или бездействия). Он, по-видимому, не выходит за рамки элитизма / плюрализма или одной элиты или множества элит и руководящих групп (взаимоотношения которых как отношение власти над другими остаются неясными, если они сами не осознают этого отношения). Маркс показал выход из этого тупика элитизма / плюрализма, который, кажется, остается почти полностью не замеченным социологами и политическими учеными, включая авторов, которые ссылались ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ Bachrach and Baratz. Op. cit. , , . S. Lukes. Power: A Radical View. London: Macmillan, . Нерешение означает «решение, которое приводит к подавлению или предотвращению скрытого или явного вызова ценностям или интересам того, кто принимает решение». Bachrach-Baratz. Op. cit. . P. . Lukes. Op. cit. Chs. , . Льюкс опирается на работу: Crenson. Op. cit. Bachrach and Baratz. Op. cit. . Ch. . Lukes. Op. cit. P. – . Ср.: «Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идет о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определенных классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический процесс; поэтому с моей точки зрения, меньше чем с какой бы то ни было другой, отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно». (Маркс К., Энгельс Ф. Cоч. Т. . С. ). Маркс, конечно, не считал, что власть капиталиста была судьбой, с которой следовало смириться; напротив, она была чем-то, с чем нужно было бороться и что нужно было отменить. Это означает, что бессмысленно обвинять капиталистов в том, что они не ведут себя как не-капиталисты. Марксистский подход предполагает, что орудие критики должно быть заменено критикой орудий (то есть классовой борьбой во всех ее проявлениях). 82 Горан Терборн на Маркса в более или менее критическом ключе. Радикальная новизна и отличие марксистского подхода от других тонет в субъективистских рецепциях и переинтерпретациях. Выход, показанный Марксом, состоит в том, что исследование данного общества должно быть не только исследованием его субъектов или его структуры, но и исследованием процесса его воспроизводства. Примечательно, что в изучении процесса воспроизводства Маркс анализирует классовые отношения эксплуатации и господства. «Следовательно, капиталистический процесс производства, рассматриваемый в общей связи, или как процесс воспроизводства, производит не только товары, не только прибавочную стоимость, он производит и воспроизводит само капиталистическое отношение, — капиталиста на одной стороне, наемного рабочего — на другой»³⁴. Критикуя субъективистские концепции рыночного обмена в экономической науке XVIII – XIX веков, Маркс, сам о том не догадываясь, предложил критику социологов века XX : «Правда, дело выглядит совершенно иначе, когда мы рассматриваем капиталистическое производство в непрерывном потоке его возобновления и вместо отдельного капиталиста и отдельного рабочего берем их совокупность, класс капиталистов и класс рабочих. Но тем самым мы применили бы критерий, совершенно чуждый товарному производству»³⁵. Для изучения власти в обществе подход с точки зрения воспроизводства означает, что главный вопрос всех разновидностей субъективистского подхода — кто правит, единая элита или конкурирующие за лидерство группы? тождественна ли экономическая элита политической или она контролирует ее? — заменяется вопросом: какое общество, какие фундаментальные отношения воспроизводятся? При помощи каких механизмов? Какова роль структуры и действий (или бездействия) государства (или местных органов власти) в этом процессе воспроизводства — способствуют ли они ему, просто делают его возможным или мешают ему? Анализ воспроизводства делает возможным ответ на вопрос о том, как взаимосвязаны между собой в обществе различные проявления власти, даже если не существует никакой осознанной межличностной связи. Они взаимосвязаны своим воспроизводством. Данные производственные отношения могут воспроизводиться без того, чтобы определяемый ими эксплуататорский (господствующий) класс «контролировал» правительство в привычном смысле слова, даже если вмешательство государства углубляет и / или делает возможным воспроизводство этих производственных отношений. И все же факт воспроизводства особой формы эксплуатации и господства служит свидетельством классового правления и важным аспектом власти в обществе. ³⁴ ³⁵ Там же. C. . Там же. C. . ЛKOKQ 6, 2008 83 III Ограниченная задача этой статьи состоит в том, чтобы разграничить различные подходы к проблеме класса и власти, особенно между диалектико-материалистическим (марксистским) подходом и вариантами субъективистского подхода. Такое разграничение представляется важным, поскольку оно открывает возможности для применения марксистского подхода, учитывая фатальные изъяны преобладающего субъективистского подхода. Это разграничение особенно важно, учитывая нынешнее состояние социальных наук, где, несмотря на интерес к Марксу и его признание, оценка истинности и плодотворности марксистской теории оказывается невозможной из-за амальгам, ставших модными в социологии после года. В таких эклектичных построениях, которые создаются по рецепту, вроде — взять одну часть Маркса, две части Вебера и две части более свежей социологии (включая ингредиенты, поставляемые самим поваром) и приправить по вкусу более (радикальными) или менее (либеральными) острыми специями, — собственно марксистский анализ приглушается. Учитывая поставленную задачу, настоящая статья не является непосредственным вкладом в исследования класса и власти. Но в этих рамках я попытаюсь выделить несколько путеводных нитей для марксистского эмпирического изучения проблемы класса и власти. То, что будут предложены лишь общие и предварительные путеводные нити, как мне кажется, отражает не только ограниченность настоящей статьи и ее автора, но и тот факт, что Маркс открыл радикально новый научный путь, который нужно пропалывать от бурной растительности господствующих идеологий и на котором предприняты лишь первые шаги в направлении систематической теории. Главным объектом эмпирического исследования для понимания отношений класса, государства и власти не должны быть межличностные отношения между различными элитами (например, правительством и бизнес-элитами), их социальное происхождение, проблемы и решения или «нерешения», какими бы важными они ни были. Главным объектом должно быть влияние государства на (вос) производство данного (выявленного или предполагаемого) способа (или способов) производства. Отношения господства, связанные с производственными отношениями, сосредоточены в государстве. Правление правящего класса осуществляется посредством государства. Здесь есть два аспекта: что делается (и не делается) посредством государства и как делается то, что делается посредством государства. Нам нужна типология государственных вмешательств и типология государственных структур. Типология государственных структур требует разграничения между различным влиянием (законодательных, исполнительных и судебных механизмов и процедур, механизмов правительственных назначений, организации армии и полиции и т. д.) на степень, в которой государство 84 Горан Терборн может использоваться различными классами, то есть их влияние на то, в какой степени правление данного класса людей (с определенными чертами и качествами, определяемыми их положением в обществе) может действовать через рассматриваемую государственную структуру³⁶. Таким образом можно выделить и разграничить общие типы государственных структур с точки зрения их классового характера, к примеру, феодальные государства, буржуазные государства и пролетарские государства, центральной чертой в которых является принцип «командной политики», воплощенный в советах, рабочих партиях, массовых движениях культурной революции. Различные особые государственные аппараты, вроде законодательных органов, судебной власти или армии, также могут быть изучены с этой точки зрения. Конечно, не следует считать, что конкретное государство в определенный момент времени обязательно является классово гомогенным во всех своих институтах, что как раз и создает проблемы при определении его классового характера. Для изучения того, как на самом деле работает государство, нам также нужно иметь типологию государственных вмешательств (включая невмешательства, важные для (вос) производства существующих производственных отношений). Такая типология может оттачиваться почти до бесконечности. Но прежде всего она должна включать два измерения. Одно касается того, что делается, а другое — того, как это делается. Иными словами, одно касается внешних последствий государственного вмешательства для других структур общества, прежде всего производственных отношений (но также и идеологической системы), а другое касается внутренних последствий для самого государства. Государственное вмешательство может способствовать, просто делать возможным или препятствовать — и в пределе разрушать — данные производственные отношения. И они могут усиливать, поддерживать или мешать — и в пределе обрушивать — данные отношения политического господства, воплощенные в аппаратах управления и подавления. (Возможность успешной ломки данных производственных отношений во многом определяется особой стадией производственных отношений и производительных сил и стадией отношений между классами, которые это предполагают). Следующая таблица иллюстрирует типы государственного вмешательства, возможного по этим двум измерениям: ³⁶ Это может служить решением дилеммы, сформулированной Клаусом Оффе в его весьма проницательной статье: Claus Offe. Klassenherrschaft und politisches System. Zur Selektivitat politischer Institutionen, in his Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Frankfurt: Suhrkamp, . Это «объективистский» подход к проблеме избирательности государства, но он не основывается на определениях объективных интересов революционного класса, отвергаемых Оффе (P. ). Это не означает, что эмпирическое изучение классового характера государства возможно только post festum, как утверждает Оффе (P. ), когда классовая борьба развивается настолько, что проявляются пределы данного государства. ЛKOKQ 6, 2008 85 Влияние на данные отношения политического господства (структура управления и подавления) Влияние на данные производственные отношения способствует делает возможными мешает / разрушает усиливает 1 2 3 поддерживает 4 5 6 мешает / ломает 7 8 9 Эта типология может быть применена к данной политической мере, вроде программы социального обеспечения, национализации, земельной реформы, школьной реформы и т. д., и к сумме действий, предпринятых данным правительством за данный период. Именно так должен определяться классовый характер, в марксистском понимании этого слова, режима или политики. Например, закон о национализации или земельная реформа могут сделать возможными и даже способствовать развитию капиталистических производственных отношений, если он проводится по правилам капиталистической игры, предлагая компенсацию по более или менее рыночной стоимости, используя установленные законодательные и административные процедуры и создавая предприятия, которыми управляют новые владельцы, использующие наемный труд для получения прибыли. Но такие меры также могут проводиться в совершенно иной манере, не обязательно означая полную отмену капитализма. Региональная политика может осуществляться при помощи различных видов субсидий, вроде возврата налогов, капиталистическим предприятиям, следуя логике капиталистических производственных отношений, но делая определенное размещение заводов более выгодным. Но та же мера может противоречить этой логике в случае принудительного планирования. Классовый характер определяется на основе идентичности доминирующего (эксплуататорского) класса (то есть доминирующего класса при определенных производственных отношениях, которым способствуют или которые становятся возможными благодаря вмешательствам). Если между влиянием на производственные отношения и структуры государства существует несоответствие, то это указывает на противоречивую и нестабильную ситуацию. Например, на последнем этапе существования царской России государство способствовало развитию капиталистических производственных отношений, но при этом сохраняло во многом докапиталистическую форму государства; советская Россия в -х годах позволила развиваться капиталистическим производственным отношениям, сохраняя диктатуру пролетариата; а режим Альенде в Чили отчасти делал возможными, а отчасти препятствовал капиталистическим производственным отношениям, поддерживая существующую государственную структуру (ее администрацию, судебную власть и армию). 86 Горан Терборн Надо отметить, что обычно существует множество способов, которые позволяют способствовать развитию данных производственных отношений в данной ситуации. Поэтому обычно существуют разные мнения, какой из них является лучшим. И данное государственное вмешательство вполне может противоречить мнениям предпринимателей, но при этом способствовать развитию капиталистических производственных отношений. Буржуазия как класс и ее интересы не совпадают с идентичностью или идеями определенной группы деловых лидеров во всякий данный момент времени. Таким образом, мы можем понять закономерность, которая часто проявляется в капиталистической политике, когда предложенная политика сначала отвергается деловыми группами и консервативными партиями, но после проведения рано или поздно принимается ими (например, переговоры между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда, программы социального обеспечения, кейнсианская экономика). Подход «проблем и решений», предлагаемый плюралистическими методологами, не замечает этого явления. Правящий класс данного общества — это эксплуатирующий класс данной эксплуататорской системы производственных отношений, развитию которой способствуют (в первую очередь, если в обществе существуют другие производственные отношения) содержание и форма всей тотальности государственных вмешательств в течение данного периода. Правящий класс не обязательно должен быть экономически доминирующим классом, в смысле эксплуататорского класса доминирующего способа производства в обществе, где существует несколько способов производства (например, натуральное сельское хозяйство, феодализм, мелкое товарное производство, капитализм). Одно возможное уточнение типологии состоит в проведении различия между их влиянием на два различных класса (эксплуатирующий и эксплуатируемый), имеющих эксплуататорские производственные отношения, развитию которых данные вмешательства способствуют, делают его возможным или мешают ему. Например, в приведенной выше таблице реформистские правительства обычно занимают ячейки и , хотя определенные меры, принимаемые ими, занимают ячейки и (например, меры, принимаемые для борьбы с забастовками), но более утонченная типология учла бы их возможное влияние на отношения распределения при данных производственных отношениях. Еще одно уточнение, касающееся влияния на государство, провело бы разграничение между классовым влиянием на административные и репрессивные аппараты государства. Фашистские режимы, рассмотренные с точки зрения их влияния на капиталистические производственные отношения, занимают ячейку , но в рамках этого типа они лучше характеризуются усилением репрессивного аппарата буржуазного государства³⁷. ³⁷ Для фашизма также характерно усиление производственных отношений монополистического капитализма, что указывает на еще одно отличие, касающееся фрак- ЛKOKQ 6, 2008 87 Третье уточнение касается разграничения влияния государства на разные фракции капитала, например, промышленного и банковского (или коммерческого и аграрного), отечественного и иностранного, крупного и малого капитала. Таким образом можно выделить различные гегемонистские фракции буржуазии. С марксистской точки зрения правящий класс, когда он правит, не принимает, как компактная единица, всех важных решений в обществе. Правление правящего класса осуществляется при помощи ряда объективно взаимосвязанных, но не обязательно межличностных механизмов воспроизводства, посредством которых воспроизводится данный способ эксплуатации. Правящий класс в этом смысле не является единым властным субъектом. Правление правящего класса не обязательно проявляется (и обычно не проявляется) в сознательных коллективных решениях и действиях класса в целом. То, что делает правящий класс, когда он правит, не является вопросом субъективных намерений и действий. Его правление воплощается в объективном социальном процессе, посредством которого определенный способ производства поддерживается и расширяется, гарантируется и укрепляется государством. Это означает, что дебаты плюралистов и элитистов не затрагивают вопрос о существовании правящего класса в радикально ином, марксистском смысле. Эти дебаты касаются определенных аспектов способа организации правящего класса, вопроса его сплоченности. Надо отметить, что ни существование правящего класса, ни то, какой класс является правящим, ни объем его власти не определяются здесь априорно. То, какие классы существуют, должно быть открыто путем анализа производственных отношений в данном обществе. Также должен быть установлен правящий класс, а объем его политической власти, пределы его правления, должны быть определены путем исследования структуры и вмешательств государства. Диалектико-материалистический подход к власти в обществе — это эмпирический подход, хотя и совершенно особого рода. После определения правящего класса необходимо выявить механизмы его правления, что предполагает поиск ответа на вопрос, почему производится государственное вмешательство. Государственная власть правящего класса — это часть общего процесса воспроизводства общества. Как отметил Пуланцас³⁸, существует два аспекта воспроизводства (и то же можно сказать о революции): воспроизводство позиций в данной социальной структуре и воспроизводство людей, которые могут их занять. Например, необходимо воспроизводство капитала, наемных работников и капиталистического предприятия, а также государственного аппарата. Воспроизводство позиций так- ³⁸ ций классов, позиции которых усиливаются или ослабляются в результате государственного вмешательства. Ср.: N. Poulantzas. Fascism and Dictatorship. London: NLB , . N. Poulantzas. On Social Classes, New Left Review. . . P. . 88 Горан Терборн же связано, по крайней мере в долгосрочной перспективе, с производством и воспроизводством между различными уровнями социальной структуры. Воспроизводство капитализма требует не только воспроизводства капиталистического предприятия, но и воспроизводства соответствующего капиталистического государства. Однако новые поколения индивидов — и данные индивиды год за годом — должны обучаться для занятия данных позиций и иметь подходящую квалификацию для выполнения задач, которые ставятся социальной структурой. Из части новорожденных предстоит воспитать собственников и менеджеров капитала; остальные же должны стать рабочими, клерками и административными и репрессивными кадрами или мелкобуржуазными фермерами, лавочниками и ремесленниками. Какие можно выделить общие типы механизмов воспроизводства, среди которых мы можем искать и находить конкретные механизмы в конкретных обществах? Определяющее значение, конечно, имеют экономические ограничения. Экономические ограничения работают — так, как это описывается экономическим анализом, — через производительные силы, внутреннее развитие производственных отношений и взаимозависимость того и другого. Они действуют на разных уровнях и оказывают серьезное влияние на воспроизводство позиции и агентов, их занимающих. Данный уровень развития производительных сил исключает определенные производственные отношения, делает их ненадежными или устаревшими и неконкурентоспособными; а необходимость некоторого материального воспроизводства способствует развитию иных производственных отношений и определяет круг политических возможностей, например, для большевистского правительства после Гражданской войны. На более низком уровне экономические ограничения определяют условия сохранения капиталистической корпорации или феодального поместья, ограничивая, например, степень, в которой одна корпорация или поместье могут вмешиваться в капиталистические или феодальные производственные отношения, управляющие другими корпорациями или поместьями. Экономические ограничения действуют постоянно, воспроизводя определенную структуру экономических позиций при помощи санкций банкротств, безработицы, бедности, а иногда и голода. Экономические ограничения — это важный механизм для сдерживания даже революционно-сознательных крестьян и рабочих и использования их для воспроизводства общества, которое они хотели бы свергнуть. Еще один важный тип механизма воспроизводства является политическим и включает два основных подтипа, управление и подавление, которые в современном обществе постоянно концентрируются в государственном аппарате (или, точнее, системе государственных аппаратов). Административное вмешательство — налогообложение, правила, субсидии, контрциклическая политика и т. д. — способствует или препятствует всопроизводству определенного способа производства. АдминиЛKOKQ 6, 2008 89 страция также участвует в воспроизводстве агентов для позиций в данном способе производства при помощи кадровой (от подчинения крестьян землевладельцам до стимулирования мобильности на рынке труда) и социальной политики (от создания ужасных работных домов до предоставления пособий, которые смягчают опасное недовольство и стимулируют бизнес). Административные вмешательства гарантируют полную совместимость несущих конструкций общества. Механизм администрации также включает механизмы для воспроизводства государственного аппарата, воплощенные в конституционных условиях, процедурах решения проблем или юридических понятиях. Они могут мешать правительству, которое собирается провести серьезные социальные изменения или ограничивать доступность для государства определенных классов или частей классов. Еще одним важным политическим механизмом воспроизводства является подавление. Развитие или поддержание определенных способов производства может подавляться армией, полицией, тюрьмами или палачами. Оппозиционные движения могут подавляться различными способами и в различной степени. (Один любопытный и оставляемый без внимания объект исследования связан со степенью влияния репрессий на развитие рабочего движения в Соединенных Штатах, особенно после Первой и Второй мировых войн). Об индивидах, которые отказываются занимать любую из данных позиций, могут позаботиться, скажем, в тюрьмах или в психиатрических больницах. Механизмы воспроизводства являются не только и не столько идеологическими, как склонны считать социологи³⁹. Но важность идеологических механизмов нельзя отрицать. Их основная задача состоит не в легитимации господствующей системы⁴⁰, а скорее в дифференцированном ³⁹ ⁴⁰ Парсонс рассматривает проблему воспроизводства или «поддержания образца» исключительно с точки зрения передачи ценностей. См.: Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, . С. – . Точно так же все «социальные источники стабильности», выделяемые Паркином (Parkin. Op. cit. . Ch. ), касаются идеологических механизмов: мобильности, системы образования, религии, игры и укрепления веры в удачу. Примечательным исключением служит интересное объяснение политических и экономических ограничений, налагавшихся на британский рабочий класс вплоть до года, и их роль в формировании более позднего «воздержания» рабочего класса от активных действий: H. F. Moorhouse. The Political Incorporation of the British Working Class: An Interpretation. Sociology. . . P. – . См. также: R. Gray. The Political Incorporation of the Working Class. Sociology. . . P. – ; H. F. Moorhouse. On the Political Incorporation of the Working Class: Reply to Gray. Ibid. P. – . Отождествление идеологических механизмов воспроизводства с процессами легитимации означало бы, что люди не восстают против данного правления, при котором они живут, потому что считают его легитимным. Это допущение кажется не слишком обоснованным. Люди могут не восставать, если не брать в расчет политические и экономические ограничения, потому что они не знают, под каким господством они находятся. То есть они могут не знать не только его негативных черт, но и его позитивных заявлений и достижений. Они могут не знать об аль- 90 Горан Терборн создании устремлений и уверенности в собственных силах и дифференцированном обеспечении навыков и знаний. Этот процесс квалификации и подчинения, в ходе которого небольшие человеческие животные превращаются в членов различных классов, протекает во многих идеологических аппаратах: семье, системе образования, церкви, средствах массовой информации, производственном обучении и на рабочем месте (где насаждается иерархия и дисциплина)⁴¹. Эти аппараты и формирование доминирующей идеологии, происходящее в них, не обязательно согласуются друг с другом. Особенно проблематичными оказываются отношения между семьей и другими аппаратами, вроде церкви и (прежде всего при современном капитализме) системы образования. С одной стороны, семья — это важный механизм воспроизводства; с другой — некоторая индивидуальная мобильность жизненно важна для воспроизводства системы. Поскольку индивидуальная мобильность означает, что командные позиции занимаются более компетентными людьми и служат очевидным каналом недовольства. Как отмечал Маркс, говоря о капиталистическом предприятии и средневековой католической церкви: «Чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его господство»⁴². Марксистский подход отмечает, что жестко дифференцированный доступ к системе образования делает эксплуатацию менее прочной. С марксистской точки зрения для воспроизводства эксплуатации наиболее важен не дифференцированный доступ к системе образо- ⁴¹ ⁴² тернативах или считать, что сами они не в силах ничего сделать, даже если им известно о других возможных типах обществ. Но это неведение, незаинтересованность и отсутствие веры в себя не существуют сами по себе, как черты определенных индивидов и групп, а создаются определенными социальными процессами. См. важное разграничение между прагматическим и нормативным принятием: Michael Mann. The Social Cohesion of Liberal Democracy. American Sociological Review. . . P. – . Ограниченная сосредоточенность на легитимации часто бывает связана с нормативным представлением, что всякое правление должно основываться на подлинном и осознанном согласии управляемых, которое делает его легитимным. См., напр.: J. Habermas. Legitimationsprobleme im Spatkapitallismus. Frankfurt: Suhrkapm, . P. и далее. Но это уже другой вопрос. Любопытно, что и Хабермас, и Оффе берут за основу веберовский идеальный тип конкурентного капитализма, который они противопоставляют современному капитализму с существенным участием государства, которое повышает потребность в идеологической легитимации (Habermas. Op. cit. Ch. II .; Offe. Tauschverhaltnis und politische Steuerung. Zur Aktualitat des Legitimationsproblems, in Offe, op. cit. P. – ). Это представление обычно скрывает важную роль идеологии в эпоху конкурентного капитализма — эпоху деклараций прав человека, возвышения национализма и все еще сильных религий — и экономические и политические механизмы кризиса и революции в настоящее время. См. очень важную статью: Louis Althusser. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation), in Lenin and Philosophy and Other Essays. London: NLB , . P. – . Но, по не вполне понятным причинам, Альтюссер говорит об идеологических аппаратах государства. Маркс К., Энгельс Ф. Cоч. Т. . Ч. II . С. . ЛKOKQ 6, 2008 91 вания, а дифференцированная система образования. Так что социальная мобильность, по сути, является идеологическим механизмом воспроизводства. Отсюда и еще один феномен, столь милый сердцу всех субъективистов, — межличностное общение, которое способствует формированию общего мировоззрения среди представителей различных групп. Посредством этих механизмов воспроизводства правящий класс может осуществлять свое правление и удерживать государственную власть, не обязательно поставляя политические и административные кадры. Законы экономического развития данного общества задают довольно высокий порог для их возможного нарушения политиками. Структурное устройство государства (его классовый характер) ограничивает намеченное правительством государственное вмешательство. Идеологические механизмы воспроизводства влияют как на политиков — даже на политиков, которые представляют рабочих и не поддерживают связей с буржуазией, — так и на население в целом, включая эксплуатируемые классы. Все эти механизмы действуют через конфликт и классовую борьбу. Классовая борьба не означает противоборства между сплоченными и обладающими самосознанием субъектами. Она означает конфликт и борьбу между людьми, которые занимают различные позиции в эксплуататорских способах производства. Поэтому воспроизводство и революцию не следует рассматривать с точки зрения противопоставления механизмов воспроизводства и классовой борьбы. Механизмы воспроизводства одновременно производят механизмы революции. Понимание этого, разумеется, является главной чертой диалектического подхода. Например, Маркс показал, что расширенное воспроизводство капитала означало развитие противоречий между производительными силами и производственными отношениями. Этот анализ также может быть распространен на политические и идеологические процессы воспроизводства. Например, усилению государства — и усилению административных и репрессивных действий государства, — характерному для современного империалистического государства, сопутствовали острейшие противоречия между капиталистическими государствами. Две мировые войны в XX веке привели к появлению некапиталистических режимов у трети человечества. Точно так же на идеологическом фронте роль интеллигенции — и в старой России и Китае, и в последнее время в передовых капиталистических обществах — свидетельствует о том, что механизм квалификации и подчинения может принимать характер революционного механизма, порождая противоречие между квалификацией и подчинением. Существуют также механизмы революции, которые действуют посредством классовой борьбы, а классовая борьба ведется в механизмах воспроизводства и революции и посредством них. Но это уже другая история и, возможно, тема другой статьи. Перевод с английского Артема Смирнова 92 Горан Терборн ºZW¼¶ ½ ] X¼¼X Режимы и их оспаривание¹ К аким образом формы политического оспаривания — революции, забастовки, войны, социальные движения, перевороты и прочие — варьируются от режима к режиму? В какой степени и каким образом различия в политике оспаривания и трансформациях режимов обуславливают друг друга? Всегда ли быстрая смена режима сопровождается страшным насилием? Эти вопросы волнуют нынешние исследования демократизации с их дебатами между теоретиками, считающими, что достигнутые между элитами соглашения составляют необходимое и достаточное условие для демократии, и теми, что утверждает, что демократия возникает в результате взаимодействия между действиями правящих классов и народной борьбой. Они возникают тогда, когда политические аналитики задаются вопросами, касающимися того, насколько (и при каких условиях) социальные движения способствуют демократии и насколько стабильная демократия гасит или приручает социальные движения. Они возникают также в исследованиях того, склонны ли демократии избегать войн друг с другом. И, по крайней мере в виде контекста, они присутствуют во всех исторических объяснениях низовой политики. Они играют важную роль в любом анализе взаимодействия между демократией и властью. Те же вопросы всплывают в исследованиях трудовых конфликтов, где одна школа мысли считает, что забастовки представляют собой результат провала переговоров, которые при использовании других средств могли бы оказаться более результативными, другая школа мысли утверждает, что забастовки ведут к компромиссу между рабочей силой и капиталом и тем самым невольно интегрируют рабочих в капитализм, а третья полагает, что забастовки являются рациональным и важным средством борьбы при промышленном капитализме, ¹ Charles Tilly. Regimes and Contention, in Thomas Janoski, et. al (eds). The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, . P. – . ЛKOKQ 6, 2008 93 но не более. Они преследуют всякий анализ революции, который должен рассмотреть вопрос о том, насколько определенные виды оспаривания способствуют совершению революций и насколько революции вызывают определенные виды оспаривания. Тем не менее у нас нет никакой последовательной теории относительно связей между сменой режима и политикой оспаривания. То есть у нас нет никакого общепринятого и опытно доказанного объяснения того, как преобладающие формы народной борьбы варьируются и меняются от режима к режиму, а также, откуда берутся такие вариации и изменения. Выработке последовательной теории мешают по крайней мере две вещи: во-первых, сложность, обусловленность конкретными обстоятельствами и изменчивость отношений между сменой режима и политикой оспаривания; во-вторых, отсутствие общего согласия относительно кодификации различий между режимами. Я не собираюсь излагать в этой главе общую теорию смены режимов, политики оспаривания или взаимодействия между ними. Я буду исходить из ряда посылок, отрицающих возможность общей теории в этой области, выявляющей некое подобие законов: • важно проследить влияние существующих прецедентов, моделей, практик и связей со всякой отдельной последовательностью изменений • последовательности и структуры редко или вообще никогда не повторяются полностью • но менее масштабные причинные механизмы действительно повторяются в самых различных обстоятельствах • поэтому объяснение изменений в оспаривании, режимах и взаимодействии между ними имеет две составляющие: ) выделение важных причинных механизмов; ) анализ того, как предшествующие и существующие условия влияют на связность и последовательность этих причинных механизмов • и даже если предположить, что нам удастся прийти к исчерпывающему объяснению, удовлетворительное описание взаимодействия между сменой режима и политикой оспаривания не примет форму общих законов для больших последовательностей или структур, а будет касаться ограничений, накладываемых на комбинации и последовательности механизмов. (Tilly, ) В настоящей статье эта обширная программа существенно упрощается и ограничивается выделением общих соответствий между режимами и формами политики, которые нуждаются в объяснении. Во-первых, в статье рассматриваются некоторые известные классификации режимов для извлечения из них того, что может играть важную роль в различиях и изменениях в политике оспаривания. Затем производится синтез идей из этих схем в новой карте различий и смены режимов. Потом 94 Чарльз Тилли рассматриваются возможные корреляты и следствия смены режимов с выделением причинных механизмов, заслуживающих дальнейшего рассмотрения. Кроме того особое внимание уделяется механизмам, проявляющимся в политическом оспаривании: прерывистые, коллективные, публичные требования, выдвигаемые политическими участниками. Политика оспаривания простирается от народных бунтов до забастовок, избирательных кампаний и социальных движений (McAdam, Tarrow, and Tilly, ). В конце статьи будут изложены не ответы, а предложения относительно исследовательской программы. Каким образом мы будем картографировать режимы? Для начала Аристотель нарисовал потрясающе простую картину: «когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководясь общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства являются правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями». Эти рассуждения приводят к простой типологии всех форм правления: Правильные формы Монархия Аристократия Полития Извращенные формы Тирания Олигархия Демократия Таким образом, если один правитель (монарх) преследует свои собственные личные интересы, а не общее благо, он становится тираном; если аристократия точно так же использует государственную власть для своего блага, режим становится олигархией, а если большинство в политие преследует только свою собственную выгоду, не заботясь об общем благе, режим становится демократией. Согласно аристотелевскому принципу, правильная монархия покоилась на правлении одного лучшего, аристократия — на правлении богатых и лучших, а полития — на правлении свободных мужчин. (По Аристотелю, неумолимая природа обрекала женщин, как и рабов, на подчиненное положение). Поскольку богатые обычно немногочисленны, а свободных бедняков много, то, как утверждал Аристотель, аристократические режимы означают правление немногих в общих интересах, а полития — правление многих, точно так же в общих интересах. Извращения — тирания, олигархия и демократия — возникают тогда, когда правители — один, немногие или многие — ставят свои собственные интересы выше общего блага. Характерное для демократии извращение, с точки зрения Аристотеля, состоит в том, что бедные правят вопреки интересам общества и вопреки интересам богатых. Конечно, Аристотель признавал различия внутри своих основных типов режима, выделяя, к примеру, пять типов демократии: ЛKOKQ 6, 2008 95 При пятом виде демократии… верховная власть принадлежит не закону, а простому народу. Это бывает в том случае, когда решающее значение будут иметь постановления народного собрания, а не закон. Достигается это через посредство демагогов. В тех демократических государствах, где решающее значение имеет закон, демагогам нет места, там на первом месте стоят лучшие граждане; но там, где верховная власть основана не на законах, появляются демагоги. Народ становится тогда единодержавным, как единица, составленная из многих: верховная власть принадлежит многим, не каждому в отдельности, но всем вместе… и этот демократический строй больше всего напоминает из отдельных видов монархии тиранию. В этих обстоятельствах демагоги часто призывают толпу напасть на богатых и тем самым захватить власть себе. Таким образом, демократия превращается в тиранию. Когда дело касалось деталей, Аристотель учитывал множество переходов и компромиссов в своих трех чистых типах. Аристотель не раз переходил от внешне статичных категорий к динамичным причинным процессам. Например, рассматривая последствия различного военного устройства, он предложил проницательное причинное объяснение: Вследствие того что народная масса обыкновенно состоит из четырех частей — земледельцев, ремесленников, торговцев, поденщиков, а для войны пригодны четыре рода оружия — конница, тяжеловооруженная пехота, легковооруженная пехота, флот, там, где условия местности оказываются удобными для верховой езды, имеются благоприятные данные для создания мощной олигархии: ведь спасение для жителей — в этом виде войска, а содержать коней могут только люди, владеющие крупной собственностью; там, где условия местности благоприятны для создания тяжеловооруженной пехоты, условия подходят для второго вида олигархии: ведь служба в тяжеловооруженной пехоте скорее по плечу состоятельным людям, нежели неимущим; легковооруженное же войско и матросы всецело соответствуют демократии. И в настоящее время там, где эти последние имеются в преобладающем количестве, олигархи при возникновении внутренних междоусобий зачастую терпят поражения. В «Политике» Аристотель ограничил свое систематическое рассмотрение политического оспаривания революциями, под которыми понималось насильственное свержение режимов подданными этих режимов. Но он также упоминал о фракционной борьбе, заговорах и коллективном сопротивлении требованиям правительства. В каждом случае он считал форму режима результатом баланса между локальными силами (особенно богатыми, средним классом и бедными), складывающегося в результате определенных исторических обстоятельств. Он считал оспаривание совокупным следствием этого баланса и типа режима, которое опять-таки определялось соответствующими историческими обстоятельствами. Аристотель явно считал, что режимы имеют свои собственные характерные формы оспаривания и что смена режима происходит 96 Чарльз Тилли в результате политического оспаривания. В противоположных режимах разные правящие коалиции проводили различные стратегии правления, которые меняли стимулы и способность различных групп внутри государства защищать или проводить свои интересы в жизнь, действуя сообща. Аристотель объяснял борьбу своего времени, сочетая взгляды рационалистов и структуралистов, за тысячи лет до того, как эти ярлыки вообще начали использоваться (об этих ярлыках см.: Lichbach and Zuckerman, ). Вообще говоря, недавние исследователи отношений между типами режимов, сменами режимов и формами государственной политики, распределялись в континууме, противоположные концы которого можно назвать Принципом и Историей. Несмотря на использование исторических примеров, работы Аристотеля располагались ближе к Принципу: независимо от близости или удаленности в пространстве и времени, один режим отличался от другого настолько, насколько различались их основные идеи, посылки или организующие принципы. Исторические энциклопедии, напротив, часто располагались на другом конце, считая режимы различными постольку, поскольку они действовали в разные эпохи и в разных местах (см., напр.: Stearns, ). В обоих крайних случаях объяснения режимов становятся довольно описательными — на стороне Принципа попытки понять связность фашизма или государственного социализма, на стороне Истории попытки определить своеобразие Китая эпохи Мин или Японии при Токугава. Нас здесь интересуют не столько крайние случаи, сколько положение выделенных соперничающих режимов в континууме. Объяснительные стратегии заметно варьируются на протяжении континуума. Ближе к Принципу располагаются исследования необходимых и достаточных условий различных типов режимов (Dogan and Higley, ; Dogan and Pelassy, ; Held, ; Spruyt, ). Ближе к Истории мы находим поиски повторяющихся процессов, которые постоянно вызывают смену режимов, не приводя к одинаковым результатам (Collier and Collier, ; Mahoney, , ; Mahoney and Snyder, ). Рассмотрим марксистские объяснения. Начиная с работ самого Маркса о докапиталистических общественно-экономических формациях, марксисты обычно занимали позиции, близкие к середине, но на стороне Истории способы производства образуют четкие исторические последовательности, сопровождающиеся борьбой, которая рождается из внутренних противоречий данного способа производства и вызывает переход к следующему (см., напр.: Андерсон ; Anderson ). И в каждом из этих способов производства логика производственных отношений образует политический режим, который осуществляет власть господствующего класса. Так, в упрощенной картине «Манифеста коммунистической партии» революция разрушает феодальные режимы и заменяет их парламентскими режимами, проводящими интересы буржуазии. Мой учитель Баррингтон Мур критиковал классичеЛKOKQ 6, 2008 97 ское марксистское объяснение, но заменял его другим объяснением, занимающим примерно то же самое положение в континууме Принципа / Истории (Moore, ). Будучи специалистом по российской политике и глубоким знатоком русской истории, Мур придавал классовым отношениям в сельском хозяйстве большее значение, чем большинство марксистов. Соглашаясь с идеей Маркса, что парламентская демократия появлялась в результате преобладания буржуазии, Мур все же утверждал, что коммерциализация сельского хозяйства, упразднение крупных землевладельцев и пролетаризация крестьянства, а не возникновение промышленности, открыло путь к господству буржуазии. И все же для Мура, как и для Маркса, изменение классового устройства вызывало смену режима в ходе борьбы. Работа Мура послужила источником вдохновения для многих последующих работ о переходе от одного режима к другому. И исследователи муровского толка в первую очередь стремились объяснить, как демократические режимы приходят на смену недемократическим. Они полемизировали с множеством теоретиков, которые вели работу в континууме ближе к Принципу и занимались поиском необходимых и достаточных условий демократических режимов. Несколько упрощая, можно сказать, что многие современные исследователи демократизации выделяют два основных типа режима: авторитарный и демократический (напр.: Przeworski, Alvarez, Cheibub, and Limongi, ). Их работа простирается от пристального сравнения конкретных случаев в поиске важных различий для количественных сравнений множества режимов, где авторитаризм и демократия становятся высоким и низким значением одной и той же переменной: демократичности (Anderson, Fish, Hanson, and Roeder, ; Arat, ; Bratton and van de Walle, ; Burkhart and Lewis-Beck, ; Dawisha and Parrott, ; Lijphart, ; Linz and Stepan, ; Vanhanen, ; Yashar, ). Схожим образом позиции распределяются и в сравнительном изучении государств всеобщего благосостояния. Зачастую отступая от сравнительно исторического описания британской социальной политики, предложенного Томасом Хамфри Маршаллом (Marshall, ; см. также: Barbalet, ; Turner, ), в последнее время усилия были сосредоточены на двух во многом неисторических вопросах: какие условия способствуют развитию различных степеней и видов социального обеспечения? Какое влияние различные системы социального обеспечения оказывают на действительную социальную жизнь граждан при различных типах режимов? И вновь исследования здесь простираются от тщательного сравнения конкретных случаев в поиске важных различий для количественных сравнений множества режимов, в которых различный уровень или аспекты обеспечения или социального опыта превращаются в переменные, нуждающиеся в теоретическом объяснении (Esping-Anderson, ; Goodin, Headey, Muffels, and Dirven, ; Hage, Hannemann, and Gargan, ; Janoski and Hicks, ; Ruggie, ). 98 Чарльз Тилли В своем «Гражданстве и гражданском обществе» Томас Яноски предлагает более сложную версию, в которой либеральные, традиционные и социал-демократические режимы сравниваются по степени обеспечения в них гражданских прав и обязанностей. (Хотя Яноски сравнивает множество стран, Соединенные Штаты олицетворяют у него либеральный тип, Германия — традиционный, а Швеция — социал-демократический). Пояснив, каким образом определяется тип режима, Яноски показывает связь между типом режима и формами его оспаривания: Социал-демократические режимы с избирательным правом как организующей проблемой, сильными профсоюзами, влиятельной левой партией, сильным самоуправлением и пропорциональным представительством имели высокий уровень прав и низкий уровень выступлений против режима в открытой системе. Традиционные режимы схожи с социал-демократическими, за исключением того, что они «закрывают» недовольство в политической системе, тяготеющей к элитарности и порождающей большее количество бунтов и выступлений против режима. По социальной замкнутости они делятся на колонизаторские с более открытой натурализацией и мобильностью, которые развивают большую терпимость и обеспечивают больше права, и неколонизаторские с закрытой натурализацией и низкой социальной мобильностью, которые создают более авторитарные режимы. И либеральные общества, в которых избирательное право никогда не было организующей проблемой, имели более слабые профсоюзы, левые партии и вообще государство. В результате они имели более низкий уровень исполнения прав и обязанностей в обществе, открытом для интеграции иммигрантов и имеющих самый высокий уровень социальной мобильности. (Janoski, 1998: 222 – 223) Хотя его книга содержит немало исторического материала, эта цитата показывает нам, что Яноски строит свои объяснения вокруг поиска необходимых и достаточных условий различных видов гражданства. Вместо критики, кодификации или синтеза этих разных подходов к типологизации режимов и перехода от одного режима к другому, я попытаюсь предложить реконструкцию двух наиболее показательных случаев: первый относится к стороне Принципа в нашем континууме, а второй — к стороне Истории. Для Принципа мы возьмем Роберта Даля, а для Истории — С. Э. Файнера. Подход Даля во многом напоминает аристотелевский. Как показано на Диагр. , схема Даля имеет два основных измерения: открытость, степень, в которой люди в юрисдикции данного режима имеют право на участие, и либерализацию, степень, в которой участвующие в данном режиме имеют право на оспаривание условий правления. В отличие от Аристотеля, Даль также признает существование довольно открытых режимов, которые допускают минимальное политическое оспаривание; он называет их открытыми гегемониями. Он также оставляет незаполненным обширное пространство между его четырьмя угловыми типами, в которое можно поместить огромное множество других режимов — например, слабо управляемые кочевые империи, городские ЛKOKQ 6, 2008 99 Конкурентные олигархии Полиархии Закрытые гегемонии Открытые гегемонии Либерализация (публичное оспаривание) Открытость (право на участие) Диагр. 1. Классификация режимов у Роберта Даля федерации, сложносоставные династические государства и города-империи, которые в течение долгого времени правили на большей части европейской территории. Возможности оспаривания Даль связывает со следующей совокупностью прав: () свобода создания и членства в организациях, () свобода самовыражения, () право голоса, () право быть избранным, () конкуренция политических лидеров за избирателей, () альтернативные источники информации, () свободные и честные выборы и () институты выработки государственной политики, зависимые от голосов избирателей и других способов выражения предпочтений. Согласно Далю, режимы существенно отличаются друг от друга по доступности этих восьми институциональных условий, публичному использованию по крайней мере некоторыми членами политических систем, желающими оспорить действия правительств (Dahl, : ; см. также: Линдблом, ). В закрытой гегемонии этими правами не обладает никто, конкурентные олигархии распространяют такие права на небольшую элиту, открытые гегемонии не предполагают таких прав, а полиархии предоставляют их большинству населения. Отметим, что под оспариванием у Даля понимается институциональное право на оппозицию, а не характер или частота действительного оспаривания. Неинституционализированное публичное оспаривание появляется у Даля incognito, в виде (не имеющих определенной формы) предъявляемых к режимам требований упразднения причин крайнего неравенства, в виде конфликта, в котором одна часть населения начинает угрожать выживанию другой, в виде формирования революционных оппозиций и иностранного завоевания. Его схема требует от нас оценки взаимодействия между режимами и предоставляемыми ими правами, с одной стороны, и политикой оспаривания, которая иногда использует законные средства, а иногда пренебрегает ими — с другой. Для это- 100 Чарльз Тилли Дворец Церковь Знать Диагр. 2. Типология режимов Сэмюеля Файнера го необходимо соотнести режимы и смену режимов с преобладающим распределением () участников, действий и идентичностей в политике оспаривания, () условий для появления политики оспаривания и () траекторий и результатов политики оспаривания. Вышедшая посмертно «История правительства» Сэмюеля Файнера рисует другую неоаристотелевскую схему для классификации режимов. Заметив, что режимы можно классифицировать по территориальному измерению (городскому, национальному или имперскому), по разделению тех, кто принимает решения, на элиты и массы, а тех, кто их исполняет, на бюрократию и военных, Файнер, как и Аристотель, приходит в конечном счете к рассмотрению социального характера правящих кадров режима. Как видно из Диагр. , Файнер выделяет четыре чистых типа: Дворец (монарх и свита), Знать (привилегированный класс), Форум (сегменты или представители населения) и Церковь (духовенство). Стрелками на диаграмме показаны возможные пути перехода от одного режима к другому и вероятные местоположения смешанных режимов. Оспаривание постоянно появляется в объяснениях отдельных режимов у Файнера. Например, говоря об итальянских городах-государствах, Файнер отмечает, что патриции часто не допускали принятия в свои ряды новых членов. Но тем самым, замечает он, они сталкивались с давлением менее богатых или недавно разбогатевших элементов, требующих справедливого участия в управлении; так называемым демократическим движением. Эти элементы обычно использовали свои цеховые организации для того, чтобы направлять свое давление, так что эта борьба походила на попытки цехов разрушить политическую монополию более богатых и более престижных купеческих гильдий. В Италии… эти исключенные элементы создавали ассоциации и называли себя «народом» — popolo — и пытались заявить о своих ЛKOKQ 6, 2008 101 требованиях путем восстаний. Но то, что происходило в Италии, служит образцовым примером того, что происходило в большей части урбанизированной Европы, начиная с конца XIII столетия: сопротивление олигархии, насилие и даже революции (Finer, 1997: 954). Однако, ставя перед собой иные задачи, Файнер не рассматривает связи — эмпирические или причинные — между типами режима, политическими переходами и формами политики оспаривания. В этой статье, напротив, основное внимание будет уделено рассмотрению того, как и почему политическое оспаривание варьируется от одного типа режима к другому и как оспаривание взаимодействует с переходом от одного режима к другому. Исходя из посылок, изложенных ранее, рассмотрим теперь вопрос о существовании четкого соответствия между типом режима A и действием X , появлением процесса Y или траекторией Z. Мы рассмотрим грубые эмпирические закономерности, рассчитывая достичь двух различных целей: во-первых, установить, какие теоретически значимые сходства и различия следует объяснять при помощи каузального объяснения оспаривания; во-вторых, последовательно изучить, как исторически накопленные модели, воспоминания, понимания и социальные отношения — например, остатки прежней гегемонии монгольской империи в данном регионе — влияют на развертывание политики оспаривания. Задача состоит в построении двух грубых концептуальных карт — режимов и политики оспаривания, — сходства и различия между которыми вызывают серьезные вопросы относительно причинных связей. К сожалению, нам почти не на что опереться при выполнении этой задачи. Исследователи обычно признают концентрацию социальных движений (определяемых довольно узко) в парламентских демократиях, уязвимость ослабленных деспотических режимов перед революциями, частоту удачных переворотов там, где военные обладают значительной автономией, и множество почти тавтологических идей, вроде распространенности забастовок при промышленном капитализме или высокой концентрации крестьянских восстаний в системах с крупными землевладельцами. Но у нас нет никакой общепринятой карты различий в формах и динамике политики оспаривания, которые имеют место при различных типах режимов правления. Кроме того, существующие формулы страдают от серьезных недостатков: во-первых, отсутствует понимание взаимодействия между политическими процессами оспаривания и их местом, например, в том, как политика оспаривания, вызываемая определенными видами режимов, трансформирует эти режимы; во-вторых, нет никакой убедительной интерпретации, к примеру, взаимодействия между взглядами, которые пронизывают рутинную политику, не связанную с оспариванием, и теми, что пронизывают политику оспаривания. И у нас нет динамического причинного объяснения взаимосвязи между режимами и оспариванием. 102 Чарльз Тилли Поэтому, по примеру Аристотеля, попытаемся построить простую таксономию режимов по вариациям, траекториям и трансформациям политики оспаривания. Термин режим в этом контексте означает всякую особую конфигурацию политии: взаимосвязи между правительством, членами политии, имеющими доступ к агентам этого правительства, соперниками, состоящими из конституированных участников, которые не имеют доступа к правительственным агентам, и спорадическими участниками — внешними правительствами, международными организациями и так далее, — находящимися за пределами юрисдикции правительства. Чтобы учесть в этой модели сложность реальных политических процессов, нам следует: представить правительства не как одинокие звезды, а скорее как галактики с множеством центров и иерархий, часто соперничающих, а не как что-то единое и целостное; изменить четкость границы политии; допустить неопределенность или размытость границ политических юрисдикций; признать, что соперники (и члены, и соперники) различаются по силе и сплоченности; отметить, что данный индивид или группа в рамках юрисдикции правительства могут относиться к множеству соперников или ни к одному вовсе. Мы также должны сделать модель динамичной, признав возможность смены правительств, изменения соперников и флуктуаций выдвигаемых требований. Наконец, нам нужно поместить политии в их историческую и культурную среду, признав по крайней мере, что предшествующие и смежные формы правительства служат важными шаблонами для создания новых правительств, в результате, история и культура ограничивают действие внешне общих процессов, вроде репрессий и политической мобилизации. Мы имеем дело с взаимным предъявлением требований и ответами на требования среди неодинаково влиятельных соперников в присутствии по крайней мере одного правительства. Простая модель политии открывает возможность таксономии всех режимов со времен Аристотеля. Эта таксономия отходит от аристотелевского / файнеровского акцента на идентичности правящих классов к далевскому акценту на политических отношениях между правителями и управляемыми. Эта классификация сосредоточена на отношениях между правительствами и членами политии. Она представляет собой функцию пяти переменных: . Состоятельность правительства (действительное воздействие правительственных действий на действия и ресурсы в рамках юрисдикции правительства в соответствии с неким критерием качества и эффективности): низкая () — высокая (). . Широта членства в политии: один лишь правитель () — каждый человек в рамках юрисдикции правительства является членом по крайней мере одной политии (). ЛKOKQ 6, 2008 103 . Равенство членства в политии: радикально неравное () — каждый человек, принадлежащий к политии, имеет равный доступ к правительственным агентам и ресурсам (). . Консультации среди членов политии относительно государственных кадров, политики и ресурсов, которые оцениваются по (а) степени обязательности этих консультаций, (б) степени влияния этих консультаций на правительственные кадры, политику и ресурсы: от их необязательности и неэффективности () до обязательности и определяющей роли (). . Защищенность членов политии и принадлежащих к ней людей от произвольных действий правительственных агентов: полная беззащитность () — полная защищенность (). Таким образом (высокая степень состоятельности, ограниченное членство в политии, неравное членство в политии, сильные консультации, широкая защита) описывает идеализированную сильную олигархию или, возможно, даже настоящую аристократию у Аристотеля. Цифры (высокая состоятельность, широкое членство в политии, равное членство в политии, отсутствие консультаций, отсутствие членства) описывают идеализированное тоталитарное государство, худший аристотелевский образ тирании. Последовательность обозначает крайнюю анархию. Все реальные правительства располагаются где-то посередине, а среднее западное капиталистическое государство в сравнении со всеми остальными государствами, когда-либо существовавшими в истории, по всей видимости, имеет следующие показатели: , по состоятельности, , по широте, , по равенству, , по консультациям и , по защищенности. Если рассматривать типы режима по Яноскому, относительные показатели демократических режимов могут выглядеть так (Janoski, : – ): Элемент Либеральный Традиционный Социал-демократический Состоятельность 0,80 0,85 0,90 Широта 0,80 0,85 0,90 Равенство 0,85 0,80 0,95 Консультации 0,80 0,90 0,85 Защищенность 0,75 0,80 0,95 Хотя я не ставлю перед собой целью точный замер показателей по этим пяти элементам, историю, прошедшую со времен Аристотеля, можно представить в виде огромного табло, на котором высвечиваются меняющиеся показатели для каждого государства. Объяснительная проблема 104 Чарльз Тилли состоит в выделении и объяснении связи между такими колебаниями, с одной стороны, и изменением характера, интенсивности и траектории оспаривания — с другой. Эти пять измерений логически различны: в той степени, в какой мы можем анализировать вариации внутри каждого измерения в отдельности. Но они (или, скорее, связанные с ними причины) взаимодействуют настолько сильно, что большая часть образуемого логического пространства остается эмпирически незаполненной. Слабо состоятельные правительства, к примеру, редко или никогда не обеспечивают членам своей политии широкую защиту от произвольных действий правительственных агентов. И широкое членство в политии, крайне неравное членство в политии и обязательные консультации не могут сосуществовать друг с другом в течение долгого времени. Вообще, все выглядит так, словно значительный прирост состоятельности правительства способствует расширению членства в государстве, когда важные для работы правительства ресурсы поступают от населения, проживающего в юрисдикции этого правительства, потому что борьба за эти ресурсы ведет к временным сделкам, которые устанавливают взаимные права и обязанности между правительственными агентами и теми, кто предоставляет ресурсы. Таким образом, вся теория трансформации правительств должна быть представлена в форме каузальных суждений, связывающих пять этих измерений. Но до сих пор важные вопросы относительно зависимости различий в политике оспаривания от показателей режима по этим пяти параметрам поднимались обособленно. Состоятельность правительства не входит в определение демократии, хотя и оказывает значительное влияние на возможность демократических процессов. В принципе, можно представить широкое политическое участие, относительное равенство индивидов или других социальных единиц, обязательность коллективных консультаций и защиту в отсутствие всякого правительства. Анархисты и утописты часто считали относительную демократию отдельных мелких предприятий, мастерских и местных общин свидетельством осуществимости безгосударственной демократии в крупном масштабе. Но исторический опыт подталкивает к другому выводу: там, где правительства терпят крах, появляются другие хищники. В отсутствие действенной правительственной власти люди, которые располагают значительными объемами капитала, средств принуждения или верных сторонников, используют их для достижения собственных целей, создавая тем самым новые формы угнетения и неравенства. Если высокая степень состоятельности правительства и не определяет демократию, она кажется необходимым условием для демократии в крупном масштабе. Но из этого наблюдения невозможно вывести обратное: что повышение состоятельности правительства неизменно способствует демократии. На самом деле повышение состоятельности правительства способствует тирании гораздо чаще, чем расцвету демократии. При абстрактном ЛKOKQ 6, 2008 105 рассмотрении опыта всех правительств отношение между состоятельностью правительства и демократией выглядит асимметрично криволинейным: при средней и средневысокой степени состоятельности правительства демократия встречается чаще, но после преодоления этого порога правительственные агенты начинают контролировать слишком широкий спектр деятельности и ресурсов, сворачивая демократию. С этой точки зрения гражданство возникает только при высоких показателях по этим пяти параметрам. Только там, где правительство достаточно состоятельно, членство в политии включает значительную часть подданных правительства, людям, которые являются членами политии, гарантировано некоторое равенство в доступе к правительству, консультации с этими людьми влияют на деятельность правительства, а люди, принадлежащие к политии, в какой-то степени защищены от произвола, мы можем говорить о взаимных правах и обязанностях правительственных агентов перед целыми категориями людей, определяемых по их отношению к данному правительству, то есть о гражданстве. Хотя такого рода гражданство связывало членов элиты греческих полисов с их правительствами, а представителей элиты многих средневековых европейских городов с их муниципалитетами, в целом гражданство в национальном масштабе прочно закрепилось только в XIX веке. На Диагр. приведены эти пять измерений и показано положение анархии, демократии и гражданства. Демократия опирается на гражданство, но им не исчерпывается. И большинство западных государств создали определенные формы гражданства в XIX веке, но на протяжении большей части этого периода гражданство было слишком узким, слишком неравным, слишком неконсультативным и / или слишком незащищенным, чтобы эти режимы можно было признать демократическими. Например, режимы, которые мы обобщенно называем «тоталитарными», обычно сочетали высо0 1 ² Состоятельность Широта Z ³ ^ µ K Z Равенство W Á Консультации Зона Y гражданства W ]  X Защищенность Диаг. 3. Пятимерная таксономия режимов 106 Чарльз Тилли Z X  кую степень состоятельности правительства с относительно широким и равным гражданством, но не обеспечивали ни обязательных консультаций, ни широкой зашиты от произвола правительственных агентов. Некоторые монархии поддерживали узкое, неравное гражданство, консультируясь с немногими счастливцами, которые пользовались гражданством и защитой от произвола правительственных агентов; такие режимы относятся к олигархиям. В поисках демократических режимов мы можем считать сравнительно высокую состоятельность правительств самоочевидной, потому что она является необходимым условием для сильных консультаций и защиты. Мы признаем режим с высокой степенью состоятельности демократическим, когда он обеспечивает не просто гражданство, а широкое гражданство, относительно равное гражданство, последовательные консультации с гражданами и значительную защиту от произвола правительственных агентов. Консультации и защита требуют дальнейших оговорок. Хотя многие правители заявляли о том, что они были проводниками воли народа, лишь правительствам, создавшим конкретные институты для выражения предпочтений, удалось обеспечить также обязательные и действенные консультации. На Западе наиболее наглядным примером таких институтов служат представительные собрания, конкурентные выборы, референдумы, петиции, суды и публичные собрания; вопрос о роли опросов, дискуссий в средствах массовой информации или групп с особыми интересами остается весьма спорным. На стороне защиты демократии обычно гарантируют зоны терпимости к словам, убеждениям, собраниям, объединениям и публичной идентичности, хотя и предъявляют довольно внушительный объем культурных стандартов для участия в политии; режим, который предписывает определенные формы слова, убеждений, собраний, объединений и публичной идентичности, исключая все остальные формы, может обеспечивать широкое, равное гражданство и определенные консультации, но отходит от демократии в сторону популистского авторитаризма, оговаривая условия предоставления защиты. На краю пятимерного пространства, где расположены демократические режимы, предшествующий исторический опыт помещает ряд моделей, взглядов и практик, касающихся вопросов, вроде способов проведения конкурентных выборов. Политическая культура демократии ограничивает свободу действий вновь созданных демократий как потому, что она предлагает уже готовые шаблоны для построения новых режимов, так и потому, что она влияет на вероятность того, что существующие власти — демократические или нет — признают новый режим демократическим. На протяжении большей части человеческой истории подавляющее большинство режимов было недемократическим; демократические режимы — это редкие, случайные и недавние создания. На локальном уровне иногда действительно создавались частичные демократии; например, в деревнях, которыми управляли советы, включавшие ЛKOKQ 6, 2008 107 большинство глав домохозяйств. На уровне города-государства, владений военного правителя или региональной федерации формы правительства смещались от династической гегемонии к олигархии с ограниченным, неравным гражданством или полным его отсутствием, ограниченными консультациями (или опять-таки полным их отсутствием) и слабой защитой от произвола правительства. До XIX века крупные государства и империи, как правило, управлялись при помощи косвенного правления: системы, в которых центральная власть получала от местных правителей, обладавших значительной автономией в своих владениях, дань, сотрудничество и гарантии покорности со стороны подданных. Если смотреть снизу, то для простых людей такие системы часто насаждали тиранию. Но если смотреть сверху, они не были достаточно состоятельными; они получали ресурсы от посредников, что налагало серьезные ограничения на способность правителей править или преобразовывать мир в собственных юрисдикциях. Только в XIX веке произошло широкое распространение прямого правления, создание структур, распространяющих коммуникацию и контроль правительства от центральных органов власти до отдельных местностей или даже домохозяйств и обратно. Даже тогда прямое правление варьировалось от унитарных иерархий централизованной монархии до сегментации федерализма. В целом прямое правление сделало возможным широкое гражданство и, следовательно, демократию. Возможным, но не обязательным: инструменты прямого правления использовались многими олигархиями, некоторыми автократиями, множеством государств, управляемых партиями или военными, и несколькими фашистскими тираниями. Даже в эпоху прямого правления большинство государств оставалось недемократичным. Конечно, мы можем выстраивать режимы и по другим измерениям, а не только по состоятельности и демократичности: например, по величине, разнообразию внутренних правительств и непосредственности центрального контроля. Но мы попытаемся подойти к нашей проблеме под несколько иным углом, чем у Аристотеля, Даля и Файнера. Мы сосредоточим внимание на различиях между режимами по степени их недемократичности / демократичности и низкой / высокой состоятельности правительств. Эти аспекты важны для нас по нескольким причинам: () потому что они привлекли к себе больше теоретического и эмпирического внимания исследователей народной политики, чем такие аспекты, как единообразие государственной администрации или множество управленческих единиц; () потому что в последние столетия они оказали большое влияние на характер, траектории и динамику политики оспаривания; и () потому что даже степень состоятельности и уважения к демократии у режима в долгосрочной перспективе сказывается на качестве его политики оспаривания. Вернемся к демократическому пятиугольнику: состоятельности, широте, равенству, консультациям и защищенности. Я рассмотрю раз- 108 Чарльз Тилли личия режимов в политике оспаривания по каждому измерению, выдвинув ряд доводов, которые можно назвать предположениями, гипотезами или спекуляциями. Эти доводы опираются на знания, ограничивающиеся преимущественно недавним западным опытом. Я не делаю предположений, противоречащих имеющемуся опыту. Поэтому выдвинутые предположения требуют опровержения со стороны специалистов, который лучше владеют этой темой. Как и почему нам следует ожидать того, что различия в степени состоятельности правительства повлияют на оспаривание? По большей части потому, что более высокая степень состоятельности означает, что (а) правительственные агенты имеют стимулы и средства для вмешательства в более широкий круг социальных взаимодействий в зоне работы правительства; (б) правительственные действия, независимо от их целей, влияют на широкий круг участников и взаимодействий и, следовательно, подталкивают заинтересованные стороны к наступлению, обороне или изменению собственных требований; (в) независимо от соперничающих проектов и действий третьих сторон, агенты правительства, контролируемые им ресурсы и его реакции приобретают все большее значение для таких проектов. Напротив, при низкой степени состоятельности правительства большая часть политики оспаривания проходит без участия правительства, а попытки вмешательства правительства все чаще встречают организованный отпор. Из этого можно сделать некоторые эмпирические выводы, например: . Чем выше степень состоятельности правительства, чем больше ресурсов и видов деятельности в государстве охватывается действиями правительства, тем выше вероятность предъявления требований правительственным агентам. . Чем ниже степень состоятельности правительства, тем выше вероятность насильственного соперничества между неправительственными группами за удовлетворение своих требований. . Чем ниже степень состоятельности правительства, тем шире распространенность прямых действий против ренегатов и агентов центральных властей. . Чем ниже степень состоятельности правительства, тем больше тайных репрессий, тем согласованнее сопротивление внешним угрозам, локальнее действия, теснее связи с соответствующими идентичностями и тем разнообразнее требования по своему культурному содержанию. . Чем ниже степень состоятельности правительств, тем выше доля правительственных вмешательств, состоящих из насильственного грабежа и / или показательных расправ, и, следовательно, выше вероятность насильственного сопротивления. . После определенного порога степень состоятельности правительств коррелирует со степенью прямоты правления и, следовательно, ЛKOKQ 6, 2008 109 вероятностью того, что требования будут предъявляться правительственным агентам (и ими самими), а не уполномоченным посредникам или автономным властителям. . Высокая степень состоятельности правительств в среднем зависит от большего изъятия ресурсов у подданных и, следовательно, обостряет конкуренцию за изъятие ресурсов с неправительственными организациями. Все эти гипотезы ведут к конкретным сравнениям между режимами формами политики оспаривания. Их достоинство состоит в том, что они предлагают четкие ориентиры для исследователей, а недостаток в том, что они ограничиваются статическими сравнениями высокого / низкого. Как насчет членства в политии? При самом ограниченном никто из подданных данного правительства не имеет ни прав, ни взаимных обязательств, связывающих его с правительственными агентами и правительственных агентов с ним. При самом широком все подданные обладают гражданством. Категориальное гражданство в этом случае либо тождественно, либо коррелирует с членством в политии. В таком случае можно ожидать значительных различий в средствах оспаривания между широкими и ограниченными политиями, когда (а) в ограниченных политиях те, кто предъявляют требования (особенно нечлены политии), склонны искать подход к правительственной власти непрямо и / или неявно при помощи неформальных сетей, подкупа правительственных агентов, террора и подрывной деятельности, а (б) соперники в широких политиях зачастую обращаются к средствам, схожим с теми, что используются членами политии, хотя и несколько отличным от них, чтобы привлечь внимание к самим себе или к своему подрывному потенциалу. Отсюда вытекает несколько более определенных гипотез: . Расширение членства в политии способствует образованию альянсов и появлению требований признания и предоставления членства все еще исключенным участникам. . Сужение членства в политии встречает отпор и ведет к образованию альянса между членами политии, столкнувшимися с угрозой утраты членства. . Чем уже членство в политии, тем чаще подданные ищут подход к правительственной власти непрямо и / или тайно посредством неформальных сетей, подкупа правительственных агентов, террора и подрывной деятельности. . Чем уже членство в политии, тем выше доля открытого оспаривания, непосредственно бросающего вызов властям, далекого от форм предъявления требований, предписываемых или одобряемых властями. . Чем шире членство в политии, тем выше доля открытого оспаривания, которое происходит на границах предписанных политических 110 Чарльз Тилли форм, например, в виде социальных движений или проведения разрешенных публичных церемоний. . Между широтой членства в государстве и частотой, с которой несогласные члены политии оказывают поддержку нечленам, содействуя их включению, существуют криволинейные отношения: реже при крайне ограниченном или необычайно широком членстве в политии и чаще в промежуточном положении. . Чем сильнее раскол в политии, тем чаще возникают такие коалиции. Таким образом возникает динамика включения, исключения и оспаривания. И вновь гипотезы приводят к довольно любопытным статическим сравнениям, но оказываются неспособными выделить динамику причинно-следственных отношений. А равенство членства в политии? Идеальное равенство членства в политии требует не равенства богатства, власти или благосостояния, а абсолютно одинаковых отношений у всех с правительственными агентами. Абсолютное неравенство членства в политии требует не глубокого равенства в уровне жизни, а дифференциации в индивидуальных и групповых отношениях с правительственными агентами. (Но, возможно, Аристотель был прав, говоря, что большое материальное неравенство создает неравенство членства в политии, так как богатые участники используют свои средства для того, чтобы влиять на политический процесс и действия правительственных агентов, увеличивая тем самым неравенство членства в политии). Ни одно правительство никогда не распространяло идеального равенства членов политии, так как всегда существовали определенные сегменты исключенного населения, особенно дети, преступники и неправоспособные. Даже в самых демократических правительствах с широкими правами гражданства выгоды и обязательства гражданства дифференцируются в зависимости от пола, возраста, военной службы, наличия / отсутствия судимости и занимаемых должностей. Эти рассуждения очень важны для построения карт оспаривания в различных режимах. Например, чем более равным является членство в политии, тем больше полития откликается на эффективную демонстрацию соперниками своего достоинства, сплоченности, численности и верности своему делу. (Так и должно быть, потому что это свидетельствует о способности оспаривающего вмешаться в обычные консультации, получив при этом поддержку со стороны других оспаривающих). С другой стороны, чем более неравным оказывается членство в политии, тем больше различия между каналами, которые используются различными сегментами населения для предъявления своих требований, и тем выше различия в эффективности требований данных участников. (Под «каналами» понимается не только способ предъявления требований, но и формирование коалиций, взаимодействие с властями, центростремительные и центробежные ориентации и репертуары). Остальные гипотезы выглядят так: ЛKOKQ 6, 2008 111 . Чем более равным является членство в политии, тем чаще проигравшие в обязательных консультациях соглашаются со своим проигрышем и тем реже оспаривание таких консультаций, в том числе и насильственное. . Чем более равным является членство в политии, тем больше сходств в репертуаре предъявления требований у различных оспаривающих. (И это несмотря на постоянные попытки оспаривающих сделать так, чтобы форма предъявления требований или требования хоть чем-то да отличались от форм предъявления требований или требований у других оспаривающих: различия здесь крайне невелики). . Равенство членства в политии имеет криволенейное отношение к размеру политии: его больше в средних, чем в очень крупных и очень мелких политиях. . Чем больше эксплуатация и ограничение возможностей (и, следовательно, категориальное неравенство) среди основного населения, тем больше неравенство членства в политии (см.: Tilly, : chapter ). Отсюда следует, что и равенство, и выравнивание оказывают большое влияние на характер политики оспаривания. Но прежде чем перейти к обсуждению динамики, нам необходимо более внимательно рассмотреть действительные процессы, которые меняют формы неравенства. Обязательные консультации? Теоретики демократии часто считают выборы институтом первостепенной важности. Общенародные выборы действительно служили важной технологией для консультаций — обязательных или нет. Но отметим, что даже при сильных электоральных режимах обычно имеет место взаимодействие между собственно избирательными кампаниями и (а) демонстрацией потенциальной электоральной силы коллективными участниками, не участвующими в избирательных кампаниях, (б) законодательной работой, (в) процессами отбора кандидатов, включая покрытие затрат на кампанию, и (г) вознаграждения сторонников. В любом случае при различных режимах имеют место определенные обязательные консультации посредством действия сетей патрона / клиента, представительства, плебисцитов, сходов, референдумов, консультативных собраний, опросов, петиций, лоббирования, публичных ритуалов и так далее. Рассмотрим теперь относительно публичные, прозрачные и институционализированные формы обязательных консультаций. Из этих рассуждений следует, что между политикой оспаривания и обязательными консультациями существует сильная взаимосвязь. Например, чем шире и обязательнее консультации между членами политии, тем больше общих интерпретаций возникает в результате публичного обсуждения. И наоборот, чем консультации уже и менее обязательны, тем больше общих интерпретаций возникает в результате неофициальных, «подпольных» обсуждений и тем сильнее разделение между (а) подрывным дискурсом такого рода, который Джеймс Скотт 112 Чарльз Тилли (Scott ) называл «оружием слабых», и (б) публичной драматургией, предполагающей обращение к широко известным символам, легендам, событиям, датам и людям. Отсюда более детальные гипотезы: . Преобладающие формы консультаций (например, выборы вместо аудиенций при дворе) влияют на места и формы проведения политики оспаривания, особенно в присутствии демократии и высокой степени обстоятельности правительства. Рутинную политику преследуют параполитические и собственно политические, но оппозиционные требования. . Чем шире и обязательней консультации членов политии, тем сильнее концентрация оспаривания на институционализированных консультациях. . Чем шире и обязательней консультации членов политии, тем больше важность абстрактных (а не конкретных) идентичностей в коллективном выдвижении требований. . Присутствие гражданских свобод — свободы слова, собраний, объединений и убеждений, а также ограничение возможности ареста людей и собственности правительственными агентами — способствует институционализации консультаций и оспаривания. . Широкие и обязательные консультации способствуют принятию форм предъявления требований, опирающихся на широкую организацию и подготовку, а не возникающих из повседневных занятий, наподобие торговли, работы, употребления алкоголя или посещения религиозных служб. . Обширные обязательные консультации способствуют распространению форм предъявления требований, расширяющих возможности участия в индивидуальных или коллективных действиях, но не непосредственное участие в данных действиях. Такие формы драматизируют достоинство, сплоченность, численность и верность общему делу как непосредственных участников, так и населения, которое они, по их словам, представляют. . Широкие обязательные консультации ставят цели перед региональными или национальными властителями, в том числе правительственными агентами. . Широкие обязательные консультации способствуют активизации отвлеченных коллективных идентичностей: идентичностей, более общих или отвлеченных по сравнению с теми, что пронизывают рутинные социальные отношения (например, рабочие вообще, а не работники этого определенного цеха). . Чем более унифицированы консультации среди всего населения (это зависит от широты и равенства членства в политии), тем больше сходство репертуара предъявления требований в этом населении. . Количество требований возрастает по мере увеличения социальной, временной и географической близости к крупным консультациям. ЛKOKQ 6, 2008 113 . Мобилизованные оспаривающие, которым отказано в участии в крупных консультациях, обычно стремятся сорвать или помешать проведению либо вмешаться в ход этих консультаций. . Чем меньше обязательность консультаций, тем более восприимчивы оспаривающие к изменениям в возможностях и угрозах (имеется в виду изменение их отношения к существующему режиму и изменение отношений между режимом и внешними участниками). Как насчет защиты членов политии от произвола правительственных агентов? Нам нужно забраться в эти концептуальные и теоретические дебри по двум причинам: во-первых, потому что «произвол» предполагает наличие стандарта беспристрастного надлежащего процесса, который крайне трудно представить в общем виде и априори, а, во-вторых, потому что даже больше, чем обязательные консультации, защита предполагает непрерывное обсуждение определенных мер с правительственными агентами, как в тех случаях, когда демонстранты сообщают о запланированных маршах полиции или социальные работники идут на нарушение правил, чтобы облегчить положение нуждающихся. Но мы можем представить примерную шкалу, включив позитивные элементы, вроде официального наделения граждан правами, возможности пересмотра и исправления принятых решений и одинакового отношения агентов ко всем социальным категориям. Мы также можем рассмотреть негативные элементы, вроде отсутствия пользующихся протекцией правительства военизированных сил, тайных форм и мест содержания заключенных или широкой слежки за гражданами. Этот общий подход подводит к сильным гипотезам относительно взаимосвязей между защитой и политикой оспаривания: . Чем больше защиты, тем сильнее концентрация оспаривания на использовании запрещенных средств предъявления требований. . Чем меньше защиты, тем выше доля притязаний на захват правительственной власти, раскол правительственной власти или создание автономии от нее. . Чем меньше защиты, тем важнее роль отношений патрона / клиента в оспаривании. . Чем меньше защиты, тем сильнее склонность всех оспаривающих приобретать собственную силу принуждения. . Чем меньше защиты, тем выше доля предъявления требований, сопряженного с насилием. . Чем меньше защиты, тем больше опора соперников на защищенные социальные места и идентичности, основанные на повседневных социальных отношениях — то есть конкретные идентичности. . Чем более защита дифференцирована по социальным категориям, тем больше дифференциация репертуаров оспаривания. Эта длинная череда гипотез, конечно, представляет собой всего лишь ряд обоснованных допущений относительно того, что мы можем ожидать при пристальном рассмотрении различий в политике оспа- 114 Чарльз Тилли ривания при различных режимах, ограниченных тем, что я знаю (или думаю, что знаю) о действительных различиях в политике оспаривания в западных режимах в течение прошлых столетий. Поэтому речь здесь идет об исследовательской программе, а не о ряде надежных выводов. Я не собираюсь делать здесь эмпирические обобщения, связывающие типы политики оспаривания и типы режима, и уж тем более выводить общие законы, из которых могут вытекать такие эмпирические обобщения. Вместо этого я пытаюсь () установить грубые эмпирические закономерности, показывая, какие различия могут быть объяснены валидными теориями политики оспаривания; () сформулировать частичные, но убедительные причинные аналогии, касающиеся различных режимов и форм политики оспаривания; () предложить карту вариаций для изучения эпизодов оспаривания, существенно различающихся по условиям и форме; и () использовать ее для определения круга условий для примерных аналогий, когда они возникают. Чтобы объединить некоторые из этих разрозненных аргументов и показать важность сосредоточения на состоятельности правительств и демократии / недемократии, рассмотрим выводы из этой схемы для важной проблемы в политике оспаривания: сходству в репертуаре между различными формами политического взаимодействия, связанного и не связанного с оспариванием. Под репертуаром оспаривания здесь понимаются коллективные практики предъявления требований политически конституированными участниками. Эта театральная метафора показывает, что предъявление требований состоит не из заполнения бюрократических форм, а из импровизированных и случайных действий, основанных на предыдущем опыте с привлечением существующих взглядов, социальных отношений и известных практик. Репертуар оспаривания всегда включает ограниченное число таких действий, гораздо меньшее и гораздо более узкое, чем взаимодействия, на которые стороны технически способны. Отталкиваясь от идеи репертуара, мы будем называть все способы предъявления притязаний представлениями, обычно разыгрываемыми в рамках данного режима. Вообще, следует ожидать, что по ряду причин правительства с высокой степенью состоятельности способствуют появлению более унифицированных способов предъявления требований (оспаривающих или иных), чем правительства с низкой степенью состоятельности: правительства с высокой степенью состоятельности более эффективно сближают рассеянных участников, включая оспаривающих, друг с другом, тем самым способствуя обмену опытом и сотрудничеству в формулировании требований; грубые правительства с высокой степенью состоятельности сами способствуют повышению степени оспаривания, навязая свои ритмы и структуры способам предъявления требований; и такие правительства также склонны создавать единую административную организацию на всех своих территориях, в отличие от регионального партикуляризма правительств с низкой степенью ЛKOKQ 6, 2008 115 состоятельности, — это обстоятельство увеличивает сходство ситуаций, стимулирующих и канализирующих предъявление требований среди различных сегментов населения при правительствах с высокой степенью состоятельности. По этим причинам модульные репертуары — пакеты действий, легко переносимые из одного места, группы, проблемы или организации в другое — должны преобладать при правительствах с высокой степенью состоятельности. В чем различие между репертуарами демократических и недемократических режимов? В самом общем виде оно показано на Диагр. .: состоятельность правительства и демократия отражаются на сочетаниях предписанных, допустимых, запрещенных и оспаривающих политических действий. Каким образом? Во-первых, демократические режимы Недемократический режим с высокой степенью состоятельности Демократический режим с высокой степенью состоятельности Допустимые Допустимые Предписанные Оспаривающие Предписанные Оспаривающие Запрещенные Запрещенные Недемократический режим с низкой степенью состоятельности Демократический режим с низкой степенью состоятельности Допустимые Предписанные Допустимые Оспаривающие Запрещенные Предписанные Оспаривающие Запрещенные Диагр. 4. Конфигурации политического взаимодействия при различных типах режимов 116 Чарльз Тилли предписывают сравнительно небольшой круг таких действий, но допускают довольно широкий; если воинская повинность, уплата налогов и участие в переписях становится почти обязательным при демократиях, то даже регистрация в качестве избирателя остается добровольной при самых демократических режимах. Наоборот, недемократические режимы с высокой степенью состоятельности обычно предписывают широкий круг публичных политических действий и допускают совсем немного остальных. Они также запрещают гораздо большее количество действий, связанных с предъявлением требований. Во-вторых, демократические режимы связывают оспаривание с предписанными и допустимыми формами, потому что доступ к власти и признанию обеспечивается при помощи этих форм; так, избирательные кампании и заседания законодательных собраний становятся очагами предъявления требований, даже у тех, кто в настоящее время обладает незначительной властью или не обладает властью вообще. Недемократические режимы с высокой степенью состоятельности, напротив, обычно исключают спорные проблемы и участников от предписанных и допустимых форм предъявления требований, вследствие чего несогласные предъявляют свои требования либо тайно используя допустимые действия, вроде публичных церемоний, либо сознательно предпринимая запрещенные действия, вроде вооруженных нападений. Но состоятельность правительства также имеет большое значение. Согласно соображениям, изложенным на Рис. , недемократические режимы с низкой степенью состоятельностьи допускают довольно широкий круг средств оспаривания, и на то есть три причины: () им не хватает средств для того, чтобы предписывать широкий круг действий, и потому они соглашаются на дань, ритуальное признание и некоторые другие услуги подданных; () им также не хватает средств для отслеживания оспаривания в небольшом масштабе в пределах своей номинальной юрисдикции; () их попытки насадить культурную и организационную однородность в пределах своей юрисдикции остаются слабыми и неэффективными, вследствие чего действия, процессы возникновения и направления политики оспаривания заметно варьируются от региона к региону и от сектора к сектору. История знает немного демократических режимов с низкой степенью состоятельности, и немногим из них удалось просуществовать сколько-нибудь большой срок; большинство имело лишь местный масштаб. Но, как правило, такие режимы предписывали не слишком широкий круг действий, а допускали довольно широкий, проводя значительную часть своей общественной жизни в борьбе между спорными требованиями, фракциями и формами действия. Основываясь на долгом средиземноморском опыте городов-государств, Аристотель признавал уязвимость демократических режимов с низкой степенью состоятельности перед фракциями и внешним завоеванием. Они также легко распадаются на политии, организованные вокруг соперничающих — или, ЛKOKQ 6, 2008 117 по крайней мере, обособленных — правительств. Поскольку многие из возникающих сегодня демократий опираются на сравнительно слабые правительства, черты демократических режимов с низкой степенью состоятельности должны помочь в объяснении борьбы, разворачивающейся в современном мире. Эти соображения о разнообразии репертуаров нуждаются в уточнении и эмпирической проверке. Они вполне согласуются с недавней историей Запада, подтверждая наше представление о том, что режимы, различающиеся по двум основным параметрам — состоятельность правительства и демократия / недемократия, — приводят к появлению различной политики оспаривания. Поэтмоу сила правительства и демократизация удостаиваются гораздо большего внимания, чем другие аспекты режимов. Но мы выделяем в анализе демократизации четыре измерения: широту членства в политии, равенство членства в политии, силу консультаций и защиту. В самом общем виде нас интересует вопрос, как положение режима в этом пятимерном пространстве влияет на характер, направление и динамику политики оспаривания. И первый вопрос, который возникает в этой связи, звучит так: как характер режима влияет на (а) формы политики оспаривания в нем, и на (б) динамику политики оспаривания в его границах? Отсюда второй вопрос: Как изменения в характере режима влияют на изменения в формах и динамике оспаривания? То есть как изменения в () степени состоятельности правительства, () широте членства в политии, () равенстве членства в политии, () силе коллективных консультаций, () защите членов политии от произвола властей влияют на изменения в () репертуаре оспаривания, () способах предъявления требований, () тех, кто их предъявляет? Что подводит нас к третьему вопросу: как изменения в репертуарах оспаривания, способах предъявления требований и тех, кто их предъявляет, влияют на особенности и траектории режимов? Точнее, нас интересуют частичные каузальные аналогии, касающиеся широкого круга режимов и формы и динамики их оспаривания. Эти каузальные аналогии касаются трех основных кластеров феноменов: () участников, действий и идентичностей, принимающих участие в политике оспаривания; () возникновения оспаривания; и () развития борьбы. Большинство ответов, предложенных мною здесь, имеет отношение к сравнительной статике: они показывают, какие виды политического оспаривания могут встречаться в различных местах по этим пяти континуумам и какие изменения могут произойти по мере изменения режимами своего положения в этих континуумах. Отчасти это объясняется тем, что таксономическая аргументация благоприятствует рассмотрению сравнительной статики, а отчасти тем, что причинные аргументы, стоящие за этими гипотезами, остаются грубо или плохо сформулированными. 118 Чарльз Тилли Тем не менее, размышления о различиях между режимами и политике оспаривания открывают перспективную программу для исследований. Сравнительная программа раскладывает различные процессы оспаривания по пяти измерениям и возможным направлениям изменения режимов; эти статические отношения заслуживают более глубокого эмпирического изучения. Нам нужно изучить такие процессы изменения в соответствующих исторических условиях, позволяющих выделить доступные модели политической практики, а также существующие международные ограничения для режимов и форм оспаривания, скажем, в неразберихе политических перемен в посткоммунистической Восточной Европе. Третье направление исследований касается специфических механизмов, вроде формирования идентичности при разных режимах и политике оспаривания, скажем, рассматривая каузальные аналогии между их действием в национализме, этническом конфликте и неэтнических социальных движениях. Перевод с английского Артема Смирнова Литература Андерсон П. 2007. Переходы от античности к феодализму. М.: Территория будущего. Линдблом Ч. 2005. Политика и рынки. Политико-экономические системы мира. М.: ИКСИ . Anderson Perry. 1974. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books. Anderson, Richard D., Jr., M. Steven Fish, Stephen E. Hanson, and Philip G. Roeder. 2001. Postcommunism and the Theory of Democracy. Princeton, NJ : Princeton University Press. Arat, Zehra F. 1991. Democracy and Human Rights in Developing Countries. Boulder, CO : Lynne Rienner. Barbalet, J. M. 1988. Citizenship. Minneapolis: University of Minnesota Press. Bratton, Michael, and Nicholas van de Walle. 1997. Democratic Experiments in Africa. New York: Cambridge University Press. Burkhart, Ross E., and Michael S. Lewis-Beck. 1994. «Comparative democracy: The economic development thesis». American Political Science Review 88: 903 – 10. Collier, Ruth Berins, and David Collier. 1991. Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton, NJ : Princeton University Press. Dahl, Robert A. 1975. «Governments and political oppositions». In Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (eds.), Handbook of Political Science. Volume 3: Macropolitical Theory. Reading, MA : Addison-Wesley. Dawisha, Karen, and Bruce Parrott (eds.). 1997. The Consolidation of Democracy in East-Central Europe. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Dogan, Mattei, and John Higley. 1998. «Elites, crises, and regimes in comparative analysis». In Mattei Dogan and John Higley (eds.), Elites, Crises, and the Origins of Regimes. Lanham, MD : Rowman and Littlefield. Dogan, Mattei, and Dominique Pelassy. 1984. How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics. Chatham, NJ : Chatham House. Esping-Andersen, Gøsta. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, UK : Polity. ЛKOKQ 6, 2008 119 Finer, S. E. 1997. The History of Government from the Earliest Times. Oxford, UK : Oxford University Press. Goodin, Robert E., Bruce Headey, Ruud Muffels, and Henk-Jan Dirven. 1999. The Real Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Hage, Jerald, Robert Hanneman, and Edward T. Gargan. 1989. State Responsiveness and State Activism: An Examination of the Social Forces that Explain the Rise in Social Expenditures in Britain, France, Germany and Italy 1870 – 1968. London: Unwin Hyman. Held, David. 1996. Models of Democracy (2nd Edition). Stanford, CA : Stanford University Press. Janoski, Thomas. 1998. Citizenship and Civil Society: A Framework of Rights and Obligations in Liberal, Traditional, and Social Democratic Regimes. New York: Cambridge University Press. Janoski, Thomas and Alexander Hicks (eds.). 1994. «Methodological Innovations in Comparative Political Economy: An Introduction». Pp. 1–30 in Thomas Janoski and Alexander Hicks (eds.), The Comparative Political Economy of the Welfare State. New York: Cambridge University Press. Lichbach, Mark Irving, and Alan S. Zuckerman (eds.). 1997. Comparative Politics. Rationality, Culture, and Structure. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven, CT : Yale University Press. Linz, Juan J., and Stepan, Alfred (eds.). 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press. Mahoney, James. 2001. The Legacies of Liberalism. Path Dependence Dependence and Political Regimes in Central America. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Mahoney, James. 2002. «Knowledge accumulation in comparative historical research: The case of democracy and authoritarianism». In James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer (eds.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Mahoney, James, and Richard Snyder. 1999. «Rethinking agency and structure in the study of regime change». Studies in Comparative International Development 34:3 – 32. Marshall, T. H. 1992 [1950.] Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge, UK : Cambridge University Press. McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 1996. «To map contentious politics». Mobilization: An International Journal 1:17 – 34. Moore, Barrington Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon. Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, and Fernando Limongi. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Material Well-Being in the World, 1950 – 1990. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Ruggie, John G. 1996.. 1996. «Globalization and the embedded liberalism compromise: end of an era?» Working paper 97 / 1, Max Planck Institut fur Gesellschaftsforschung, Cologne. Spruyt, Hendrik. 2002. «The origins, development, and possible decline of the modern state». Annual Review of Political Science 5:127 – 50. Stearns, PeterN. (ed.). 2001. The Encyclopedia of World History, Ancient, Medieval, and Modern, Chronologically Arranged. Boston: Houghton Mifflin. Tilly, Charles. 2001. «Mechanisms in political processes». Annual Review of Political Science 4:21 – 41. Turner, Bryan. 1997. «Citizenship studies: A general theory». Citizenship Studies 1:5 – 18. Vanhanen, Tatu. 1997. Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries. London: Routledge. Yashar, Deborah J. 1997. Demanding Democracy. Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s — 1950s. Stanford, CA : Stanford University Press. 120 Чарльз Тилли ¸X ]Z ¼X ´ X¸ Z ^K ¸ Формы правления и политического режима В поисках нового содержания С овременная теория государства, излагаемая в учебниках и преподаваемая в рамках соответствующих курсов будущим философам, политологам, юристам, исходит из того, что форма государства как общетеоретическое понятие и как политическая реальность может рассматриваться как сумма понятийных элементов. К числу таковых относят в том числе формы правления (государственного правления) и режима (политического режима). Этот подход, безусловно, адекватный. Однако, по моему мнению, совершенно неадекватны широко распространенные представления о конкретных формах правления и режима. В данной статье я изложил свои предложения, которые, думается, могли бы стать основой для разработки новых классификаций форм правления и режима, а следовательно для ревизии важной составляющей теории государства. Форма правления . Правление (государственное правление) есть формальная организация верховной, высшей власти в государстве, в том числе официальный порядок наделения властью главы государства (наследственный, выборный и т. д.), формирования высшего представительного органа государственной власти — парламента или его аналога и правительства (суды же традиционно не рассматривают в контексте форм правления¹), их взаимодействия между собой и т. д. Через понятие правления также определяются формальные источники и носители государственной власти. ¹ Это бы усложнило, «утяжелило» описания правления, не добавив ничего по сути. ЛKOKQ 6, 2008 121 Принято выделять и противопоставлять монархическую и республиканскую формы правления, монархию и республику. Как установилась эта традиция? Античные корифеи — Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон и др. при описании правления оперировали понятиями монархии, аристократии, демократии и пр. Цицерон писал и о «res publica», имея однако в виду не отдельную форму правления, а государство как таковое или «смешанное» монархическо-аристократическо-демократическое правление. В Средние века практики правления в Венеции, Флоренции и пр., тем более что они основывались в немалой степени на римском «доимператорском» опыте, точнее на интерпретации римского опыта, давали повод называть эти государства республиками. В них не было монархов. Или власть монархов над ними носила исключительно номинальный (либо «дискуссионный») характер. Иными словами, республикой стали считать такое государство, в котором нет монарха. Современная традиция разделения форм правления именно на монархическую и республиканскую стала закладываться с XVI в. Так, флорентиец Макиавелли утверждал: «Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно»². Но, к примеру, Боден еще следовал Цицерону и употреблял слово «республика» в значении «государство» (и, немного пересмотрев классическую греческую терминологию, выделял государства монархические, аристократические и «populaire»)³. Харрингтон, восхищавшийся венецианским правлением, в своем opus magnum, употребил слово «republic» один раз — применительно именно к Венеции и со ссылкой на Макиавелли⁴. Локк не включил республики в свою классификацию форм правления и т. д⁵. Монтескье провозгласил: «Есть три образа правления: республиканский, монархический и деспотический. Чтобы обнаружить их природу, достаточно и тех представлений, которые имеют о них даже наименее осведомленные люди. Я предполагаю три определения или, вернее, три факта: «республиканское правление — это то, при котором верховная ² ³ ⁴ ⁵ Machiavelli N. Il Principe. Cap. I 6 Machiavelli N. Il Principe e Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Firenze, . P. ; Макиавелли Н. Государь. Гл. I 6 Макиавелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М., . С. . Bodin J. Les six livres de la République. Paris, . L. II . Ch. I . P. . Harrington J. The Commonwealth of Oceana. London, . P . С XV в. английская политическая литература стала использоваться понятие «commonwealth». Позже стали писать «commonwealth». Им обозначали то же, что на континенте называли res publica, то есть государство, а затем и «немонархическое» правление. В дальнейшем «commonwealth» стали употреблять в качестве синонима как «республики», так и «конституционной монархии». А в г. было основано Commonwealth of Nations, международное объединение, призванное насколько возможно заменить распадавшуюся Британскую империю. 122 Виталий Иванов власть находится в руках или всего народа или части его; монархическое, — при котором управляет один человек, но посредством установленных неизменных законов; между тем как в деспотическом все вне всяких законов и правил движется волей и произволом одного лица»⁶. Правда, понятие «деспотического образа правления», использовавшееся Монтескье в основном для негативации и карикатуризации государственного опыта Востока (в частности, Персии), со временем выпало из теории государства (точнее вначале деспотии стали смешивать с монархиями, а затем и вовсе в них «растворили»). Руссо, в XVIII в. не менее, а то и более авторитетный теоретик, чем Монтескье, настаивал, что «всякое Правление, основанное на законах, есть республиканское»⁷. Но мейнстримом стала точка зрения Монтескье. И понятно почему. Американская, а затем Французская революции были антимонархическими как по форме, так и по содержанию. По их итогам провозглашались республики. Ставить знак тождества между старыми монархиями и революционными республиками в тогдашней обстановке было совершенно невозможно. И революционеры, и контрреволюционеры, и анализировавшие их доктрины ученые в этом полностью сходились. С тех пор много воды утекло, но противопоставление монархий и республик остается догмой теории государства. . В наши дни монархии обычно делят на абсолютные и ограниченные (конституционные), а последние на дуалистические и парламентские. Республики — на парламентские, президентские и смешанные, то есть президентскопарламентские и парламентско-президентские. Разница между монархией и республикой как будто совершенно очевидна. Монархия предполагает принадлежность власти наследственному (наследующему по закону, по обычаю, по воле предшественника) правителю или правящему роду и отбираемому из него правителю. А в республике власть принадлежит некоему коллективу, который может охватывать как крайне узкий круг лиц, так и все взрослое дееспособное народонаселение (нацию, точнее практически всю нацию). Этот коллектив осуществляет власть непосредственно или передает ее осуществление — временно, бессрочно либо «навечно» — в тех или иных пределах и объемах своим представителям — выборным правителям и др. Такой коллектив уместно называть гражданским и электоральным (электоратом). Также указывают, что при монархическом правлении источником власти провозглашается Бог или боги, а поэтому монархи либо объявляются избранниками Бога или воплощениями богов, проводни⁶ ⁷ Montesquieu. De L'Esprit des Lois. Paris, . T. I . L. II . Ch. . P. ; Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., . Кн. II . Гл. I . С. . Rousseau J.-J. Contrat social: ou Principes du Droit Politique. Geneve, . L. II . Ch. VI . P. . ЛKOKQ 6, 2008 123 ками божественной воли, духовными лидерами и т. п. либо сами обожествляются. Поэтому-де монархическая власть непременно сакральна. В то время как при республиканском правлении источником власти выступает исключительно соответствующий коллектив. То есть республика — всегда сугубо светская, если не сказать «безбожная». Однако при обращении к государственному опыту, хоть историческому, хоть современному, это разграничение обнаруживает относительную условность. Во-первых, были и есть выборные монархии, в которых монархов избирали и избирают их будущие подданные, представители будущих подданных, высшая знать, верхушка монаршего рода и пр. Достаточно вспомнить Византийскую империю, Священную Римскую империю и Речь Посполитую. Выборными были первые халифы. Из современных выборных монархий следует упомянуть Камбоджу и Малайзию. Выборные институты введены в Омане и Саудовской Аравии. Известны и многочисленные прецеденты выборов правителей в монархиях, не относившихся к выборным — в случаях пресечения династий и т. п. У нас избранными царями были Борис (Годунов), Василий IV (Шуйский) и Михаил (первый из дома Романовых). Выборный монарх — отнюдь не обязательно формальный представитель тех, кто его избирает и тем более тех, кого представляют выборщики (если они вообще кого-то формально представляют кроме самих себя), выборность сама по себе не означает представительства (и представителем некоего гражданского коллектива может заявляться и наследственный правитель⁸). Но, с другой стороны, выборность по определению предполагает обязательства и даже ответственность (пусть не юридическую, а политическую и моральную) перед выборщиками, а значит, исключает принадлежность монарху всей верховной власти, исключает собственно единовластие. Во-вторых, в порядке вещей ограничение власти монархов со стороны выборных (и невыборных) представительных органов, признание последними прав на престол, санкционирование вступления на престол, легальное свержение монархов. Речь идет не только о современных ограниченных монархиях, но и об исторических феодальных и сословнопредставительных монархиях. В более ранние эпохи власть монархов ограничивалась и народными собраниями. (На Руси были удельно-вечевые и самодержавно-соборная монархии.) Нельзя забывать и о роли религиозных организаций и духовенства, тоже часто ограничивавших светских правителей и порой даже конкурировавших с ними (папство в средневековые времена). В-третьих, власть в большинстве средневековых республик Италии, Германии и Швейцарии длительное время принадлежала не только общинам (коммунам), но также, пусть и номинально, императору ⁸ Как в некоторых современных наследственных монархиях, в которых монархи считаются представителями наций (см. далее). 124 Виталий Иванов (византийскому или римско-германскому), другим правителям, таким образом соответствующие общины не были единственными носителями и тем более источниками власти. В-четвертых, наследственное правление может быть установлено в республике. В северонидерландских государствах, объединенных в конфедерацию Республика Соединенных провинций, практиковалась передача по наследству должностей стадхаудеров, по общему правилу выборных. Во Франции дважды вводилась наследственная императорская власть: один раз по решению представительного органа — в г. Сенат вверил республику императору Наполеону Бонапарту, другой раз посредством референдума — в г. большинство французов проголосовало за восстановление императорской власти и президент Шарль Луи Наполеон Бонапарт был провозглашен императором. В основанном в г. Северогерманском Союзе, этой «республике династий», конституционно предусматривалось наследственное президентство королей Пруссии⁹. В-пятых, республика отнюдь не обязательно «безбожна», а монархия — не обязательно сакральна. Многие века Бога или богов и электоральные коллективы, в том числе общины, народы, нации, не противопоставляли друг другу. Республиканское правление не препятствует обожествлению правителей. Римской республикой (империей) правили императоры-«боги». Опыт церковно-государственного строительства породил не только специфические теократические монархии — Святой престол, княжества-епископства, но и специфические теократические республики — православная монашеская республика Святая Гора Афон, католические монашеско-рыцарские ордена. На теократических началах были организованы английская («кромвелевская») и другие протестантские республики (в Швейцарии, Северных Нидерландах, Южной Африке). В наши дни в Ирландии и многих мусульманских республиках на конституционном уровне провозглашается верховенство божественной воли над волями наций. В свою очередь, власть монархов зачастую нисколько не сакрализована и основывается исключительно на исторической традиции. В качестве примера приведу, с одной стороны, Королевство Нидерланды, а с другой — Кувейт. Также нужно напомнить о случаях референдумного «подтверждения» монархического правления, «республиканского переучреждения» монархии (в Норвегии в г., в Люксембурге в г., в Бельгии в г. и т. д.). Сейчас есть государства, в которых источниками и носителями власти конституционно провозглашаются нации и одновременно во вла⁹ О республиканском характере правления в Союзе писал Георг Еллинек, ссылаясь в том числе на заявления Отто фон Бисмарка, министра-президента Пруссии, фактического объединителя Германии. Указанный автор распространил эту характеристика и на Германскую империю, в которую Союз в дальнейшем преобразовался (Еллинек Г. Общее учение о государстве. СП б., . С. – , ). ЛKOKQ 6, 2008 125 сти сохраняются монархи, причем наследственные, а правильнее сказать «наследственные обладатели монархических титулов». Это не только такие «развитые» страны как Бельгия, Испания, Швеция и Япония, но и «развивающиеся», к примеру Иордания, Кувейт и Марокко. Власть этих «носителей», как сказано, не сакрализована, порой они даже конституционно объявляются «представителями наций»¹⁰. Иными словами, элементы республики и монархии легко сочетаемы. Не была редкостью в мировой практике диархия — система правления, предполагающая наличие двух равноправных или неравноправных правителей (наследственных, выборных, назначаемых). В свое время в Спарте было два василевса-архагета (и две династии), в Риме — два консула, в Хазарии правили бек и каган (отбирался беком из представителем каганского рода) и т. д. Сейчас диархия функционирует только в Свазиленде, где есть король и нгвеньяма из рода Дламини и ндловукази (королева-мать). Но это не освобождает теоретиков от обязанности осмыслять диархические практики¹¹. Увы, обычно их предпочитают отбрасывать как «всего лишь» частный случай монархии (исключая, понятно, римский консулат). Хотя где же здесь монархия? . Очевидно, что в классические представления о монархии и республике не укладывается множество конкретных примеров правления. Из-за этого в историческом, юридическом и политологическом дискурсах происходит перманентная путаница. Самым простым и «невинным» выходом оказываются констатации всевозможных «исключений». Можно было бы сказать, что все они лишь «подтверждают правила». Только их в итоге оказывается настолько много, что от «правил» буквально ничего не остается. Выход пытались найти и в сведении различий между монархией и республикой к вопросу о срочности правления главы государства: монарх правит бессрочно, а глава республики — в течение установленного срока (а потом или переизбирается, или оставляет пост). Только венецианские дожи и нидерландские стадхаудеры (по общему правилу до г.) избирались пожизненно, то есть бессрочно. Так же пожизненно избирается сейчас и иранский рахбар. А в Малайзии янг ди-пертуан агонга (СМИ иногда называют его «королем») выбирают монархи ¹⁰ ¹¹ «The King […] shall be the Supreme Representative of the Nation» — гласит ст. Конституции Марокко г. (http:6www.al-bab.com / maroc / gov / con.htm). От диархий нужно отличать дуумвираты, то есть формальные, полуформальные и неформальные соправления при системах правления, по общему правилу предполагающих наличие одного правителя. Здесь я имею в виду не только многочисленные римские, византийские, китайские и пр. прецеденты соправления, но и, например, официальное соправление Уильяма III / II и Мэри II в Англии и Шотландии в – гг., полуофициальное соправление Марии Терезии и Иосифа II в наследственных владениях австрийских Габсбургов (Австрия, Богемия, Венгрия и пр.) в – гг. и т. д. 126 Виталий Иванов субъектов федерации¹² сроком на пять лет. Может, стоит объявить Республику Святого Марка и нидерландские республики, а заодно Исламскую Республику Иран монархиями, Малайзию республикой или вновь сослаться на «исключения»? А как тогда быть с многочисленными прецедентами пожизненных президентств¹³? Если серьезно, то вопрос о срочности / бессрочности правления главы государства представляется, мягко говоря, не самым важным. Еще указывают, что в монархиях игнорируют принцип разделения властей либо соблюдают его в неполном объеме и монархи сочетают законодательные и исполнительные (а иногда и судебные) полномочия. А для республик этот принцип якобы «свят». С этим можно было бы согласиться, если бы принцип разделения властей «исповедовали» Швейцария и социалистические республики — СССР , Китай и пр. И если бы, например, норвежская Конституция не поручала королю только исполнительную власть, а испанская и японская — не помещали «монархов» над всеми ветвями власти. Я не призываю вовсе отказаться от разделения государств на монархии и республики. Лишь предлагаю признать его, как уже сказано, относительно условным. Да, Францию нельзя назвать монархическим государством, а Бруней республиканским. Однако это предельно «чистые» примеры. А если привести другие, «менее чистые»? На самом деле затруднительно относить к монархиям те же Испанию или Японию, а к республикам — Объединенные Арабские Эмираты и пр. Точнее, отнести можно, но все же непонятно, на каком основании следует говорить о монархии-единовластии применительно к упомянутым национальным государствам. Только потому, что в одном есть наследственный король, а в другом тэнно? И как считать республикой государство, президента которого выбирают семь эмиров? Опять же только потому, что этот глава президент? По-моему мнению, возможны три подхода. Можно вообще не использовать никакие доктринальные критерии и принимать во внимание только самоопределение государства. Упрощенно, если государство называет себя монархией, так или иначе фиксирует это в своих правовых актах, то оно есть монархия, если называет себя республикой — то республика. Можно ссылаться на существование гибридных форм, то есть различных «монархических республик» и «республиканских монархий». Или можно, презюмируя отсутствие единства формальной и фактической организации власти, на основе гибких критериев выделять «фактические монархии» в числе республик и «фактические республики» в числе монархий. Нередко так и поступают, отсюда, например, утверждения о том, что Рим в эпоху принципата был фактической ¹² ¹³ Семь султанов, один раджа и один янг ди-пертуан бесар из своего числа. Иосип Броз Тито в Югославии с по гг., Хабиб Бургиба в Тунисе с по гг., Сапармурат Ниязов в Туркменистане с по гг. и т. д. ЛKOKQ 6, 2008 127 монархией, а Речь Посполитая — фактической республикой. Есть достаточно причин считать фактической монархией Корейскую Народно-Демократическую Республику, а Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — фактической республикой и т. д. Три этих подхода вполне конструктивны, но с научной точки зрения, как говорится, небезупречны. Поэтому все же необходимо выработать альтернативную классификацию форм правления. К этому подталкивает и несомненная несводимость социалистической республики, исламской республики (в Иране), джамахирии (в Ливии) к «классическим» парламентским, президентским и смешанным республикам. В этой несводимости мы убедимся далее. Несомненно, новые правила нужно формулировать, основываясь на тщательном анализе всех «исключений» из правил действующих. Исключение же не просто подтверждает правило, оно может и должно выступать источником правила¹⁴. . Не претендуя на всеохватность и отказываясь от выделения единого критерия, опираясь исключительно на практику современных государств (но учитывая традицию различения парламентских, президентских и смешанных республик), я предлагаю выделять девять форм правления: ) тираническая; ) деспотическая; ) парламентско-правительственная; ) парламентская; ) президентская; ) президентско-парламентская; ) централистская; ) богословская; ) «народная» («государство масс»). ¹⁴ Ильин, также критиковавший традиционное формальное разделение монархий и республик, предпринял попытку найти между ними «более глубокие отличия». Он взялся противопоставлять монархическое правосознание республиканскому, выделяя соответствующие персональные или коллективные «предпочтения». Так, например, он считал, что монархическому правосознанию присущи предпочтения «олицетворения власти и государства народа», а республиканскому — «растворения личного начала и власти в коллективе», что монархисты тяготеют к «мистическому созерцанию верховной власти» а республиканцы — воспринимают ее «утилитарно-рассудочно» и т. д. (Ильин И. А. О монархии и республике. 6 Ильин И. А. Собрание сочинений. В т. М., . Т. . С. – , – ). Отрицать продуктивность ильинского подхода и конкретных выводов невозможно. Монархическое и республиканское правосознание действительно коренным образом различаются. Но их различение нельзя положить в основу классификации форм правления, формальных моделей организации высшей власти. Можно только вывести идеальные «формулы» монархии и республики, в которые, однако, не впишется большинство исторических, а тем более современных государственных опытов. 128 Виталий Иванов Все формы, за исключением первых двух, предполагают активную субъектность наций и «народный суверенитет». В тираническом государстве они, собственно, не отрицаются, просто «временно ограничиваются». Но противопоставлять деспотические государства всем остальным или объединять все «недеспотические» в одну группу (тип, вид) я считаю излишним, поскольку различия между ними достаточно существенны. Можно разве что объединять в одну группу формы правления, основанные на классических принципах разделения властей и парламентаризма — парламентско-правительственную, президентскую и президентско-парламентскую. Тираническое государство (тирания). Тираном (греч. «τύραννος») с античных времен именуют правителя, получившего власть незаконным путем, захватившего ее. В современном контексте тирания — правление, не основанное ни на традициях, ни на конституционном праве, ни на воле нации, учрежденное и поддерживаемое только силой. Сейчас тираническое правление действует в Мьянме (Бирме) и некоторых других государствах. Современная тирания — почти всегда военная¹⁵. Вся полнота власти в Мьянме принадлежит «самоназначенной» директории, состоящей из военных (Государственному совету мира и развития), ее председатель является главой государства. Она назначает правительство и его главу. Парламента нет. Согласно официальной доктрине, директория готовит нацию к созданию гражданской республики. Деспотическое государство (деспотия). Напомню, что слово «деспотия» (греч. «δεσποτία» — «неограниченная власть») исходно не имело негативного значения. В деспотическом государстве власть имеет, как правило, божественный источник. Она осуществляется наследственным правителем (Бруней, Катар), наследственным правителем и правящим родом (Саудовская Аравия, Оман), несколькими наследственными правителями территориальных образований государства, избирающими из своего числа главного правителя (ОАЭ ), выборным правителем (Святой престол), двумя выборными правителями (Свазиленд). С одной стороны, власть правителя (правителей, правящего рода) считается неограниченной или ограниченной в довольно минимальном объеме. Соответственно, парламента, иного представительного органа либо нет, либо его роль незначительна. Правитель (правители) концентрирует в своих руках законодательную и исполнительную власть. С другой стороны, правитель (правители) в любом случае так или иначе ограничен религиозными и правовыми (включая международные) нормами, обы¹⁵ В подавляющем большинстве случаев тирания выступала временной формой правления после государственных переворотов, обычно военных (чаще всего в Африке и Латинской Америке). В Мьянме, однако, тираническая система успешно держится уже больше лет. Причем тираническое правление там функционировало еще и в – гг. (позже была конституционно введена централистская система). ЛKOKQ 6, 2008 129 чаями, традициями и представлениями о долге правителя. Иначе говоря, в действительности о деспотии в полном смысле слова говорить не приходится. Но я все же полагаю нужным называть такие государства деспотическими. Обычно их относят к «абсолютным» монархиям, однако в некоторых из них нет даже номинального единовластия (ОАЭ , Свазиленд). Это не говоря о том, что абсолютное единовластие невозможно¹⁶. Поэтому выбирая между условностью неограниченной власти и условностью абсолютного единовластия правильнее отдать предпочтение первой. Что касается «дуалистических монархий»¹⁷ (Бахрейн, Бутан, Иордания, Кувейт, Марокко), в которых источниками власти объявлены нации (в Бутане это еще только планируется), но полномочия наследственных правителей остаются весьма значительными, то их надо характеризовать как государства постдеспотические. Это, определенно, не отдельная самостоятельная форма правления, а «производная», переходная форма. Переходная скорее относительно парламентскоправительственного правления (в – гг. Непал из постдеспо- ¹⁶ ¹⁷ Европейскую «абсолютную» монархию недобросовестные критики-просвещенцы, а затем вторившие им либеральные и левые историки, буквально следуя отдельным, причем выдернутым из контекста, тезисам Бодена (взгляды которого ни в коем случае не следует отождествлять с тогдашними официальными доктринами!), описывали как правление, не связанное законами, как ничем и никем не ограничиваемую власть монарха. Между тем «monarchia absoluta» понималась в XVI – XVIII вв. в первую очередь как «совершенная монархия», твердая монаршая власть, независимая от внешних инстанций, оформленная и ограниченная в том числе правом, защищающая государство от угроз рецидивов феодальной вольницы, религиозных войн и т. д. На сегодняшний день можно считать доказанным, что в «людовиковской» Франции, обычно выставляемой образцом европейской «абсолютной» монархии, эталоном «абсолютизма», королевская власть была достаточно ограничена и не на какую «абсолютность» не претендовала и что «миф абсолютизма» изначально сложили английские пропагандисты XVII в., стремившимися всячески очернить французскую политическую систему и возвысить свою родную, на деле до Славной революции гг. не слишком уж и отличавшуюся (см. подробнее: Хеншел Н. Миф абсолютизма. Перемены в преемственности развития западноевропейской монархии раннего Нового времени. М., . С. – и др.). «Дуалистическая монархия» — это, если угодно, «двойственное единовластие». Как единовластие может быть двойственным, полагаю, следовало бы спросить у тех, кто ввел это понятие в науку, и тех, кто его употребляет. Сторонникам деления форм правления на монархическую и республиканскую следовало бы, по-моему, отказаться от использования понятия ограниченной монархии в качестве родового, относить к ограниченным только те монархии, которые сейчас называют «дуалистическими» и выделять три вида монархического правления: абсолютное, ограниченное и парламентское. Впрочем, рассуждения об «ограниченном единовластии» и тем более «парламентском единовластии» тоже весьма сомнительны. Самый правильный выход, похоже, рассматривать монархию как вид деспотии и вовсе отказаться от выделения «абсолютных», ограниченных и пр. монархических форм. 130 Виталий Иванов тического государства стал парламентско-правительственным). Хотя, вероятно, будут реализовываться и другие сценарии¹⁸. Парламентско-правительственное государство. В таком государстве власть исходит от нации, правление основано на принципах разделения властей и парламентаризма. Верховенством в системе власти обладает парламент, целиком или частично избираемый гражданами на прямых выборах, и правительство. Глава государства — либо наследственный или выборный «конституционный монарх» (Испания, Малайзия, Нидерланды, Таиланд, Япония), либо должностное лицо, избираемое парламентом (Греция, Израиль, Турция), специально образуемой коллегией (в Германии президента избирает Федеральное Собрание, состоящее из членов Бундестага и делегатов ландтагов, в Индии — коллегия выборщиков, состоящая из выборных членов Парламента и законодательных собраний штатов, в Италии главу государства выбирают на совместном заседании обеих палат парламента, в котором участвуют делегаты от областных ассамблей) или гражданами (Австрия, Литва). Формальным главой исполнительной власти является либо глава государства (Индия), либо глава правительства (Япония). Последний всегда выступает реальным главой государства и исполнительной власти. Глава государства в обязательном порядке назначает главой правительства лидера партии или партийной коалиции, имеющей парламентское большинство. Правительство формируется из представителей партии или коалиции, имеющей парламентское большинство. Данные правила прописываются нормативно или не прописываются, но логически выводятся из конституционных положений об ответственности правительства перед парламентом, о парламентском доверии правительству как обязательном условии его работы. За выборами нового состава парламента или палаты парламента, избираемой на прямых выборах, следует формирование нового правительства. В случае утраты доверия парламента правительству надлежит уйти в отставку. Глава государства не имеет права самостоятельно отставлять правительство. Но может распускать парламент или одну из его палат в особых случаях (в том числе по просьбе главы правительства). Парламент же может отстранять избранного главу государства или даже наследственного опять же в особых случаях. В Соединенном Королевстве, именуемом «колыбелью парламентаризма» и «классической парламентской монархией», сохраняются серьезные «номинальные» пережитки деспотизма. Британская нация на конституционном уровне не заявляется источником и носителем власти. Конституция как единый письменный правовой акт вообще отсутствует (что есть абсолютный нонсенс). Наследственный король (коро¹⁸ В Камбодже в г. после смерти короля Нородома Сурамарита его сын и преемник Нородом Сианук не стал короноваться и организовал «под себя» всенародные выборы главы государства. ЛKOKQ 6, 2008 131 лева) — не просто глава государства и исполнительной власти, у него есть и законодательные и судебные прерогативы. Более того, считается, что власть исходит от короля (королевы)-в-Парламенте и короля (королевы)-в-Совете¹⁹. Парламент состоит из монарха и двух палат, при этом Палата лордов (большая часть мест в которой до недавнего времени передавалась по наследству) осуществляет не только законодательные, но и судебные полномочия и т. д. Таким образом о разделении властей в современном понимании применительно к Соединенному Королевству говорить нельзя²⁰. Тем не менее «по совокупности признаков» данное государство следует относить именно к парламентско-правительственным. Это как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило, более того, когда исключение объясняет правило. Ведь на практике монарх либо делегирует осуществление своих полномочий премьер-министру и министрам, ответственным перед Палатой общин, другим высшим чиновникам, либо действует по их рекомендациям и т. д. Парламентское государство. Единственным таким national state является Швейцария. Ее государственный опыт довольно оригинален и явно не сводим к особой форме парламентской республики или, пользуясь моей терминологией, парламентско-правительственного государства. Разделению законодательной и исполнительной властей в Швейцарии предпочли их «органическое слияние». Верховная власть осуществляется двухпалатным парламентом (Союзным Собранием). Он избирает из числа швейцарских граждан директорию (Союзный Совет), выступающую одновременно «коллективным главой государства» («коллективным президентом») и правительством, функционирующую на основе коллегиального принципа. Согласно правовому обычаю, места в директории распределяются между парламентскими партиями пропорционально количеству имеющихся у них депутатских мандатов. Также соблюдается конституционное требование равного представительства в директории языковых регионов. Директория несет ответственность перед парламентом. Хотя в швейцарской Конституции прямо не предусмотрено право парламента распускать директорию или отрешать ее членов. Роспуск парламента или его палат в ней тоже не предусмотрен. Президентское государство. Его образцами нужно назвать Российскую Федерацию и США . Президентскими являются многие африканские и латиноамериканские государства. В президентском государстве власть также исходит от нации и также провозглашаются принципы разделе¹⁹ ²⁰ Тайный совет призван помогать королю (королеве) осуществлять его законодательные, исполнительные и судебные функции. В настоящее время это в основном церемониальный орган, но все же стоит отметить, что формально монарх принимает многие решения по рекомендации Совета (реально — премьер-министра и министров), они оформляются как приказы-в-Совете и т. д. Кабинет является одним из комитетов Совета. Хотя сама теория разделения властей была сформулирована Локком и Монтескье на основе специфической интерпретации английского опыта. 132 Виталий Иванов ния властей и парламентаризма. Только верховенством в системе власти обладает глава государства, одновременно возглавляющий исполнительную власть (обычно называемый президентом). Он избирается на выборах — прямых или косвенных (в США президента избирает специальная коллегия выборщиков). Глава государства формирует правительство и возглавляет его (США ), либо назначает главу правительства и формирует правительство вместе с ним (Россия). Правительство несет ответственность только перед главой государства. Парламент, целиком или частично избираемый на прямых выборах, может участвовать в формировании правительства, также может иметь право выносить вотум недоверия правительству (но это не влечет его отставку) и / или инициировать процедуру отстранения главы государства в особых случаях. Глава государства в свою очередь может иметь право роспуска парламента или одной из его палат также в особых случаях. Президентско-парламентское государство. Такое национальное государство характеризуется дуализмом главы государства (президента), избираемого на прямых выборах, и парламента, целиком или частично избираемого на прямых выборах. Главой исполнительной власти может быть как глава государства (Франция, Польша), так и назначаемый им глава правительства (Украина). Глава государства имеет право самостоятельно назначить главу правительства, но реализовать его на практике может лишь при наличии лояльного парламентского большинства, поскольку парламент правомочен выносить правительству вотум недоверия; в противном случае ему приходится назначать выдвиженца парламента (Франция). Либо глава государства имеет право самостоятельно назначить главу правительства, а тот в свою очередь обязан заручиться вотумом доверия у парламента, то есть опять-таки глава государства не может реализовать свое право в полной мере без лояльного парламентского большинства (Польша). Либо глава государства нормативно обязан назначить выдвиженца парламента, то есть парламентского большинства (Украина). Формирование правительства производится главой государства по представлению главы правительства (Франция, Польша) или парламентом опять же по представлению главы правительства и с участием главы государства (Украина). Правительство, соответственно, несет ответственность одновременно перед главой государства и парламентом. Выражение парламентом вотума недоверия правительству влечет его отставку. Глава государства имеет право отставить правительство (Франция) или не имеет (Польша, Украина). Парламент может отстранить главу государства (либо приостановить его полномочия до судебного решения), а тот вправе распустить парламент в особых случаях. Определенно, следует выделять президентско-парламентскую («французскую») и парламентско-президентскую («украинскую») субформы президентско-парламентского правления. Тем более что принято деление на президентско-парламентские и парламентскопрезидентские республики. Дуализм в президентско-парламентском ЛKOKQ 6, 2008 133 государстве задает предпосылки для двоевластия. Причем двоевластия даже не главы государства и парламента, а главы государства и главы правительства²¹. В этой связи допустимо говорить о президентско-правительственном государстве. Централистское государство. Источником и носителем власти в таком государстве тоже провозглашается нация. Но разделение властей и парламентаризм отвергаются, в основу правления закладывается принцип централизма («демократического централизма»)²². Высшим органом власти выступает национальное представительное собрание, избираемое посредством прямых (Вьетнам, Северная Корея, Куба, Лаос) или косвенных выборов (Китай). Национальное представительное собрание либо избирает свой постоянный орган, главу государства и формирует правительство (Китай, Вьетнам). Либо избирает свой постоянный орган и его председателя, одновременно являющегося главой государства и правительства, и формирует правительство (Куба). Либо избирает свой постоянный орган и его председателя, еще один высший орган власти и его председателя и формирует правительство (Северная Корея²³). Либо избирает свой постоянный орган, главу государства, входящего в состав этого органа и с согласия собрания назначающего главу и членов правительства (Лаос). Должностные лица, избранные или назначенные национальным представительным собранием несут перед ним ответственность и могут быть им отстранены. Роспуск национального представительного собрания не предусматривается. Главенствующую роль в централистском государстве играет правящая партия коммунистического толка, фактически составляющая часть государственного аппарата, руководство ею и государством обычно совмещается в одних руках. Создание других партий либо не допускается, либо они образуют постоянную коалицию вместе с правящей партией. Богословское государство. Такое государство в мире тоже только одно — Иран. Источником власти в нем конституционно провозглашен бог. Нация реализует данное богом право на политическую власть. Правление основано на принципе «велаят-е факих» («власть факиха», ²¹ ²² ²³ Развитие политической ситуации на Украине в – гг. это исчерпывающе подтверждает. Историческим предшественником централистских моделей правления были французские государственные опыты революционных периодов – гг. (после свержения короля вся полнота власти перешла к Национальному конвенту) и г. (после поражения Франции в войне с Пруссией и ее союзниками и отречения Наполеона III произошла очередная революция и в столице установилось правление т. н. Парижской коммуны). Покойный президент Ким Ир Сен конституционно провозглашен «вечным президентом», его сын и преемник Ким Чен Ир возглавляет Государственный комитет обороны, не будучи главой государства формально, он реально выполняет его функции. 134 Виталий Иванов факих — мусульманский богослов-законовед)²⁴, также признаются принципы разделения властей и парламентаризма, впрочем, в заведомо ограниченном объеме. Глава государства (рахбар) избирается из числа авторитетных шиитских факихов специальной коллегией (Советом экспертов), члены которой в свою очередь избираются на прямых выборах из числа религиозно-политических и политических лидеров. Эта коллегия полномочна и смещать главу государства в особых случаях, он сам распустить ее не вправе. Парламент (Исламский консультативный совет) избирается на прямых выборах и не может быть никем распущен, во всяком случае Конституция этого не предусматривает. Принятые законы подлежат одобрению законодательно-контрольного органа (Совета стражей Конституции), члены которого на паритетных началах назначаются главой государства и избираются парламентом. Глава исполнительной власти (президент) избирается на прямых выборах, избрание подтверждается главой государства. После формирования правительства до начала его работы глава исполнительной власти должен получать вотум доверия парламента. Глава исполнительной власти несет ответственность перед главой государства и парламентом; последний может вынести вотум недоверия правительству, а также инициировать отстранение главы исполнительной власти, при этом окончательное решение по данному вопросу принимается главой государства. «Народное» государство («государство масс», джамахирия). Опыт создания такого государства также уникален. Но и его не следует игнорировать. В Ливии (Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии) отвергаются не только разделение властей и парламентаризм, но и «народное представительство». Источник власти — бог²⁵, но принципиально не это. Страна попыталась максимально приблизиться к анархии в академическом понимании этого слова. Нация («массы») там правит «непосредственно». Все взрослое население страны участвует в местных народных собраниях (первичных народных конгрессах). Они выбирают свои секретариаты и местные исполнительные органы (народные комитеты). Из членов секретариатов местных собраний, местных исполнительных органов, а также членов секретариатов провинциальных профессиональных объединений формируются про²⁴ ²⁵ Рухолла Хомейни, лидер Исламской революции г., ставший первым рахбаром учил, ссылаясь на один из хадисов, что факихи суть повелители правителей и правители, повинующиеся исламу, должны получать указания от факихов. Поэтому истинными правителями являются факихи. Поэтому во главе государства должны находиться именно они, а не деятели, не знающие божественных законов и вынужденные получать указания от факихов (http:6www.wilayah.org / langs / ru / index. php? p=leader_imam). Впрочем, вопрос об источнике власти в джамахирии можно считать в известной степени дискуссионным, поскольку в Декларации об установлении власти народа («Декларации Себхи») г. говорится, с одной стороны, что конституцией джамахирии является Коран, а с другой, что народ есть суверенный источник власти. ЛKOKQ 6, 2008 135 винциальные собрания (провинциальные народные конгрессы). Те также выбирают свои секретариаты и провинциальные исполнительные органы (провинциальные народные комитеты). Властная система замыкается национальным собранием (Всеобщим народным конгрессом), образуемым из членов секретариатов нижестоящих собраний, исполнительных органов, секретариатов национальных профессиональных объединений и пр. Национальное собрание избирает национальный исполнительный орган (Всеобщий народный комитет), выступающим специфическим аналогом правительства. У национального собрания и национального исполнительного органа есть руководители, но они не возглавляют государство. Поскольку, повторюсь, «народное представительство» отрицается, нация правит непосредственно. «Народность» дополнительно поддерживается регулярными ротациями. Впрочем, функции главы государства и исполнительной власти по факту выполняет «лидер революции» (Муаммар аль-Каддафи), никем не назначавшийся и не избиравшийся, никому не подотчетный. Он руководит внешней политикой, командует вооруженными силами, а также контролирует все мало-мальски важные выборы и назначения. Его директивы обязательны для исполнении и т. д. Обсуждать какие из перечисленных форм правления «прогрессивные», а какие «архаичные», тем более какие «правильные» и какие «неправильные» совершенно бессмысленно. Теоретикам следует изучать и описывать формы и конкретные модели правления, а не давать им какие-то качественные оценки. А если же рассуждать с «политической» точки зрения, то понятно, что практически везде при необходимости можно отыскать изъяны и пороки. Равно как и достоинства и преимущества. В данном вопросе, полагаю, лучше быть последовательным релятивистом. Предложенная классификация не учитывает всего многообразия мирового государственного опыта. И, как уже сказано, я сознательно сконцентрировался только на современности, исключив исторические прецеденты. Это тема отдельного большого исследования, которое ждет своих авторов. Но в любом случае деление форм правления только на монархические и республиканские не может удовлетворять ни научным, ни практическим потребностям. Поэтому новая «всеобщая» классификация обязательно появится. Форма режима . Эвристический потенциал понятия режима (политического режима, порядка, строя) состоит в раскрытии и описании фактической организации власти, упрощенно говоря, в ответах на вопрос кто и как реально правит государством, кто и как реально властвует. Через понятие режима определяются реальные властные субъекты и система их взаимоотношений между собой и с нацией. 136 Виталий Иванов Классификаций политических режимов предложено довольно много. Но вполне допустимо выделить определенный мейнстрим, который заключается в разделении режимов на демократические и недемократические — авторитарные, тоталитарные. Демократия, согласно хрестоматийному определению Авраама Линкольна, есть «government of the people, by the people, for the people». Следовательно, при демократическом режиме самовластвует нация (или же — в порядке исключения — самовластвует нация и властвует «ограниченный» ею «монарх»). Обычно констатируется, что нация властвует через своих представителей, избранных на выборах и непосредственно. По аналогии сущность недемократических режимов можно определить как властвование над нацией отдельных персоналий и / или групп и их представителей. Вероятно, их также можно называть гегемоническими. Часто утверждают, что если у нации есть возможность сменить власть (правителя, правителей, правящую партию) посредством легальной выборной процедуры, то режим демократический. Если нет, то недемократический. Но считать ли возможностью смены власти возможность выбора между несколькими, а то и вовсе двумя партиями, конкурирующими между собой, но одновременно сообща олигополизирующими или диаполизирующими политическое пространство? С другой стороны, оправдано ли отказывать в демократичности режимам, ограничивающим политическую конкуренцию, но опирающимся на подлинную поддержку нации, регулярно подтверждаемую на выборах? Ответы на эти и подобные вопросы, как правило, сильно различаются в зависимости от политических убеждений отвечающих… Абсолютное большинство современных государств официально заявляют себя демократическими или идущими по пути демократизации. Характеристики политических режимов нередко приводятся в конституциях или заменяющих их актах. Так, в Конституции России наше государство прямо названо демократическим (ч. ст. ). Исключение составляют несколько «абсолютных» монархий, или, если пользоваться ранее предложенной терминологией, деспотических государств (Бруней, Катар, Оман и др.). Однако среди политологов и правоведов либерального толка также принято отрицать или по крайней мере ставить под сомнение демократичность любых режимов, хоть чем-то заметно отличающихся от западных либерально-демократических режимов (также для отдельных случаев используют понятия «нелиберальная демократия», «делегативная демократия», «управляемая демократия», «авторитарная демократия»). Содержательная дискуссия здесь затруднена, учитывая глубину идеологизированности и политизированности вопроса. Впрочем, нельзя не согласиться с тем, что отнюдь не любой режим, заявляемый как демократический, действительно является таковым, независимо от того, как понимать демократию. . Необходимо четко отделять современную демократию от исторической, классической, то есть античной демократии. ЛKOKQ 6, 2008 137 Античная демократия — это политический режим, функционировавший в некоторых древнегреческих городских республиках. «Эталонным образцом» на все времена стал режим, действовавший в Афинской республике в V –IV вв. до н. э. Хотя сами греки, не знавшие, естественно, понятий республики и режима, считали демократию отдельной формой правления. Демократическая теория и практика описана, причем, мягко говоря, без особых симпатий, несколькими великими философами и историками, включая Аристотеля Стагирита²⁶. В Афинах был именно демократический политический режим, классическая демократия. Это не значит, что там властвовал народ и его представители. Это значит то, что были созданы институциональные и практические условия для того, чтобы каждый желающий гражданин мог реально участвовать во власти (большинство должностей распределялось по жребию, каждый гражданин имел право свободно высказываться на народном собрании и пр.). И все, кто желал, действительно участвовали. Как могли и как умели. Опыт Афин показывает, что античная демократия власти возможны и допустимы при совпадении целого ряда условий: ) ограниченной территории; ) ограниченной численности народонаселения и, конечно, собственно граждан; ) относительно развитой культуры, в том числе политической, способствующей формированию этнической и гражданской солидарности²⁷; ) относительно незначительного социального неравенства (дополнительно смягчавшегося регулярными раздачами); ) наличия у граждан достаточно времени для участия в политическом процессе и государственном управлении (это обеспечивалось рабовладением, частным и государственным и введения оплаты за исполнение государственных должностей, участия в народном собрании). При увеличении территории государства, численности народонаселения, дифференциации социальной структуры и пр. становится невозможно обеспечивать доступ во власть всем желающим. Это не говоря о том, что в тех же Афинах демократия была отнюдь не всегда. Классическая демократия уже много веков реализуема лишь при организации самоуправления на уровне устойчивых общин, коммун и пр. (определенные фрагментарные «рецидивы», правда, имели место в средневековых республиках Италии, Руси, Швейцарии и пр.). ²⁶ ²⁷ Аристотель. Афинская полития 6 Аристотель. Политика. Афинская полития. М. . С. – . Афиняне, выражаясь современным языком, были исключительными «националистами». 138 Виталий Иванов * –. Современная демократия, как вполне справедливо указывает Манен, возникла «из политической системы, которую ее основатели считали противоположностью демократии»²⁸. Так, большинство идеологов и лидеров Американской революции – гг., основателей США именовали свой государственный проект «республиканским». И так или иначе противопоставляли его «бесчинствовавшим» демократиям античности. Пожалуй, яснее всех выражался Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции г., четвертый президент США ( – гг.). Он, к примеру, писал, что «при демократии народ собирается купно и осуществляет правление лично, тогда как в республике съезжаются и управляют страной его представители и уполномоченные на то лица»²⁹ и американское правление отличается от античного «полным исключением народа, который представляется общенародным собранием (выделено Мэдисоном. — В. И.), из участия в правлении»³⁰. Конечно, Мэдисон преувеличил значение афинской экклесии и пр., но один из изначальных принципов американской модели изложил исчерпывающе. Не удивительно, что в американской Конституции слово «демократия» не встречается ни разу. Тем не менее в последующие века США стала «Empire of Democracy», а их политический опыт — чуть ли не «эталоном демократии». И сегодня мы именуем «демократией» совсем не то, что под этим словом имели в виду древние греки, то есть не прямое народное правление, исегорию, жребий и пр. И не то, что в тех же Афинах на самом деле было отлажено и дольше века с переменным успехом функционировало, то есть не широкий доступ к власти. Современные государства гораздо «сложнее» античных и поэтому в них не может быть той, классической демократии. Формальное представительство обречено быть узким, власть распределяется между абсолютным меньшинством. Почему же, на каком основании мы называем «демократией» «не-демократию»? Современная демократия предоставляет всем гражданам, а значит каждому желающему гражданину равные права участвовать в политике и управлении государством. Иными словами, как минимум, равные права свободно обсуждать государственные дела и в публичном порядке признавать либо не признавать власть, выражать согласие либо несогласие с государственным курсом, с лидерами, руководителями, чиновниками его осуществляющими (конечное решение определяется по принципу большинства). И благодаря современной демократии каждый имеет хотя бы теоретическую возможность добиваться и добиться ²⁸ ²⁹ ³⁰ Манен Б. Принципы представительного правления. СП б., . С. . Федералист № 6 Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М., . С. . Федералист № [] 6 Федералист. С. . ЛKOKQ 6, 2008 139 учета государством своих интересов и мнений. В свою очередь лидеров, политическое руководство, государственный аппарат в целом современная демократия прямо обязует опираться на признание и согласие народонаселения. Все это давала и классическая демократия. Но она, как уже говорилось, создавала также условия и для того, чтобы каждый желающий мог участвовать во власти. Современная демократия начисто исключает подобное. Что бы где (и кем) не утверждалось. – . Современная демократия есть комплекс правовых и политических институтов и практик, обеспечивающих гражданам политические и смежные права и свободы, включая право открыто обсуждать государственные дела и право участвовать в политической деятельности и непосредственно управлении государством, а также учет их интересов и мнений при принятии и реализации государственных решений³¹. Совершенно очевидно, что форматы демократических институтов и практик, в частности пределы и объемы соответствующих прав и свобод (свободы совести, свободы слова и пр.), непосредственно зависят от национальной политической культуры, а та производна от исторической, религиозной, этнической и пр. специфики. Любые демократические «стандарты» условны (тем более, что зачастую их используют в пропаганде и PR для дискредитации отдельных государств, режимов и правителей). Демократичность политического режима определяется в первую очередь институционализированной ограниченностью власти волей нации, зависимостью властвующих от признания и согласия подвластных, некоей ответственностью властвующих перед подвластным. Это в наши дни непременно предполагает: ) организацию власти на выборных началах целиком или преимущественно (здесь имеются в виду ограниченные наследственные «монархии»), а также по общему правилу возможность вынесения проектов государственных решений на референдумы; ) всеобщее равное избирательное право и право на участие в референдумах или же по крайней мере отказ от цензов — расового, этнического, религиозного, гендерного, сословного, имущественного, партийного («однопартийного»); ) регулярное проведение выборов; ) относительную транспарентность выборов и референдумов, репрезентативность и достоверность их результатов; ³¹ Одно из самых адекватных определений демократии (современной демократии) содержится в Словаре современного китайского языка (Пекин, . С. ): «Демократия указывает на то, что народ участвует в делах государства, либо на то, что народ имеет право свободно высказывать свое мнение по отношению к государственным делам». (Цит. по: Концепции и определения демократии. Антология / Под ред. А. В. Фененко. М., . С. ). 140 Виталий Иванов ) заведомое объявление невыборной и неизбранной власти незаконной и нелегитимной (разумеется, это не распространяется на ограниченных наследственных «монархов», впрочем, их легитимность может фиксироваться референдумами); ) наличие институтов, независимых или хотя бы автономных от власти, транслирующих общественные настроения, агрегирующих запросы граждан, оценивающих деятельность власти (средства массовой информации, общественные объединения, экспертные и социологические центры и пр.); ) национальную солидарность и национальный консенсус о ценностях и целях, обеспечиваемых распространением патриотизма и национализма. Когда власть принципиально независима от наций, совершенно неответственна перед нею либо когда не соблюдаются какие-то из приведенных выше условий, политический режим нужно характеризовать как недемократический, и, скорее всего, гегемонический. Все остальное вторично или относится к сугубо «декоративным» элементам инстититуционального дизайна. Демократические выборы отнюдь не обязательно должны быть прямыми, а тем более альтернативными, конкурентными и т. д. Косвенные выборы вполне обеспечивают демократичность власти. И выборы, на которых избиратель вправе выбрать между поддержкой действующей власти и протестом — тоже, безусловно, демократические. Если, конечно, соблюдаются все прочие перечисленные условия. Конкуренция, тем более публичная (а также свобода средств массовой информации, свобода создания партийных и иных политических объединений и пр.) — вовсе не главная и не универсальная демократическая ценность. Для многих политических культур — азиатских, евразийских (с исламскими, конфуцианскими, буддистскими корнями), а также российской важнее единство и целостность власти, стабильность, гармония, лояльность. Искусственное внедрение западных конкурентных институтов и практик может пройти более-менее успешно и закончиться частичным, но значительным изменением политической культуры (как в Турции или Индии). А может вызвать сильное отторжение. Наш отечественный опыт это исчерпывающе подтвердил. – . Современные демократии начали постепенно складываться в европейских и американских странах в конце XVIII – XIX вв. (где-то, например в Швейцарии и Англии, даже немного раньше), когда просвещенчество дискредитировало христианство, десакрализовывало власть и девальвировало церковный авторитет, когда промышленная революция трансформировала аграрное общество в индустриальное, когда разрушали постфеодальные социальные иерархии, когда при развившемся и укрепившемся капитализме буржуазия стала добиваться власти, когда неуклонно расширялся доступ к образованию и культуре и сокращалась социальная и культурная дистанция между преимущественно ЛKOKQ 6, 2008 141 аристократической элитой и «простыми людьми», когда постепенно внедрялась идея равенства, наконец, когда формировались нации — как общности индивидов, основанные на языковой, культурной и исторической самоидентификации и как потенциальные электоральные коллективы. «Nation Building» сопровождался широким распространением доктрин, не просто провозглашавших политическую субъектность наций, но объявлявших их единственным источником государственной власти и носителем суверенитета, буквально помещающих нации на место божества («нациоцентризм»). Идея нации заново собирала общество после слома традиционных иерархий и заново легитимировала секуляризированное государство. Запустился процесс революционной и / или реформаторской модернизации, на выходе стали получаться государства-нации, национальные государства. Впоследствии державы и всевозможные «борцы за свободу» стали стимулировать формирование государств-наций, появились «искусственные» государства и «искусственные» нации (в Центральной и Восточной Европе, Азии, Африке), какие-то из них оказались жизнеспособными, какие-то нет. В XX в. «ненациональное» государство стало восприниматься как архаика и экзотика³². Иными словами, современная демократия «выросла» из национального государства. Не могла не «вырасти». Поскольку нация заявляется субъектом и даже источником власти, то и составляющие ее граждане тоже должны считаться властными субъектами и даже в некотором смысле источниками, а значит, им положены политические права и свободы. Следование этой логике приводит к необходимости строительства демократических институтов и внедрения демократических практик. Поначалу нации делили цензами, дискриминировали женщин, бедняков, иноверцев и пр., поначалу считали, что представителями наций (депутатами парламентов, выборными чиновниками) могут быть лишь состоятельные граждане. Постепенно пришло понимание, что подлинная нация немыслима без всеобщего формального равенства, что «доступ к демократии» должен быть максимально широким или демократии попросту не получится. Всеобщее избирательное право утвердилось далеко не сразу, многие десятилетия его понимали в лучшем случае как всеобщее избирательное право мужчин. Но, как принято говорить, прогресс не остановишь, надо только начать. В Декларации прав человека и гражданина, принятой французским Национальным учредительным собранием августа г. говорилось: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Обще³² Разумеется, национализм нельзя понимать исключительно «этнически». СССР тоже был государством-нацией — государством «советского народа», «советских людей», строящих коммунизм. А вернее будет сказать, что предпринималась попытка создать советскую нацию. Это удалось лишь частично. Советскую национальную идеологию можно назвать «интернациональным национализмом». 142 Виталий Иванов ственные различия могут основываться лишь на общей пользе» (ст. ). Соображения «общей пользы» заставляли вводить, а затем снимать цензовые ограничения и т. п. В XX в. тренд к максимальному расширению избирательного права стал всеобщим. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», — сказано во Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН декабря г. «Все» — означает все. На то, чтобы осознать это понадобилось всего примерно лет. Ключевую роль в утверждении современной демократии сыграл повсеместный неуклонный рост численности народонаселения. А также потребность максимально использовать его потенциал при ужесточении глобальной конкуренции в индустриальную эпоху, обеспечивать мобилизации во время кризисов и войн и т. д. После Первой мировой войны стало окончательно понятно, что без демократии в том или ином виде либо более-менее убедительной имитации демократии крайне затруднительно властвовать над «массами», организовывать и контролировать их. Это актуально и в нашу постиндустриальную эпоху, что бы ни говорили проповедники реставрации цензов (как либерального, так и антилиберального толка). – . Итак, в действительности, в реальности провозглашение нации источником и носителем власти не делает ее ни носителем, ни тем более источником. Нация не «самовластвует», она вообще не способна властвовать. Уже хотя бы потому, что ее «много». И граждане к тому же в массе некомпетентны, пассивны и равнодушны к политической деятельности и своим правам. Властвуют над нацией. Всегда властвуют над нацией. Либо властвуют демократически, то есть властвуют, добившись признания и согласия нации, выраженных на выборах и референдумах, властвуют, учитывая мнения нации. Либо недемократически, гегемонически. Современная демократия призвана делать процесс властвования болееменее согласованным и, если угодно, комфортным. Активное избирательное право — это не власть и не право на власть, это право признавать власть и соглашаться с нею. Нация вправе отказать в признании власти, не согласится с нею. Нация вправе отозвать свое признание и согласие. Нация, если есть таковая возможность, вправе выбрать из некоего количества претендентов (политиков, партий, коалиций и пр.) на власть. Нация может утверждать предложенные ей решения, может выбирать из нескольких вариантов решения, может даже выбирать тех, кто будет предлагать ей решения и / или принимать их от ее имени. Но при этом позиция нации формируется под влияниями разной степени конструктивности, ею перманентно манипулируют. И главное, ЛKOKQ 6, 2008 143 нация не определяет из кого и из чего ей придется выбирать и как и когда выбирать. В этом смысле современная демократия — непременно управляемая. Формулировки, вроде «власть принадлежит народу», «народ взял власть», «нацию лишили власти», если только они осознанно не используются в пропагандистских и иных подобных целях, бессодержательны и бессмысленны. Вместе с тем зависимость власти от воли нации, пусть и управляемой (самой властью, претендентами на власть и прю), для практики, да и для теории значит больше, чем книжный фантом «народного суверенитета». Таким образом, современная демократия есть только составной элемент политического режима. Пусть довольно важный, но не единственный и не обязательный. Его наличие или отсутствие позволяет дать режиму соответствующую характеристику. Существенную характеристику. Не менее, но и не более. . Разговор о демократии автоматически выводит к ее якобы полной противоположности — автократии, монократии, неограниченного или малоограниченного единоличного властвования правителя (соправителей³³) Считается, что самовластие непременно устанавливается при «абсолютной» монархии, но может быть установлено и при других моделях правления. На деле даже при поверхностном изучении опыта древних и средневековых восточных деспотий, европейских «абсолютистских» королевств XVI –XVIII вв. или современных азиатских монархий бросается в глаза вопиющее противоречие между декларациями о концентрации всей полноты власти, порой даже духовной, в руках монархов и практикой распределения властных полномочий и ресурсов внутри политической элиты (аристократии, высшей бюрократии, высшего духовенства ³³ Прецедентов соправления (дуумвиратов, триумвиратов, квадриумвиратов) — официального, полуофициального или неофициального распределения функций правителя между двумя (и даже тремя и более) персоналиями — в мировой истории довольно много. Соправление не всегда предполагает равноправие соправителей, равенство их формальных и неформальных статусов. Один из них может быть «старшим», а другой «младшим». Из отечественной истории следует привести примеры официального соправления Ивана III Великого и его сына и наследника Ивана Молодого в – гг., Михаила (первого Романова) и его отца Патриарха Филарета в – гг.; и неофициального — Екатерины II Великой и светлейшего князя Григория Потемкина (по некоторым сведениям ее морганатического супруга) в – гг., Александра I Благословенного и графа Алексея Аракчеева в – гг., а также триумвирата Леонида Брежнева, Алексея Косыгина и Николая Подгорного (на расширение которого до квадриумвирата претендовал Александр Шелепин) в – гг. Соправлением стала и совместная работа Владимира Путина и Дмитрия Медведева (полуофициально заявляется об их «тандеме», лично я больше предпочитаю термин «двоецарствие»). 144 Виталий Иванов и т. д.). Правитель мог быть господином жизни и смерти всех своих подданных, мог иметь самые широкие права для того, чтобы «ротировать» элиту. Но ни один правитель никогда не мог властвовать действительно единолично. Разве только в глубокой древности в примитивных и компактных городах-государствах. Да и это довольно сомнительно. Править всем и всеми одному не под силу. Властвование имеет естественные пределы. Правитель всего лишь человек, ограниченный в своих физических и интеллектуальных возможностях и нуждающийся как минимум в помощниках. Поэтому помимо правителя (соправителей), помимо властителя-самовластителя всегда есть другие правящие, другие властвующие. И совокупная власть этих правящих, этих властвующих зачастую превосходит власть правителя. Можно заявлять (и нередко заявляется) о производности их власти от власти правителя, но что от этого изменится практически? Разумеется, сказанное в еще большей мере распространяется на республиканские автократии. Мне представляется, что автократию нужно рассматривать по аналогии с демократией, во-первых, как комплекс политических и правовых институтов и практик, обеспечивающих видимое доминирование и реальное первенство правителя во властной системе, его определенную автономию от прочих правящих и, как следствие, персонализацию режима. Причем имеется в виду доминирование, первенство и пр. правителя фактического. Формальный правитель — занимающий трон, президентский или премьерский пост и пр. отнюдь не обязательно фактический правитель. (Выдвижению фактического правителя не может помешать установление системы правления, не предполагающей наличия главы государства, то есть единого формального правителя или не предусматривающей концентрации в руках главы государства ключевых полномочий³⁴.) И следовательно, во-вторых, как составной элемент режима, также важный, существенно важный, но не единственный и не обязательный. Автократия, во всяком случае в относительно мягких формах, легко совместима с демократией. Более того, поддержка правителя нацией может как раз выступать основой его автономии, задавать его первенство и доминирование³⁵. Демократическо-автократическими были, например, режимы в Турции при Мустафе Кемале (Ататюр³⁴ ³⁵ Речь идет в первую очередь о государствах с централистскими системами правления. Иосиф Сталин никогда не был формальным главой СССР . У Советского государства был «коллективный глава» — Президиум Центрального исполнительного комитета (ЦИК ), а затем Президиум Верховного Совета. Сталин в их состав не входил. Он возглавлял правительство — Совет народных комиссаров, Совет министров (и то лишь в – гг.). Мао Цзедун официально правил КНР в – гг. (в – гг. будучи председателем Центрального народного правительства, в – гг. будучи президент), а фактически — до своей смерти г. И т. д. Как тут не вспомнить теориею «плебисцитарной демократии», восходящую к Максу Веберу, который считал, что харизматический лидер, опирающийся на демократическое волеизъявление, способен ограничивать произвол бюрократии. ЛKOKQ 6, 2008 145 ке) в – гг., во Франции при Шарле де Голле в – гг. или в Аргентине при Хуане Доминго Пероне в – гг. Нынешний российский режим тоже демократическо-автократический. Политологи и правоведы часто называют автократиями любые недемократические, гегемонические режимы (кроме тоталитарных). Я считаю это неправильным. Как сказано, автократия совместима с демократией. Кроме того, недемократические режимы бывают неперсонализированными — при военном режиме в той же Аргентине в – гг. сменилось пять президентов, ни один из которых не был автократом. Аналогичным образом дело обстояло в Бразилии в – гг., там тоже тогда друг друга последовательно сменили пять «военных президентов». Автократия не всегда сопровождает даже деспотическое правление. В Саудовской Аравии, в частности, автократом был только малик-основатель Абдул Азиз. Власть последующих маликов (все пятеро — сыновья Абдула Азиза) ограничивалась их братьями-эмирами. – . Теперь мы подошли к самому главному. В любом государстве властвует исключительно или преимущественно политически активное меньшинство, часто называемое политической элитой, политическим классом, правящим классом и т. д. А точнее, властвует верхушка этого меньшинства, формируемая, воспроизводимая, ротируемая в порядке зачастую непонятном и даже невидимом внешним наблюдателям. Эта верхушка — олигархат, ее властвование — олигархия, буквально властвование немногих. Можно также использовать синоним «олигократия». Из известных нам авторов первыми об олигархии писали Платон и Аристотель, естественно, не разводившие формальную и фактическую организацию власти, не различавшие формы правления и формы режима. Они же постарались наполнить это понятие негативным содержанием. Платон рассматривал, а Аристотель был склонен рассматривать олигархию как правление, основанное на имущественных цензах, то есть как властвование богачей, как плутократию; но ни тот, ни другой этим словом не пользовались. Оба приписывали олигархическим государствам всевозможные пороки. У Стагирита олигархия — «обезьяна» аристократии, ее извращенная форма. При аристократии «правят лучшие» или «имеется в виду высшее благо государства и тех, кто в него входит»³⁶. А при олигархии же блюдутся «выгоды состоятельных граждан» и, соответственно, общая польза в виду не имеется³⁷. В качестве примера олигархии он приводил, в частности, плутократические порядки в Карфагене³⁸, каковые порицал («Вполне естественно, что покупающие власть за деньги привыкают извлекать из нее прибыль, раз, получая должность, они поиз³⁶ ³⁷ ³⁸ Аристотель. Политика. Кн. III . a–. Там же. b–. Там же. Кн. II . a–b. 146 Виталий Иванов держатся; невероятно, чтобы человек бедный и порядочный пожелал извлекать выгоду, а человек похуже, поиздержавшись, не пожелал бы этого»³⁹). Тут же, впрочем, признавая, что государственная система Карфагена заслуженно пользуется «хорошей славой»⁴⁰. Аристотель описывал не только плутократическую, но также и наследственную олигархию, при которой государственные должности переходят по наследству⁴¹ и пр. Но важно, однако, не это. Во-первых, и Платон и Аристотель считали правление немногих совершенно естественным. « […] верховная власть непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства»⁴². Во-вторых, олигархия у них — это «неправильно» организованное «неправильное» правление «неправильных» немногих. А возможно и желательно правление «правильных» немногих, организованное «правильно» и «правильное». Платон мечтал о правлении философов⁴³. Стагирит, будучи утопистом в меньшей степени — о политии, в которой синтезируется лучшее из олигархии и демократии — еще одной извращенной формы правления, «отклоняющейся» как раз от политии⁴⁴ (в таком случае олигархию он тоже мог бы назвать «отклонением» от политии, но не сделал этого). Почему, говоря о властвовании немногих, я предпочитаю говорить об олигархии? Использовать слово, считающееся сейчас ругательным или, по крайней мере, «сомнительным»? Традиция требует обращаться к грекоязычной терминологии. Нарушать ее не надо. Да, Платон и Аристотель, как сказано, негативировали понятие олигархии (правда, Стагирит был готов брать из нее «лучшее»). Однако они также изрядно негативировали и понятие демократии⁴⁵. Это не помешало спустя многие века «реабилитировать» его. И еще как «реабилитировать»! Современное понимание демократии, как уже было подробно показано, существенно отличается от античного. Почему же тогда нужно догматизировать платоновские и аристотелевские определения олигархии? Еще Гоббс резонно утверждал, что аристократия и олигархия суть одно и то же, просто исторически сложилось, что слово «олигархия» ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ Там же. b–. Там же. b–. Там же. Кн. IV . b–, a–. Там же. Кн. III . a–. Платон. Государство. Кн. VI . b. Аристотель. Политика. Кн. III . b. «В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову», — так считал Платон (Платон. Государство. Кн. VIII . е). Это даже не охлократия, а анархия в чистом виде. ЛKOKQ 6, 2008 147 используют в качестве негативного синонима слова «аристократия» — «те, кто недоволен аристократией, называют ее олигархией»⁴⁶. Аристотель и сам признавал, дескать, зачастую «аристократию считают некоей олигархией»⁴⁷. Продолжая эту линию рассуждения, замечу, что исторически же понятие аристократии оказалось крепко вписано в контекст феодализма. Аристократ в современном понимании — это феодал, дворянин, магнат и т. п., то есть земельный собственник или держатель, как правило наследственный, наделенный соответствующими привилегиями, в том числе социальными и политическими. Понятие олигархии же, напротив, постепенно освободилась от жесткой привязки к плутократии. Сейчас никого не удивишь формулировками «бюрократическая олигархия», «партийная олигархия», а также «аристократическая олигархия». Аристократию стало уместно рассматривать как один из видов олигархии. Возможно, лучший вид, но именно вид. К тому же «властвующие немногие» отнюдь не всегда имели и имеют знатное или вообще сколь-либо благородное происхождение. Можно ли непременно считать их «лучшими»? Заботятся ли они об общем благе или только о своем собственном? Соответственно, как общее и «олигархическое» блага соотносятся с интересами государства? Полагаю, что такие вопросы, мягко говоря, излишне оценочные. Попытки ответить на них и сделать выводы на основании ответов чреваты скатыванием к субъективизму и бесплодному морализаторству. Роберт Михельс в г., опираясь на подробное исследование партийной социологии, сформулировал «eherne Gesetz der Oligarchie» («Iron Law of Oligarchy», «железный закон олигархии»), согласно которому во всякой человеческой организации, преследующей практические цели, неизбежно обнаруживается тенденция к олигархизации, в ней обязательно складывается олигархия⁴⁸. Необходимость управления организацией востребует лидеров и аппарат, состоящий из профессионалов, и власть неизбежно концентрируется в их руках. «Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie»⁴⁹ («Кто говорит „организация“ — тот говорит «тенденция к олигархии»»). В английском переводе, кстати, формулировка Михельса была «заострена» и тем самым «улучшена»: «Who says organization, says oligarchy»⁵⁰ («Кто говорит „организация“ — тот говорит «олигархия»»). ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ Hobbes T. Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil. Oxford, . P. . Ch. XIX . P. ; Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. Кн. II . Гл. XIX 6 Гоббс Т. Сочинения в двух томах. М., . Т. . С. . Аристотель. Политика. Кн. III . a–. Michels R. Zur Soziologie des Parteilebens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Stuttgart, . S. – ; Michels R. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. New York, . P. – . Michels R. Zur Soziologie des Parteilebens… S. . Michels R. Political Parties… P. . 148 Виталий Иванов Из «железного закона олигархии» следует, что, во-первых, чем больше организация — тем меньше в ней элементов демократии и больше элементов олигархии. Неолигархическое управление большими организациями невозможно технически. Cоответственно, во-вторых, ни в какой политической организации и уж тем более ни в каком государстве власть не может быть организована демократически. « […] die Mehrheit der Menschen, durch eine grausame Fatalität der Geschichte dazu vorherbestimmt, gezwungen sehen, die Herrschaft einer kleinen Minderheit aus ihrem Schoße über sich ergehen zu lassen und nur als Piedestal für Große der Oligarchie zu dienen»⁵¹. Вне зависимости от формы правления политический режим всегда олигархический, олигократический, вне зависимости от того, кто заявляется носителем государственной власти, реальным ее носителем выступает олигархат. По своему генезису и структуре олигархат может быть аристократическим (феодальным, служилым и пр.), плутократическим, бюрократическим, клерикальным, военным, партийным. Исторически чаще всего встречались различные гибридные варианты. Сейчас «костяк» олигархата в большинстве «развитых» стран составляют политические руководители государства, верхушка бюрократии, в том числе «силовой», крупнейшие собственники и предприниматели, топ-менеджеры ведущих бизнес-структур, религиозные деятели, лидеры ведущих партий и общественных объединений, профсоюзные боссы, «медиакраты». Принадлежность к олигархату определяется не занятием должности в государственном аппарате — олигарх далеко не всегда занимает государственную должность, не всегда имеет официальный статус, а участием во властвовании, прямой вовлеченностью в процесс принятия государственных решений. Участие и вовлеченность обеспечивают происхождение, карьерные успехи (в самом широком смысле, в частности, успеш⁵¹ Michels R. Zur Soziologie des Parteilebens… S. – . И вот еще цитата: «Die demokratischen Strömungen in der Geschichte gleichen mithin dem steten Schlage der Wellen. Immer brechen sie an der Brandung. Aber auch immer wieder werden sie erneut. Das Schauspiel, das sie bieten, enthält zugleich Elemente der Ermutigung und der Verzweiflung. Sobald die Demokratie ein gewisses Stadium ihrer Entwicklung erreicht hat, setzt ein Entartungsprozeß ein, sie nimmt damit aristokratischen Geist, bisweilen auch aristokratische Formen an und wird dem ähnlich, gegen das sie einst zu Feld zog. Dann entstehen ihr aus ihrem eigenen Schoß neue Ankläger, die sie der Oligarchie zeihen. Aber nach einer Periode glorreicher Kämpfe und einer Periode ruhmloser Teilnahme an der Herrschaft gehen auch sie zu guter Letzt in der alten dominierenden Klasse auf. Jedoch, gegen sie erheben sich nun namens der Demokratie wieder neue Freiheitskämpfer. Und dieses grausamen Spieles zwischen dem unheilbaren Idealismus der Jungen und der unheilbaren Herrschsucht der Alten ist kein Ende» (Ibid. S. – ). Нельзя не обратить внимание на «обреченный» тон Михельса — «трагическая потребность», «жестокая игра будет продолжаться без конца» и пр. Он долгое время придерживался радикально-социалистических убеждений, верил в народоправство и поэтому собственное открытие, сделанное на основе тщательного непредвзятого исследования как раз левых партий, его, очевидно, огорчило. ЛKOKQ 6, 2008 149 ную карьеру ведь может сделать как придворный, так и революционер), заслуги (также в самом широком смысле этого слова), богатство, связи, общественная известность и популярность, удачное стечение жизненных обстоятельств. Можно родится олигархом (причем наследственная передача олигархического статуса практикуется отнюдь не только в отсталых странах, но в самых «цивилизованных»). Можно стать олигархом благодаря собственным сознательным усилиям. Можно быть назначенным олигархом или даже попасть в олигархат буквально благодаря случаю. У любого олигархата есть свое «ядро» и своя «периферия», взаимодействие между ними бывает организовано самыми различными способами, но априори залог устойчивости любого олигархата — механизм взаимной ротации «ядерных» и «периферийных» фигур (вовсе не обязательно частой и оформляемой публично через те же выборы) и обновления его состава в целом за счет включения представителей политической и пр. элит и «контрэлит» (оппозиционных элитных групп). Олигархия бывает демократической, если властвование олигархов ограничено и «замаскировано» демократическими институтами и практиками. Олигархия бывает автократической, если правитель (соправители) возвышен над остальными олигархами, относительно автономен от них, если автократия ограничивает и опять же «маскирует» их властвование. Олигархия бывает одновременно демократической и автократической, если соответствующие элементы сочетаются. Если этих элементов нет, то налицо идеальная («чистая») олигократия. Идеальная и та олигархия, которую не удалось ни ограничить, ни «замаскировать» демократией и / или автократией (в как в России во второй половине -х гг., когда в условиях политической слабости и огромной непопулярности тогдашнего президента Бориса Ельцина и власти в целом открыто признавалось, что государством правят не столько выбранные избирателями политики и назначенные ими чиновники, сколько крупные предприниматели, разбогатевшие на внешнеторговых и финансовых махинациях и приватизации, которых так и называли — «олигархи») Демократические и автократические институты и практики обеспечивают вертикальную мобильность, а значит, обновление, ротацию олигархата (в том числе могут упреждать, профилактировать «закрытие» олигархата, если к этому есть тенденция) и легитимность тех олигархов, которые занимают официальные посты, задают им рамку «правил игры». Нужно четко отдавать себе отчет в том, что олигархические институты и практики — основа любого современного политического режима. Может не быть ни демократии, ни автократии. Олигархия есть всегда. Олигархия есть обязательный элемент любого более менее современного политического режима, его основа. Слова «режим» и «олигархия» до определенного предела взаимозаменяемы. 150 Виталий Иванов Никакие революции, перевороты или «случайные» победы на выборах оппозиционных несистемных политиков ничего сущностно в политическом режиме не меняют и не могут изменить. Можно «оседлать историю», то есть уловить и эффективно использовать протестные настроения масс, «народа», или просто воспользоваться ситуацией для того, чтобы войти в олигархат, стать его лидером, реорганизовать, «ротировать» и пр. Смена политических, религиозных, идеологических, социально-экономических, культурных парадигм зачастую сопровождается частичной или полной заменой олигархата. Но заменой олигархата, а не отказом от олигократии. Тут действительно действует «железный закон». Античная демократия в этой связи предстает исключением. Которое подтверждает правило и которое его объясняет. И в тех же Афинах демократия всегда дополнялась олигократией — тамошний олигархат включал политических лидеров как знатного, так и незнатного происхождения, полководцев, разбогатевших торговцев и ремесленников и пр. Так что античная демократия была олигархической, она не могла не быть олигархической⁵². – . Тезис о демократической «маске» олигархии, думается, нуждается в дополнительных разъяснениях. Выше уже говорилось, что нация не может править нигде и никак, потому что ее «много». Олигархат же обычно не может править открыто потому, что его «мало». Исключения сейчас возможны лишь там, где сохраняются, консервируются традиционные политические культуры. Там же где они разрушены либо основательно разложены, то есть практически повсеместно олигархаты правят от имени и «по поручению» наций (либо наций и монархов). Признавать подвластность наций не просто нежелательно, а невозможно. Представления о всеобщем политическом равенстве, о принадлежности власти нациям, о демократии как о лучшей форме властвования стали в последние века общим местом и светским «символом веры». Они зафиксированы во множестве правовых актов, включая конституционные и международные. На Западе олигархии с XX в. «маскируются» почти целиком. При этом участие граждан в политике управлении государством все чаще и все больше подменяется иллюзией участия. В последние десятилетия благодаря в том числе значительному прогрессу в сферах политических технологий, PR и медии, политический процесс часто сводится к кра⁵² А учитывая проявления «личностного фактора», то порой и олигархическо-автократической. Уже упоминавшийся Перикл был, выражаясь современным языком, «национальным лидером». Фукидид писал: «Перикл […] управлял гражданами, не ограничивая их свободы, и не столько поддавался настроениям народной массы, сколько сам руководил народом. […] По названию это было правление народа, а на деле власть первого гражданина» (Фукидид. История. М., . С. ). Именно после смерти Перикла в Афинах начался «разгул демократии», приведший к крупным военным неудачам и внутриполитическому кризису. ЛKOKQ 6, 2008 151 сочным и динамичным постановкам. Это форма, за которой непропорционально мало содержания. Наиболее ярким примером стали президентские кампании в США с их праймериз, партийными конвентами и теледебатами. Вместе с тем необходимо отметить, что благодаря своей демократической, либерально-демократической «маске» западные (а вслед за ними и многие незападные, но подражавшие западным) олигархии приобрели довольно специфические черты и свойства. «Маска», что называется, отпечаталась на лице. Если не приросла. Длительная практика массового вовлечения народонаселения в политику, имитации такого вовлечения, постепенное снятие почти всех формальных цензов и неформальных барьеров вкупе с культивированием политической и пр. конкуренции и плюрализма привели в итоге к опасному размыванию элит, и, следовательно, олигархатов. Выяснилось, что чем тщательнее и дольше олигархия прячется за демократию, тем более «демократическим» — в смысле зависимости от демократических институтов и практик — становится процесс воспроизводства и ротации олигархии. Подчеркну, имеется в виду не увеличение прозрачности и понятности процесса, и тем более не повышение реальной роли электората в нем. Чтобы добиться признания и согласия на властвование олигархам приходится все больше и чаще идти на уступки «простому гражданину», «массовому избирателю», заигрывать с ним, потакать его порокам, подстраиваться под него стилистически и ментально, то есть перенимать степень его примитивности и меру его невежества⁵³. Мало того, благодаря «демократическим» социальным лифтам и «окнам возможностей» в элиты и олигархаты проникает все больше случайных деятелей, объективно не готовых и не способных нести бремя власти и ответственности за власть. Особенно рельефно это проявилось в собственно политической, собственно государственно-властной сфере. Долгие десятилетия тон там задавали профессиональные политики, зачастую потомственные, которых традиционно попрекали «элитарностью», обвиняли в коррупции, лоббизме и т. д. Сейчас их все больше теснят всевозможные «граждан⁵³ Либерально-демократические олигархии становятся все более и более безответственными. Их социальная и демографическая политика попросту самоубийственны. Пожалуй, лучше всего об этом написал Максим Момот: «Желая получить голоса избирателей, американские и европейские политики вынуждены тратить деньги на бесчисленные социальные программы, фактически отучающие граждан от труда. Вдобавок, желая угодить электорату, политики вынуждены мириться с таким образом жизни людей, при котором заводить семью и детей считается необязательным. Потом государственные мужи делают удивленные лица, заявляют о приближении демографической катастрофы, о том, что будущих пенсионеров некому содержать, и новые миллионы денег налогоплательщиков идут на программы по поощрению деторождения, которые ни в одной развитой стране ситуацию пока не исправили и исправят вряд ли. Все это на Западе и называется демократической политикой» (Момот М. Слияния и поглощения 6 http:6www.lenta.ru / a rticles / / / / party / ). 152 Виталий Иванов ские активисты», «общественные организаторы», «медиаперсоны» и прочие «непрофессионалы» (естественно, отнюдь не менее склонные к коррупции и лоббизму), эффективно использующие демократические институты и практики, а также современные информационные технологии, да еще умело добивающиеся «демократизации демократии». Они не успевают пройти необходимую «школу», «обтесаться», проникнутся элитарным духом. Более того, они подчас стараются уклоняться от этого. Входя в элиту по факту, удачливые парвеню не желают считаться элитой, продолжают противопоставлять себя ей, блюдя свою «народность». Профессионалам все труднее их обучать и адсорбировать, происходит скорее обратный процесс. То есть профессионалы не подтягивают «новобранцев» на свой уровень (как было почти всегда), а сами опускаются на их низкий уровень⁵⁴. Но главная проблема, конечно, лежит в иной плоскости. Образно выражаясь, либеральная демократия не предполагает ни тормозов, ни заднего хода. Она стремится к полному и окончательному «освобождению». Поэтому за «освобождением» большинства последовало «освобождение» всевозможных меньшинств (сопровождающееся академическими рассуждениями о том, что для демократии-де на самом деле важно не мнение большинства, а консенсус меньшинств). Поэтому либеральные демократии дальше «демократизуются». Поэтому либеральная демократия «экспортируется», причем порой во вред странам-«экспортерам» (не говоря уже об «импортерах»). Здравомыслящие либералы призывают остановиться, но остановиться никто не сможет. Мы наблюдаем не девиацию либерально-демократического «прогресса», а его кульминацию. – . Хорошо известны и примеры частичного «опубличивания» и даже легализации олигархий как при копировании, так и при выстраивании альтернативных демократических и гегемонических моделей. Имеется в виду, в частности, официальное либо неофициальное закрепле⁵⁴ Резкий взлет Барака Обамы, его триумфальное избрание президентом США в г. можно и нужно интерпретировать как подтверждение только что высказанных слов о «политических активистах», наводняющих западные политикумы. Однако следует избегать соблазна объявлять его «народным президентом». «Народным» в том смысле, что он якобы был избран американскими гражданами вопреки позиции элиты. В Белый дом «дворняжку» (самоопределение Обамы; см.: http:6www.gazeta.ru / politics / election_usa_ / / / _a_ .shtml) привела, разумеется, элитная, олигархическая коалиция. Другое дело, что, во-первых, она составилась из представителей не только «старой» элиты (плутократов, профессиональных политиков, университетских интеллектуалов), но и «новой» («политических активистов» и пр.). Во-вторых, в ситуации тяжелейшего экономического кризиса и массового разочарования политикой Джорджа Буша-младшего (кстати, принадлежащего к «аристократической» — по американским меркам — семье, а значит к «старой» элите) и Республиканской партии оказалась востребована и избираема именно «дворняжка». «Непрофессионализация» политики и деградация элиты совершенно не означает перехода к народовластию. ЛKOKQ 6, 2008 153 ние особой роли правящей партии или партии власти и партийного руководства — СССР , Китай с г., Мексика в – гг. (партократия, на определенном этапе неизбежно трансформирующаяся в партийную бюрократию, партбюрократию — когда партия срастается с государственным аппаратом), религиозно-политических лидеров — Иран (теократия), военных, генералитета — Япония в – гг., Турция с основания республики Мустафой Кемалем в г., Аргентина, Бразилия, Чили в разные периоды своей истории в XX вв. (стратократия⁵⁵). Чаще всего демократический элемент в незападных странах «уравновешивается» автократическим, то есть олигархии «маскируются» посредством не только демократии, но и автократии. Либо демократический элемент присутствует в минимальном объеме или вовсе номинально, то есть внешне олигархия предстает личной диктатурой и т. п. Хотя и сам Запад в XX в. знал олигархии и демократическо-автократические (упоминавшийся деголлевский режим) и автократические (режимы в Италии при Бенито Муссолини в – гг., в Португалии при Антониу ди Оливейре Салазаре в – гг., в Испании при Франсиско Франко в – гг.) Олигархии (и, следовательно, политические режимы) можно и нужно делить на соревновательные и консенсусные. Соревновательная олигархия организована на конкурентных началах, олигархи и олигархические коалиции, претенденты на олигархический статус публично соперничают напрямую или опосредованно через партийные, медийные и т. п. институты. При консенсусной олигархии политическая конкуренция существенно ограничена, подчас вплоть до ее полной непубличности — из соображений сохранения политической стабильности и пр. Соревновательная олигархия, конечно, не только не исключает, но, напротив, востребует свой консенсус. Как минимум консенсус о «правилах игры». Другое дело, что они не всегда оказываются адекватными и не всегда соблюдаются. И у такого консенсуса нет реального гаранта. Приходится полагаться на традиции, обычаи и право. Иногда их достаточно, иногда нет, все зависит от политической культуры и конъюнктуры. В свою очередь консенсусная олигархия, как сказано, ограничивает конкуренцию. Но не отменяет ее. Конкуренция неотменяема в принципе, поскольку имманентна человеческой природе. Сущностное различие здесь не в наличии или отсутствии конкуренции либо консенсуса. При соревновательной олигархии конкуренция рассматривается как благо, как основа и как фактор развития. А при консенсусной — как «неизбежное зло», как то, что надлежит сдерживать или секвестировать. ⁵⁵ От греч. «στρατός» — «войско», «армия». Термин «стратократия», на мой взгляд, корректнее используемого российскими политологами и социологами термина «милитократия». 154 Виталий Иванов Ограничение конкуренции при консенсусной олигархии гарантируется и поддерживается правителем-автократом (соправителями-автократами), выступающим верховным источником политической воли, устанавливающим «правила игры» и обеспечивающим их соблюдение. Возможен и вариант, при котором олигархат не позволяет появиться правителю-автократу и при этом, стремясь консервировать status quo, самоограничивает себя, ограничивает возможности претендовать на олигархический статус. Соревновательной бывает олигархия демократическая или демократическо-автократическая. Но не только. В Великобритании в XVII – XIX вв. функционировала идеальная соревновательная олигархия, то есть не демократическая и не автократическая (структура олигархата — аристократическая, затем аристократическо-плутократическая). Консенсусной же бывает олигархия и идеальная, и автократическая, и демократическая, и демократическо-автократическая. Примеры первого — «постфеодальные» аристократические режимы в арабских petrostates, военные режимы в Аргентине в – гг., в Бразилии в – гг., лютая партийная диктатура «красных кхмеров» в Камбодже в – гг. Примеры второго — режимы в Парагвае при Альфредо Стресснере в – гг., в Индонезии при Ахмеде Сукарно в – и Мухаммеде Сухарто в – гг. Примеры третьего — нынешние режимы в Китае и Иране (там автократические элементы основательно вывелись после, соответственно, отхода от власти «патриарха китайских реформ» Дэн Сяопина в -е гг⁵⁶. и смерти лидера Исламской революции Рухоллы Хомейни в г.). Примеры четвертого — режимы в России при Владимире Путине, в Казахстане при Нурсултане Назарбаеве, в Азербайджане при Гейдаре и Ильхаме Алиевых. Я убежден, что политическая философия, политология и правоведение, обязаны выработать новые подробные классификации политических режимов безусловно признав: ) что все и каждый из них имеют олигархическую основу, ) что современная демократия, как и автократия суть важные, но в принципе не обязательные элементы режимов, ) что любой режим нужно изучать в контексте национальной политической культуры, истории, современных конкретных реалий и тенденций, ) что недопустима оценка режимов по степени их соответствия западным «демократическим стандартам» и любой пиетет по отношению к современным западным моделям. ⁵⁶ Ни Цзян Цземинь (глава Компартии в – гг., глава государства в – гг.), ни Ху Цзиньтао (нынешний глава компартии и государства) не стали автократами. ЛKOKQ 6, 2008 155 ¸X ¸X Z^ V WZ Á³] - µ Z WY³Q Недемократическая политика в XX веке и далее¹ Unser National Sozialismus ist die Zukunft Deutschlands. Trotz diese Zukunft wirtschaftlich rechts-orientiert wird, werden unsere Herzen links orientiert bleiben. Aber vor allem werden wir niemals vergessen, dass wir Deutschen sind. ² Адольф Гитлер, 1932 год, ежегодный съезд Национал-социалистической демократической рабочей партии Socialement je suis de gauche, économiquement je suis de droite, et nationalement je suis de France!³ Жан Мари Ле Пен, 2002 год, выступление во время президентской кампании перед Национальным фронтом М ожет показаться, что писать о недемократической политике после падения Берлинской стены и посреди широкой демократизации Центральной Европы и Латинской Америки — это все равно, что пытаться реанимировать труп. И все же даже если эпоха советского и нацистского тоталитаризма, судя по всему, завершилась, а многие автократии по финансовым или иным причинам быстро становятся демократиями, мы живем в эпоху, когда недемократическая политика проявляется в различных диктатурах, фундаментализмах и кровавых гражданских ¹ ² ³ Viviane Brachet-Marquez, ‘Undemocratic Politics in the Twentieth Century and Beyond’, in Thomas Janoski, et. al (eds), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, , p. – . Наш национал-социализм — это будущее Германии. Хотя это будущее экономически склоняется к правым, наше сердце остается с левыми. Но — главное — мы не должны забывать, что мы — немцы. В социальных вопросах я — левый, в экономических — правый, а в национальных — я за Францию. 156 Вивиан Брахет-Маркес войнах, а также в антидемократических идеологиях, партиях и допустимых практиках внутри и вовне сложившихся демократий. Вместо явно выраженных «режимов», на которые мы однозначно можем налепить ярлык «демократический» или «недемократический», мы часто имеем дело с палитрой демократических и недемократических идеологий, ментальностей, правил и закрепленных практик. В особенности это касается стран, которые лишь недавно освободились от колониального правления или после кровавых диктатур вернулись к избранному гражданскому правлению. Но это также касается и устоявшихся демократий — достаточно вспомнить поразительный успех Хайдера в Австрии и Ле Пена во Франции. Все эти проявления стимулировали живой и быстро растущий пучок исследований, который, однако, остается крайне раздробленным в дисциплинарном, географическом, хронологическом и неизбежно языковом отношении. В результате мы сталкиваемся с рядом географически ограниченных дебатов, которые затрагивают сравнительно небольшие группы специалистов. В этой статье предпринимается попытка вытянуть различные нити из этой разрастающейся литературы, чтобы определить возможность диалога между ними. Это также должно помочь нам лучше понять политическое развитие недавно заново демократизированных стран. В этом отношении дебаты о недемократической политике неотделимы от дебатов о демократии. Вместо того чтобы брать на себя непосильную задачу всестороннего рассмотрения этой необычайно широкой и гетерогенной области, в настоящей статье очерчиваются основные исследовательские программы и проблемы, которые определяли изучение недемократической политики на протяжении последних пяти десятилетий. Из-за его важности для исходного определения области львиная доля первой части отводится подходу к недемократической политике, который уделяет особое внимание режимам. Во второй части рассматриваются движения против авторитарных и султанических режимов и последующая резкая реакция правых. В третьей части особое внимание уделяется движениям и партиям, которые выказывают сильные недемократические наклонности, действуя при этом в рамках сложившихся демократических контекстов. Недемократическая политика с точки зрения режимов Категории и типы режимов — это таксономические средства, которые упорядочивают государства в соответствии с набором абстрактных категорий, а затем используются для рассмотрения эмпирических случаев. Хотя мало кто из исследователей решится утверждать, что режимы неизменны, типологизация неявно основывается на представлении об относительной стабильности во времени черт, выделенных для всякого данного типа. (И какой смысл вообще заниматься выделением ЛKOKQ 6, 2008 157 типов, если думать иначе?) Вплоть до -х исследователи недемократической политики широко использовали типологию режимов, распределяя их по странам таким образом, который преуменьшал изменчивость и преувеличивал неизменность. С тех пор они стали более гибкими, обращаясь к рассмотрению семейств режимов с общими точками соприкосновения, несмотря на важные различия (Kershaw and Lewin, ) и описывая фазы или эпизоды, через которые проходили политии, что позволило перенести внимание с сущностных особенностей и устойчивых структур на различия, переходы и изменения. Согласно исходной типологизации Хуана Линца, недемократические политии часто классифицировались как тоталитарные или авторитарные (Linz ). Но такое разграничение приводит к тому, что многие случаи относятся к неверному типу или их вовсе оставляют без внимания⁴. В рамках этого подхода имели место три вида дебатов: () дебаты о тоталитаризме и фашизме применительно к Европе в межвоенный период; () дебаты об авторитаризме, касавшиеся Южной Европы и Латинской Америки; и () дебаты о султанических режимах, касавшиеся Азии и Африки, а также некоторых стран Латинской Америки. Дебаты о тоталитаризме и фашизме При тоталитарных режимах, писал Линц (Linz ), государство заявляет о своей монополии на власть и насаждает только одну идеологию, на основе которой оно пытается произвести тотальную мобилизацию населения посредством одной партии и различных подконтрольных организаций. Это определение отсылает к структурно-институциональному взгляду на тоталитаризм (Mann ), в отличие от тех, что подчеркивают роль культуры и идеологии (Arendt ; Marcuse ; Burrin ) или истоков (Korchak ). Несмотря на имеющиеся существенные различия, большинство авторов выделяет три основные составляющие тоталитарных режимов: () всеобъемлющая идеология, выдвигающая программу радикального преобразования общества и призывающая к истреблению всех, кто признается несовместимым с выдвинутой программой или враждебным по отношению к ней; () централизованная государственная бюрократия на службе этой идеологии с практически безграничной властью и современными средствами коммуникации, пропаганды, слежения и репрессий; и () массовая партия, контролируемая государством, для осуществления этой трансформации при добровольном или принудительном участии всего населения. Некоторые авторы также включают вождистский принцип (Friedrich and Brzezinski ; Burrin ), государственный терроризм (Arendt ; Friedrich and Brzezinski ) и милитаристский экспансионизм (Friedrich and ⁴ В разгар холодной войны все коммунистические и фашистские режимы обычно считались «тоталитарными», но с тех пор эти представления были пересмотрены. 158 Вивиан Брахет-Маркес Brzezinski ). Конечно, между сталинским СССР и нацистской Германией имелось немало серьезных различий. Если социалистическая идеология была весьма кодифицированной и вписанной в политику, то нацистская риторика выглядела совершенно милленаристской (Friedrich and Brzezinski ). Если нацистской партии удалось добиться немалых успехов в мобилизации населения снизу, то недоверие, созданное сталинистской пропагандой и террором, способствовало деполитизации. В своем самом строгом определении тоталитаризм, по-видимому, относится только к сталинским чисткам и «окончательному решению [еврейского вопроса]» в нацистской Германии. Но если раздвинуть исторические и культурные границы этого феномена, можно будет привести и другие примеры. Нельзя ли Китай периода «ста цветов» (–)⁵ также признать тоталитарным? Идеологические чистки интеллигенции и студентов, которые ответили на призыв Мао призывом к самокритике, показывают, что можно. Развернувшаяся волна критики (особенно, к удивлению Мао, со стороны молодых студентов, воспитанных при коммунизме) привела к введению исправительных работ для чиновников — физический труд должен был сделать их ближе к народу. Тем не менее, поскольку эти репрессии были направлены на ограниченный круг людей, а государство не собиралось проводить широкой народной мобилизации для оправдания своих действий, имеются веские основания считать этот случай примером авторитаризма. Напротив, тоталитаризм вполне подходит для описания Китая эпохи «культурной революции» (–), когда государство идеологически радикализировало и мобилизовало массы (особенно хунвейбинов), которые стали инструментом для проведения чисток, коснувшихся свыше миллионов человек (Fairbank : )⁶. В году после смерти Мао режим вернулся к авторитаризму в контексте товарной экономики (Bragger and Reglar ), предложив отчужденным элитам и фракциям меньшинства места в законодательном собрании взамен на их безоговорочную поддержку партийного правления (O’Brien : ). В свете этого события на площади Тяньаньмэнь и последующие репрессии против протестующих студентов также можно истолковать как проявление авторитаризма, а не тоталитаризма, учитывая, что в Китае не было даже «ограниченного» плюрализма. Подобно тоталитаризму, фашизм определяется множеством способов — от слишком общего популистского ультранационализма (Griffin ⁵ ⁶ «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ!» — лозунг, выдвинутый Мао в году. Первая его часть касалась литературы, хотя позднее приобрела более широкие коннотации, а вторая — «сто школ» — отсылала к расцвету философских споров в III – IV веках до н. э. (MacFarquhar, ). Такие чистки, в отличие от советских или немецких, не сопровождались казнями своих жертв. Хотя многие подвергшиеся чисткам лидеры покончили жизнь самоубийством, многие остались в живых. Например, Дэн Сяопин в эпоху правления Мао дважды подвергался чисткам. ЛKOKQ 6, 2008 159 ) до слишком частного обозначения одного только итальянского случая, как у Джентиле, официального философа режима (Payne : ; Gentile ). Одни определения обращаются к истокам (Paxton ; Korchak ), другие — к культурно-идеологическим особенностям (Ahrend ; Burrin ) или структуре (Linz ; Mann ). Одни ограничивают термин межвоенным периодом (Remond ), а другие применяют его к более широкому кругу периодов и случаев. Марксисты предлагают не столько определения, сколько интерпретации возникновения и целей фашизма. Коминтерн рассматривал фашизм как порождение монополистического и империалистического этапа развития капиталистического общества, как продукт его противоречий и особой формы, принимаемой им в его антипролетарской реакции (Milza ; Beetham ). Но, вовсе не будучи последним этапом капитализма, фашизм отражал огромное влияние капиталистических отношений на политические формы, ведущее к бонапартизму. Грамши полагал, что фашизм Муссолини был классовым феноменом лишь отчасти, но при том он отвечал интересам буржуазии, разрушая организационные связи, налаженные между рабочими, и тем самым превращая их в фрагментированную беспомощную массу, неспособную восстановить свою силу с возвращением демократии (Gramsci ). При всем разнообразии определений, интерпретаций и исторических форм, фашистские режимы или периоды имели некоторые схожие черты: абсолютное главенство государства и его вождя; подчинение индивида государству, понятому как выражение единой воли народа; и отказ от демократии, буржуазных ценностей и рационализма во имя воинской доблести, борьбы и завоеваний. Внешне фашизм не слишком отличается от тоталитаризма, включая его мистическое стремление к преобразованию нации и внешним завоеваниям. Но на самом деле исторически его отличие от тоталитаризма заключалось в том, что он не проводил свою идеологическую программу с той же жестокостью, как сталинизм или нацизм, и вынужден был налаживать отношения с ранее существовавшими элитами и институтами, не обладая абсолютной государственной властью над ними. Какие можно привести примеры нетоталитарных фашистских государств? Хотя все сходятся во мнении, что к этой категории можно отнести Италию при Муссолини, в случае с Испанией, Австрией или Центральной Европой имеются серьезные разногласия. Престон (Preston ) утверждал, что в Испании при Франко репрессии против рабочего класса были гораздо сильнее, чем в Германии⁷, позволяет отнести его к фашистскому лагерю, но он забывал, что авторитаризм может быть столь же жестоким, как и фашизм (в качестве примера ⁷ Правление Франко унесло сотни тысяч жизней, и сотни тысяч вынуждены были покинуть страну. Диктатура истребила четверть миллиона человек, имела концлагеря и направляла войска на Восточный фронт, чтобы поддержать Гитлера. 160 Вивиан Брахет-Маркес можно привести множество латиноамериканских режимов, о которых пойдет речь позднее). Можно утверждать, что Испания была фашистской в начале правления Франко из-за близости к каудильо фашистской Falange, но вскоре стало ясно, что католическая консервативная олигархия держала бразды правления в своих руках и что Франко приходилось править с их одобрения и при небольшой мобилизации снизу. Испания не отвечала трем главным условиям фашизма — главенству государства, народной мобилизации и сильной идеологии. Точно так же салазаровская Португалия, хотя и использовала некоторые фашистские лозунги, как и консервативные правительства Австрии при Энельберте Дольфусе и Курте фон Шушниге, не выходила за пределы традиционного консервативного лагеря. Радикальные фашистские движения также возникли в большинстве центральноевропейских стран в межвоенный период — особенно в Венгрии, Хорватии, Болгарии и Румынии (Payne ), — но им не удалось установить фашистские правительства (за исключением Хорватии), что заставило исследователей сделать вывод, что традиционный консерватизм столь же недружелюбен к фашизму, как и устоявшаяся демократия. В межвоенный период фашистские движения возникли также в Западной Европе, особенно во Франции, но к году они утратили большую часть своей силы, и даже немецкая оккупация не смогла вдохнуть в них новую жизнь. Что касается Вишистского правительства в оккупированной нацистами Франции, то исследователи признают его традиционно консервативным (Milza ; Burrin ). Одним из наиболее спорных и нерешенных вопросов остается возникновение фашизма, начиная с неизменного вопроса «почему именно Германия». В ранних дебатах преобладало представление о немецкой исключительности, проецирующее, как утверждал Или (Eley ), культурно и исторически детерминистскую идею, в соответствии с которой нацизм был неизбежным результатом развития отсталого общества с доиндустриальными авторитарными традициями (Moore ; Dahrendorf ; Gerschenkron ). Последние десятилетия поставили под сомнение распространенные объяснения фашизма в Германии и Италии как следствия Великой депрессии, реваншистского недовольства Версальским миром или атавистического расизма немецкой нации. Было показано, что в годы Великой депрессии в Чехословакии падение промышленного производства было гораздо более значительным ( %), чем в Германии ( %), и что более резкий спад в Германии в сравнении с Норвегией и Данией ( %) или Швецией ( %) объяснялся более низким уровнем промышленного развития этих стран в годы, предшествовавшие Великой депрессии (Luebbert : – ). Безработица в – годах в Скандинавии была такой же высокой, как и в Германии, а Польша пострадала от гиперинфляции ничуть не меньше, чем Германия. Даже в Австрии, стране, столь же обремененной, как и Германия, империаЛKOKQ 6, 2008 161 листическим и консервативным прошлым и сильным фашистским движением, никакой фашистский режим так и не пришел к власти за весь довоенный период, несмотря на %-е падение промышленного производства. Что касается Италии, где фашистский режим пришел к власти в году, то есть до Великой депрессии, ее показатели промышленного производства в – годах выросли на % (Luebbert : – ). Напротив, в Испании, где промышленное производство упало всего на %, фашистская коалиция переживала подъем, в конце концов сровняв с землей едва родившуюся испанскую демократию не без помощи нацистских мессершмиттов. Тезис о военном реваншизме (Milza, ; Collins, ; Linz, ; Macherer, ) выглядит не более убедительным. Хотя вооруженные силы Испании в году потерпели поражение от кабильских повстанцев в Северном Марокко и от испано-американской войны в году⁸, а Австро-Венгрия потерпела поражение в году, они все же не стали фашистскими режимами⁹. Наконец, в Португалии, где, как казалось, присутствовали все предпосылки для появления фашизма¹⁰, фашистское движение не смогло прийти к власти. Что касается расизма, известно, что, вовсе не ограничиваясь одной только Германией, антисемитизм был настолько распространен в Центральной Европе (особенно в Польше и Хорватии), что население этих стран практически передавало евреев в руки немцев. Гамильтон (Hamilton ) также показал слабость культурных объяснений нацистского успеха в Германии. Не менее спорными выглядят представления Мура о пути к демократии и фашизму (Moore )¹¹ и их недавнее развитие (Stephens ; Rueschemeyer, Stephens, and Stephens ). Авторы последних работ предлагают ослабить тезис Мура о возникновении фашизма, утверждая, что наличие класса крупных землевладельцев препятствует развитию демократии или способствует ее закату, ограничивая альянсы, ⁸ Генерал Санхурхо, ветеран испано-американской войны, был первым главой военного заговора против демократического правительства. Его неожиданная гибель в результате авиакатастрофы позволила Франко стать лидером. ⁹ Это не значит, что использование фасций как эмблем или антисемитизм не были распространены в этих странах, как и в большинстве стран Центральной Европы. ¹⁰ Этими условиями были: модернизм и футуризм, национализм, травмы в результате Первой мировой войны, активность рабочих, антикоммунизм, молодые офицеры, политизированные крайне правыми, фасция avant la letter Сидонио Паиса, появление массовой политики и кризис легитимности либерализма (Pinto ). ¹¹ Стивенс (Stephens ) так изложил выдвинутую Муром идею пути к фашизму: () землевладельцы должны быть сильными и сохранять значительную власть во время демократической интерлюдии; () сельское хозяйство должно подавлять рабочую силу, используя при этом политическую, а не рыночную власть над крестьянами; () индустриализация должна быть достаточной для того, чтобы буржуазия стала важным политическим участником; () буржуазия остается в политически зависимом состоянии, так как индустриализация проводится при поддержке государства. 162 Вивиан Брахет-Маркес которые могут быть заключены с другими классами. Соответственно, альянс между классом прусских юнкеров, капиталистами и нацистской партией в Германии в межвоенный период и неспособность среднего и рабочего класса создать альянс, который мог бы спасти Веймарскую республику, объясняется присутствием влиятельного класса землевладельцев. Капиталисты, зависимые от государства в вопросах промышленной политики, приняли авторитарную политику землевладельческих элит (представление, которое было решительно оспорено Блэкберном и Или [Blackbourne and Eley ]), а немецкий рабочий класс, хотя и был одним из наиболее организованных в Европе, все же оказался слишком «изолированным», чтобы отстаивать свои интересы¹². И вместо того, чтобы попытаться объяснить возникновение фашизма, как это делал Мур, Рушмайер и его соавторы (Rueschemeyer et al. ) ограничились рассмотрением «авторитарного пути», оставив без ответа вопрос о том, почему землевладельческие консервативные силы в Германии, Италии и Испании пошли на альянс с фашизмом, а не избрали авторитарный путь. Используя те же данные¹³, но оценив силу класса землевладельцев в соотношении с крестьянством, Любберт (Luebbert ) не обнаружил никакой корреляции между аграрной социальной структурой и фашизмом. Разобравшись с грубым классовым подходом, Любберт выдвинул предположение, что там, где либеральные партии преодолели расколы в среднем классе и получили поддержку рабочего класса до начала Первой мировой войны, возникла либеральная демократия, как во Франции, Британии и Швейцарии, но там, где им этого сделать не удалось, «единственной коалицией, способной создать адекватное политическое большинство, была коалиция во главе с социал-демократами или фашистами, объединявшая городской класс с сельским… Когда крестьяне вставали на сторону городских рабочих, в результате возникал социал-демократический режим. Когда они вставали на сторону городского среднего класса, в результате возникал фашизм» (Luebbert : – ). Эта интерпретация, возможно, придавала слишком большое значение партийной политике, которая, в отсутствие всеобщего избирательного права для мужчин (которое появилось в странах, пошедших по фашистскому пути, после Первой мировой войны), была олигархической по своей природе. Согласно Пейну, объяснение закономерности, выявленной Люббертом, возможно, заключалось в том, что путь ¹² ¹³ Вместо этого загадочного утверждения об «изолированности» немецкого рабочего класса, тот факт, что немецкие коммунисты расколоты на «уклонистское» социалдемократическое крыло и жестких сторонников Коминтерна отчасти может объяснить их относительную слабость перед ранними нападениями нацистской партии. Не менее убедительной кажется точка зрения Грамши (Gramsci ), который полагал, что все дело было в разрушении фашизмом организации рабочего класса. Рассматривались Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Британия, Австро-Венгрия, Испания, Италия и Германия. ЛKOKQ 6, 2008 163 к демократии предоставлял «широкое политическое участие сравнительно рано в эпоху современной политики, тогда как для обществ, в которых всеобщее избирательное право для мужчин было введено только в году, оно появилось слишком поздно, по крайней мере для межвоенного поколения» (Payne : ). Полученные Люббертом данные также согласуются с тем обстоятельством, что «в сохранившихся парламентских режимах альянсы либералов и умеренных социал-демократических рабочих сил складывались до или вскоре после Первой мировой войны» (Payne : ). Эта интерпретация также проясняет загадку альянса между землевладельческой аристократией и фашистами, которую неспособно объяснить простое «присутствие аграрных элит»: там, где существовала длительная парламентская традиция и всеобщее избирательное право для мужчин, консервативные силы могли опираться на сложившиеся консервативные партии для защиты своих интересов и получения преимуществ, не ставя под сомнение республиканскую структуру. Соблазн включить фашистские силы в консервативный альянс для восстановления консервативной традиции, прерванной демократической интерлюдией, возник в контексте с небольшим опытом парламентской политики или голосования у масс. Как только альянс был создан, произошедшее уже нельзя было вывести из любой совокупности структурных переменных. Неудовлетворенный объяснениями Любберта или Пейна, Брюштейн (Brustein ) отвечает на вопрос «Почему Германия?», рассматривая голосование за нацистскую партию в году (за нее было отдано , % голосов), которое привело к появлению роковой коалиции консерваторов и нацистов и занятию Гитлером поста канцлера в году. Он утверждает, что немецкие избиратели, скорее, рационально откликались на нацистскую программу восстановления экономики, чем на антисемитские и ксенофобские лозунги, которые использовало тогда большинство других консервативных партий. Принимая во внимание значение, которое придавалось идеологическим аспектам привлекательности нацистов, объяснение немецкой исключительности вряд ли связано с внезапным изменением предпочтений избирателей. Такое голосование оказалось важным, потому что оно сопровождалось решением Гинденбурга создать коалиционное правительство с нацистской партией, которое подготовило почву для того, что произошло позднее, но даже тогда полностью не определяло его¹⁴. За исключением исторической науки, общественным наукам пока нечего особенно сказать о таких радикальных исторических развилках. ¹⁴ Вспомним более современный пример со схожим сценарием, но иным результатом: в году Жак Ширак, глава французских правоцентристов, отказался сформировать электоральную коалицию с ультраконсервативным «Национальным фронтом» Ле Пена. Если решение Гинденбурга стало трагедией для Германии и всего мира, то Ширак, возможно, избежал ее. 164 Вивиан Брахет-Маркес Сегодня имеются более взвешенные описания судеб Германии или Италии (Eley ; Burrin ; Furet and Nolte ), которые оставляют место для несоциологических факторов и непредвиденных обстоятельств. Из всего этого корпуса исследований можно сделать вывод, что состояние Германии, несмотря на ее непростое авторитарное прошлое, не слишком отличалось от состояния большинства стран Центральной и Южной Европы и указывало в направлении более традиционного авторитарного будущего¹⁵. Но только в Германии и Италии фашизм вырос в полноценный режим, и объяснения этого социальные науки пока не дали, хотя, возможно, здесь лучше говорить об исторической случайности. Авторитаризм Хотя, как мы видели, авторитаризм был широко распространен в Европе и других странах в начале XX века, он не имел точного определения до тех пор, пока Линц не отнес Испанию при Франко к классу «политических систем с ограниченным, не ответственным политическим плюрализмом без проработанной и ведущей идеологии, но с особым менталитетом, без широкой или интенсивной политической мобилизации, за исключением некоторых моментов в их развитии, и при которых лидер или небольшая группа осуществляют власть в плохо определенных, хотя и довольно предсказуемых, пределах» (Linz : ). Этот новый взгляд пришелся как нельзя кстати, принимая во внимание широкое распространение нового недемократического правления в Латинской Америке, которое положило конец эпохе протодемократических популистских мобилизаций в Аргентине, Уругвае и Бразилии и демократическому социализму в Чили. Некоторые исследователи видели в этом консервативную реакцию на такие потрясения, хотя подобные политические мобилизации в Мексике (при Карденасе в – годах) не имели таких последствий, а Чили и Уругвай, которые популизм миновал, также стали авторитарными странами. В своей книге «Модернизация и бюрократический авторитаризм» (O’Donnell ), которая отталкивалась от идеи Линца и развивала ее в споре с теориями зависимого капитализма и работами Степана о профессионализации военных (Stepan , ), Гильермо О’Доннел назвал это новое явление «бюрократическим авторитаризмом». Это понятие ¹⁵ В Венгрии на смену революционной марксистской диктатуре пришла правая оппозиция; в Болгарии прогрессивное правительство Стамболийского было свергнуто в году альянсом радикальных правых; в Румынии фашистский «Легион архангела Михаила» стал весьма влиятельным к середине -х; в Испании Примо де Ривера установил правую диктатуру (–), которую затем сменила диктатура Франко (–); в – годах правые перевороты произошли также в Греции, Польше, Литве и Португалии. ЛKOKQ 6, 2008 165 тут же было объявлено важнейшим открытием, служившим, как тогда казалось, разгадкой лавинообразного краха в – -х латиноамериканских популистских протодемократий¹⁶. Вместе с продолжавшимися спорами о зависимом капитализме, эти работы положили начало необычайно богатым и плодотворным дебатам. Концептуальное рождение авторитаризма также имело важные последствия для политики, поскольку в своих стратегических альянсах против потенциального советского / кубинского экспансионизма американские стратеги считали авторитарные правительства политически более приемлемыми союзниками, чем других недемократических правителей, и это обстоятельство во многом способствовало легитимации и консолидации этих режимов. Но с изменением политики при администрации Картера и общей слабой экономической отдачей этих режимов они утратили внутреннюю и внешнюю поддержку, заложив тем самым основу для третьей волны демократизации, которая началась в году с Аргентины. На первый взгляд, между представлениями Линца и О’Доннела об авторитаризме имеются некоторые расхождения, если говорить о структуре режимов. Но, в отличие от Линца, О’Доннел придает определяющее значение социальной основе режимов: бюрократически-авторитарные режимы опираются на коалицию военных и деловых технократов, действующих в тесном сотрудничестве с иностранным капиталом. Они исключают подчиненные классы (объявляя вне закона все политические организации рабочих, крестьян или горожан и преследуя их лидеров) и потому являются «резко антидемократическими» (Collier : ). «Ограниченный плюрализм», включенный в определение Линца, служит важной коррективой: так как бюрократически-авторитарные режимы опирались лишь на очень немногочисленную элиту, их политика едва ли могла быть плюралистической, в лучшем случае — фракционной. В «бюрократическом авторитаризме» О’Доннела также отсутствует понятие «ментальности», несколько размытое понятие в определении Линца, которое можно понять только как довольно шаткую идеологию. Наиболее важное различие между этими авторами состоит в том, что Линц стремился выделить структурные черты авторитаризма, независимо от происхождения или политики, а О’Доннел размышлял об особом историческом развитии режимов, которое привело к появлению бюрократических авторитаризмов в Латинской Америке. На первом этапе олигархические демократии, которые правили в Латинской Америке с XIX века и до Великой депрессии, пользовались поддержкой экономических элит (преимущественно землевладельческих, но также связанных с добывающими отраслями), власть которых основывалась ¹⁶ В Бразилии в году, в Аргентине в году и снова в году после короткой передышки; в Уругвае и в Чили в году. 166 Вивиан Брахет-Маркес на экспорте сырья в промышленно-развитые страны. На втором этапе эти олигархии были свергнуты протодемократическими популистскими лидерами¹⁷, опиравшимися на многоклассовые коалиции городских элит и народных масс и выступавшими за импортозамещающую индустриализацию (ИЗИ ). Наконец, на третьем этапе возникновение бюрократических авторитаризмов совпало с окончанием простой фазы замещения импорта (легкая промышленность, производящая потребительские товары) и привело к господству военно-технократических элит и лишению широких масс выгод нового капиталоемкого промышленного роста. Предложенное О’Доннелом экономическое объяснение возникновения бюрократического авторитаризма, особенно гипотеза о его появлении вследствие «углубления» и «исчерпания» импортозамещающей индустриализации (Cardoso ), встретило неоднозначный прием; исследователи призвали уделять больше внимания роли участников и идеологий в переходе от популистской к ортодоксально-рыночной экономической политике (Hirshman ). Второе направление критики касалось слишком широкого употребления понятия «бюрократический авторитаризм», которое стало применяться почти ко всем недемократическим режимам Латинской Америки в -х — будь то популистские и включающие, как в послереволюционной Мексике, или элитистские и исключающие, как в Чили при Пиночете или в Аргентине при военной хунте в – годах¹⁸. Это побудило исследователей создать новые классификации, проводящие различие между «включающими» или «популистскими» и «исключающими» или «бюрократическими» авторитаризмами. Но несмотря на сравнительную ограниченность схемы «бюрократического авторитаризма», интерес О’Доннела к альянсам и коалициям, поддерживающим такие режимы, способствовал пониманию логики и эволюции последних и прекрасно согласовывался с нынешним интересом к социальному составу, укрепляющему или ослабляющему недавно созданные демократии. Как показали работы О’Доннела, Шмиттера и Уайтхеда о демократических переходах (O’Donnell, Schmitter, and ¹⁷ ¹⁸ Важно отметить, что слово «популистский» в латиноамериканском контексте ассоциируется с включающими режимами, имеющими некоторые авторитарные черты, но допускающими политические требования социальной политики и введение прогрессивного трудового законодательства. В случае с Мексикой этот термин применялся, несмотря на три явных противоречия с определением «бюрократического авторитаризма»: включение народных масс (через корпоративные механизмы государства) с -х, наличие более популистской, а не технократической правящей элиты вплоть до -х и продолжение политики замещения импорта в -х. Даже в -х, во время расцвета неолиберальной политики, включение масс посредством специальных социальных программ сохранилось. Кроме того, военные в Мексике не играли большой роли на политической карте после революции года (и даже до нее). ЛKOKQ 6, 2008 167 Whitehead ), падение этих диктатур обусловлено распадом альянсов, благодаря которым стало возможным появление бюрократических авторитаризмов, альянсы между blandos («жесткими») и duros («мягкими») среди военных и между военными и капиталистами. Дебаты об авторитаризме вскоре были прерваны sine die, когда в году после провала военной операции на Мальвинах¹⁹ Аргентина вернулась к гражданскому правлению, а через какое-то время за ней последовали Уругвай (), Бразилия () и Чили (). Эти преобразования незамедлительно (и довольно поспешно) были объявлены «демократическими», несмотря на сохранение в ряде стран у власти военных («военная опека»: Loveman ; Aguero ; Mainwaring, Brinks, and Perez-Linan ) и отсутствие во многих случаях конституционных гарантий демократии, основных гражданских прав или правовых норм, которые в конечном итоге должны были появиться в результате демократической консолидации. В результате потенциально устойчивое пересечение между авторитаризмом и демократией осталось почти не изученным²⁰. Склонность считать авторитарные режимы неделимыми единицами почти не оставляла пространства для изучения действия субрежимных сил, которые делали такие режимы более радикальными, чем допускало определение Линца, или способствовали их будущему распаду. В первом случае практически тоталитарные институциональные анклавы, наделявшие военных неограниченными полномочиями, которые позволяли пренебрегать всеми правами человека в фанатичной борьбе с коммунизмом и проведении в жизнь идеологии национальной безопасности (Barahona de Brito : ), оказались совершенно не замеченными. Во втором случае важность для редемократизации открытых или скрытых антирежимных народных мобилизаций при диктатурах не получила должного признания. В результате демократизация ассоциировалась в основном с консультациями среди элиты и сознательной работе сверху (Di Palma )²¹. Точно так же забытыми оказались недемократические действия некоторых новых демократий (как в Аргентине при Менеме или в Перу при Фухимори). ¹⁹ ²⁰ ²¹ Тогда военная хунта выступила против притязаний Британии на Фолклендские острова (или Мальвинские, как их называют аргентинцы) и с треском проиграла. Важное исключение составляют описания стран (в том числе старых демократий) как палитр «господства» и «негосподства» права (см.: O’Donnell ; Mendez, O’Donnell, and Pinheiro ; Fox об устойчивых сочетаниях авторитаризма и либерализма; и Fatton Jr. о сохранении султанизма на Гаити). И поскольку некоторые режимы Центральной Америки не отвечали даже минимальным шумпетеровским критериям демократии, они стали считаться перманентными гибридами (Karl ; Schmitter ). Критический обзор теорий демократического перехода в Латинской Америке см.: Brachet-Marquez . 168 Вивиан Брахет-Маркес Султанические режимы Важной разновидностью недемократических режимов, которая не вписывается в представления о тоталитаризме и авторитаризме, является султанизм, термин Линца, первоначально заимствованный у Вебера для обозначения крайней формы патримониализма, при которой власть основывается исключительно на неограниченном личном правлении, независимом от законов, ценностей, идеологии или традиции, а лояльность правителю означает полное подчинение, основанное на смеси страха и алчности (Chehabi and Linz, a). В таких режимах правит коррупция, а нарушение прав человека служит ключевым инструментом поддержания status quo (Chehabi and Linz, a). Тот же феномен описывался как «патримониальное преторианство» (Rouqui , ), «мафиократия» (Wickham-Crowley ), «клептократия» (Evans ) или просто «неопатримониализм», и каждый из этих терминов высвечивал одну из граней феномена. Как и во всех типологиях, это определение обозначает семейство режимов, а не некий образец, с которым необходимо соотносить все существующие режимы; иногда в этих режимах могут даже сохраняться остатки демократических институтов (хотя и не работающих), как на Кубе при правлении Батисты или в Иране при шахе. Другими типичными случаями являются Гаити при обоих Дювалье, династия Сомосы в Никарагуа, Заир при Мобуту, Доминиканская Республика при Трухильо, Филиппины при Маркосе или Уганда при Иди Амине. При султанических режимах все автономные институты и организации исчезают, становясь личной собственностью правителя, так что эти режимы в каком-то смысле являются безгосударственными. Как и при тоталитаризме, все формы социальной организации, за исключением самых элементарных (вроде семьи, предприятия, соседей) запрещаются и разрушаются, превращая общество в бесформенную массу. Султанические режимы обычно развиваются из других форм правления: Дювалье был избран демократическим путем в году, а Фердинанд Маркос — в году. Они также могут появиться в результате краха клиентистской демократии или распада тоталитарных или авторитарных режимов, как в Румынии при Чаушеску (Chehabi and Linz, b). Некоторые условия, способствующие появлению султанизма, совпадают с условиями тоталитаризма: модернизация в транспорте, коммуникациях, военных и полицейских практиках и появление минимальной гражданской бюрократии, способной управляться с финансовыми делами на базовом уровне (хотя она и несопоставима по своим организационным возможностям с тоталитарными государствами). Для этой формы деспотизма характерны также изоляция и крайняя бедность масс, гарантирующие пассивность масс и значительную помощь из-за рубежа. Снайдер утверждал, что для объяснения возникновения или распада султанизма недостаточно просто назвать структурные условия, и предЛKOKQ 6, 2008 169 лагал учитывать силу оппозиции и случайных факторов (Snyder ). Например, оппозиция может быть слабой, но режим может обрушиться под весом непредвиденных событий, вроде землетрясения (как в случае с Никарагуа) или американского вторжения (как в случае с Панамой при Норьеге). И наоборот, оппозиция может быть сильной, но режим сохраняется, так как этому благоприятствуют обстоятельства, что согласуется с утверждением Пшеворского (Przeworski ), что крайне нелегитимные режимы продолжают существовать до тех пор, пока ключевые участники не видят альтернатив. Участники также могут заблуждаться насчет альтернатив и затевать восстания, которые затем жестоко подавляются (как в случае с курдами при Саддаме Хусейне в -х). Хотя большинство авторов признает важность внешней поддержки султанических режимов, они обычно называют ее всего лишь одной из многих переменных, благоприятствующих появлению такого типа правления. Возможно, сейчас самое время отдать должное этой составляющей, признав, что султанические режимы возникают и сохраняют жизнеспособность на протяжении многих десятилетий, если они имеют практически неограниченные источники богатства, вроде доходов от продажи нефти (как в случае с Ираком и Ираном). Без таких ресурсов нельзя обучать или вооружать армии и военизированные подразделения, нельзя платить спецслужбам и информаторам²², нельзя купить сторонников, а импорт не может компенсировать слабость экономики. Иными словами, предоставленные сами себе султанические режимы просто пожирают сами себя, пока у них не остается никаких сторонников. Поэтому власть в них может сохраняться только искусственно. С по -е султанические режимы распространились в Африке, Латинской Америке и Азии, усиливаясь и ослабевая в зависимости от готовности представительных демократий (Франции, Британии, Бельгии, Соединенных Штатов) поддерживать их, несмотря на злодеяния, открыто совершаемые ими. В эпоху Маккарти либеральные националисты в Иране провели успешный поначалу переворот против шаха, за которым сразу же последовал разработанный ЦРУ контрпереворот, и уже после него установился султанический режим, а недавно созданная спецслужба САВАК начала пытать и казнить подозреваемых противников режима (Parsa ). Точно так же год обозначил конец демократического правления в Гватемале, когда ЦРУ поддержало крайне правые силы для свержения демократической администрации Хакобо Арбенса, повинной в том, что она провела земельную реформу в стране, в которой все еще была распространена долговая кабала. Политика администрации Картера, отказывавшей в поддержке режимам, которые нарушали права человека, напротив, сыграла главную роль в ограничении использования шахом военной силы про²² Мобуту имел множество спецслужб, которые терроризировали население и дрались друг с другом за сферы влияния и денежные потоки. 170 Вивиан Брахет-Маркес тив своего народа в -х²³. Впоследствии администрации Рейгана и Буша не выступали против подавления оппозиции в Ираке и Сирии (Katouzian, ). Под таким углом зрения султанические режимы оказываются не просто старомодными авторитарными режимами, но чуть похуже, а феноменом, который обязан своим существованием устройству международных отношений. Вовсе не исчезнув после окончания холодной войны, они приобрели новое стратегическое значение в борьбе против терроризма и экстремизма, поэтому неопатримониальные режимы в Саудовской Аравии, Кувейте, Азербайджане, Пакистане или Нигерии все еще могут рассчитывать на полную поддержку со стороны западных демократий. Примечательно, что вероятность установления таких режимов выше в практически безгосударственных обществах с длительной историей произвольного правления и отсутствием всяких прав, олицетворением которых служат Иран, Гаити и бесчисленное множество постколониальных стран Азии и Африки. Что происходит с султаническими режимами, когда они терпят крах? Нет ничего удивительного в том, что, в отличие от других недемократических режимов, вероятность развития из них демократий (Chehabi and Linz b: ) гораздо ниже из-за практически полного отсутствия в них автономных институтов, социальной дезорганизации, которая является результатом террора, и манипулирования демократическими процедурами со стороны элит. Это помогает понять, почему при султанических режимах вероятность совершения и успеха военных переворотов выше, чем при других недемократических режимах (как в Иране при Пахлави, в Никарагуа при Сомосе, на Кубе при Батисте или при сайгонском режиме в Южном Вьетнаме). В случае перехода к демократии наиболее высока вероятность появления устойчивых гибридов демократии и авторитаризма (как в современной Центральной Америке) или военной опеки (как первоначально было в Чили и Аргентине). Режимы, возникающие в результате революций против султанизма, могут быть социалистическими (как во Вьетнаме или на Кубе), леворадикальными (как в случае с сандинистскими правительствами в Никарагуа) или клерикально-опекунскими (как в Иране и Афганистане). Движения против авторитарных и султанических режимов Поскольку демократия избегает использования насилия, вооруженные восстания, даже против тоталитаризма и авторитаризма, неизбежно ока²³ Но после победы Иранской революции во главе с Хомейни в году и победы сандинистов в Никарагуа в году и Картер, и Рейган сделали в своей политике ставку на недопущение новых революций. (Goodwin :). Оценку эволюции Ирана после произошедшей в нем революции см.: Esposito . ЛKOKQ 6, 2008 171 зываются недемократическими²⁴. Поэтому, говоря о недемократической политике, мы не можем оставить без внимания вооруженные движения. Вооруженное восстание определяется здесь как не подпадающее под действие закона идеологически обоснованное применение насилия во имя более широкого общего блага (социализм, территориальная независимость или некая разновидность радикального государства всеобщего благосостояния), которое может вызывать ответные репрессии²⁵. Вместо борьбы с несправедливостью внутри страны первое поколение вооруженных повстанцев в Латинской Америке (–) пошло по пути Че Гевары, как утверждали некоторые исследователи (Castaneda ; Wickham-Crowley ). Но вопреки их модели эти повстанцы быстро утратили связь с умеренными левыми, хотя они не боролись ни с жестокими военными, ни с султанистскими режимами (за исключением Гватемалы), не вели войн за национальное освобождение, как это было поначалу в случае с Фиделем Кастро и его союзниками (Wickham-Crowley, ). Это первое поколение повстанцев состояло из радикально настроенных молодых людей с университетским образованием²⁶, которые презирали умеренных левых или сотрудничество своих правительств с центристами или правыми. Политические ситуации, с которыми они сталкивались, отражали широкую гамму от радикального популизма (как в случае с правительством, которое пришло к власти после боливийской революции года) и умеренных левых (как социал-демократическое правительство Ромуло Бетанкура в Венесуэле)²⁷ до консерва²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ Примером демократической подготовки к падению диктатуры при помощи тайной организации антирежимных социальных движений и партий могут служить Чили при диктатуре Пиночета и Польша при коммунистическом правлении. Это не означает, что недемократические действия не нужны для свержения недемократических режимов. Но если такие действия не будут поддержаны демократическими активистами, режим, который свергнет недемократию, скорее всего, сам окажется недемократическим. Надо отметить, что определение «тоталитарные», применяемое к вооруженным повстанческим движениям, является неуместным, поскольку они не имеют государства и, следовательно, элементов государственной организации (бюрократия, партия, военные, полиция), а также государственного террора, без которого тоталитаризм немыслим. Исходя из данных о погибших за период с по году, % повстанцев были представителями образованной верхушки среднего класса, % — рабочими и % — техническими специалистами. Среди тех, кто официально подверглись пыткам (то есть не считались «пропавшими без вести»), % получили образование в колледжах, % были техническими специалистами, % — студентами и % — университетскими профессорами (Castaneda : ). В – годах Бетанкур возглавил правительство, которое проводило социальные реформы, не учитывая возможной консервативной реакции, которая привела к его свержению в результате военного переворота. Во время его администрации в – годах он провел глубокую аграрную реформу и подавил три (правых) военных мятежа. 172 Вивиан Брахет-Маркес тивного авторитаризма (как Перу при Белаунде)²⁸ и крайне жестоких военных режимов, как в Гватемале. Несмотря на эти различия, революционный репертуар во всех странах оставался практически одинаковым: буржуазная демократия была обманом, а вооруженное восстание — единственным средством построения социализма. Несмотря на военный провал, первая волна восстаний запустила огромные машины репрессий и привела к установлению четырех военных диктатур в Южном конусе (Уругвай, Аргентина, Бразилия и Чили) и еще большему укреплению позиций тех, что уже находились у власти в Центральной Америке. Эта реакция обеспечила прирост учащихся в Военной школе обеих Америк в зоне Панамского канала, где офицеры латиноамериканских стран обучались методам партизанской и контрпартизанской войны и разведывательной деятельности, доктрине национальной безопасности и слушали пугающие истории о мировом коммунизме²⁹. После того как первая волна восстаний утихла, а городские повстанцы были быстро подавлены, Латинскую Америку захлестнула новая волна восстаний, менее любительских и более смертоносных. Репрессии стали более жестокими, а количество военизированных подразделений и «эскадронов смерти», тайно финансируемых из различных источников, в том числе их собственными правительствами, резко выросло. В этот период вновь единственной успешной партизанской войной оказалась та, которая ставила перед собой целью национальное освобождение и свержение всеми ненавидимого (даже в деловых кругах) султанического режима Анастасио Сомосы в Никарагуа³⁰. Но затем ответ консервативных военных при поддержке Соединенных Штатов привел к падению левого сандинистского режима и переходу к парламентской демократии после достижения соответствующих договоренностей. Вместо того чтобы попытаться одержать военную победу, второе вооруженное восстание в Сальвадоре смогло заставить силы правительства прийти к мирному соглашению в году, а затем, разоружившись, принять участие в демократических выборах. В Колумбии, един²⁸ ²⁹ ³⁰ В году Белунде провел во многом косметическую аграрную реформу, распределившую бесплодные участки джунглей среди безземельных крестьян, не затронув орошаемых земель, которыми владели олигархические семьи. До сих пор офицеры, обвиненные в нарушении прав человека, утверждают, что они спасали свои страны от коммунистической угрозы и, пытая своих пленников, исполняли патриотический долг (Payne ). Но после осуществления единственной успешной революции в Латинской Америке после кубинской сандинисты перешли к коллективизации земель и обязательному призыву крестьян и местной народности мискито (многие из них поддержали революцию), которые затем пополнили ряды «контрас», сражавшихся против революционного правительства при поддержке администрации Рейгана (Payne ). ЛKOKQ 6, 2008 173 ственной стране, где вооруженное восстание произошло еще до кубинской революции³¹, сохранялось постоянное тупиковое положение, которое привело к фактическому территориальному разделению страны между двумя враждующими лагерями. В Перу крайне авторитарная маоистская организация Sendero Luminoso, основанная в году в Аякучо, поначалу пользовалась широкой народной поддержкой (Degregori ), пока в середине -х не была разбита военными и крестьянскими отрядами самообороны (Degregori et al. )³². Что касается Гватемалы, где в это время шла партизанская война, особенно в населенных коренными жителями нагорьях, то она была выкошена правительственными войсками, которые, по оценкам католической церкви, за период с начала -х по год, когда были подписаны мирные соглашения, истребили около . человек (Goodwin : ). Самое недавнее вооруженное восстание, на сей раз с участием одного только коренного населения, за исключением его военного руководителя (субкомманданте Маркоса), произошло в Мексике в январе года в самом бедном и наиболее густо населенном штате Чьяпас. Но в этом случае военная фаза продлилась всего несколько недель, за которыми последовали упорные (но неудачные) попытки со стороны Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional (EZLN ) договориться с тремя сменявшими друг друга правительствами о конституционном изменении статуса коренных мексиканцев. Движение обвиняло правительство в неуважении к правам коренного населения и прав местного самоуправления, то есть, как это ни парадоксально, выступало за большую демократию, чем был готов предоставить своему коренному населению правящий режим, несмотря на окончание в году однопартийного правления. История военного насилия против status quo в Латинской Америке не была бы полной, если бы она не включала военный переворот Хуана ³¹ ³² С по год Колумбия переживала период, известный как La Violencia, когда различные группы повстанцев сталкивались с правительственными войсками, а крестьяне создавали независимые республики для того, чтобы защитить себя. В году эти первые группы были разбиты военными. Затем Коммунистическая партия Колумбии (одна из немногих принявших участие в восстании) выступила с заявлением о необходимости использования всех форм борьбы, тем самым толкнув даже гражданские ненасильственные группы на путь насилия и убийств (Castaneda : ). Период войны был крайне жестоким, как показывают общие потери населения в регионе Аякучо (, %) и массовая миграция из изолированных деревень (Degregori et al. : ). Важная перемена произошла, когда были сформированы вооруженные и подготовленные гражданские комитеты обороны крестьян (или Rondas Campesinas). Этот подход сменил предыдущую политику априорного подозрения коренного населения в сотрудничестве с Sendero Luminoso (что было похоже на политику Соединенных Штатов во Вьетнаме в -х). Крестьяне же начали сотрудничать с армией после того, как руководство Sendero Luminoso перешло к казням крестьянских лидеров. 174 Вивиан Брахет-Маркес Веласко Альварадо года, который сверг олигархический патримониальный режим в Перу (Stepan ). Но установившееся затем военное правительство (–), вовсе не представляя консервативные силы, проводило широкую аграрную реформу и радикальные реформы в промышленности и горнодобывающей отрасли. Но он также бросал в тюрьму своих противников, закрывал оппозиционные газеты и радио и приостанавливал действие гражданских свобод. Хотя первой реакцией на вооруженное восстание были репрессии, дело не обязательно ограничивалось только ими (Goodwin : ). В -х военные в Сальвадоре и Гватемале провели полудемократические выборы, в которых могли принимать участие христианско-демократические (центристы) и умеренные социал-демократические партии. Причинами этого были, во-первых, отсутствие сколько-нибудь очевидной военной победы после многих лет борьбы и, во-вторых, требование Соединенных Штатов относительно введения некой формы демократического процесса в качестве условия для дальнейшего финансирования контрпартизанской борьбы, что еще раз свидетельствовало о влиянии поддержки или неподдержки демократии со стороны Соединенных Штатов³³. Хотя эти выборы и были крайне неудовлетворительными со строго демократической точки зрения, они все же смогли прекратить эскалацию насилия, которая в обеих странах приближалась по своему уровню к геноциду, и подготовиться к мирным переговорам. После этого спецслужбы в Гватемале и Сальвадоре были расформированы, а насилие «эскадронов смерти» сошло на нет (Goodwin : ). Но крайне правые также воспользовались возможностью для создания собственных политических партий и демократического занятия своих позиций в системе; поэтому им удавалось мешать принятию реформаторского законодательства, предложенного победившими центристскими силами (Goodwin : ). Наконец, хотя вооруженные восстания и терроризм в послевоенной Европе были распространены гораздо меньше, чем в Латинской Америке, мы не можем не упомянуть о баскской сепаратистской организации ЭТА , боровшейся за независимость от Испании во время всего авторитарного периода и вплоть до настоящего времени, и об ирландской ИРА , ставшей неотъемлемой составляющей британской политики. К этому нужно добавить недавний вызывающий озабоченность рост неонацистских группировок в Германии и Швеции, несмотря на отсутствие политического представительства в этих странах (или, возможно, вследствие этого; Mudde ) и нарастание террористической деятельности военных и боевиков в бывшей Югославии (Mudde a). ³³ Тем не менее в году администрация Рейгана решила исключить Гватемалу из списка стран, нарушающих права человека, после чего деньги от международных спонсоров могли поступать в страну безо всяких юридических препятствий (Goodwin : ). ЛKOKQ 6, 2008 175 Крайне правые В последние два десятилетия, как сходятся многие исследователи (Betz ; Hainsworth, b; Merkl and Weinberg ; Plotke : xxix), в большинстве демократий, старых и новых, наблюдался значительный сдвиг вправо. В результате, между правыми и крайне правыми возникло пересечение, вследствие которого последние приобрели налет демократической респектабельности и в некоторых случаях добились немалых избирательных успехов. Разнообразие контекстов и форм правой политики, наблюдавшееся на протяжении последних двух десятилетий, привело к серьезным разногласиям среди специалистов относительно определений; появилось множество самых разнообразных типологий крайне правых: старых традиционных и новых постиндустриальных (Ignazi ); популистских, неопопулистских или национальных популистских (Betz and Immerfall ; Mudde ); «радикальных» или «ультраправых» с точки зрения их отдаленности от центра; или консервативных антигосударственных (экономических либералов) и националистических популистских государственников (Mudde b). Категория «крайних» партий и движений, понимаемых как «противостоящие с точки зрения идей и действий фундаментальным ценностям или институтам демократических режимов» (Mudde : ), в отличие от консервативных или радикальных правых, которые принимают демократические правила игры, способна вместить в себя многие из существующих классификаций. В нашем случае полезно провести общее различие между четырьмя формами правых партий и движений, ориентированных на рынок (неолибералы) или на государство как на инструмент переопределения политики и общества (неопопулисты), а также ультраконсерваторов, которые не выходят за рамки демократической политики, хотя и призывают к радикальному пересмотру такой политики, и крайне правых, которые обращаются к внеинституциональному насилию. Хотя эти разграничения близки к тем, что предлагает Мудде (Mudde b), они включают гораздо больше правых формирований, нежели его классификация. Тем не менее это не означает, что всегда существует четкое разграничение, поскольку некоторые ультраконсерваторы сочетают либеральные экономические воззрения с неофашистскими представлениями о том, как должно действовать государство, а другие группы проводят двойственную стратегию тайного насилия и лояльного участия в демократической конкуренции³⁴. Некоторые группы также колеблются между ультраконсерваторами и крайне правыми, зависимости от доступных возможностей и ограничений. Наконец, в особенности в Центральной Европе, встречаются случаи, когда предшествующее коммунистическое прошлое и популистское националистическое настоящее переплетают³⁴ В качестве примера можно привести ирландскую ИРА и ее политическую партию Шинн Фейн или баскскую ЭТА и ее партию Батасуна. 176 Вивиан Брахет-Маркес ся между собой настолько, что определение места в континууме левого и правого оказывается крайне непростым занятием. Движения всех четырех категорий способны мобилизовать недовольство и привлекать своих сторонников к сравнительно длительной электоральной и / или насильственной деятельности. Ультраконсервативные неолибералы, вроде бразильской Union Nacional de Propietarios (UNP ), состоящей из крупных землевладельцев, выступали против любых аграрных реформ сначала при помощи силы, а затем обратившись к выборам (Payne, ). Ультраконсервативные неопопулистские партии, вроде французского Национального фронта во главе с ЖаномМари Ле Пеном или ксенофобской австрийской Партии свободы Йорга Хайдера, наживаются на широком разочаровании в доминирующей политике, кризисе представительства в старых партийных системах, антиэлитизме и ксенофобских настроениях по отношению к иммигрантам, на которых возлагают вину за ухудшение экономической ситуации, падение благосостояния и уровня жизни, безработицу или рост преступности (Hainsworth a: ). Учитывая их связь с неолиберальными военными диктатурами, полувоенные группы, вроде аргентинских Carapintadas³⁵, можно было бы вписать в ячейку с крайне правыми / неолибералами, а фундаменталистские группы, вроде противников абортов, или национал-коммунистические партии, вроде Социалистической партии Слободана Милошевича, можно отнести к неопопулистским / крайне правым движениям³⁶. Ультраконсерваторы Крайне правые Неолибералы Union Nacional de Propietarios (Бразилия) Carapintadas (Аргентина) Неопопулисты Национальный фронт (Франция) Партия свободы (Австрия) Противники абортов (США ) Социалистическая партия (Югославия) Для Западной Европы (Германия, Нидерланды и Фландрия) Мудде (Mudde ) кодифицировал идеологические варианты крайне правых партий по четырем пунктам: национализм (включая монокультурность); ксенофобия (включая гомофобию, антилевачество и антифеми³⁵ ³⁶ Carapintadas (буквально: «раскрашенные лица») — крайне правая тайная военная организация, которая совершала убийства людей, которые, как считалось, вели «подрывную» работу (коммунисты), даже после окончания холодной войны. Хотя отнесение противников абортов и партии Милошевича к одной категории выглядит странно, оно показывает, что классификации ничего не говорят о степени нарушения демократических правил. Противники абортов взрывали клиники, которые проводили аборты на совершенно законных основаниях, а сербские националисты использовали фашистские методы (подкупали банды для разжигания этнического конфликта, проводили этнические чистки и т. д.). ЛKOKQ 6, 2008 177 низм); государственничество и социальный шовинизм (социальная защита должна предоставляться только членам нации). К этому можно также прибавить исключение (часто в виде деления на расы) и исторический ревизионизм (пересмотр прошлого в случае с немецкими или фламандскими крайне правыми партиями). Этот перечень из четырех пунктов, возможно, подходит к некоторым конкретным случаям, но он неизбежно утрачивает свою валидность за пределами Западной (и, возможно, даже Восточной) Европы³⁷, где крайне правые движения имеют некоторую ностальгию по фашистскому прошлому, явно выраженному в трех из четырех ключевых ценностей (исключение составляет социальный шовинизм), выделенных Мудде. Но вряд ли мы можем составить общий перечень объединяющих мифов и культурных нарративов, разделяемых всеми группами во всем мире. В то же время мы в состоянии построить соответствующий перечень ценностей и типологию групп для Соединенных Штатов, где на протяжении многих десятилетий, начиная с маккартизма через Общество Джона Бирча (Bell ) и вплоть до новых форм религиозного фундаментализма («Христианская коалиция») и военизированных групп (милиции) или сторонников превосходства белых («Новый порядок», «Лобби свободы»), идентичность правых групп определялась расизмом и антикоммунизмом. Латиноамериканские страны после диктатуры образуют еще одну особую группу, где огромная и растущая масса бедняков и требования преследования за преступления, совершенные во время диктатуры, служат основой для сплочения правых. Наконец, четвертый кластер могут образовать ближневосточные и азиатские страны, где фундаменталистские исламисты были единственной диссидентской группой, пережившей репрессии модернизационных авторитарных или султанических режимов, а ее традиционные ценности в некоторых случаях включались в официальный дискурс государств, стремившихся расширить свою власть над обществом (Macfarquhar and Resa Narr ). Этот перечень может быть продолжен. И все же, несмотря на все проблемы, которые могут подниматься экстремистскими группами в различных регионах и на различных этапах истории, и на определенные идеологические положения, которые могут сближать их, наиболее важное семейное сходство может состоять в тактике, которую они используют для мобилизации своих членов и получении доступа к политической власти. Пэйн считает, что «нецивилизованные движения» мобилизуются «политическими агентами», которые «описывают» ³⁷ В Центральной Европе, где несколько крайне правых партий пришло к власти после падения Берлинской стены, многие получили места в парламенте и стали легитимными коалиционными партнерами, в отличие от Западной Европы, где консервативные партии этого избежали. О посткоммунистической политике Восточной Европы см.: Kopecky and Mudde . Перечень крупных ультраконсервативных и крайне правых политических организаций см.: Camus ; Mudde a, . 178 Вивиан Брахет-Маркес современные события так, что они перекликаются с заботами и опасениями целевой аудитории, привлекая культурные символы и легитимационные мифы, которые связывают движения с признанными героями и злодеями. «Описание» связано с обозначением, которое превращает данные события в политические угрозы и, следовательно, катализаторы для политического действия, обвинением, которое находит козла отпущения, обвиняемого во всех обозначенных бедах, наведением на цель, которое убеждает целевую аудиторию в том, что серьезная угроза, которую обвиняемая группа представляет для нации, «не оставляет движению никакой альтернативы, кроме радикального политического действия» (Payne : ); и, наконец, заявлением, что обозначенного врага можно победить, если движение будет бдительным, а его члены предпримут необходимые действия. Вовсе не будучи достоянием одних только правых, эти механизмы показывают, как относительно маргинализованные (цивилизованные или нецивилизованные) социальные движения всех направлений могут находить поддержку в обществе, поскольку их действия определяются необходимостью «изобретения» и кристаллизации символических общностей путем непрерывной последовательности процессов «описания». Какие именно действия предпринимаются, а не вытекают из ряда ранее существовавших ценностей, зависит от результата взаимодействия между лидерами и членами, разворачивающегося в структурированных политических рамках. Заключительные замечания В настоящей статье я выделила основные исследовательские программы и дебаты, которые имеют место в широкой области изучения недемократической политики. Как мы видели, основные старые нерешенные проблемы (например, споры о пути к демократии или фашизму, вопрос «Почему Германия?», происхождение и экономические основы авторитаризма) все еще обсуждаются, и появляются новые данные. Но переход бывших авторитарных режимов в демократический лагерь поднял новые вопросы и открыл новые области для изучения. В заключение к своей статье мне бы хотелось высказать некоторые соображения касательно будущих направлений исследования, из которых могут возникнуть новые исследовательские программы или которые могут привести к дальнейшему развитию старых. Фашизм и тоталитаризм — достояние прошлого? Тоталитаризм в узком смысле этого слова ограничивается двумя странами и периодами — нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. Попытки распространить это понятие на другие случаи оказались неудачными или были простой пропагандой времен холодной войны. ЛKOKQ 6, 2008 179 Так что эти два случая нужно четко отличать от нетоталитарных коммунистических или фашистских режимов. Иными словами, два (довольно различных) тоталитаризма, которые возникли в межвоенный период, были уникальными и редкими сочетаниями обстоятельств, идеологических течений, участников и событий, которые никогда больше не повторялись. Тем не менее впоследствии появились новые тоталитаризмы со своим неповторимым своеобразием (и могут появиться в будущем), как показывает пример «культурной революции». Кроме того, некоторые крайне левые или правые движения преследовали схожие цели, но не смогли одержать политической победы. Например, перуанское Sendero Luminoso имело все черты маоистского тоталитарного режима и фактически установило тоталитарное правление на значительной части территории Перу в последний период своего существования. Тоталитарные практики возникали также в особых институциональных анклавах, вроде военных в Латинской Америке, которые оказалось трудно искоренить и из-за которых постоянно существует угроза возврата к недемократическому правлению. Возможно, понятие тоталитаризма будет более полезным как качественное определение, а не как самостоятельный термин, позволяя квалифицировать коммунистические или фашистские режимы в качестве тоталитарных только в определенных случаях и в определенные периоды. Тем самым нам удалось бы избежать вынужденных сравнений между сущностными аспектами таких различных режимов, как сталинский СССР , гитлеровская Германия или маоистский Китай. Все это означает, что тоталитаризм и фашизм сохраняют определенную эвристическую ценность при рассмотрении нынешней недемократической политики, но лишь в том случае, если они используются точно и гибко. Пересмотр докоммунистического и коммунистического прошлого России и Центральной Европы в этом свете является важной задачей не только для установления того, как эти режимы действительно работали с по год, но также для лучшего понимания различных культурных и структурных точек при переходе к демократии в этом регионе. Короче говоря, тоталитаризм и фашизм, существовавшие в XX столетии, были уникальными и потому неповторимыми, но понятия, созданные для осмысления этих феноменов, остаются полезными в случае их правильного раскрытия и обдуманного применения к новым условиям. Следует ли нам и дальше говорить об авторитаризме? Несмотря на попытки Линца и О’Доннела систематизировать понятие авторитаризма, оно оказалось настолько многогранным, что едва ли может быть применено к какой-то одной семье режимов, и потому к этому термину обычно прилагается множество уточнений. Тем не менее исходная типологизация постфашистского этапа развития Испании 180 Вивиан Брахет-Маркес при Франко по-прежнему служит полезным концептуальным ориентиром, четко отделяя авторитаризм от традиционных автократий, с одной стороны, и от фашизма или тоталитаризма — с другой. В отличие от традиционного господства, авторитарное правление опирается на современную бюрократию и технологические развитые средства наблюдения и подавления, а потому является совершенно современным феноменом. В отличие от фашизма и тоталитаризма, оно не мобилизует массы на действие, основанное на трансформационной идеологии (или делает это только на ранних этапах, как большинство постфашистских или постреволюционных режимов). Но авторитаризм всегда препятствует независимой от государства организации гражданского общества, что мешает установлению демократического гражданства на протяжении многих десятилетий после падения авторитарного правления. Важная задача будущих исследований, которой до сих пор пренебрегали ради описания режимов в целом, состоит в том, чтобы изучить выживание или повторное появление авторитаризма в демократиях в данных группах и субнациональных регионах и в определенных институциональных нишах. Мы можем обнаружить, что, вовсе не будучи чуждыми демократическим практикам, такие черты авторитаризма, как клиентелизм, региональные бонзы и избирательное применение закона, поражают как новые, так и старые демократии. Еще одна крупная исследовательская программа, которая нуждается в развитии, — это исследование динамики переходов от различных вариантов авторитаризма к демократии с поиском баланса между теорией и практическими исследованиями. Практические исследования позволят нам сохранить связь с уникальной исторически сконструированной природой путей, которыми граждане и лидеры преобразуют свои особые авторитарные структуры в демократические (или оказываются не в состоянии этого сделать), и придает не слишком большое значение таким понятиям, как быстрый и основанный на достигнутых договоренностях (Испания) и отсроченный «естественный» переход (Мексика), переход от территориально балканизированных ситуаций (например, Центральная Америка, Колумбия) и от гегемонии сильного централизованного государства или незапланированный переход вследствие военного поражения (Аргентина) или экономического краха (страны Варшавского договора) и запланированный (Бразилия, Чили). Иными словами, вовсе не будучи задачей для прошлого, изучение авторитаризма остается важным аспектом изучения демократической и недемократической политики, развитие которой должно привести к более тонким различиям и связям между ними. Старый и новый султанизм Хотя султанизм не привлек к себе большого внимания исследователей недемократической политики, к настоящему времени проделано уже ЛKOKQ 6, 2008 181 немало работы, которая приобретает особое значение, когда глобальный терроризм и султанические и авторитарные страны-изгои продолжают играть важную роль в международной политике. Как же было показано ранее, вовсе не будучи разновидностью авторитарного режима, султанизм представляет собой форму патримониального правления, искаженного доступом к международным альянсам и современным средствам подавления. В веберовском смысле, если авторитаризм представляет собой рационально организованную форму автократии (особенно в ее бюрократически-авторитарной форме), которая должна включать некоторые плебисцитарные элементы (особенно в своем более включающем виде), то султанизм представляет собой глубоко иррациональную и неорганизованную форму деспотизма, лишенную любых правил, ограничивающих государственную власть, или социальной базы легитимности, которая поддерживается благодаря террору. Словом, он является современным по своим средствам подавления и иррациональным по форме своей организации. Расширяя сцену, на которой ведется изучение султанизма, мы можем задать вопрос, не является ли этот вид крайне недемократического правления неизбежным следствием глобальной международной политики, в которой доминируют Соединенные Штаты, а не по преимуществу внутренним явлением? В эпоху холодной войны ответом западных держав было однозначное «да», поскольку султанические союзники считались более предпочтительными, чем коммунистические враги. Во имя этого принципа эти державы (особенно Соединенные Штаты) не только допускали существование, но и прямо поддерживали режимы, совершавшие неописуемые злодеяния, а также помогали им подавлять народные восстания, чтобы не допустить создания коммунистических цитаделей на международной шахматной доске. В эпоху после окончания холодной войны ответ перестал казаться таким уж однозначным, поскольку прошлый опыт взаимодействия с бывшими «союзниками», вроде Панамы при Норьеги или Ирака при Саддаме Хусейне, перестал приносить ожидаемые плоды. В начале нового столетия в некоторых мусульманских странах появился новый феномен: исламистские движения в Алжире, Марокко и Турции были маргинализированы в результате выборов в пользу умеренных мусульманских лидеров, которые, однако, относятся к американской политике в их регионе критически. Если такие самостоятельные лидеры будут силой смещены деспотами, которые в прошлом поддерживали связи с державами НАТО , не увидим ли мы рост популярности и электоральной силы более экстремистских движений? Послереволюционное развитие Ирана показывает, что осуждение недружественных режимов может способствовать укреплению клерикальнотеократических элементов и дестабилизации реформистов, а случаи Панамы и Ирака показывают, что поддержка деспотической и коррумпированной султанической власти может иметь неблагоприятные 182 Вивиан Брахет-Маркес последствия. В будущем понимание причин возникновения и падения султанических режимов в контексте международной политики будет способствовать лучшему пониманию таких явлений и позволит выявить тесную связь между политикой в сложившихся демократиях и недемократической политикой в третьем мире. Восстания левых и реакция правых — препятствия на пути к демократии? История двух последовательных волн марксистских волнений и их подавления в Латинской Америке может иметь большое значение для понимания развития недемократической политики. Во-первых, ясно, что вооруженные восстания, независимо от благих намерений их инициаторов, вовсе не вели к миру или процветанию в регионе, не говоря уже о политической свободе, даже в тех двух случаях, когда они оказались успешными. Общепризнано, что международные силы играли решающую роль в падении (Никарагуа) или укреплении (Куба) режимов, которые возникли после этих революций, поэтому не следует возлагать всю ответственность на инициировавшие их движения. Тем не менее в обоих случаях восстания начинались как национальные революции при поддержке коалиций различных классов, поэтому возможности для развития некой формы демократии не были полностью закрыты. Во-вторых, неудачные вооруженные восстания объединяли политические силы, необходимые для установления или дальнейшей консолидации крайне жестких и исключающих авторитарных режимов, что было большим шагом назад для демократии в регионе, где прогрессивные коалиции городских средних классов, народных масс и новых индустриальных элит в начале XX века создали протодемократические популистские режимы, стремившиеся открыть доступ к благам индустриализации для масс³⁸. В-третьих, и это наиболее важно для будущего демократии, поскольку эти новые бюрократические авторитарные режимы объявляли вне закона и безжалостно преследовали все формы независимого политического представительства и участия (экспериментируя при помощи исключающей неолиберальной политики над бесправными массами), обучение мирной состязательной политике, которое в некоторых странах началось еще в -х годах, было насильственно прервано, переведя часы демократии на несколько десятилетий назад. Но из этого не следует, что мы должны считать авторитаризм необходимым след³⁸ В Аргентине в перонистские эпохи ( – и – ) и в Мексике в годы правления Карденаса (–) проводились важные социальные реформы, вроде введения социального страхования для промышленных рабочих и государственных служащих. Карденас также распределил среди безземельных крестьян больше земель, чем все его предшественники вместе взятые. ЛKOKQ 6, 2008 183 ствием левых восстаний. Например, реакцию французского правительства на студенческие волнения мая года в Париже нельзя сравнивать с грубым подавлением очень похожего студенческого восстания в октябре года в Мексике, где сотни людей были беспощадно расстреляны полицией, а тысячи были брошены в тюрьмы на многие годы. Поэтому взаимодействие между левыми восстаниями и авторитарной реакцией необходимо изучать в историческом контексте. Возможно, главная причина того, что революции редко приводят к демократии, связана не столько с природой этих социальных потрясений, сколько с тем, что в прошлом у них не было ничего лучшего, чем жестокое патримониальное, султаническое или колониальное правление (как в Иране, Афганистане, Никарагуа или Вьетнаме), и потому они не знакомы с важными составляющими демократии. Представляет ли угрозу демократии участие крайне правых партий в выборах? В старых и новых демократиях к существованию ультраконсервативных или экстремистских групп и партий следует относиться терпимо, пока они не нарушают демократических правил. Исследования участия этих партий в выборах в Западной и Центральной Европе показывают, что они являются лишь маргинальными и неэффективными демагогами. Но все же к этим выводам следует относиться с некоторым скептицизмом. Прежде всего, в наиболее доступных исследованиях выводы делаются на основе национальных выборов и игнорируют значение субнациональных процессов. Территориальные экстремистские движения, вроде баскских и ирландских националистов по-прежнему составляют исключение, а не правило, но появляются новые (в Чечне, среди турецких и иракских курдов) и возрождаются старые (как на Корсике). Поэтому исследования должны учитывать более локальные и региональные измерения территориального укрепления экстремистской и ультраконсервативной политики в демократических государствах. Второе основание для скептицизма заключается в том, что на основе результатов выборов, полученных в нормальных условиях невозможно предсказать, какую роль некоторые из этих групп могут сыграть в союзе с другими в обстановке национального бедствия, наподобие, к примеру, того, что имело место в Соединенных Штатах сентября года. Заключительные соображения о связи между демократической и недемократической политикой Недемократия и демократия не только противостоят друг другу как принципы и соседствуют друг с другом на деле, но и тесно переплетаются между собой таким образом, который еще предстоит систематически описать и изучить. Отсюда следует, что успехи в объяснении недемократии неразрывно связаны с поиском подходов к демократии, которые не считают недемократические проявления случайными или нанос- 184 Вивиан Брахет-Маркес ными, обреченными исчезнуть по мере распространения демократии. В этих заключительных соображениях я выделю возможные направления построения исследовательских программ, базирующихся на двух общих постулатах: () демократическая и недемократическая политика взаимосвязаны внутри демократических государств; () демократическая и недемократическая политика взаимосвязаны между собой на международной арене. Демократическая и недемократическая политика внутри демократических государств взаимосвязаны Этих взаимосвязей может быть много. Я ограничусь здесь двумя типичными ситуациями: () когда демократические процедуры используются как законное прикрытие для недемократической риторики или деяний; и () когда демократические процедуры систематически не работают применительно к определенным категориям населения (чернокожие, иммигранты, женщины, бедные), что служит отражением предрассудков, исключения или прямой агрессии. В первом случае демократия допускает недемократию, распространяя свое юридическое влияние слишком далеко, тогда как во втором случае она оказывается неспособной распространить его достаточно далеко. Примером первого рода служит использование демократических выборов некоторыми партиями для установления недемократического режима, как в тех случаях, когда исламские партии участвуют в демократических выборах с явным намерением в случае победы лишить женщин некоторых гражданских прав и передать власть неизбранным религиозным авторитетам. На субнациональном уровне демократическими принципами злоупотребляют, например, тогда, когда детская порнография признается юридически допустимой ради сохранения свободы слова, когда партия включает недемократические принципы в свою платформу или формирует избирательную коалицию с теми, кто так поступает, или когда избранный орган выпускает законы, противоречащие демократическим принципам. Примером третьего рода служит включение недемократических принципов в демократические конституции, вроде условия, что военные могут законно прийти к власти, если посчитают, что появилась угроза национальным интересам (как в современной Аргентине, Чили и Бразилии). Примером недемократии, возникающей в результате неспособности обеспечить всем равную защиту закона, служит повседневная практика, когда полиция оказывается не в состоянии защитить бедных от преступности, когда муниципальная «скорая помощь» отказывается ехать в бедные районы или когда школы в гетто выпускают функционально неграмотных. Также в качестве примера можно привести избирательное применение закона, когда одни этнические группы оказываются хорошо защищенными, а другие — беззащитными, а полиция молча наблюдает ЛKOKQ 6, 2008 185 за тем, как экстремисты нападают на беззащитных граждан или когда беспрепятственно осуществляются незаконные и опасные для жизни действия. Нам прекрасно знакомо большинство этих примеров, но мы не привыкли считать их проявлениями недемократии, а не неэффективности, нехватки ресурсов или халатности. Демократическая и недемократическая политика взаимосвязаны на международном уровне Как было отмечено в обзоре султанических режимов, недемократическая политика худшего рода, существующая в третьем мире, зачастую создается и взращивается сложившимися демократиями, которые при отборе союзников обычно руководствуются соображениями безусловной покорности, а не соблюдения прав человека или демократических принципов. Нам также знакомы такие факты, которые мы приписываем недальновидности отдельных государственных деятелей или расчетливым действиям в якобы национальных интересах. Например, для участия в демократических выборах нужны немалые деньги. Но ресурсов страны часто бывает недостаточно. Какие режимы заключат «сделки» с кандидатами и, в случае их победы, получат вознаграждение? Авторитарные и султанические режимы имеют давнюю историю сделок с демократическими режимами (сделки о продаже оружия, лекарств, по отмыванию денег, по оказанию гуманитарной помощи и т. д.) и потому являются проверенными партнерами. Если кандидат, получивший поддержку со стороны таких режимов, победит, недемократическая политика контрабандой проникнет в демократию: избранное правительство в ответ окажет поддержку недемократическому режиму³⁹. Демократические страны также сознательно брали на работу преступников, как, например, тогда, когда после Второй мировой войны американское правительство сочло целесообразным привлечь нацистских преступников для шпионажа против СССР ⁴⁰. ³⁹ ⁴⁰ Можно привести следующий эмпирический пример. Контекстом служат президентские выборы в сложившейся западной демократии, в которой X , кандидат, успешно договорился о медицинской помощи в объеме миллионов долларов Y, недавно демократизированному бывшему султаническому режиму. До пункта назначения доходит материальная помощь на сумму всего в миллионов долларов (хотя заявлено ), и часть ее не является медицинской, потому что Z, министр здравоохранения, заключил сделку о продаже оружия. Круг замыкается: демократия подпитывает недемократию, которая, в свою очередь, прорастает в демократии. Эти факты вскрылись недавно после рассекречивания американских послевоенных архивов. Среди нанятых был Герман Хефле, который организовал депортацию евреев из Варшавы, Радома, Кракова и Львова, заведовал строительством концлагерей в Сориборе, Треблинке и Бельцеке и предложил создать в этих лагерях газовые камеры. В году, когда Барби (или «лионский мясник») был арестован во Франции, американское министерство юстиции принесло извинения французскому правительству за то, что в году оно взяло на службу человека, ответствен- 186 Вивиан Брахет-Маркес Вовсе не будучи исключениями, не заслуживающими нашего социологического внимания, или объектами справедливого возмущения, такие случаи открывают возможности для анализа недемократических принципов и фактов не как явлений, отличных от и противоположных демократии, но как неотъемлемой составляющей развития демократии (и недемократии). Перевод с английского Артема Смирнова Литература Aguero, Francisco. 1992. «The armed forces, democracy and the limits to democratization in South America». Pp. 153 – 98 in Scott Mainwaring et al. (eds.), Issues in Democratic Consolidation: TheNew South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press. Arendt, Hannah. [1951] 1968. Totalitarianism, Part III: The Origins of Totalitarianism. 4th ed. New York: Harcourt, Brace, Jovanovitch. Barbahona de Brito, Alejandra. 1997. Human Rights and Democratization in Latin America. New York: Oxford University Press. Beetham, David (ed). 1983. Marxists in Face of Fascism. Writings by Marxists from the Interwar Period. Manchester: Manchester University Press. Bell, Daniel. 2000. The Radical Right. 3rd ed. New Brunswick, NJ : Transaction. Betz, Hans Georg, and Stefan Immerfall (eds.). 1998. The New Politics of the Right: Neopopulist Parties and Movements in Established Democracies. New York: St. Martin’s. Blackbourne, David, and Geoff Eley. 1984. «Introduction». Pp. 1 – 38 in David Blackbourne and Geoff Eley (eds.), The Peculiarities of German History. Bourgeois Society and Politics in Nineteenth Century Germany. New York: Oxford University Press. Brachet-Marquez, Viviane. 1997. «Democratic transition and consolidation in Latin America: Steps toward a new theory of democratization». Current Sociology 45 (1):15 – 53. Bragger, Bill, and Stephen Reglar. 1994. Politics, Economy and Society in Contemporary China. Stanford, CA : Stanford University Press. Brustein, William. 1996. The Logic of Evil: The Social Origins of the Nazi Party, 1925 to 1933. NewHaven, CT : Yale University Press. Burrin, Philippe. 2000. Fascismo, Nazism, autoritarisme. Paris: Editions du Seuil. Camus, Jean Yves. 1999. Extremism in Europe. 1998 Survey. Paris: Editions de l’Aube / CERA . Cardoso, Fernando Henrique. 1979. «On the characterization of authoritarian regimes in Latin America». Pp. 33 – 60 in David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ : Princeton University Press. Castaneda, Jorge. 1993. Utopia Unarmed: The Latin American Left After the ColdWar. New York: Alfred A. Knopf. Chehabi, H. E., and Juan Linz. 1998a. «A theory of sultanism 1. A type of nondemocratic rule». Pp. 3 – 25 in H. E. Chehabi and Juan J. Linz (eds.), Sultanistic Regimes. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. Chehabi, H. E., and Juan Linz. 1998b. Sultanistic Regimes. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. ного за депортацию французских евреев, и помогло ему бежать в Боливию, чтобы укрыться от французского правосудия. См.: Le Nouvel Observateur, July – , . ЛKOKQ 6, 2008 187 Collier, David. 1979. «Overviewof the bureaucratic-authoritarian model». Pp. 19–32 in David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ : Princeton University Press. Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford, CA : Stanford University Press. Degregori, Carlos Ivan. 1990. Ayacucho 1969 – 1979. El surgimiento de Sendero Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. Degregori, Carlos Ivan, Jos´e Coronel, Ponciano del Pino, and Orin Starn, 1996. Las rondas campesinas y la derrota del Sendero Luminoso. Lima: Instituto de Estudios Peruanos / Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. Di Palma, Giuseppe. 1990. To Craft Democracies. An Essay on Democratic Transitions. Berkeley: University of California Press. Eley, Geoff. 1995. «The social construction of democracy in Germany, 1871 – 1933.» Pp. 90 – 117 in Reid Andrews George and Herrick Chapman (eds.), The Social Construction of Democracy 1870 – 1990. New York: New York University Press. Esposito, John L., and R. K. Ramazaniu (eds.). 2001. Iran at the Crossroads. New York: Palgrave. Evans, Peter B. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ : Princeton University Press. Fairbank, John K. 1992. China. A New History. Cambridge, MA : Harvard University Press. Fox, Jonathan. 1994. «The difficult transition from clientelism to citizenship. Lessons from Mexico». World Politics 46 (January):51 – 84. Friedrich, Carl J., and Zbigniew Brzezinski. 1965. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. New York: Praeger. Furet, Franc¸ois, and Ernst Nolte. 1998. Fascisme et communisme. Paris: Librairie Plon. Gentile, Emilio. 1975. Le origini dell’ideolog´ıa fascista. Rome: Ta Terza. Gershenkron, Alxander. [1943] 1989. Bread and Democracy in Germany. Ithaca, NY : Cornell University Press. Griffin, Roger. 1995. Fascism. New York: Oxford University Press. Goodwin, Jeff. 2001. No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945 – 1991. Cambridge, UK : Cambridge University Press. Gramsci, Antonio. [1924] 1983. «Democracy and fascism». Pp. 121 – 4 in Beetham Davis (ed.), Marxists in Face of Fascism. Manchester: Manchester University Press. Hainsworth, Paul. 2000a. «Introduction: The extreme Right». Pp. 1 – 17 in Paul Hainsworth (ed.), The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream. London: Pinter. Hainsworth, Paul. (ed.). 2000b. The Politics of the Extreme Right. From the Margins to the Mainstream. London: Pinter. Hamilton, Richard F. 1995. «Some difficulties with cultural explanations of national socialism». Pp. 197 – 216 in Houchan Chehabi and Alfred Stepan (eds.), Politics, Society and Democracy. Boulder, CO : Westview. Hirschman, Albert O. 1979. «The turn to authoritarianism in Latin America and the search for its economic determinants». Pp. 61 – 98 in David Collier (ed.), The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, NJ : Princeton University Press. Ignazi, Piero. 1997. «The extreme Right in Europe: A survey». Pp. 300 – 19 in P. H. Merkl and L. Weinberg (eds.), The Revival of Right Wing Extremism in the 90s. London: Frank Cass. Karl, Terry Lynn. 1990. «Dilemmas of democratization in Latin America». Comparative Politics 23 (1):1 – 21. Kopecky, Petr, and Cas Mudde (eds.). 2003. Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe. London: Routledge. Korchak, Alexander. 1994. Contemporary Totalitarianism. A Systems Approach. East European Monographs. New York: Columbia University Press. 188 Вивиан Брахет-Маркес Linz, Juan J. 1970. «An authoritarian regime: The case of Spain». Pp. xxx in Erik Allard and Stein Rokkan (eds.), Mass Politics. Studies in Political Sociology. New York: Free Press. Linz, Juan J. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, CO and London: Lynne Rienner. Loveman, Brian. 1994. «Protected democracies and military guardianship: Political transition in Latin America, 1978 – 1993. Journal of Interamerican Studies and World Affairs 36 (2):105 – 89. Luebbert, Gregory M. 1987. „Social foundations of political order in interwar Europe“. World Politics 39:449 – 78. Luebbert, Gregory M. 1991. Liberalism, Fascism, or Social Democracy: Social Classes and the Political Origins of Regimes in Interwar Europe. Oxford, UK : Oxford University Press. Macfarquhar, Roderick, and Seyyed Vali Resa Narr. 2001. Islamic Leviathan. Islam and the Making of State Power. New York: Oxford University Press. Mainwaring, Scott, Daniel Brinks, and Anibal Perez-Linan. 2000. «Classifying political regimes in Latin America, 1945 – 1999.»Working Paper #280, September 2000, Kellogg Institute of Political Studies. Mann, Michael. 1970. «The social cohesion of liberal democracy». American Sociological Review 35:423 – 40. Marcuse, Herbert. 1967. Faschismus und Kapitalismus. Frankfurt am Main: Europaische Verlagsanstalt, 1967). Mendez, Juan E., Guillermo O’Donnell, and Paulo Sergio Pinheiro. (eds.), 1999. The (Un) rule of Law and the Underprivileged in Latin America. Notre Dame: Notre Dame University Press. Merkl, P. H., and L. Weinberg (eds.). 1997. The Revival of Right Wing Extremism in the 90s. London: Frank Cass. Milza, Pierre. [1985] 2001. Les Fascismes. Paris: Editions du Seuil. Moore, Barrington Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon. Mudde, Cas. 2000a. «Extreme Right parties in Eastern Europe». Patterns of Prejudice 34 (1):5 —27. Mudde, Cas. 2000b. The Ideology of the Extreme Right. Manchester: Manchester University Press. Mudde, Cas. 2001. «In the name of the peasantry, the proletariat, and the people: Populism in Eastern Europe». East European Politics and Societies 15 (1): 35 – 53. Mudde, Cas. 2002. «Extreme Movements». Pp. 135 – 48 in Paul Heywood, Erik Jones, and Martin Rhodes (eds.), Developments in West European Politics. 2nd ed. Houndsmills: Macmillan. O’Brien, Kevin. 1990. Reform without Liberalization. Cambridge, UK : Cambridge University Press. O’Donnell, Guillermo. 1973. Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics. Berkeley: University of California Press. O’Donnell, Guillermo. 1993. «On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin Americian view with glances at some postcommunist countries». World Development 21 (8):1355 – 69. O’Donnell, Guillermo, Philippe Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.). 1986. Transitions from Authoritarian Rule. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. Paxton, Robert. 1998. «The five stages of fascism». Journal of Modern History, March: 1 – 23. Payne, Leigh A. 2000. Uncivil Movements. The Armed Right Wing and Democracy in Latin America. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. Payne, Stanley G. 1995. A History of Fascism 1914 – 1945. Madison: University of Wisconsin Press. Pinto, Ant´onio Costa. 1995. Salazar’s Dictatorship and European Fascism Problems of Interpretation. Boulder, CO : Social Science Monographs. Plotke, David. 2002. «The success and anger of the modern American Right». Pp. xxx in Daniel Bell (ed.), The Radical Right. 3rd ed. New Brunswick, NJ : Transaction. Preston, Paul. 1990. The Politics of Revenge. Fascism and the Military in 20th Centuary Spain. London: Unwin Hyman. ЛKOKQ 6, 2008 189 Przeworski, Adam. 1986. «Some problems in the study of transitions to democracy». Pp. 47 – 63 in G. O’Donnell, P. C. Schmitter, and L. Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Remond, Rene. 1982. Les Droites en France. Paris: Aubier. Rouquie, Alain. 1984. O Estado Militar na America Latina. Sao Paulo: Alpha-Omega. Rueschemeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens. 1992. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press. Schmitter, Philippe C. 1991. «Cinco reflexiones sobre la cuarta onda de democratizaci´on». Pp. 101 – 40 in Carlos Barbas Solano, J. L. Barros Horcasitas, and Javier Hurtado (eds.), Transiciones hacia. Snyder, Richard. 1998. «Paths out of sultanistic regimes: Combining structural and voluntarist perspectives». Pp. 49 – 81 in Houchang E. Chehabi and Juan J. Linz (eds.), Sultanistic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Stepan, Alfred. 1986. «Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations». Pp. 64 – 84 in Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule. Prospects for Democracy. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Stephens, John D. 1989. «Democratic transition and breakdown in Western Europe, 1870 – 1939: A test of the Moore thesis». American Journal of Sociology 94:1019 – 77. Wickham-Crowley, Timothy P. 1992. Guerrillas and Revolution in Latin America: A Comparative Study of Insurgents and Regimes since 1956. Princeton, NJ : Princeton University Press. 190 Вивиан Брахет-Маркес ^ X YK¼Z Q WK\½ Управление «развитыми» либеральными демократиями¹ Начатая феминистками кампания под лозунгом «личное — это поли- тическое» обратила внимание на фундаментальные изъяны, существующие в современном политическом разуме. Политика стала отождествляться, с одной стороны, с партией и программой, а с другой — с вопросом о том, кто обладает властью в государстве, а не с динамикой властных отношений в ситуациях, с которыми каждый человек сталкивается в повседневной жизни. Одна из заслуг анализа, проведенного Мишелем Фуко и его коллегами, состоит в глубокой проблематизации форм политического разума, образующего эту ортодоксию, с тем, чтобы показать бессилие языка, который веками господствовал в политической философии и социологии с его конститутивными противопоставлениями государства / гражданского общества, господства / освобождения, общественного / частного и так далее. Во имя общественной и частной безопасности жизнь приводилась в соответствие с «социальным» измерением, при помощи гибридного набора средств управления небезопасностью. Во имя национального и личного процветания была создана «экономическая машина», которая могла иметь своим объектом экономику, состоящую из предприятий, конкурирующих на рынке, но структурировала эту область, насаждая формы экономического расчета, устанавливая фискальные режимы и регламентируя техники финансового регулирования и учета. Во имя общественного и личного здоровья был создан сложный аппарат здравоохранения и терапии, занимающийся управлением индивидуальным и социальным телом как жизненно важным национальным ресурсом и управлением «проблемами жизни», состоящий из техник консультирования и патронажа, врачей, клиник, наставников и консультантов. ¹ Nikolas Rose, «Governing „Advanced“ Liberal Democracies», in A. Barry, T. Osborne and N. Rose (eds.), Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-liberalism and Rationalities of Government. London: University College London Press, , p. – . ЛKOKQ 6, 2008 191 Таким образом, стратегии регулирования, которые сформировали наш современный опыт «власти», собирались в комплексы, которые связывали силы и институты, считающиеся «политическими», с аппаратами, которые формировали индивидуальное и коллективное поведение и управляли им в соответствии с определенными нормами и целями, но при этом конституировались как «неполитические». Каждый комплекс — это сборка различных компонентов — людей, форм знания, технических процедур и форм вынесения суждений и принятия санкций — это машина для управления, но только в том смысле, в котором Фуко сравнивал французскую правовую систему с машинами, проектировавшимися Жаном Тэнгли, машина, использующая различные элементы, набранные отовсюду, странные соединения, случайные связи, шестерни и рычаги, которые не работают — и в то же время «работают» в том смысле, что они создают эффекты, которые имеют значение и последствия, касающиеся всех нас (цит. по: Gordin ). Эти разграничения между общественным и частным, принудительным и добровольным, законом и нормой действуют как внутренние элементы внутри каждой из этих сборок, связывая регулирование публичного поведения с субъективными эмоциональными и интеллектуальными способностями и техниками индивидов и этическими режимами, посредством которых они управляют своими жизнями. Термин «политика» больше нельзя использовать так, словно его значение является самоочевидным; он сам должен стать объектом анализа. Необходимо поднять вопрос о значении, легитимности и пределах самой политики. Идея государства была и, определенно, остается одним из важнейших способов кодификации, управления и артикуляции — или же, напротив, оспаривания, ниспровержения и переартикуляции — разнообразных практик властного правления во всем нашем «современном» опыте. Но мечта или кошмар об обществе, программируемом, колонизируемом или подчиняемом «холодному монстру» Государства, не слишком подходит для понимания того, каким образом происходит управление нами сегодня. Необходимо поднять вопрос о том, как, каким образом и в какой степени обоснования, средства и авторитеты для управления поведением в многочисленных спальнях, на фабриках, в торговых центрах, детских домах, на кухнях, в кинотеатрах, операционных, аудиториях и так далее оказались связанными с «политическим» аппаратом? Как обязанности политических властей стали распространяться на здоровье, счастье и благополучие населения и тех семей и индивидов, которые его составляют? Как различные политические силы пытаются программировать эти новые области? Насколько они преуспели в создании центров расчета и действия, позволяющих узнавать о том, что происходит в отдаленных местах — больницах, службах социального обеспечения, на рабочих местах, в домах и школах, — и регулировать происходящее с помощью политических решений? Какие новые власти в управлении поведением — в особенности 192 Николас Роуз бюрократы, менеджеры и эксперты — возникали или трансформировались в ходе этого? И в чем состоит отличие, если оно вообще есть, попыток управления при помощи подходов, которые сами себя называют либеральными и демократическими? Три тезиса о либеральном правлении Что такое либерализм, если рассматривать его не как политическую философию или тип общества, а с точки зрения управительности? Выдвинем три гипотезы. Либерализм XIX столетия, если рассматривать его как рациональность правления, а не просто как совокупность философских и нормативных соображений о правлении, создал ряд проблем, касающихся возможности управления индивидами, семьями, рынками и населением. Они возникают из настойчивой потребности в ограничении политической власти, особенно в экономической и производственной жизни, публичных свобод слова и выражения мыслей, религиозной практики и семейного авторитета. Экспертиза — власть, возникающая в результате притязаний на знание, беспристрастность и эффективность, — начала предлагать множество решений этого очевидного противоречия между необходимостью управления в интересах морали и порядка и необходимостью ограничения правительства в интересах свободы и экономики. Либеральное правление работало не только благодаря политико-философским заявлениям о незыблемом разделении общественного и частного, политики и рынка, государства и гражданского общества, а благодаря тому, что разные знающие люди сделали эту формулу рабочей. Одной из первых таких фигур, осуществлявших новую форму моральной и технической власти, был филантроп. Но во второй половине XIX века филантропия была дополнена и заменена истинами, создававшимися и распространявшимися позитивными науками — экономикой, статистикой, социологией, медициной, биологией, психиатрией и физиологией. Тогда же появились экспертные фигуры ученого, инженера, государственного служащего и бюрократа: новые техники этического формирования и обучения личностей, которые могли осуществлять власть и использовать целый спектр научных и технических знаний, позволявших править во времени и пространстве (Osborne ). В конце XIX — начале XX века эта формула управления начала казаться, с различных политических, моральных и философских позиций, неспособной создать необходимые экономические, социальные и этические следствия. Тогда родилась новая формула управления, которую можно назвать «социальной». Власть экспертизы слилась с формальным политическим аппаратом управления, побуждая правителей брать на себя обязательства по смягчению нежелательных последствий производственной жизни, наемного труда и городского существования ЛKOKQ 6, 2008 193 во имя общества (социальная солидарность, социальная защита, социальный мир, социальное процветание) и управлению этими последствиями. Эти теории, объяснения, модальности информации и специальные техники, предлагаемые экспертами, связывались в результате борьбы и стратегий в сложные механизмы правления, которые стремились восстановить интеграцию индивидов в социальной форме. Это было не столько распространением щупальцев центрального государства по всему обществу, сколько изобретения различных «правил правления», которые стремились превратить Государство в центр, способный программировать — формировать, направлять, канализировать, контролировать — удаленные события и людей. Управление людьми и деятельностью производилось через общество, то есть через воздействие на них в соответствии с социальной нормой и конституирование их переживаний и оценок в социальной форме. Перед лицом угрозы социализма, понимаемой как поглощение общества Государством, эти формулы государства всеобщего благосостояния стремились утвердить определенную внеполитическую сферу, одновременно разрабатывая множество техник воздействия на нее. Притязания экспертизы на истину были здесь весьма значительными: сила истины позволяла управлять удаленными событиями и людьми «на расстоянии»; политическое правление само по себе не устанавливало нормы индивидуального поведения, но оно наделяло соответствующими полномочиями многочисленных «профессионалов», выступавших в качестве «экспертов» по средствам социального управления. Был переосмыслен и субъект правления: если субъект, изобретенный в XIX веке, подчинялся некой индивидуализирующей моральной нормативности, то субъект государства всеобщего благосостояния был субъектом потребностей, установок и отношений, субъектом, включенным в отношения коллективной солидарности и зависимости и управляемым при помощи этих отношений. Стратегии правления, порожденные благодаря этой формуле «государства всеобщего благосостояния», за последние пятьдесят лет претерпели фундаментальные изменения. Эти изменения были вызваны, с одной стороны, разнообразной критикой, которая проблематизировала государство всеобщего благосостояния с точки зрения его предполагаемых недостатков и его пагубных последствий для казны, индивидуальных прав и частной морали. С другой стороны, стратегические мутации стали возможными благодаря умножению новых средств управления поведением, которые в своих истоках по крайней мере отчасти восходили к «успехам» государства всеобщего благосостояния в деле закрепления власти экспертизы над целым спектром социальных целей и прививания гражданам стремления быть «культурными», здоровыми и развитыми. В многочисленных столкновениях между этими двумя силовыми линиями сформировалась новая формула правления, которую, возможно, правильнее всего было бы назвать «развитой либеральной». Развитое либеральное правление опирается на экспертизу 194 Николас Роуз совершенно иначе, и также иначе связывает экспертов с технологиями правления. Оно стремится освободить государство от управления и разгосударствить практики управления, отделить авторитет экспертизы от аппаратов политического правления, переместить экспертов на рынок, управляемый рациональностями конкуренции, подотчетности и потребительского спроса. Оно стремится управлять не с помощью «общества», а с помощью регулируемых решений отдельных граждан, которые теперь конституируются в качестве субъектов выбора и стремления к самореализации. Индивиды должны управляться при помощи имеющейся у них свободы, но не как изолированные атомы классической политэкономии и не как граждане общества, а как члены гетерогенных сообществ, поскольку «сообщество» становится новым способом осмысления и управления моральными отношениями между людьми. Правительство / управление По замечанию Колина Гордона, Фуко употреблял понятие правительство / управление в двух смыслах (Gordon ; ср.: Фуко б, Gordon ). Во-первых, чтобы обратить внимание на измерение нашего опыта (само по себе оно не является специфически современным), которое складывается в результате образов мысли и действия, касающихся формирования, направления, управления или регулирования поведения людей — не только других людей, но и себя самих — в соответствии с определенными принципами или целями. Управительными, а не теоретическими, философскими или моральными эти формы мышления становятся из-за своего стремления найти себе практическое воплощение, связать себя с различными процедурами и аппаратами, которые должны сделать их действенными — будь то практика ведения дневника для управления совестью, практики воспитания детей для управления детьми, практики безопасности и обеспечения средств к существованию для управления пауперизмом или техники финансовой записи и учета для управления экономической деятельностью. Разумеется, многие века люди размышляли о поведении — своем собственном и других людей, но такие мысли становятся управительными лишь в той степени, в какой они стремятся сделать себя техническими, поместить себя в мир, «реализовавшись» в виде практики. Фуко употребляет термин правительство во втором и более ограниченном смысле, который помогает нам по-новому взглянуть на наш анализ проблематики правления, которая сложилась на Западе за последние три столетия. Под проблематикой правления я понимаю способы, которыми те, кто осуществляет правление, ставили перед собой вопрос об основаниях, оправданиях, средствах и целях правления и проблемах, задачах или амбициях, которые должны вдохновлять его. Понятие правительства / управления касается здесь области политическоЛKOKQ 6, 2008 195 го, но не как области государства или совокупности институтов и участников, а как области различных проявлений политического разума. Управительность, понятая как ментальность управления, предполагает заботу правителей о разрешении различных вопросов территории и ее населения для обеспечения его благополучия и одновременно разграничение между сферами действия различных типов власти. Как политическую рациональность, управительность нужно анализировать как практики «формулирования и обоснования идеализированных схем репрезентации реальности, их анализа и настройки» — как своеобразную интеллектуальную машинерию или аппарат, благодаря которому реальность начинает мыслиться так, словно она поддается политическому программированию (Rose and Miller ; ср.: Miller and Rose ). Несмотря на несомненную важность всех мелких делишек и пороков политической деятельности, политические рациональности имеют моральную форму, затрагивая такие вопросы, как правильное распределение задач между различными властями, и идеалов и принципов, к которым должно обращаться правительство. Кроме того, политические рациональности имеют эпистемологический характер, отражая определенные представления об объектах, которыми нужно управлять — нация, население, экономика, общество, сообщество — и субъектах, которыми нужно управлять — граждане, подданные, индивиды. И они вырабатывают определенный стиль аргументации: сам язык здесь понимается как совокупность «интеллектуальных техник», делающих реальность мыслимой и практикуемой и конституирующих области, которые поддаются — или не поддаются — реформаторскому вмешательству. Как совокупность технологий управления, управительность должна анализироваться с точки зрения стратегий, техник и процедур, посредством которых различные власти стремятся осуществлять программы правительства над подручными материалами и силами, несмотря на возможное или действительное сопротивление и противодействие. Это вопрос не воплощения идеализированной схемы в реальности путем усилия воли, а сложной сборки различных сил (правовых, архитектурных, профессиональных, административных, финансовых, оценочных), техник (нотации, вычисления, учета, экзамена, оценки), средств (исследований и схем, систем подготовки, строительных форм), которые обещают регулировать решения и действия индивидов, групп и организаций в соответствии с установленными критериями (ср.: Rose and Miller : ). Технологии и средства, собираемые в аппарат Государства, не обладают единством или функциональностью, которая нередко приписывается им. «Власть Государства» — это следствие, а не причина, результат составления и сборки участников, потоков, строений, отношений власти в сравнительно устойчивые объединения, в той или иной степени мобилизуемые для достижения определенных целей общими средства- 196 Николас Роуз ми. Это не вопрос господства «сети» при помощи «Государства», а скорее вопрос перевода. Перевода политических программ, артикулированных в довольно общих терминах — национальная эффективность, демократия, равенство, предпринимательство — в способы осуществления власти над людьми, местами или видами деятельности в определенных обстоятельствах и практиках. Перевод мысли и действия из «центра расчета» в множество мест, рассеянных по территории — перевод в смысле движения из одного места в другое. При помощи множества таких мобильных реле происходит установление отношений между теми, кто разделены между собой в пространственном и временном отношении, и между событиями и решениями в сферах, которые все же сохраняют свою формальную автономию. Состав таких сетей служит условием возможности для «действия на расстоянии»: просчитанное воздействие на поведение во времени и пространстве возможно лишь постольку, поскольку производится подобное выстраивание различных сил (ср.: Latour ). Но стратегии правительства, которое я называю «развитым либеральным», открыто стремятся использовать и инструментализировать такие возможности: эти рациональности воодушевляются стремлением «править на расстоянии». Либерализм Европейская наука XVIII века о полиции мечтала о временах, когда территория и ее обитатели будут прозрачными для познания — все будут записаны, учтены и задокументированы (Foucault , Фуко а; ср.: Pasquino ). Поведение людей во всех областях жизни должно было быть регламентированным вплоть до малейших деталей при помощи подробного изложения правил проживания, одежды, манер и так далее, предотвращая появление беспорядка при помощи фиксированного упорядочивания людей и деятельности (ср.: Oestreich ). Либерализм, как ментальность правления, отказывается от этой мегаломанской и навязчивой фантазии полностью управляемого общества. Правительство теперь сталкивается с реалиями — рынком, обществом, гражданами, — которые имеют свои собственные внутренние логики и плотность, свои собственные внутренние механизмы саморегулирования. По замечанию Грэма Барчелла, либерализм отказывается от raison d’etat как рациональности правления, при котором суверен осуществляет свою тотализирующую волю в национальном пространстве (Burchell ). С одной стороны, правители имеют дело с подданными, наделенными правами и интересами, осуществлению которых не должна мешать политика. С другой стороны, они имеют дело с областью процессов, которыми они не могут управлять посредством суверенной воли из-за того, что им не хватает необходимых знаний и способностей. Объекты, инструменты и задачи правления должны быть пересмотрены с учетом этих областей рынка, гражданского общестЛKOKQ 6, 2008 197 ва и гражданства с тем, чтобы гарантировать, что они будут работать на благо нации в целом. Два внешне нелиберальных полюса «власти над жизнью», выделяемых Фуко, — дисциплина тела и биополитика населения — находят свое место внутри либеральных ментальностей правления, поскольку правление становится зависимым от того, каким образом эти жизненно важные условия производства и управления сообществом свободных граждан делаются постижимыми и осуществимыми (Фуко ). Эти механизмы и средства, действующие в соответствии с дисциплинарной логикой, от школы до тюрьмы, создают субъективные условия, формы господства над собой, саморегулирования и самоконтроля, необходимые для управления нацией, состоящей теперь из свободных и «цивилизованных» граждан. В то же самое время биополитические стратегии — статистические исследования, переписи, программы увеличения или сокращения рождаемости или минимизации болезней и улучшения состояния здоровья — стремятся сделать постижимыми области, законы которых либеральные правительства должны знать и почитать: легитимное правительство — это не произвольное правительство, а правительство, основанное на понимании тех, о чьем благополучии оно печется (Foucault ). Поэтому правление должно осуществляться с учетом знания того, чем управляют — ребенка, семьи, экономики, сообщества, — знания общих законов функционирования (спроса и предложения, социальной солидарности) определенного государства во всякий данный момент времени (уровень производительности, уровень самоубийств) и способов, которыми оно может формироваться и направляться для достижения желаемых целей, при этом соблюдая их автономию. Мы можем выделить четыре важные черты либерализма с точки зрения управления. Новое отношение между правительством / управлением и знанием. Хотя все формулы правительства / управления зависят от знания того, чем именно управляют, и они сами составляют некую форму знания искусства государственного управления, либеральные стратеги связывают правительство с позитивным знанием человеческого поведения, выработанным в социальных и экономических науках. Деятельность правительства становится связанной со всевозможными фактами (обилие публикуемых цифр и других сведений рассматривается в: Hacking ): теориями (философии прогресса, представления об эпидемиях…), диаграммами (санитарная реформа, уход за детьми…), техниками (система двойной записи, обязательный медицинский осмотр школьников), знающими людьми, которые могут говорить «от имени общества» (социологи, статистики, эпидемиологи, социальные работники). Знание здесь обтекает множество аппаратов производства, учета, обращения, накопления, одобрения и осуществления истины: в академии, в правительственных ведомствах, в отчетах комиссий, обществен- 198 Николас Роуз ных запросах и группах давления; именно «know-how» обещает сделать податливыми неуправляемые области, над которыми должно работать правительство, чтобы сделать правительство возможным и чтобы сделать его лучше. Новое описание субъектов правления как участвующих в управлении самими собой. Либеральных ментальности правления, как правило, возлагают определенные надежды на субъектов управления. Распространенная в политике, праве, морали и не только идея, что субъекты — это индивиды, чьи права и свободы должны соблюдаться, для чего необходимо определенное ограничение легитимного политического или правового регулирования, возникла вместе с появлением множества новых практик, направленных на то, чтобы определенным образом формировать и регулировать личность. Либеральные стратегии управления, таким образом, становятся зависимыми от средств (школьное образование, домохозяйство, лечебница для душевнобольных, исправительная колония), которые обещают создать индивидов, не нуждающихся в управлении со стороны других, а способных самостоятельно управлять собой, быть самим себе хозяевами, заботиться о себе. И хотя абстрактный субъект прав может быть представлен в универсальной форме, новые технологии правления на всем протяжении XIX века предъявляли новые требования к позитивному знанию об определенных субъектах и создавали возможности для его получения. Это время дисциплин, которые одновременно определяют субъектов с точки зрения определенных норм цивилизации и проводят разграничение между цивилизованным членом общества и теми, кто неспособен ответственно пользоваться своими гражданскими правами и исполнять свои обязанности: женщина-детоубийца или одержимый тираноборец в суде, делинквентные мальчики и девочки в исправительном учреждении, проститутки или падшие женщины, мужчины и женщины, признанные безумными. Наблюдается начало болезненной и сложной миграции прав на истину о людях от теологии или юриспруденции к дисциплинам, которые обязаны этим новым технологиям управления самими условиями своего дисциплинарного появления. С этого времени либеральная управительность пронизана мечтой о соединении национальной цели — добропорядочного гражданина — с добровольно принятыми обязательствами свободных индивидов с тем, чтобы большую часть своей жизни последние прожили ответственно. В то же время самим субъектам придется принимать решения о своем поведении в сети словарей, указаний, обещаний, мрачных предостережений и угроз вмешательства, построенных во все большей степени вокруг многочисленных норм и нормативностей. Отношение к власти экспертизы. Либеральное искусство правления с середины XIX века стремилось корректировать события, решения и действия в экономике, семье и частных предприятиях и поведение индивида, при этом поддерживая и содействуя их самостоятельности ЛKOKQ 6, 2008 199 и ответственности за самих себя. Эти формы вмешательства не отвечают единой логике и не образуют связной программы «государственного вмешательства» (ср.: Foucault ). Скорее, благодаря прозелистским усилиям отдельных реформаторов множество трений и неприятных вещей — эпидемий и болезней, краж и преступности, пауперизма и нужды, безумия и слабоумия, краха супружеских отношений — перекодировались в «социальные» проблемы, которые сказывались на здоровье нации и потому требовании новых форм властного внимания для их исправления. Отношения, складывавшиеся между политическими властями, правовыми механизмами и независимыми авторитетами, различались в зависимости от того, какие задачи они перед собой ставили — регулирование экономического обмена при помощи контракта, ослабление влияния фабричного труда на здоровье, сокращение социальной опасности эпидемий при помощи санитарной реформы, прививание морали детям из рабочих классов в производственных школах и так далее. В каждом из этих случаев эксперты, требуя, чтобы экономическое, семейное и социальное устройство управлялось в соответствии с их собственными программами, пытались мобилизовать политические ресурсы, вроде законодательства, финансовых или организационных возможностей, в своих собственных целях. Политические силы стремились сделать свои стратегии действенными не только путем использования законов, бюрократий, режимов финансирования и авторитетных государственных органов и агентов, но и посредством использования и инструментализации авторитета, отличного от авторитета «Государства, для управления — пространственного и конституционного — „на расстоянии“. Формально автономные экспертные органы облекаются властью, а осуществление этой автономии проявляется в различных формах лицензирования, профессионализации и бюрократизации. С этого времени область «политики» начинает отличаться от сфер властного правления, но в то же время остается неразрывно связанной с властью экспертизы. Постоянные сомнения относительно качества управления. Социологи нашего состояния постмодерна придают особое значение «рефлексивности», которую они считают характерной чертой нашей эпохи (Giddens ; Lash and Urry ). Но «рефлексивность», которая пронизывает все попытки осуществления правления в нашем настоящем, не является отличительной чертой некой последней стадии современности; она с самого начала характеризовала либеральные политические рациональности. Либерализм сам ставит перед собой вопрос «каковы основания правления?» — вопрос, который ведет к требованию, чтобы за теми, кто правит, осуществлялся постоянный критический надзор — со стороны других и со стороны самих властей. Ибо если объекты правления управляются своими собственными законами, «законами естественного», то при каких условиях можно легитимно подчинить их «законам политического»? Кроме того, либерализм ставит перед собой вопрос 200 Николас Роуз «кто может править?» При каких условиях один осуществляет власть над другим, на чем основывается легитимность власти? И ответ на вопрос об авторитете власти должен отсылать не к чему-то трансцендентному или к харизматической личности лидера, а к различным техническим средствам, наиболее надежными из которых оказываются демократия и экспертиза. Либерализм знаменует собой постоянную неудовлетворенность правительством, постоянное вопрошание о том, достигнуты ли желаемые следствия, о политических ошибках, мешающих эффективности правительства, постоянное выяснение причин неудач в сочетании с постоянным требованием лучшего правления. Управление государством всеобщего благосостояния Реальная история либерализма конца XIX – XX веков связана с рядом трансформаций в проблематике правления. Возрастание управительности Государства связано с тем, что управляемость демократии, если воспользоваться выражением Жака Донзело, создает немало трудностей, решением которых, по-видимому, и стала «социализация общества» (Donzelot ; см. также: Rabinow : Chs – ; Ewald ). Многие утверждали, что прожекты либерализма XIX века потерпели провал, а филантропические и дисциплинарные проекты, которые должны были помочь избежать деморализации и сохранить моральный порядок в городских рабочих классах, оказались бессильными перед силами социальной фрагментации и индивидуализации современного общества, о чем свидетельствует уровень самоубийств, преступности и социального недовольства. Кроме того, экономические вопросы — в частности, трудности с занятостью и тяжелые условия фабричного труда — имели серьезные социальные последствия, которые не удалось смягчить рудиментарными ограничениями фабричного законодательства и тому подобными вещами — они вредили здоровью, создавали опасность вследствие отсутствия постоянной занятости и способствовали росту воинственности рабочих. «Социальное обеспечение» было одной из формул перекодирования, которое затрагивало также множество других измерений, отношений между политической областью и управлением экономическими и социальными делами, в которой власть экспертов как тех, кто мог высказывать и претворять в жизнь истину о людях в их индивидуальной и коллективной жизни, приобретал новое значение. В этой новой формуле социального обеспечения политические власти, используя финансовые, технические и юридические возможности Государства, становились гарантами свободы индивида и свободы капиталистического предприятия. Государство должно было взять на себя ответственность за создание ряда технологий управления, которые могли «социализировать» индивидуальное гражданство и экономическую жизнь во имя коллективной безопасности. Эта формула правления заняла промежуточное положение между классическим ЛKOKQ 6, 2008 201 либерализмом и зарождавшимся социализмом. Возможно, наиболее спорной сферой ее действия была сама экономическая область, где вмешательство должно было ослабить обособленность рынка и предприятий, сохранив при этом их формальную автономию. Но безопасность экономики также обеспечивалась при помощи воздействия на социальную среду, в которой разворачивались производство и обмен: при помощи управления самим обществом (ср.: Procacci ). Социальное страхование и социальная работа могут служить олицетворением двух осей этой новой формулы правления — включающей и солидаристской, индивидуализирующей и связанной с ответственностью. Социальное страхование — это включающая технология управления (O’Malley ; Rose ). Оно воплощает социальную солидарность в коллективизации управления индивидуальными и коллективными угрозами, исходящими от опасной и капризной системы наемного труда в экономике и уязвимости человеческого тела перед болезнями и увечьями, под чутким руководством «социального» Государства. Таким образом, социальное страхование устанавливает новые связи и отношения между «публичными» нормами и процедурами и судьбой индивидов в их «частном» экономическом и личном поведении. Это лишь один из многих способов, при помощи которых с начала XX века ослаблялась «приватность» частных сфер семьи и фабрики. Вместе с другими регулирующими средствами — такими как социальное жилье, законодательство в области охраны труда и техники безопасности, а также законов об уходе за детьми, автономия экономического и семейного пространств ослабла, и начали формироваться новые векторы ответственности и обязанностей между Государством и родителем, ребенком и работодателем. Социальная работа, соответственно, действует в рамках стратегии, в которой защита обеспечивается благодаря исполнению членами общества своих гражданских обязанностей перед недееспособными или сбившимися с пути индивидами (Donzelot ; Rose ; Parton ). Она воздействует на специфические проблематичные случаи, распространяясь на них из мест индивидуализированных суждений об определенном поведении, которое оценивается как патологическое по отношению к социальным нормам. Суд по делам несовершеннолетних, школа, службы, занимающиеся «трудными» или «отстающими в развитии» детьми, действуют как инстанции вынесения суждений и координации этих стратегий, нацеленных не столько на отдельного гражданина, сколько на индивидов, включенных в матрицу семьи. Повседневная жизнедеятельность, гигиенические процедуры членов семьи, прежде считавшиеся тривиальными формы взаимодействия между взрослыми и детьми препарировались экспертами, рассматривались с точки зрения нормы и отклонения, оценивались с точки зрения своих социальных издержек и последствий и подчинялись режимам образования или исправления. Затем семья должна была быть превращена в социальную машину (ее нужно было сделать социальной и использовать для соз- 202 Николас Роуз дания социальности), насаждая техники ответственного гражданства под бдительным присмотром экспертов с использованием различных санкций и поощрений. Сложные сборки позволяли государственным службам и ведомствам действовать в качестве центров, делая возможным перенос выработанных ими представлений в множество микромест, где поведение гражданина могло проблематизироваться и приводиться в соответствие с нормами, калибрующими личную нормальность с целью достижения определенных социальных последствий. Индивид и семья должны были «одновременно исполнять свои обязанности, пользоваться своими правами, реализовывать свои естественные способности и учиться необходимым вещам у специалистов с тем, чтобы ответственно относиться к своей свободе» (Rose : ). Таким образом, политический субъект должен был быть переосмыслен как гражданин, наделяемый правами на социальную защиту и социальное образование взамен на принятие социальных обязательств и социальной ответственности, что вело к преобразованию и в то же время сохранению либерального характера «свободы» и «частной жизни» (Rose ). Чтобы стать совместимой с демократией и свободой, защищенность необходимо было соединить с ответственностью. Сталкиваясь с моралистическими, филантропическими и дисциплинарными проектами либерализма XIX столетия, социальное управление включало в сферу политики многочисленные сети, посредством которых государство могло пытаться управлять отдаленными событиями, местами и людьми. Экспертиза приобретала власть, не только связывая представления, выработанные в одном месте, с действиями в другом, но еще и обещая связать способность субъектов к самоуправлению с целями политических властей при помощи убеждения, образования и соблазнения, а не принуждения. Эти новые технологии экспертного социального управления приводят к тому, что самые различные вопросы начинают казаться деполитизированными и техническими, гарантируя победу технических расчетов над существующими логиками борьбы противоположных интересов. Суждения и обсуждения экспертов относительно размера пособия на ребенка или форм ухода за детьми открывали возможности для действия, которые прежде невозможно было даже представить. Но, став важным элементом осуществления политической власти, эксперты приобрели способность производить «огораживание», создавая относительно ограниченные места или поля суждений, в которых сосредотачивался, укреплялся и делался практически непререкаемым их авторитет. Развитой либерализм Причины, по которым социальное правительство перестало быть самоочевидным, были разнородными. Сразу же после Второй мировой войны именно тогда, когда одни усвоили урок, что целое производственной ЛKOKQ 6, 2008 203 и общественной организации страны в том или ином виде поддается управлению центрального Государства, многие европейские интеллектуалы пришли к ровно противоположному выводу. Наиболее примечательным, пожалуй, было утверждение Фридриха фон Хайека, что логики интервенционистского Государства, проявившиеся в организации социальной и экономической жизни военного времени, были не просто неэффективными и самоубийственными, но и поставили страны на путь перехода к тотальному Государству, каким оно проявилось в нацистской Германии и в сталинском Советском Союзе — они подрывали те самые свободы и демократию, которые они стремились укрепить (Хайек ; ср.: Gordon , ; последующее изложение основывается на: Rose ). Идеи, изложенные в «Дороге к рабству» (Хайек ), получили более подробное развитие в ряде последующих текстов: принцип индивидуальной свободы был одновременно источником прогресса и гарантией будущего развития цивилизации; хотя нам необходимо избавиться от горделивой иллюзии, что мы можем — при помощи решений и расчетов властей — сознательно создать «будущее человечества», мы также должны признать, что свобода сама по себе является артефактом цивилизации, что «дисциплина цивилизации… есть в то же самое время дисциплина свободы» (Hayek : ). Спустя почти три десятилетия такая критика социального Государства вылилась в политически значимое наступление на рациональность, программы и технологии социального обеспечения в Британии, Европе и Соединенных Штатах. Экономический тезис, озвученный в различных формах левыми и правыми, имел здесь особое значение — идея состояла в том, что рост налогов и государственных расходов на социальное обеспечение, здравоохранение, образование и так далее пагубно сказывался на состоянии здоровья капитализма, отнимая частную прибыль. Левые назвали это противоречие «фискальным кризисом государства», а правые — противоречием между ростом «непроизводственного» сектора социального обеспечения, который не создавал никакого богатства, и «производственным» частным сектором, в котором как раз и создавалось все национальное богатство (O’Connor ; Bacon and Eltis ). Сама социализация капиталистического частного предприятия и рыночных отношений, которое считалось их спасением перед лицом двойной угрозы социализма и морального и социального разложения и распада, теперь казалась противоречащей самому выживанию общества, основанного на капиталистической экономике. Эти экономические рассуждения прекрасно сочетались с другими вариантами критики социального правительства: неприятием правительства вообще; опасностью неминуемой перегрузки правительства; абсурдностью политиков, пытающихся переиграть рынок, выбирая победителей; заявлениями, что кейнсианское управление спросом подпитывало инфляционные ожидания и вело к ослаблению валюты. Другие утверждали, что меры, направленные на сокращение бед- 204 Николас Роуз ности, на самом деле вели к увеличению неравенства; что попытки помочь обездоленным на самом деле только ухудшали их положение, что введение минимальной заработной платы было невыгодно низкооплачиваемым работникам, так как оно вело к сокращению числа рабочих мест. Кроме того, сами бюрократы государства всеобщего благосостояния вместе со своими специалистами по социальному обеспечению и социальной экспертизе оказались под огнем критики со всех сторон политического спектра — от классических либералов и либертарианцев до левых критиков социального контроля девиаций и социал-демократических активистов, обеспокоенных недостаточной эффективностью социального правительства в деле сокращения неравенства. Казалось, что за их неуемными требованиями все большего финансирования их услуг стояла некая скрытая стратегия создания империи и обслуживания узких интересов; что на самом деле от гарантий занятости и социальных программ выигрывали средние классы, а не бедные; и что социальные службы на самом деле разрушали другие формы социальной поддержки — такие как местное сообщество, церковь и семью; что они создавали не социальную ответственность и гражданские чувства, а зависимость и иждивенческие настроения (Murray , Adler and Asquith ; Friedman ; ср.: Reich , а также анализ этой «риторики реакции»: Hirschman ). В то же время в самой империи велась междоусобная война между группами различных специалистов: экспертов по детям, пожилым, инвалидам, алкоголикам, наркоманам, матерям-одиночкам, санитаровпсихиатров, районных социальных работников, специалистов по занятости и многих других. Каждая из этих групп стремилась организоваться по профессиональному признаку и отстаивать свои права и свободу действий: мир социального обеспечения дробился и дальше вследствие постоянно возрастающего разделения труда и различных концептуальных и политических пристрастий. Точно так же потребители экспертизы стали понимать и относиться к себе и своему «социальному обеспечению» по-новому. В целом ряде секторов индивиды начали переосмыслять себя с точки зрения стремления быть здоровыми и как можно более нормальными. Окруженные образами здоровья и счастья в средствах массовой информации и в маркетинговых стратегиях, используемых в рекламе товаров и режимах потребления, выражая свое недовольство на убедительном языке прав, они создавали свои собственные ассоциации, оспаривавшие власть экспертизы, протестовавшие против отношения, которое казалось теперь покровительственным и лишающим их всякой самостоятельности, требовавшие увеличения средств, выделяемых на их нужды, и права участия в принятии решений, касающихся их жизни. Перед лицом одновременного умножения, фрагментации, оспаривания и делегитимации места экспертов в социальном правительстве должна была возникнуть новая формула отношений между правительством, экспертизой и субъективностью. ЛKOKQ 6, 2008 205 Было разработано множество стратегий. Гражданские либертарианцы стремились окружить экспертов юридическими ограничениями, судами и правами, которые могли корректировать их решения: эти техники были громоздкими, медленными и дорогостоящими и к тому же перераспределяли социальную власть в пользу новых экспертов; в Британии им удалось найти лишь ограниченную опору в реальности (Reich ; Adler and Asquith ). Левые критики обычно осуждали власть экспертов, видя в ней скрытый социальный контроль со стороны государства, и стремились отделить использование знания от злоупотребления им или освободительное подлинное знание от идеологии, которая искажала и легитимировала осуществление власти в «идеологических аппаратах государства». Радикальная политика экспертизы с ее собственной версией маоистского лозунга «лучше быть красным, чем экспертом» стремилась избавиться от всякой экспертизы (подобно антипсихиатрии и некоторым формам феминизма): «контрэкспертиза», которую они создавали, сама стремительно профессионализировалась, приобретая свои организации, педагогики и так далее. Другая левая политика экспертизы действовала под лозунгом «расширения компетенций» как в некоторых движениях за замену иерархически устроенных и управляемых предприятий рабочими кооперативами (напр.: Cooley ). В экономической области, по крайней мере в Британии, подобные инициативы встретили отпор не только со стороны боссов, но и со стороны традиционных представителей рабочих, обеспокоенных эрозией их собственной власти и кооптацией противоположных интересов в некий новый корпоративизм. Аналогичная судьба ожидала и попытки демократизации экспертизы в других областях, вроде психиатрии и права. Было бы ошибкой утверждать, что неоконсервативные политические режимы, пришедшие к власти в Британии и Соединенных Штатах в конце -х, опирались на связную и проработанную политическую рациональность, которую они затем стремились воплотить в жизнь; и еще большей ошибкой было бы утверждать, что главную проблему они видели в бюрократической и профессиональной власти. Поначалу, несомненно, эти режимы просто стремились разобраться с множеством различных проблем социального государства, чтобы сократить затраты, урезать власть профессиональных лобби и так далее. Но постепенно эти различные стычки рационализировались в сравнительно связную ментальность управления, которая стала называться неолиберализмом. Неолиберализму удалось реактивировать скептическое отношение к политическому управлению, характерное для классического либерализма, благодаря соединению различных элементов риторики реакции с рядом техник, ни одна из которых сама по себе не была особенно новой или примечательной, которые могли сделать эту критику управительной. Пожалуй, главный парадокс неолиберализма состоит в том, что, несмотря на представление себя в качестве кри- 206 Николас Роуз тики политического правительства, она остается программной a priori, то есть исходящей из того, что реальность поддается программированию властями: объекты правительства начинают мыслиться так, что их трудности могут быть диагностированы, им могут быть выписаны соответствующие рецепты и назначено лечение (ср.: Rose and Miller : ). Неолиберализм не отказывается от «стремления править»: он лишь считает, что неспособность правительства достигать своих целей следует преодолеть при помощи изобретения новых, успешных стратегий управления. Что же такое «развитое либеральное правление»? Неумеренное прославление или осуждение тэтчеризма вряд ли способно приблизить нас к его пониманию. Но все же можно выделить более скромную, хотя и более длительную трансформацию в рациональностях и технологиях управления. «Развитые либеральные стратегии» можно наблюдать в различных национальных контекстах от Финляндии до Австралии, причем проведением их в жизнь занимаются как правые, так и левые режимы в областях, простирающихся от контроля за преступностью до здравоохранения. Они ищут техники управления, которые создают дистанцию между решениями формальных политических институтов и другими социальными участниками, которые рассматриваются теперь как субъекты ответственности, автономии и выбора, и стремятся воздействовать на них посредством формирования и использования их свободы. Опишем вкратце три характерных сдвига. . Новое отношение между экспертизой и политикой. Государство всеобщего благосостояния можно считать «содержательной» рациональностью правления: экспертные концепции здоровья, уровни дохода, типы экономической деятельности и так далее более или менее прямо вписывались в машинерию и цели политического управления. Одновременно сами силы, которыми технологии социального обеспечения наделяли экспертов, позволяя им производить «огораживания», отделяя экспертов от внешних политических попыток управлять ими и их решениями и действиями. Напротив, развитые либеральные формы правления имеют некоторый «формальный» характер. Вопросы, некогда зависевшие от позитивного знания человеческого поведения, передаются теперь калькулятивным режимам учета и финансового управления. И «огораживания» экспертизы пронизывались через ряд техник для осуществления критического надзора за властью; наиболее важными из них были бюджетная дисциплина, отчетность и аудит. Они, конечно, опираются на притязания на истину, но эти притязания отличаются от притязаний социальных и гуманитарных наук: этим «неприметным наукам», этим ноу-хау учета, расчета, мониторинга, оценки удается быть одновременно скромными и всесильными, ограниченными и все же безграничными в своем применении к таким различным проблемам, как уместность использования медицинской процедуры и жизнеспособность университетского факультета. ЛKOKQ 6, 2008 207 Задачей расширения влияния рынков, к примеру, является отделение политических машин от экспертных: очевидная деволюция регулирующих полномочий «сверху» — планирования и принуждения — «вниз» — решениям потребителей. В своей идеальной форме это образ «свободного рынка», где отношения между гражданами и экспертами организуются и регулируются не принуждением, а актами выбора. Речь идет о плюрализации экспертизы, но не путем выбора между противоположными позициями различных групп экспертов, а путем обращения социальных служб — отделов социального обеспечения, жилищнокоммунальных служб, служб здравоохранения — к «покупателям», которые могут выбирать, какие из предлагаемых услуг им «приобретать». Независимо от того, идет ли речь о разделении «покупателя / продавца» в здравоохранении, об «индивидуальном подходе» в социальном обеспечении, об автономизации школ от контроля местных образовательных властей, позволяющей им конкурировать на рынке за учеников, мы наблюдаем изменение политической значимости экспертизы, повышение ответственности экспертов за свои суждения, которые должны соответствовать теперь не только критериям истинности и компетентности, включения их в новые отношения власти. Точно так же монетизация играет важнейшую роль в преодолении замкнутости социального управления. Перевод деятельности — работы с пациентом, обучения студента, беседы социального работника с тем, кого он обслуживает, — в денежное выражение устанавливает новые отношения власти. Подталкивание людей к сокращению затрат само по себе является разновидностью управления индивидуальным поведением, которое становится мыслимым в соответствии с определенными нормами. Бюджетная дисциплина трансформирует деятельность получателя бюджетных средств, расширяя возможность выбора и одновременно регулируя и создавая новые способы обеспечения ответственности и добросовестности агентов, которые остаются формально автономными. Не просто в составлении бюджета, но в самой «бюджетизации» деятельности, понятия учета и решения отодвигаются на второй план и создаются новые диаграммы силы и свободы. В этих новых стратегиях управления аудит становится одним из ключевых механизмов ответа на многообразие экспертизы и внутреннюю спорность и неразрешимость соответствующих притязаний на истину. Майкл Пауэр показал, что аудит в самых различных формах начал заменять собой доверие, которое лежало в основе управления, опиравшегося на подготовленных профессионалов (Power , ). Как отметил Пауэр, аудит отвечает на «несостоятельность» и незащищенность при помощи «нового управления рисками». Риски нужно сделать управляемыми при помощи новых дистанционных отношений контроля между политическими центрами принятия решений и «неполитическими» процедурами, средствами и аппаратами — такими как школы, больницы или фирмы, — на которые возлагается ответственность за здоровье, 208 Николас Роуз богатство и счастье. В ходе этого происходит трансформация подвергаемых аудиту организаций: они становятся «аудируемыми», а поведение организаций и тех, кто в них работает, делается прозрачным. Аудит может обходиться очень дорого, но он распространяется во времени и пространстве и может касаться многих мест, канализируя и организуя деятельность и связывая центры расчета с местами осуществления по новым векторам. Несмотря на тот факт, что его «эпистемологические качества», возможно, даже ниже, чем у знания, на смену которому он приходит, и что в техниках аудита, в сущности, нет ничего нового, способ его деятельности, основанный на процедурах, а не на содержании, на внешне стабильных и все же бесконечно гибких критериях, вроде эффективности, уместности, результативности, делает его гибкой и весьма мобильной технологией для управления на расстоянии. . Новая плюрализация «социальных» технологий. Стратегии плюрализации и автономизации, присущие многим современным программам перестройки социальных технологий из разных частей политического спектра, отражают стремление к некоему «государству без управления» и «управлению без государства» — феномен, связанный с мутацией идеи «социального», этого изобретения конца XIX века, которое социология и правительство сделали своим главным объектом и целью. Связь между ответственным индивидом и их самоуправляемым сообществом начала заменять связь между социальным гражданином и обществом таких граждан (ср.: Rose b). В ходе этой мутации происходит отделение центра от различных регулирующих технологий, которые в XX веке он стремился собрать в единую рабочую сеть, и принятие вместо этого формы управления через определение возможностей и устремлений автономных образований: предприятий, организаций, сообществ, профессионалов, индивидов. За этим последовало насаждение определенных форм расчета агентам, замена одних норм, например, служения и верности, другими — например, нормами компетентности, качества и потребительского спроса. Затем были созданы различные сети подотчетности, а потоки подотчетности и ответственности были коренным образом перестроены. Пожалуй, решающее значение здесь имел демонтаж множества различных видов правительственной деятельности, прежде смонтированных в политический аппарат: феномен, ассоциирующийся в Британии с созданием квазиавтономных неправительственных организаций. Эти организации, которые теперь получили широкое распространение, выполняли функции регулирования, например, регулирования ценных бумаг и инвестиций в финансовом секторе, функции планирования, как в случае с новыми организациями, занимающимися управлением и обновлением городов, функции образования, как в организациях, отвечающих за профессиональную подготовку выпускников школ, обязательства по обеспечению прежде «общественных» услуг, вроде водо-, газо-, электроснабжения, «приватизации» госслужбы, тюрем ЛKOKQ 6, 2008 209 и полиции. Это было связано с изобретением и развертыванием множества других мер для управления этими образованиями, мер, акцент которых на внешней объективности и нейтральности чисел подкреплял утверждение, что они теперь действуют в соответствии с аполитичной программой (ср.: Hood ). Контракты, цели, индикаторы, показатели производительности, мониторинг и оценка использовались для управления их поведением, предоставляя им определенную автономию в принятии решений и ответственности за свои действия. Замена избирательных механизмов как способов обеспечения демократического контроля через множество промежуточных местных советов новыми техниками подотчетности, вроде представительства «партнеров» из разных «сообществ» — бизнеса, местных жителей, добровольных организаций, местных советов — в правлениях. Соответствующее переустройство политической власти не следует рассматривать сквозь призму противостояния государства и рынка: созданные и спрограммированные политическими властями, новые механизмы используются для связывания расчетов и действий гетерогенного множества организаций с политическими целями, управляя ими «на расстоянии» при помощи инструментализации регулируемой автономии. . Новое определение субъекта управления. Расширение полномочий клиента как потребителя — потребителя медицинских, образовательных, транспортных услуг — по-новому определяет субъектов правления: как активных индивидов, рассматривающих себя как своего рода «предприятие», максимизировать свое качество жизни посредством актов выбора, придать своей жизни смысл и ценность, чтобы ее можно было осмыслять как результат выбора, который уже был сделан или который еще только предстоит сделать (Rose , a). Политический разум должен теперь оправдывать и организовывать себя, рассматривая механизмы, которые соответствуют существованию людей как свободных и автономных по своей сути творений. При этом новом режиме активно ответственной личности индивиды выполняют свои обязательства перед страной не посредством своих отношений зависимости и обязательств друг перед другом, а посредством стремления к самореализации в множестве микроморальных областей или «сообществ» — в семьях, на работе, в школах, в досуге, среди соседей. Поэтому проблема в том, чтобы найти средства, позволяющие сделать индивидов ответственными посредством своих самостоятельных индивидуальных решений и тех, кому они верны, формируя образ жизни в соответствии с грамматиками жизни, которые широко распространены, но все же не зависят от политических расчетов и стратегий в своем обосновании и своем осуществлении (Rose b). Актуализация этой идеи активно ответственного индивида стала возможной благодаря развитию новых аппаратов, которые объединяют субъектов в моральную сеть идентификаций и привязанностей в самих процессах, в которых они принимают свои самые личные решения. 210 Николас Роуз Современные политические рациональности опираются на и используют множество технологий, которые внедряют и поддерживают цивилизующий проект, формируя и управляя способностями, компетенциями и желаниями субъектов, но при этом не подчиняются формальному контролю «государственных властей». К таким базовым средствам формирования нации, как общий язык, навыки грамотности и транспортные сети, наше столетие прибавило средства массовой информации с их педагогикой документальных фильмов и мыльных опер; опросов общественного мнения и других средств, которые обеспечивают взаимозависимость между властями и подданными; регулирование стилей жизни посредством рекламы, маркетинга и мира товаров; и экспертов по субъективности (Rose ). Эти технологии не имеют своего источника или принципа интеллегибельности в «государстве», но все же позволяют управлять в «развитом либеральном» ключе. Они создали множество непрямых механизмов, способных переводить цели политических, социальных и экономических властей в решения и привязанности индивидов, помещая их в реальные или виртуальные сети идентификации, которые позволяют управлять ими. Изменение субъекта управления накладывает определенные обязательства, но также открывает новые возможности для принятия решений и действий. Каждое из двух измерений социального правительства, рассмотренных мною ранее, подвергается преобразованиям. Так, социальное страхование как принцип социальной солидарности сменяется некой приватизацией управления рисками. В этих новых условиях страхование от будущих возможностей безработицы, болезней, старости и тому подобного становится частной обязанностью. Не только в прежде социализированных формах управления рисками, но и во всех остальных решениях, гражданин должен включать будущее в настоящее и научиться просчитывать будущие последствия таких различных действий, как диета и безопасность дома. Так, в обязанности активного гражданина входит освоение благоразумно-расчетливого отношения к судьбе, которая теперь рассматривается с точки зрения просчитываемых опасностей и предотвратимых рисков (O’Malley ). И социальная работа как средство прививания цивилизованности уступает место частному консультанту, руководствам в духе «помоги себе сам» и помощи по телефону как практикам, посредством которых каждый индивид связывает себя с советом специалиста как вопросом своей собственной свободы (Rose ). Регулирование поведения становится вопросом желания индивида свободно управлять собственным поведением с тем, чтобы максимизировать свое счастье и самореализацию, но такая максимизация образа жизни оказывается связанной с властью в тот самый момент, когда она объявляет себя результатом свободного выбора. Мы можем наблюдать здесь «обратимость» отношений власти — то, что начинается как норма для насаждения среди граждан, превращается в требование, которое граждане предъявляют властям. Индивиды должЛKOKQ 6, 2008 211 ны стать «экспертами по самим себе», принять сведущее и продуманное отношение заботы о себе, своих телах, своих умах, своих формах поведения и членах своих семей. Конечно, эта новая конфигурация имеет свои сложности, свои логики включения и исключения. Но «властные эффекты», конечно, не отвечают простой логике господства или представлению о власти как об «игре с нулевой суммой». Возьмем, к примеру, распространение новых психологических техник и языков «обретения уверенности в себе» (empowerment) для тех субъектов, которые теперь описываются как «маргинализированные» или «исключенные». Неолиберальные политические режимы использовали множество мер для сокращения пособий безработным, дисциплинирования преступников и нарушителей и насаждения личной ответственности, разрушения архипелага институтов, в которых социальное управление изолировало и разрешало свои социальные проблемы. Вряд ли удастся найти желающего минимизировать рост нищеты и обнищания, к которым приводят эти измененные определения ответственности индивидов за свою судьбу. Непросто, скажем, относиться к терминологическому сдвигу, в результате которого безработного начинают называть «ищущим работу», а бездомного — «ночующим в суровых условиях», без цинизма и отвращения. Но эти неолиберальные программы, которые относятся к страждущим так, как если бы они сами были авторами своей несчастной судьбы, имеют общие черты со стратегиями, озвучиваемыми с других политических позиций. С разных точек зрения обездоленный индивид начал рассматриваться как потенциально и идеально активный агент, самостоятельно творящий собственную судьбу. Люди, чья жизнь «лишена» возможности выбора и самореализации, больше не рассматриваются как пассивные получатели социальной помощи: это люди, чья личная ответственность и стремление к самореализации оказались искажены иждивенческой культурой, чьи попытки саморазвития на протяжении долгого времени завершались ничем, вследствие чего они страдали от «сознательной беспомощности» и крайне низкой самооценки. И помочь им должны были не услуги заботливых экспертов, предлагающих социальное обеспечение и пособия, а их участие во всем многообразии программ своего морального преображения в качестве активных граждан — прививая им навыки саморекламы и восстанавливая их самооценку, программы повышения уверенности в себе позволяют им занять закрепленное за ними по праву место самореализующихся и требовательных субъектов «развитой» либеральной демократии. Это не значит, что «создание» современного гражданина как активного агента, самостоятельно управляющего собой, является каким-то «изобретением» недавних политических режимов: условия для этого сдвига в нашем «отношении к себе» сложны и не имеют какого-то одного источника или причины (Rose a, b; ср.: Hacking ). Тем не менее этическое a priori активного гражданства в активном обще- 212 Николас Роуз стве, это переопределение этики личности, является, пожалуй, наиболее фундаментальной и наиболее общей чертой этих новых рациональностей правительства, полностью оправдывающей утверждение, что мы наблюдаем здесь не просто превратности одной политической идеологии — идеологии неолиберального консерватизма, — а нечто более важное, что поддерживает ментальности управления всех сторон политического спектра и что оправдывает описание всех этих новых попыток «переизобретения правительства» как «развитых либеральных». Причина господства правых на протяжении двух последних десятилетий заключается в том, что именно правым, а не левым удалось артикулировать рациональность правительства, созвучную этому новому режиму личности, развить программы, которые переводят эту этику в стратегии для регулирования конкретных проблем и сложностей, например, тех, что существуют на рынке жилья или в здравоохранении, и изобрести технические формы, которые обещают их разрешить. Именно правые, а не левые наладили связь с «политикой человеческих технологий», которая не просто ставит под вопрос отношения власти между экспертами и их субъектами, но стремится придать этому технологическую форму. Несмотря на всю левую критику государства вместе с властью экспертов и профессиональным и бюрократическим произволом, она не способна предложить альтернативные модели для регулирования этих формирующих граждан средств, которые отвечают потребностям плюральности. Способны ли левые предложить альтернативную рациональность для артикуляции этих плюральных технологий и автономизации этики, не утратив при этом олицетворяемых ими завоеваний и обеспечив защиту тем, кто в ней нуждается? Это потребует от левых артикуляции альтернативной этики и педагогики субъективности, которая была бы столь же убедительной, как и та, что присуща рациональности рынка и «признанию ценности» выбора. Заключение Формула либерального правительства, которое я назвал «развитым», гораздо важнее, чем может показаться на фоне краткого расцвета неолиберальной политической риторики. Если стратегии государства всеобщего благосостояния проводились через общество, то стратегии «развитого» либерального правления поднимают вопрос о возможности управления без управления обществом, то есть управления посредством регулируемых и ответственных решений автономных агентов — граждан, потребителей, родителей, работников, менеджеров, инвесторов — и управления посредством усиления и использования их привязанностей к определенным «сообществам». Будучи автономизирующей и плюрализирующей формулой правления, оно зависит от умножения небольших регулирующих инстанций по всей территории и их умножения на «молекулярном» уровне за счет «пустот» в нашем нынешнем ЛKOKQ 6, 2008 213 опыте. Оно зависит также от особых отношений между политическими субъектами и экспертизой, в котором советы экспертов соединяются с нашими собственными проектами самообладания и улучшения нашей жизни. В этой статье я попытался не столько дать оценку этих новых программ, стратегий или отношений, а, скорее, поставить под сомнение политические логики левых и правых, в которых суждения «за» или «против» настоящего кажутся слишком простыми и самоочевидными. «Свобода», спрограммированная недавними переконфигурациями власти и экспертизы, конечно, не является простым освобождением субъектов от мрачных оков политической власти, когда они, наконец, оказываются на залитых солнцем лужайках свободы и сообщества. Но в то же самое время она не является идеологическим вымыслом или показной риторикой. Я попытался показать, что свобода, от которой зависят либеральные стратегии управления и которую они используют множеством различных способов, не является «естественным» свойством политических субъектов, которые только и ждут, чтобы их освободили от наложенных на них ограничений, чтобы расцвести в формах, которые гарантируют максимизацию экономического и социального благосостояния. Практики современной свободы были созданы из сложного, хаотичного и случайного сгустка проблематизаций, стратегий управления и техник регулирования. Это не значит, что наша свобода — это обман. Это значит, что агонистическое отношение между свободой и правительством является неотъемлемой составляющей того, что известно нам под именем «свободы». И, на мой взгляд, ключевая задача изучения властных отношений состоит в критическом анализе этих практик свободы. Перевод с английского Артема Смирнова Литература Фуко М: 1996. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., Касталь. Фуко М. 1999. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem. Фуко М. 2005а. Искусство государственного управления 6 М. Фуко. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М.: Праксис. Фуко М. 2005б. Omnes et singulatim: к критике политического разума 6 М. Фуко. Интеллектуалы и власть. Ч. 2. М.: Праксис. Хайек Ф. А. 2005. Дорога к рабству. М.: Либеральная миссия. Adler M. and S. Asquith (eds.). 1981. Discretion and welfare. London: Heinemann. Bacon R. and S. Eltis. 1976. Britain’s economic problems: too few producers? London: Macmillan. Burchell G. 1991. Peculiar interests: civil society and governing ‘the system of natural liberty. ’ In: Burchell et al. (1991), 119 – 150. Cooley M. 1980. Architect or bee: the human / technology relationship. Slough, England: Langley Technical Services. 214 Николас Роуз Donzelot J. 1979. The policing of families [with a foreword by G. Deleuze]. London: Hutchinson. Donzelot J. 1991. The mobilization of society. In: Butchell et. al. (1991), 169 – 180. Ewald E. 1991. Insurance and risk. In: Burchell et al. (1991), 197 – 210. Foucault M. 1980. The politics of health in the eighteenth century. In: Power / knowledge. C. Gordon (ed.). 166 – 182. Brighton: Harvester. Foucault M. 1989. Resumes des cours. College de France, Paris. Friedman M. 1982. Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press. Giddens A. 1990. Consequences of modernity. Cambridge: Polity. Gordin C. 1980. Afterword. In: Michel Foucault: Power / Knowledge. C. Gorgon (ed.), 229 – 260. Brighot: Harvester. Gordon C. 1986. Question, ethos, event. Foucault on Kant and Enlightenment. Economy and Society. 15 (1), 71 – 87. Gordon C. 1987. The soul of the citizen: Max Weber and Michel Foucault on rationality and government. In: Max Weber: rationality and modernity. S. Lash and S. Whimster (eds.), 293 – 316. London: Allen and Unwin. Gordon C. 1991. Governmental rationality: an introduction. In: Burchell et al. (1991), 1 – 52. Hacking I . 1986. Making up people. In: Reconstructing individualism. T. C. Heller et al. (eds), 222 – 236. Paolo Alto, CA : Stanford University Press. Hacking I . 1991. The timing of chance. Cambridge: Cambridge University Press. Hayek F. A. 1979. The Constitution of Liberty. London: Routledge and Kegan Paul. Hirchman A. 1991. The rhetoric of reaction. Cambridge, MA : Belkanp Harvard. Hood C. 1991. A public management for all seasons. Public Administration. 69 (1), 3 – 19. Lasch S. and J. Urry. 1994. Economies of signs and spaces. Cambridge: Polity. Miller P. and N. Rose. 1989. Political rationalities and technologies of government. In: Texts, contexts, concepts. S. Hanninen and K. Palonen (eds), 171 – 183. Helsinki: Finnish Political Science Association. Miller P. and N. Rose. 1990. Governing economic life. Economy and Society. 19 (1). 1 – 31. O’Connor J. 1972. The fiscal crisis of the state. New York: St. Martin’s Press. Oestreich G. 1982. Neostoicism and the modern state. Cambridge: Cambridge University Press. O’Malley P. 1992. Risk, power and crime prevention. Economy and Society. 21 (2). 283 – 299. Osborne T. 1994. Bureaucracy as a vocation: governmentality and administration in nineteenth century Britain. Journal of Historical Sociology. 7 (3). 289 – 313. Parton N. 1991. Governing the family: child care, child protection and the State. London: Macmillan. Pasquino P. 1991. «Theatrum Politicum»: the genealogy of capital — police and the state of prosperity. In: Burchell et al. (1991). 105 – 118. Power M. 1992. The audit society. Paper delivered to London History of the Present Research Network, 4 November 1992. Power M. 1994. The audit society. London: Demos. Procacci, G. 1989. Sociology and its poor. Politics and Society. 17. 163 – 187. Rabinow P. 1989. French modern: norms and forms of the social environment. Cambridge, MA : MIT Press. Reich C. 1964. Individual rights and social welfare. Yale Law Jurnal. 74. 1245. Rose N. 1985. The psychological complex: psychology, politics and society in England, 1869 – 1939. London: Routledge and Kegan Paul. Rose N. 1987. Beyond the public / private division: law, power and the family. Journal of Law and Society. 14 (1). 61 – 76. ЛKOKQ 6, 2008 215 Rose N. 1990. Governing the soul: the shaping of the private self. London: Routledge. Rose N. 1992. Governing the enterprising self. In: The values of the enterprise culture: the moral debate. P. Heelas and P. Morris (eds). 141 – 164. London: Routledge. Rose N. 1993. Towards a critical sociology of freedom. Inaugural Lecture delivered on 5 May 1992 at Goldsmiths College, University of London: Goldsmiths College Occasional Paper. Rose N. 1994. Eriavoisuus ja valta hyvinvointivaition jaikeen. Janus. 1. 44 – 68. Rose N. 1995a. Authority and the genealogy of subjectivity. In: De-traditionalization: authority and self in an age of cultural change. P. Heelas, P. Morris, S. Lash (eds). Oxford: Basil Blackwell. Rose N. 1995b. Identity, genealogy, history. In: Questions of cultural identity. S. Hall and P. du Gay (eds). London: Sage. Rose N. 1996a. Inventing our selves: psychology, power and personhood. Cambridge: Cambridge University Press. Rose N. 1996b. The death of the social? Refiguring the territory of government. Economy and Society. 25 (3). 327 – 346 Rose N. and P. Miller. 1992. Political power beyond the state: problematics of government. British Journal of Sociology. 43 (2). 172 – 205. 216 Николас Роуз µX ÁZX ¼ W³µ X½ K¸ О суверенности . Вызов Империи уверенной демократии» всегда не хватало внятного антонима. «С Не на уровне «грубой реальности» — подотчетных демократий в мире вполне достаточно, — а на уровне концепции, которая логически определила бы демократию через подотчетность. Теперь такая концепция появилась благодаря интеллектуальной честности Роберта Кейгана. Один из главных тезисов его статьи о «Конце конца истории» сводится к утверждению, что необходимым и достаточным критерием принадлежности к «демократическому миру» является признание глобального «права на вмешательство». Вы признаете право «международного сообщества» на вмешательство, «международное сообщество» в ответ признает вас демократией — эта формула недвусмысленно вводит идею демократии в контекст глобального имперского порядка, внутри которого надгосударственная инстанция действует как источник легитимности нижестоящих властей. В роли такой инстанции может выступать непосредственно США как мессианское сверхгосударство или некий международный синклит «государств-единомышленников», — в конечном счете, это не так уж важно. Важно то, что критерием демократичности государства выступает его отказ от суверенитета. Смысл демократии при этом кардинально меняется. Из механизма самоуправления и, как сказал бы Кант, «самозаконодательства» для человеческих сообществ она превращается в своего рода универсалистскую религию, кодифицированную через определенный набор предписаний и запретов и имеющую верховную интерпретирующую инстанцию. По всей видимости, любой имперской власти свойственна некоторая теократическая тенденция. Ее претензию быть источником высшей легитимности для де-факто самостоятельных от нее властей трудЛKOKQ 6, 2008 217 но оформить иначе, чем в религиозной или квазирелигиозной манере. Это сказывается на характере международной полемики, привнося в нее атмосферу религиозных войн. Например, когда Кейган настаивает на том, что «российские лидеры не просто автократы», но политики, которые «верят в авторитаризм», то в этом читается аргумент из области политической теологии: «Они не просто грешники. Они еретики»¹. На грешников и лицемеров империя легко может закрыть глаза безо всякого ущерба для своих принципов, но «каноничность» публичного исповедания подданных — это политический вопрос. Вопрос их лояльности или не лояльности глобальной власти. В этой связи у предполагаемых российских «еретиков» остается, в общем, лишь две возможности реагирования. Первая состоит в том, чтобы на новом уровне вернуться к дискурсу «переходного периода», неявно признав авторитарный характер собственного режима и объявив его вынужденной и переходной формой политической системы. Иначе говоря, понять, что мы все же «грешники», а не «еретики». Критерий различения одного от другого в данном случае довольно прост: «грешником» авторитарист является в том случае, если признает себя «плохим демократом», «еретиком» он является в том случае, если признает себя «истинным демократом». Признав себя «незавершенной демократией», российский режим нисколько не погрешил бы против истины и при этом существенно смягчил бы «статью» обвинения. Быть может, нечто подобное и произойдет в диалоге обновленного Кремля с западным миром. И надо сказать, что эта возможность, хотя и является наиболее простой, не обязательно примитивна, поскольку, усыпляя бдительность империи, она совместима с прорастанием реально-политических основ суверенитета. Вторая возможность состоит в том, чтобы сформировать на месте убогого авторитарного «символа веры», инкриминируемого нам Кейганом, полноценную идеологическую легитимацию, значимую в универсальном масштабе. Дело в том, что авторитаризм сам по себе не содержит никакого принципа легитимности. Он может опираться на принципы харизматической легитимности по Веберу, на принципы «комиссарской диктатуры» по Шмитту (которую можно было бы назвать «проектной», ¹ Это тем более верно, что в отличие от ситуации «холодной войны», когда имело место открытое с обеих сторон, симметричное идеологическое противостояние, здесь речь идет о режимах, которые ни в коей мере не стремятся заявлять о своей идеологической ангажированности, лишены мессианского пафоса и подчеркнуто безразличны к «цвету кошки», которая должна, по известному выражению Ден Сяо Пина, «ловить мышей». Иначе говоря, речь идет о характерном для поисков ереси «жесте разлоблачения». В данном случае — технократов, уличенных в том, что на самом деле они инаковерующие. 218 Михаил Ремизов поскольку в ее случае диктатор оправдывает себя необходимостью исполнения неотложных задач), на принципы «воспитательной диктатуры» по Руссо… Иными словами, вера в авторитаризм невозможна. Возможна вера, представляющая авторитаризм в более высоком свете. Но в таком случае, она должна быть предъявлена². Попытки обоснования российского авторитаризма через ссылки на особенности национальной политической культуры явно не могут заменить этой отсутствующей веры. Хуже всего то, что в этих попытках эвфемизмом авторитарности оказывается сам суверенитет. Если говорить об официальной, авторской редакции «суверенной демократии», то суверенитет предстает в ней не в самом выигрышном свете — как синоним «туземной» специфики общества, которую власть стремится капитализировать в своих интересах. На мой взгляд, и попытка «спрятать» суверенитет в дискурсе уважения к «местным особенностям», и попытка оправдать его как ресурс для глобальных рыночных игр власти («игр конкурентоспособности») является типичным проявлением постсуверенного мышления. Речь идет о весьма неудачном сочетании позиции одновременно вызывающей и конформистской (по отношению к глобалистскому мейнстриму), которое делает идею «суверенной демократии», в ее существующем виде, не идеологическим щитом, а красной тряпкой. Менее вызывающими, но ничуть не более убедительными являются попытки противостоять философии вмешательства, апеллируя к международному праву и протестуя против двойных стандартов. И то, и другое стало фирменным стилем российской внешней политики, будучи, увы, примером все той же дурной тенденции: защищать суверенитет в категориях постсуверенного мышления. Борьба с «двойными стандартами» является не только формой признания самих стандартов (международной «правозащитной деятельности»), но и формой признания приоритета тех, кто их формулирует. В политике Вашингтона и Брюсселя заключена претензия на то, что их решения по конфликтным вопросам международной жизни представляют собой акты судебной, а не политической власти (акты применения «стандартов», а не воплощения «интересов»), ибо такова в своей основе власть империи. Подавая бесконечные апелляции на их «неправедный суд», Москва поддерживает эту претензию и оказывается включена в логическую конструкцию имперской гегемонии. ² В этой связи можно отметить системное отличие между авторитаризмом и либеральной демократией. Если легитимация демократической власти заключена в процедуре ее формирования и правилах ее осуществления, то легитимация авторитарной власти заключена в ее целях и результатах. Соответственно, без идеологии, трактующей эти цели и результаты в должном масштабе, авторитаризм является для либеральной демократии не «противником» и не «альтернативой», а исключительно мальчиком для битья. И несомненно, будет использоваться по этому назначению. ЛKOKQ 6, 2008 219 Апелляция к международному праву сама по себе — вполне уместный и банальный прием. Но в российском исполнении она превращается в отчаянный легитимизм, сводящийся к вере в то, что суверенные права государств гарантированы международным правом. В действительности, все наоборот: международное право является функцией государственного суверенитета и не имеет иных источников легитимности. Это значит, что защита суверенитета в рамках международного порядка по сути не может быть правовой, но только лишь политической. По меньшей мере, таков суверенный взгляд на этот вопрос. Я уже имел случай писать о том, что привычка воспринимать суверенитет как данность, прописанную в скрижалях и принадлежащую каждому государству по факту его членства в ООН , всерьез препятствует делу реального суверенитета. Если угодно, она мешает воспринимать его как практическую ценность, то есть как нечто весьма редкостное, нуждающееся в культивации, и одновременно жизненно необходимое. В свое время эта мысль неожиданно проскользнула в одной из бесед Владимира Путина с эмиссарами западной общественности, но осталась, увы, не вполне раскрытой и не слишком замеченной. А между тем, нам бы стоило, в самом деле, определиться: в чем мы видим ценность суверенитета? Иначе говоря, его редкостность, с одной стороны, и жизненную необходимость — с другой? . Смертный Бог Думаю, ответ на первую часть этого вопроса (о редкостности) нужно начать с прояснения некоторых простых отличий: отличия суверенитета от власти и отличия власти от силы. В этом ряду понятий «сила» наименее уникальна. Она больше всего похожа на вещество, которое действует по «закону сохранения» — «если в одном месте убудет, то в другом непременно прибудет», — и которое лежит в основании властной пирамиды. Любая власть, несомненно, предполагает определенный силовой потенциал, который может быть большим или меньшим. Но как таковая власть представляет собой не силу, а признанное полномочие, которое поверяется по принципу «или» — «или»: подчинением или неподчинением. Таким образом, в отличие от силы, власть — это уже не «количество», а «качество» или, выражаясь на старомодный лад, некая форма, организующая материю силы. Словом, власть — более редкая и сложная вещь, чем сила. Тем не менее и она, в различных проявлениях, вездесуща, вечна, способна на любые превращения и реинкарнации. О суверенитете же нельзя сказать ничего подобного. Он представляет собой исторически уникальную конфигурацию власти, сложившуюся в современную эпоху, в рамках современного государства. Уникальность этой конфигурации состоит в том, что она предполагает концентрацию различных форм власти — военно-полицейской, экономической, символической, — на одном и том же уровне, 220 Михаил Ремизов на уровне государства³, чья власть благодаря этой концентрации становится исключительной (т. е. не допускающей пересечений с властью других государств) и верховной (по отношению к негосударственным сферам власти). Как видим, удивительное свойство суверенитета состоит в том, что он одновременно преходящ и абсолютен. Абсолютен не в смысле «всемогущества», а в том смысле, что это «исключительное верховенство» невозможно «поделить», «распределить» или «ограничить». Невозможно — логически. А утратить или упразднить, разумеется, можно. Вот уж воистину, «смертный Бог». Карл Шмитт, размышляя о природе государственного верховенства, увидел его источник в способности быть инстанцией политического насилия, способности вести войну против публичного врага и проводить мобилизацию. Эта политическая прерогатива государства совершенно необходима для понимания его суверенитета. Но вместе с тем явно не достаточна. Чтобы обладать верховенством, государству необходима своего рода метафизическая прерогатива. На чем должна основываться власть, над которой на этой земле нет никакой иной власти? Она должна основываться на весьма серьезной онтологической претензии — претензии на репрезентацию целостности общества. А возможно, и полноты мира, выступающего как парафраз общества. Эта претензия может мыслиться и выражаться по-разному, в зависимости от тех форм культа, в которых общество опосредует идею собственной целостности. Сама способность к такому опосредованию (и потребность в нем) вряд ли изначальна, она требует определенного уровня культуры и выступает «метафизической» предпосылкой суверенности. Две ипостаси государства — как субъекта политической мобилизации общества и как инстанции его символической репрезентации — логически связаны друг с другом, но исторически не тождественны. Так, репрезентативная мощь была заключена во власти пап и императоров, которые оспаривали друг у друга прерогативу олицетворять единство (христианского) мира, воплощать неизменность его закона, быть источником легитимности для нисходящих уровней власти. Но на протяжении большей части истории средневековой Европы эта космологическая претензия Рима (в обоих аспектах его идеи, имперском и церковном) находилась в определенном противоречии с политической слабостью ее носителей. Лидерами в смысле политической мобилизации и концентрации ресурсов были королевские дворы, которые, однако, не обладали суверенностью до тех пор, пока приоритет пап и императоров оставался в силе. Ситуация, при которой приоритет мобилизации (короли) и приоритет репрезентации (папы и императоры) были отделены друг от друга, ³ См. об этом статью Пьера Бурдье «Дух государства: генезис и структура бюрократического поля» http:6www.archipelag.ru / geoeconomics / kapital / statute / spirit. ЛKOKQ 6, 2008 221 была ситуацией отсутствия суверенитета. Соответственно, их соединение может означать его рождение. Что, собственно, и утверждается при возведении «принципа суверенитета» к событию Вестфальского мира, в котором имперская власть дезавуировала свое верховенство. С исторической точки зрения «вестфальскую» генеалогию суверенитета многие считают мифом. Так, историк Бенно Течке вполне убедительно утверждает, что «вестфальские соглашения о мире не содержали принципа современного суверенитета и связанных с ним международных отношений», а «вестфальская система оставалась по сути своей досовременной». Если бы речь шла лишь о точности датировки, подобными соображениями можно было бы пренебречь. В конце концов, даты рождения эпох не обязаны быть точными. Однако в данном случае сомнение касается самого понятия суверенитета: того, насколько оно совместимо с пониманием государства как формы осуществления династией ее патримониальной собственности на землю. Этот вопрос можно оставить открытым или просто снять, конвенционально отграничив суверенитет «патримониальный» от того суверенитета, что нас интересует — «современного» (Течке поступает именно так), поскольку они действительно в корне различны. Но я бы предпочел большую определенность, заключенную в убеждении, что суверенитет как таковой в принципе не есть собственность. Поскольку в идее собственности, феодальной в том числе, заключено, что право, которым она удостоверяется, имеет внешний по отношению к ней характер. Что в корне противоречит самоучредительной претензии суверенитета. Как бы то ни было, «вестфальский суверенитет» как таковой действительно является незавершенным. Чего ему не хватает для полноты? Быть может, революции? В самом деле, можно предположить, что конструкция суверенитета получает завершенность, когда, в дополнение к достигнутому соединению мобилизационной и репрезентативной мощи, верховная власть подвергается «абстракции» (теоретической и практической) и переходит от конкретного лица к «народу». Однако, делая такое предположение, мы совершаем большую несправедливость: мы оставляем в пространстве суверенности лишь Руссо и выводим из него Гоббса. Но представительное лицо Гоббса есть несомненный суверен. Да, он не является как таковой «народом», но он не является и феодалом, поскольку он видит в своей власти способ поддержания общества, а не способ владения землей. Персонифицированный суверенитет может в не меньшей степени быть общественной функцией, чем суверенитет абстрактный. Поэтому недостающее звено суверенности следует искать где-то в другом месте, и полагаю, что таким звеном является оформление того аспекта власти, который Фуко называет «правительственностью». Он не является изначальным и вступает в права в Новое время, где-то в XVIII веке, как полагает Фуко. Следуя его пояснениям, можно заключить, что «правительственность» — это выход из состояния власти, 222 Михаил Ремизов зацикленной на самое себя и озабоченной лишь собственным воспроизводством посредством общества. Суть правления (как типа власти) состоит в том, что оно осуществляется не (только) в соответствии с потребностями господства, но и в соответствии с автономной логикой общественной реальности во всем ее многообразии. Эта эволюция власти обусловлена, несомненно, не прогрессом нравов власть предержащих, а развитием предметных отраслей социального знания, таких, как экономика или демография. Благодаря когнитивному повороту к восприятию общества как системы стала возможна ориентация правительственных техник на население — как цель, а не только как средство власти⁴. Навеянная опытом науки системность в восприятии общества является такой же теоретико-познавательной предпосылкой суверенитета, как и мышление в категориях целостности. Это еще один повод задуматься о том, что суверенитет — весьма рафинированный плод цивилизации, требующий для своего поддержания среди множества прочих условий определенного уровня (и возможно, определенного типа) теоретической культуры общества. Именно с рождением идеи «правительственности» государство предстало в современном виде — уже не как способ снятия ренты с общества для проведения династической политики, а как функция самого общества, способного планомерно воспроизводить себя, а также концентриро⁴ Что касается самого Фуко и его отношения к идее «правительственности», то мне могут напомнить, что он вводит ее в противовес идее «суверенитета». «Если конечная цель суверенитета, — пишет он, — заключена в нем самом и если суверенитет извлекает из самого себя орудия управления в виде законов, то… конечная цель правительства заключена в управляемых им вещах (в „некотором подобии комплекса, образованного людьми и вещами“, как он формулирует в другом месте — М. Р.); она состоит в поисках совершенствования, расширения и интенсификации направляемых правительством процессов…». (Логос. . № – ()). Суверенитет действительно является целью в себе и неотъемлемо содержит самоучредительную претензию («извлекает из самого себя орудия управления в виде законов»). Но сама эта претензия как раз в корне несовместима с тем отчуждением субъекта политического господства от его объекта, которое здесь неявно приписывается логике суверенности. Суверен (кем бы он ни был, персоной или народом) необходимо опосредует себя не только «территорией», но и «населением», с тем, чтобы в его (суверена) лице оно из «субстанции» превращалось в «субъект». И ничто не мешает тому, чтобы в этом опосредовании был совершен переход от спекулятивной идеи служения «общественному благу» (о значении которой для связи «суверенитета» и «общества» упоминает Фуко) к практической и обязывающей идее «правительственности». Иными словами, отношение этих двух идей характеризуются скорее дополнительностью, чем антагонизмом. Фуко это нехотя признает, говоря о том, что «суверенитет отнюдь не исчезает с возникновением нового искусства управления… напротив, он представляется более актуальным, чем когда бы то ни было». Можно сказать и более определенно. Вряд ли «правительственность» как тип отношения власти к населению могла возникнуть вне контекста формирующегося суверенитета. Больше того, будучи изначально встроена в этот контекст, именно она придала ему необходимую завершенность. ЛKOKQ 6, 2008 223 вать и реконфигурировать ресурсы для достижения политически значимых целей. В этой эволюции можно усмотреть вполне определенную логику, ведущую к рождению суверенитета. Она состоит в том, что способность власти олицетворять общество (репрезентация) должна быть дополнена способностью концентрировать критическую массу ресурсов общества в своих руках (мобилизация) и способностью обеспечивать планомерное воспроизводство общества через поддержание регулирующих систем (управление). Иными словами, посредством суверенитета как формы комплексной власти, основанной на концентрации разноплановых прерогатив и ресурсов, общество не только отображает или воображает, но и воплощает в жизнь собственную целостность, т. е. является субъектом в отношении самого себя. Социологи привыкли воспринимать целостность (а потом, в лице Лумана, и самореферентность) общества как методологический постулат. Но, по сути, это довольно поздний продукт и, если угодно, артефакт суверенного государства⁵. Которое, с этой точки зрения, является не одним из многочисленных фетишей современного мира, а способом воспроизводства Современности как таковой. . Возвращение в Современность Можно сколь угодно долго спорить, в чем суть и порождающий принцип той взаимосвязи идей и институтов, которую мы называем «современностью». В рационализации, эмансипации, секуляризации или в чем-то еще? Правильного ответа, по всей видимости, не существует. Но существует некая универсальная отправная точка для понимания современности и рассуждения о ней. Она состоит в том, что современное общество обречено на проектный способ существования. Это не значит, что оно обязательно порывает с традицией. Без традиции современность немыслима, как и все остальное. Но в рамках современности традиция не может быть самоочевидным и достаточным основанием легитимности общественного порядка в целом и порядка власти в частности. Обнаружение этих оснований становится проблемой, которая решается в ходе политико-идеологической жизни общества⁶. Недаром рождение современности ознаменовано бумом концепций «общественного договора», авторы которых стремились не столько делегитимировать «старый порядок», сколько релегитимировать власть и государство как таковые. Общим знаменателем этих концеп⁵ ⁶ Косвенно об этом свидетельствует и юный возраст социологии, возникшей лишь тогда, когда презумпция целостности общества уже в достаточной мере стала самоочевидной благодаря действию механизмов социализации под эгидой современного государства. См. об этом Капустин Б. Современность как предмет политической теории. М., . 224 Михаил Ремизов ций являются три фундаментальных свойства современного мышления: это, во-первых, осмысление общества в аспекте его способности к самоучреждению, во-вторых, понимание самоучреждения как процесса, которому сопричастны все члены общества, в-третьих, это введение идеи суверенитета как конкретной формы самоучреждения общества. Концепции «общественного договора» были подвергнуты ревизии со стороны субстанциального мышления Гегеля и историзма романтиков. Но эта ревизия не отвергала названных основоположений, а лишь была призвана показать, что самоучреждение необходимым образом происходит не в рамках абстрактного, а в рамках исторически определенного и ограниченного общества, чья идентичность задана не только внутренними (через способность к самоопределению, самозаконодательству), но и внешними отношениями (через соотнесение с себе подобными)⁷. Так или иначе, для консервативных критиков «общественного договора» точно так же, как и для его теоретиков, средоточием современного способа существования общества является суверенитет. Общество не может быть современным иначе, чем перманентно учреждая самое себя, и оно не может учреждать, определять, проектировать себя иначе, чем отчуждая от себя ту инстанцию, в лице которой оно является субъектом. По отношению к себе и к другим. Эта инстанция — независимо от того, является ли она гоббсовским «представительным лицом» или руссоистской «общей волей», — и является сувереном. Несложно заметить, что метафизика суверенитета является частным случаем западной метафизики субъекта (и это еще один способ напомнить о ее культурно-исторической уникальности), согласно которой средоточием человека выступает его Я, и это Я конституирует себя в акте самосознания (в созерцательных философиях) или действия (в философиях активистских). «Я полагает само себя», говоря словами Фихте, который в своем лице удачно соединил идеолога субъектности трансцендентальной и национальной. Вполне естественно, что философию «смерти субъекта», которая была разработана в постклассической мысли, часто пытаются приме⁷ На первый взгляд, мышление романтиков может показаться несовместимым с проектностью модерна, но в действительности метафора национального «пробуждения», играющая в их конструкциях принципиальную роль, является не чем иным, как органицистским аналогом того, что Кант считал сутью Просвещения — переход к «совершеннолетию». Речь идет лишь об иной форме осмысления кардинальной для современности проблемы самоучреждения общества. Причем форме, восполняющей вопиющие пробелы договорного и рационалистического мышления. В этом смысле, Курт Хюбнер в своей книге «Нация» имеет все основания утверждать, что с привычкой оттеснять политическую философию романтизма на периферию или за рамки современности должно быть покончено, поскольку «современное государство уходит своими корнями в Просвещение и романтизм». ЛKOKQ 6, 2008 225 нить для деконструкции суверенитета⁸, чтобы подать в одной упаковке «смерть человека» à la Фуко и «смерть государства» à la Аттали⁹. Такого рода критика, однако, имеет обратный эффект, принося пользу делу обоснования суверенитета. Прежде всего она позволяет избавиться от доводов наивного индивидуализма, не устающего утверждать, что «реальны» лишь отдельные люди, а общество и производные от него категории — лишь абстракция. Постклассическая философия показывает, что персональная идентичность является «конструктом» в не меньшей мере, чем социальная идентичность во всех ее разновидностях. Там же, где эта философия пытается сделать политические выводы из своей критики и утверждает, что, «разобрав» конструкт личности или социальной общности, мы тем самым дезавуируем его, она терпит заведомую неудачу. Кажется, Славой Жижек настаивал на том, что критика идеологии, сколь бы изощренна она ни была, ни в коей мере не подрывает оснований самой идеологии, поскольку последняя представляет собой не просто «ложное сознание», а ложное сознание, встроенное в структуру воспроизводства реальности. Можно пойти дальше, сказав, что онтологически необходимое заблуждение заблуждением вообще не является. Это в точности верно для «метафизики субъекта». Она не может быть «теоретически опровергнута». Поскольку то, что можно назвать личностной идентичностью, центростремительным образом человеческого Я, а в наиболее общем виде — идеей субъекта — не является некоей концепцией, описывающей человеческую реальность, а является, по выражению Курта Хюбнера «необходимым практическим постулатом». Необходимым — в рамках нашего способа быть человеком. Не больше, но и не меньше. Что, в таком случае, остается на долю критиков? Извлечение следствий. Следствий возможного отказа от названного практического постулата и следствий его принятия. Причем второе им удается значительно лучше, чем первое. Критики «метафизики субъекта» — самые разнообразные, от Хайдеггера до Маркузе, — были прежде всего людьми классической западной культуры, т. е. носителями этой самой метафизики. Поэтому контуры альтернативной антропологии были в их исполнении гораздо менее убедительными и обстоятельными, чем анализ тех капитальных следствий для образа человека и его мира, которые влечет осмысление себя в категориях субъектности. Эти следствия, многократно проклятые одними и превознесенные другими, хорошо известны: самодисциплина, связное мышление, ответ⁸ ⁹ См., напр., статью Николая Плотникова в журнале «Апология» http:6www.journalapologia.ru / rnews. html? id=&id_issue= Манифестом, в котором образы постгосударственного и постчеловеческого будущего слились в единой программе тотальной эмансипации, стала книга «Империя» Майкла Негри и Антонио Хардта. 226 Михаил Ремизов ственность за поступки, техническая рациональность и так далее. Их суть можно выразить одной фразой: в идее личности человек постулирует свою целостность с тем, чтобы непрерывно, всю жизнь следовать ей. В точности то же мы говорим об идее суверенитета применительно к обществу. Суверенитет есть, с одной стороны, постулирование целостности общества, с другой — проведение в жизнь определенного рода «политики целостности» за счет концентрации в руках государства нескольких системообразующих монополий: монополии на легитимное насилие, монополии на законодательство, монополии на денежную эмиссию, монополии на идентичость и исключительную лояльность граждан… Реализуя и осуществляя эти монополии в их взаимосвязи, государство производит системную целостность общества как свой главный продукт. Императивы этой политики целостности в чем-то аналогичны императивам личностной идентичности. Это унификация общества на базе единого культурного стандарта, достижение коммуникационной связности, продвижение социальной солидарности и межклассовой интеграции, становление единого пространства публичности, словом, все то, что считается атрибутами «нациегенеза». Именно «нацией» уместно назвать ту арену, на которой происходит действие суверенитета — от постулирования и репрезентации социальной целостности к ее политическому воплощению. Это вполне соответствует привычному (в логике «общественного договора») пониманию нации как пространства самоучреждения общества и, соответственно, как основного субъекта истории в эпоху Модерна. В самом деле, если мы понимаем современность как некий способ существования общества, при котором оно суверенно учреждает самое себя, то именно нация оказывается базовым носителем современности и соответствующего ей типа развития. Разумеется, в качестве субъекта развития может рассматриваться и выступать все, что угодно — предприятия, корпорации, социальные группы, отрасли промышленности, региональные рынки и так далее. Но модернизирующиеся общества отличаются от немодернизирующихся именно тем, что в них планомерно и сознательно обеспечивается приоритет определенного таксономического уровня развития — национального уровня, на котором население, государство, территория выступают как единая система. Параметры эффективности задаются на системе в целом, а не на отдельных ее элементах. Такой тип развития можно назвать целостным. В отличие от анклавного развития, которое наиболее органично спонтанному течению вещей, целостное развитие является искусственным, требующим культивации (как и сам суверенитет). Именно поэтому современность представляет собой проект, а не совокупность «объективных тенденций». Здесь, наконец, мы можем дать предварительный ответ на вопрос, заданный в первой части статьи. Для чего нам необходим суверенитет? ЛKOKQ 6, 2008 227 Нет, не для культивирования особенностей нашей политической культуры. И даже не для великодержавного престижа, который исключительно важен, но слишком легко может быть представлен как «недопустимая в данный момент роскошь». Он необходим для целостного развития России как страны-системы. И это значит — для модернизации. Из сказанного ясно, что модернизацию мы понимаем не как «переход» (откуда-то куда-то) или как «заимствование» (у кого-то чего-то), а как поддержание себя в состоянии современности. И это различие принципиально. Особенно сегодня, когда мы присутствуем при историческом коллапсе конформистских теорий модернизации. Тех, что видели в ней усвоение наиболее передового опыта западных стран¹⁰. Но как быть, если этот наиболее передовой опыт вступает во все более явное противоречие со смыслом современности как исторического проекта?¹¹ Здесь уместно вернуться к тому, с чего мы начали разговор. Настойчивая институционализация права на вмешательство и, в еще большей мере, своеобразное применение этого права в интересах демонстративно-показательного регресса, варваризации и фрагментации общества (Косово, Афганистан, Ирак) говорят о том, что Запад больше не является субъектом модернизации для остального мира. И большой вопрос — является ли он таковым для самого себя. Последнее нуждается в отдельном рассмотрении. Пока же просто зафиксируем, что в ситуации, когда западный маяк современности погас, модернизация оказывается уже не догоняющей, а альтернативной стратегией. Стратегией, в которой почвенники будут рады узнать оттиск «особого пути». Фантасты — контуры «параллельной истории». А стоики — просто шанс сохранить верность себе. Даже не из принципа, а из отвращения. Продукты распада современности заметны повсюду, и постсуверенное государство представляет собой зрелище не менее отталкивающее, чем постчеловеческий индивид. ¹⁰ ¹¹ Егор Холмогоров в статье «Модернизация и сверхмодернизация» справедливо критикует эти теории, но несправедливо отождествляет их с теорией модернизации как таковой. Принципиальная, логическая несводимость «модернизации» к «вестернизации» хорошо показана в уже упомянутой книге Бориса Капустина «Современность как предмет политической теории». См. об этом цикл статей Сергея Кургиняна «Медведев и развитие» в газете «Завтра» . 228 Михаил Ремизов Владимир Валентинович Калиниченко .. – .. Умер Владимир Валентинович Калиниченко. Он был вместе с нами в течение семнадцати лет. В редакционный совет журнала он вошел в году, когда мы готовили второй номер, в третьем вышла его статья «Густав Шпет: От феноменологии к герменевтике». Последнюю свою статью («Заметки об интенциональности» (№ , ) он не увидел опубликованной — номер запоздал, и статья вышла только в июле. «Заметки об интенциональности» заканчиваются многоточием. И предыдущая его статья на ту же тему — «К метакритике понятия интенциональности у Эд. Гуссерля», опубликованная в «Логосе» десятью годами ранее, — тоже заканчивалась многоточием. Но тогда за многоточием следовала приписка: «Продолжение следует». Продолжение последовало через много лет, но обернулось окончанием. Он мало писал — и в «Логос», и в другие издания; еще меньше публиковал. Всем, кто его знал, казалось, что он разбрасывается, не доводя начинаемого дела до конца. Но главное дело своей жизни — философию — он меньше всего понимал как «науку, которая пишется». Философствовал он в основном своей жизнью. В житейской странности его жизненных выборов, в складках его биографии таится метафизическая глубина. Написанное в его последней статье о «трансцендентальной ответственности философа» удостоверено его собственным опытом, а «осуществляет опыт, — как В. В. пишет там же, — не сознание, а человек». Трагический финал этой статьи, где В. В. характеризует феноменологию как «терапию предметности, похоронившую под тяжестью своих различий „сами вещи“», заставляет предположить, что сам автор ни в чем так не нуждался в последние годы, как в самой обычной терапии. И нужно ли добавлять, что он ее не получил, да и не мог получить: простой человеческой терапии ему все равно было бы мало, ведь его потребности и его усилия были слишком человеческими. А слишком человечные философы ищут, по словам Ницше, «дополуденной филоЛKOKQ 6, 2008 229 софии». В сумерках им не живется. Они вечно живут «между десятым и двенадцатым часом», когда день имеет такое «сияющее, просветленно-радостное лицо». В. В. любил пир и пиршественный стол. Но любовь эта была больше платонической: жизнь его всегда была мало приспособлена для пиршеств, а в последние годы, омраченные макабрическим натиском расплюевых, и подавно. Статья «Заметки об интенциональности» открывается посвящением, в котором автор обыгрывает шутку (юмором был окрашен весь его опыт) о «работниках» и «любителях» феноменологии. Он легко соглашается отнести себя к числу любителей. Но с нашей стороны было бы наивно принимать эту автохарактеристику за чистую монету. В. В. был любителем, потому что любил все то, из чего извлекал — а он извлекал! — опыт. И все же он принадлежал к небольшому числу тех, кто не зван, а избран в «работники». Работники одиннадцатого часа. Редакция журнала «Логос» 230 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008 Q³ WO³ ´ [K¼K ¸ X^YX^ Крестник П ознакомились мы с Володей в бане где-то в начале -х годов. Есть такая философская компания, которая ходит в баню. В то время такой баней для нас были Кадаши. Привел Володю в баню Валерий Лебедев, мой сослуживец по Физтеху. Володя состоял тогда мужем его сестры Люды. Они вскоре развелись, и Володя женился снова на Люде. Я говорил ему: «Пиши воспоминания под заглавием „В Людах“». По своим философским взглядам он был западником, то есть интересовался лишь западной философией, и здесь мы с ним общего языка не нашли. Однако связан он был с городом Вяткой и был заправским охотником. В Вятской губернии охотоведом работал его сын. Я недоумевал: «В тебе нет ни тени агрессии, кровожадности, и как ты можешь убить тетерева, когда он, полный сил, ухаживает за тетеркой?» Лицо Володи становилось каким-то охотничьим, и он жестко отвечал: «На охоте есть только охотник и дичь, все остальное отпадает». Любил Володя котов. Даже в общежитии к нему приходил тощий и ободранный кот, которого он называл красавцем и нежно гладил. Отношения с животными были у него весьма запутанные. Поступил Володя на кафедру философии Историко-архивного института, где работал и я после изгнания из Физтеха. Это было самое начало перестройки. Стычки на кафедре возникали по разным поводам. Мы вдвоем противодействовали остальным членам кафедры. Их противодействие нам было даже не противодействие идейных марксистов отступникам, а инстинктивное недоверие, переходящее во враждебность, людей абсолютно невежественных к людям каким-то иным, непонятным. После того как ректором стал Ю. Н. Афанасьев, а заведующим кафедрой — Валерий Дмитриевич Губин, эти люди ушли из института. На лекции Володя иногда ходил с Библией, читал из нее студентам. Что именно? Не знаю, а жаль, что вовремя не поинтересовался. Володя женился и поселился в крохотной однокомнатной квартирке в общежитии на Кировоградской улице. На мой взгляд, в браке он был счастлив. Родилось у них двое детей — Юра и Саша. Я традиционно ЛKOKQ 6, 2008 231 преподаю на Факультете информатики и Факультете защиты информации РГГУ , которые находятся рядом с общежитием. И после занятий частенько заглядывал к Володе. Они с Людой приспособили для жилья и кухню, но все равно теснота была ужасающая. Вдобавок, как и у всех нас, все завалено книгами. Атмосфера семьи прекрасная. Они жили надеждами на получение квартиры, обещанной Афанасьевым. Когда началась перестройка, Володя был привлечен в команду поддержки Афанасьева на выборах в Верховный Совет. Ездил по митингам, которые проходили тогда весьма бурно. Горланил так, что сорвал голос, хрипел. Поначалу восхищался молодостью и энергией новых правителей России. Особенно ему нравился Чубайс, на которого Володя был несколько похож. В философе проснулась жажда деятельности. Володя тоже хотел принимать участие в построении новой России. Но вскоре все иллюзии рассеялись. Как-то ехали мы вместе с какого-то выпивона под хмельком, и он мне выложил весьма энергично о тех же правителях: «Ты знаешь, ведь это воры и бандиты, они грабят и продают Россию!» И далее в том же духе. Однажды Володя говорит мне: «Сережа, я хочу креститься вместе с Юрой». И он был крещен в храме Рождества Богородицы, что в Старом Симонове, вместе с сыном. А я стал их крестным отцом (очень плохим). Квартиру Володе так и не дали, и он отправился с семьей на жительство в Вятку. Назначили его там директором филиала РГГУ . По делам службы он довольно часто бывал в Москве, и мы с ним виделись. Поначалу ему в Вятке нравилось. По его словам, он хорошо устроился с жильем. Но очень скоро начались жалобы. Сначала Володя жаловался на одиночество — нет друзей, не с кем поговорить о любимой философии. Но вскоре пошли жалобы и на филиал. Я не был в Вятке и сам не наблюдал ситуации, но Володя твердил одно и то же всякий раз, когда я его встречал: «Это мерзавцы и воры, сами грабят, а на меня пытаются свалить». Слышал о больших у него неприятностях. Его рассказы являли человека затравленного. Уверен, что его затравили. Упокой, Господи, раба Божия Владимира. 232 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008 Z ¼³ YQZ^ ²W [ ] XOK WQ YX´ Настоящий философ О Володе Калиниченко Не всякий город имеет своего философа. Иоганн Валентин Андреэ П родолжая эпиграф: да и не каждый город, имевший своего философа, его помнит. Философ не обозначен, не отмечен, а оттого и очень часто не замечен. Философ — это не звание, не список печатных работ, не репутация. Словом, не профессия. Это что-то в личности человека, что, хочет тот этого или не хочет, пронизывает всю его жизнь, определяет все линии его поведения, а нередко — так именно и случилось с Владимиром Калиниченко — выносит его из потока обыденной жизни, наблюдателем которой, волей-неволей, он делается. Может быть, именно такая необходимая для философа отстраненность от жизни делает его часто непонятным для людей жизни. Но при этом про такого человека будет всегда ошибкой говорить, что в жизни он библиотекарь, министр, летчик, отец, муж, а наедине с собой он философ. В том-то и дело, что настоящий философ — это философ везде и всегда. Таким был Володя Калиниченко, как я его вижу сейчас. Веселый, приветливый, с равным энтузиазмом рассуждающий о гуссерлевской ноэме, псовой охоте и приготовлении рагу из вепря (сначала надо долго мариновать, предупреждал он). Первый раз мы встретились в местечке Звартава в Латвии шесть лет назад на крайне интимном обсуждении того, что есть феномен мысли и есть ли вообще такой феномен. Тогда, может быть впервые в новейшей философии и уж наверняка в философии XXI века, Володя высказал идею об отдельной, уже схваченной в рефлексии, мысли: она существует сама по себе, разорвав свою связь с любой возможной причиной своего появления и с любым мыслимым последствием своего существования. Моей немедленной реакцией было: вот философ. Безусловно, так он сформулировал идею «абсолютной мысли». ЛKOKQ 6, 2008 233 Позднее, разговаривая с Володей в Москве и Вятке, я ясно видел, что любой значимый для него предмет разговора, сколь бы данный предмет ни был тривиален или даже банален, Володя трактовал как свою абсолютную мысль об этом предмете. Иначе говоря, он был «человеком абсолюта», то есть философом в своем отношении к миру. Это особенно сказалось в его отношении к той дико сложной и омерзительной жизненной ситуации, в которую он оказался включен буквально по принуждению окружавшего его, полностью разложившегося, академического общества. Дураки ищут во всем политику или экономику, на самом же деле — это сплошная этика. А для тебя неизбежен свободный выбор. Но уже первый свободный выбор чуть не свел Володю в могилу. То, что случилось позднее, было лишь последним штрихом в попытке философа отодвинуть от себя моральную приниженность и приспособленчество опротивевшей ему социальной среды, которой он философски противостоял всю жизнь. А затем — вполне ожиданная смерть. 234 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008 ^. ¸. µK]WK · X¼K ¸ Z Владимир Калиниченко: философствование в контексте С самого начала признáюсь: я мало — о чем сожалею — общалась с Володей Калиниченко лично, и в отличие от тех, чьи грустные воспоминания здесь предшествуют моим, плохо знала его как человека. Но его работы — их, увы, относительно немного — давно взяла себе за правило внимательно прочитывать и продумывать. Тем более что они располагались именно в том проблемно-контекстуальном поле, в котором еще со студенческих лет трудилась я сама, причем там и в советское время существовал достаточно плотный, сложный, продуктивный, потому что творческий, исследовательский контекст. И отличие В. Калиниченко как мыслителя и исследователя я вижу в том, что он, по моему глубокому убеждению, был превосходным философом контекста. Что никак не отменяет того факта, который сразу фиксировался при встрече с его высказанной мыслью или написанным словом: он действительно был самостоятельным, свободным человеком и философом. В философском контексте, о котором идет речь в случае Калиниченко, выделяются два главных узла глубоко воздействовавшей на него мысли — феноменология, в частности и особенности гуссерлевская, и творчество Мераба Мамардашвили. Конечно, были и другие поля притяжения, скажем, идеи В. Дильтея или работы Г. П. Щедровицкого, как существовало, во всяком случае, в – -х годах XX века, отечественное феноменологическое сообщество. Почему броское и стандартное, увы, описание «позднесоветской философии с ее тотальным конформизмом» в предшествующих воспоминаниях Н. Плотникова считаю по крайней мере неточным. (Если бы понадобилось составить перечень имен тех, кто, подобно В. Калиниченко, сумел и в советское время отвоевать для себя и соответствующих сообществ некоторое пространство хотя бы относительно свободной, исследовательской по характеру ЛKOKQ 6, 2008 235 философской мысли, сопоставимой с мировыми стандартами и с сегодня сохранившими значение результатами, то перечень этот занял бы не одну страницу…) С Калиниченко мне лично приходилось «встречаться» (на конференциях, круглых столах, на страницах книг) как раз тогда, когда собирались, консолидировались феноменологическое сообщество, а также сообщество тех, кого увлекало и притягивало философствование Мамардашвили. Володя казался мне особенно увлеченным последователем, толкователем Мамардашвили. «Гуссерлианские размышления» Калиниченко — например, о феноменологической редукции, интенциональности, трансцендентализме — чрезвычайно интересны обилием нестандартных мыслей, неожиданных образов, четких формулировок. Осознанное стремление философствовать «в контексте» — с целенаправленным примыканием к некоторым очень ярким образцам — представляется мне как историку философии вполне совместимым с оригинальностью, свободой, самостоятельностью мысли. Что еще раз подтвердила до обидного короткая, сложная, но яркая судьба Володи Калиниченко. В заключение — все же о чем-то личном. Во время последней встречи с Володей Калиниченко (на одном из собраний «Логоса») я услышала от него лестную оценку моей книги «„Идеи I “ Эдмунда Гуссерля», а главное, что он страница за страницей ее изучает. Получить такой отзыв от философа, глубоко погруженного в феноменологический контекст, было страшно важно и радостно. Когда в самые последние годы мы делали коллективную книгу, посвященную Мерабу Мамардашвили, то я некоторое время задерживала ее, ожидая обещанную Володей статью. Потом узнала, что В. Калиниченко не стало — он умер в том же возрасте, что и Мераб Мамардашвили… Но пока существует и будет существовать упомянутый контекст мысли, в нем будут присутствовать идеи, эмоции, образы прекрасного, безвременно ушедшего от нас философа Владимира Валентиновича Калиниченко. 236 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008 ^ X YK¼Z´ [¼K] ^XYK¸ ВЭта ладимир Калиниченко был философом свободы. фраза звучит слишком пафосно, и тем не менее она, по моему убеждению, выражает существо духовного опыта этого, столь рано ушедшего от нас, мыслителя. Мы не найдем среди его работ пламенных апологий свободы в духе Сартра, Фихте или Бердяева. Или подробных методических определений и обоснований понятия свободы в духе Канта. И все же именно событие свободы как самостоятельного акта мысли было основной темой его философской рефлексии. Нужно представить себе атмосферу позднесоветской философии с ее тотальным конформизмом и постепенно все захватывающим цинизмом в отношении любого проявления свободной мысли, чтобы понять, сколько интеллектуального мужества требовалось для того, чтобы следовать в своем духовном опыте кантовскому императиву «мысли самостоятельно». Это удалось немногим, почти единицам, оказавшимся способными мыслить вопреки господствующим правилам, определявшим ситуацию публичного безмыслия. Калиниченко стал одним из ярких выразителей этого опыта свободы, свободного акта мысли в ситуации добровольного отказа большинства от какого-либо самостоятельного суждения. Именно в этом он состоялся как философ. И именно поэтому он занят во всех своих работах бережным сохранением этого драгоценного опыта сознания, постоянно подвергающегося опасности быть захваченным анонимными силами общества, культуры, истории. Феноменологическая редукция становится в его произведениях защитным средством, позволяющим уберечь акт свободной мысли от вторжения стихий тотального. И будто проверяя, надежна ли защита, он всякий раз спрашивает себя, как возможно осуществление этой редукции, не оказывается ли она иллюзией, диктуемой нам извне неким коллективным субъектом. И придирчиво разбирает Гуссерля и философов трансцендентальной традиции, пытаясь найти следы и метки, по которым можно отличить подлинно свободный акт мысли от его анонимных суррогатов. ЛKOKQ 6, 2008 237 В этом внимании к возможности выражения опыта свободы проявляется другая характерная черта мысли Владимира Калиниченко. Требуя очищения сознания от анонимных стихий, он понимал, что редукция заключает в себе и иную опасность — она обрекает мысль на безъязычие, на интеллектуальную немоту, неспособную возвысить голос против автоматической говорильни советского философского новояза. Владимир слишком хорошо видел эту опасность мыслительного тупика, в котором оказались очень многие честные представители его поколения, отказавшиеся мыслить по официально навязанным правилам, но ушедшие в пространство кухонь, интеллектуальных ниш и нирванического молчания. Чтобы свободный акт мысли состоялся, он должен обрести язык, проломив бетонные пласты категорий диамата. Но этот язык не может быть и просто заимствованным из чужой традиции — он должен быть языком, апроприированным мыслью, ее собственным языком. И Владимир осторожно, шаг за шагом пробует пути возвращения мысли, прошедшей сквозь очищение феноменологической редукцией, в пространство истории, культуры и общества — туда, где мысль сможет обрести свой язык. Пробует, обращаясь в своих работах к традициям герменевтики, Дильтея, Бахтина и русской философии, чтобы найти те формы языка, в которых мысль сможет обрести свою прочность и самостояние. И всякий раз задается озабоченным вопросом, не обманываем ли мы себя, сохраняется ли в этих формах свобода мыслительного акта. Эта трагическая борьба с господствующим языком при одновременном понимании опасности безъязычия составляет один из самых ценных опытов, которые запечатлены в работах Владимира Калиниченко. В работах, которые являют сочетание осторожности анализа с интеллектуальным упорством в поиске условий возможности свободного акта мысли — добродетелей, слишком часто игнорируемых современным философствованием, почти забывшим о той мучительной сложности обретения свободы сознания и потому готовым снова надеть на себя ярмо государственно-идеологического официоза. Поэтому мысль Калиниченко звучит для нас сегодня еще и как философское предостережение — помнить о том, какие опасности встречаются на пути свободной мысли. 238 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008 * * * В ладимир Валентинович Калиниченко родился февраля года в г. Неман Калининградской области. В году окончил Физический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по кафедре теоретической физики. Диплом защитил по философским вопросам физики (научный руководитель А. И. Алешин). Работал ассистентом кафедры физики, а затем философии ВятГУ (тогда Кировский государственный политехнический институт), затем поступил в аспирантуру Института истории естествознания и техники, где его научным руководителем был М. К. Мамардашвили. После окончания аспирантуры преподавал философию в различных московских вузах, затем на кафедре философии Историко-архивного института. В РГГУ был преподавателем кафедры истории зарубежной философии Философского факультета. В году переехал в Киров, работал проректором по науке в Вятском социально-экономическом институте, затем директором Кировского филиала РГГУ . С года был доцентом кафедры философии и социологии ВятГГУ . Умер от инфаркта мая года. Список избранных работ В. В. Калиниченко Трансцендентализм и герменевтика 6 Проблема языка в современной западной философии. М.: ИФАН , 1984. О картезианской программе обоснования наук 6 Социально-гуманитарное познание и особенности его методологии. М.: ИФАН , 1984. Субъект и его сознание в философском анализе 6 О специфике методов философского исследования. М.: ИФАН , 1987 (в соавт.). Онтологические основания научного познания 6 Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига: Зинатне, 1988. Выступление на круглом столе «Феноменология и ее роль в современной философии» 6 Вопросы философии. 1988. № 12. Методология гуманитарных наук в трудах В. Дильтея 6 Вопросы философии. 1988. № 4 (в соавт.). Феноменологическая редукция как путь: куда? 6 Мысль изреченная. М.: ИФАН -РОУ , 1991. Густав Шпет: от феноменологии к герменевтике 6 Логос. 1992. № 2. Язык и трансценденция 6 Логос. 1994. № 6. Философская традиция как парадокс 6 Философская традиция, ее культурные и экзистенциальные измерения (Материалы конференции). М.: РГГУ , 1994. Об одной попытке «децентрализовать» Мераба Мамардашвили 6 Конгениальность мысли. О философе Мерабе Мамардашвили. М.: Прогресс-Культура, 1994. ЛKOKQ 6, 2008 239 Понятия «классического» и «неклассического» в философии М. К. Мамардашвили 6 Встреча с Декартом. М.: Ad Marginem, 1996. Имеет ли разделение наук о природе и наук о духе онтологические основания? 6 Вестник РГГУ . 1996. № 3. К метакритике понятия интенциональности у Эд. Гуссерля. Статья 1-я 6 Логос. 1997. № 10. Приключения трансцендентальной субъективности 6 Феноменологическая концепция сознания: проблемы и альтернативы. М.: РГГУ , 1998. Уставшая семиотика 6 Логос. 1999. № 6. Философ в конце истории 6 На посту. 1998. № 2. Проблема исторической рациональности и своеобразие Дильтея 6 Герменевтика — психология — история. Вильгельм Дильтей и современная философия. М.: Три квадрата, 2002. Понятия «классического» и «неклассического» в философии М. К. Мамардашвили. [Новая редакция] 6 Мераб Мамардашвили. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Логос, 2004. Послание Славоя Жижека: к новой политической культуре 6 Современные проблемы политической культуры. Киров: Кировский филиал Института бизнеса и политики, 2004. Выступление на Круглом столе «Линии и узлы» чтений памяти Г. П. Щедровицкого 6 Чтения памяти Г. П. Щедровицкого. 2003 – 2004 гг. М.: Школа культурной политики, 2004. Место Г. П. Щедровицкого в истории безумия ХХ столетия 6 Познающее мышление и социальное действие. М.: Ф. А. С.-медиа, 2004. Методологический проект психологии: замещение отсутствующего 6 Московский методологический кружок и отечественная психология. М.: Ф. А. С.-медиа, 2006. Заметки об интенциональности 6 Логос. 2007. № 6. 240 Владимир Валентинович Калиниченко. 08.02.1948 – 02.05.2008