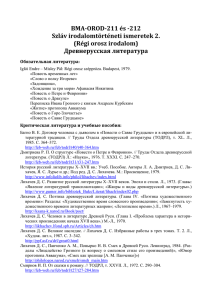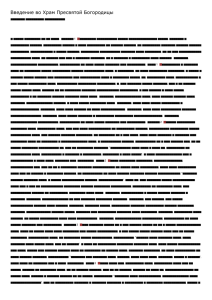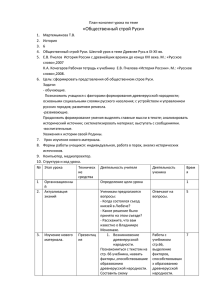Зарождение общественной мысли в Древней Руси: проблемы и
advertisement

И. Н. Данилевский Зарождение общественной мысли в Древней 1 Руси: проблемы и перспективы изучения Издания, подобные «Библиотеке отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века», всегда подводят некоторый итог и тем самым определяют основные проблемы и, соответственно, перспективы изучения источников. Работа над подготовкой таких публикаций заставляет решать целый ряд прин­ ципиальных вопросов, которые в повседневной работе над кон­ кретными темами часто ускользают от внимания исследователей. Точнее, как раз в силу их глобальности, эти проблемы, по умолча­ нию, чаще всего считаются решенными, а потому заключаются, как 2 когда-то выразился М. Д. Приселков, в «большие скобки» . Между тем при отборе и анализе больших массивов источников перед со­ ставителями и комментаторами общие вопросы встают, что назы­ вается, в полный рост, и без их решения (хотя бы гипотетически) работа оказывается просто невыполнимой. Особенно остро это осознается при изучении источников самого раннего периода, по отношению к которому даже возможность самого понятия «обще­ ственная мысль» представляется порой сомнительной. Поэтому именно на них — на проблемах и перспективах изучения памятни­ ков древнерусской общественной мысли в «момент» ее зарожде­ ния — и будет сосредоточено наше внимание. Прежде всего, следует отметить, что в отечественной историогра­ 3 фии накоплен значительный опыт в этой сфере . Однако этот опыт обнажил и целый ряд существенных упущений, которые ограничива­ ют наши возможности в изучении общественной мысли. Так, основное внимание уделялось — и уделяется — «внешним» от­ ношениям, которые описываются и характеризуются в источниках (как оцениваются действия лиц, наделенных властными полномочи­ ями, «низы» общества и т. п.). При этом исследователи в основном опираются на собственный понятийно-категориальный аппарат, ко торый кажется им естественным и неизменным, руководствуясь соб- Раздел II 113 ственной логикой и тем, что принято называть здравым смыслом. Между тем авторы источников вовсе не владеют ими. Более того, наши представления о том, как устроен мир (в том числе, общество), наша логика и наша система ценностей им глубоко чужды. «Корот­ кое» же «замыкание» между современными понятиями и концептами, с одной стороны, и терминами (которые таковыми отнюдь не явля­ ются) древнерусских авторов, с другой, приводят к весьма сомни­ тельным выводам. Произвольными, скажем, представляются отождествления Древ­ нерусского государства (или Киевской Руси) — историографиче­ ского концепта, который приобрел «право на жительство» совсем недавно, — с Русской землей (даже в широком ее значении) древне­ русских источников, а огнищанина Русской Правды (или, если вспомнить синонимы этого «термина», княжего мужа, тиуна ог4 нищного) с боярином . Подобные отождествления — следствие допущения, будто древне­ русские книжники думали, а потому и представляли мир (в том числе, общество) так же, как и мы. Говоря о стимулах возникновения новых жанров древнерусской литературы, Д. С. Лихачев прямо отмечал, что их не следует связывать с особенностями мышления создателей этих жанров. «Мне представляется, — писал он, — что постановка вопроса об особом характере средневекового мышления вообще неправо­ 5 мерна: мышление у человека во все века было в целом тем же» . Как следствие, древнерусскому книжнику зачастую отказывают даже в ре­ лигиозном мировоззрении. Так, по мнению того же Д. С. Лихачева, «религиозные воззрения... не пронизывали собою всего летописного 6 изложения» . Дело доходит до того, что специфика даже заведомо конфессиональных текстов, таких как «Сказания о чудесах Влади­ мирской иконы» или жития Леонтия Ростовского, видится порой «не в "церковности", как считают некоторые исследователи», а в «свет­ ском, государственно-политическом пафосе, их отличающем». При этом прямо говорится, что «Сказание о Леонтии Ростовском», «не­ 7 смотря на агиографический жанр... пронизано светскими темами» . Столь странный взгляд на житийную повесть, созданную служителем культа и, что вполне очевидно, в религиозных целях, спровоцирован господствовавшей в советской гуманитаристике (и продолжающей господствовать сегодня) точкой зрения, сформулированной главным авторитетом в области изучения древнерусской литературы — Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления 114 Д. С. Лихачевым. В свое время он прямо указал, что «провиденциа­ лизм... не является для него [летописца] следствием особенностей его мышления», а «отвлеченные построения христианской мысли», кото­ рые встречаются в летописных сводах (и, видимо, во всех прочих нарративных текстах), нельзя толком использовать даже для изуче­ ния мировоззрения автора той или иной записи: ведь «свой прови­ денциализм летописец в значительной мере получает в готовом виде, 8 а не доходит до него сам» . Неявной предпосылкой такого подхода является мысль, что «ис­ следователь, который предполагал бы существование у людей про­ шлого "особого мышления", в сущности, закрыл бы для себя возмож­ ность понимания сочинений средневековых авторов: ведь сам такой 9 исследователь живет в наше время» . Подобный взгляд на средневековые тексты не только модерни­ зирует мировоззрение древнерусских книжников, но и закрывает возможность более точного и глубокого их понимания, «вчитывая» в произведения, появившиеся на свет несколько столетий тому назад, идеи и мысли, вполне актуальные для современного челове­ ка, но, скорее всего, абсолютно чуждые самим авторам изучаемых памятников. Между тем всякое правильное истолкование текста «должно от­ решиться от произвола озарений и ограниченности незаметных мыслительных привычек и сосредоточить внимание на "самих фак­ тах" (для филолога ими являются осмысленные тексты, которые в 10 свою очередь говорят о фактах)» . И здесь важную роль должно сы­ грать выполнение базового требования отечественного источнико­ ведения, без которого, строго говоря, вообще нельзя пользоваться ретроспективной информацией: предварительная общая характери­ стика источника". Заняв подобающее ему место в учебниках по ис­ точниковедению, это положение, однако, не получило достаточно полного разъяснения и зачастую игнорируется на практике. По мнению Я. С. Лурье, общая характеристика источника должна включать «датировку памятника, определение его происхождения, состава, назначения, степени тенденциозности и осведомленности и 12 т. д.» . Между тем, как правило, основное внимание уделяется «внеш­ ним» характеристикам текста — его датировке, атрибуции и составу, в то время как выяснение «назначения», социальных функций, кото­ рые должен был исполнять данный памятник в свое время, оказыва- Раздел II 115 ются на периферии внимания исследователя. Однако именно замы­ сел является той призмой, сквозь которую преломлялось восприятие 13 события в глазах автора и «актуальных» читателей источника . И по­ тому именно от того, насколько точно этот замысел понят, зависит решение вопроса, чего стоит эта информация, насколько она годит­ ся для исторической реконструкции и для реконструкции чего, соб­ ственно, она годится. Исключение из общей характеристики источника его «субъектив­ ной» составляющей ведет к тому, что по сей день незыблемыми оста­ ются традиции отбора и интерпретации достоверной информации (точнее, сведений, которые представляются таковыми современному исследователю) с позиций здравого смысла. Изменилось лишь пред­ ставление о том, что следует считать здравым. В свое время, проана­ лизировав в советской историографии 60 — начала 70-х годов про­ шлого века многочисленные примеры такого рода, Я. С. Лурье при­ шел к неутешительному выводу: «Это не случайное явление [когда историки привлекают для своих реконструкций известия неясного происхождения и качества лишь на том основании, что они "по су­ ществу весьма вероятны", "согласуются с другими данными" и т. п.], а историографическая традиция, которая встречается не так уж редко». В частности, «эта тенденция постоянно проявляется при использова­ нии древнейших сказаний начального летописания, основанных на фольклорно-эпическом материале». Привлекая подобные известия, «историки тщательно изгоняют из них все то, что противоречит 14 естествознанию и логике, и оставляют остальное» . Этот вывод спра­ ведлив и сегодня, спустя почти треть века. Установление замысла произведения, его базовой идеи — задача, которая до сих пор изучена явно недостаточно. Можно вспомнить хотя бы споры по поводу того, для чего создавались древнерусские летописи. Ограниченность прежних гипотез по поводу идей, кото­ рые могли, по мнению летописеведов, объединять летописное пове­ ствование, вполне очевидна. Вряд ли может удовлетворить ответ на этот вопрос, данный самим Д. С. Лихачевым, который настаивал, что летописец, «механически соединяя в единой хронологической сети под одним годом разноха­ рактерные и разнокалиберные события, не связанные между собой единой причинно-следственной зависимостью», просто иллюстри­ ровал «суету сует мира сего». По мнению одного из лучших знатоков 116 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления древнерусской литературы, «это механическое соединение в годовой статье различных известий подчеркивало провиденциальную точку зрения летописца, его особую "философию истории", связанную с 15 его церковными представлениями» . Любопытно, что такие форму­ лировки явно противоречили выводам А. А. Шахматова (с которым — но на других страницах своих трудов — вроде бы полностью согла­ шался тот же Д. С. Лихачев), «обратившего внимание на то, что созда­ ние этих [летописных] сводов отнюдь не может рассматриваться как дело случая, что в основе их создания лежит не механический под­ 16 бор случайного материала, а сознательная воля их составителя» . Вряд ли летопись перестанет казаться случайным подбором осколков множества не дошедших до нас источников, как только мы откажемся от мысли, что все эти фрагменты текстов написаны одним 17 автором . Не помогает и ссылка на «всепроникающий патриотизм 18 содержания» Повести (тем более что понятие патриотизма в XI — начале XII в., видимо, существенно отличалось от привычного нам 19 представления) . Трудно вычленить патриотическую идею, скажем, в 20 сообщениях о налете саранчи или о смерти никогда более не упо­ 21 минавшейся в летописях Малфреди . Даже признание единства всех жизненных противоречий осно­ вой целостности летописного текста не решает вопроса. При таком подходе «куски драгоценной смальты» представляются по большей части индифферентными («случайный набор») по отношению к тому монументальному образу, который они составляют в своей совокуп­ ности. Констатация их самоценности не дает ключа к пониманию того, что же их объединяет в летописном повествовании. Между тем они должны иметь общую основу, которая и позволила летописцу отобрать для своего труда именно эти, а не другие «куски», и вклю­ чать их в общую композицию именно здесь, а не в другом месте. И дело не может быть сведено лишь к хронологическому «сопрово­ ждению» (как это обычно делается). Несомненно, даты летописных известий — ориентир чрезвычайно важный. Но он не может быть единственным значением, придающим в глазах летописца ценност­ ное звучание информации о происходящем. В конечном счете, эти даты — элемент внешнего, чувственного образа летописного сооб­ щения. Но должно быть и что-то внутреннее, духовное, быть может, невидимое на первый взгляд, что объединяет все эти «куски» в еди­ ную картину. Раздел II 117 Идея, которая, по словам Д. С. Лихачева, придает цельность и 22 стройность «всей большой летописной постройке» , должна так или иначе присутствовать в каждом фрагменте, из которых состав­ лено мозаичное полотно летописи. Замысел должен воплотиться во внутренней форме текста источника (и если не каждого, то пода­ вляющего большинства его фрагментов), а та, в свою очередь, в 23 форме внешней . Поэтому семантический анализ отдельных сюжетов — необходи­ мая стадия работы по установлению основных мотивов, присутству­ ющих в нарративном произведении, в данном случае — в Повести временных лет. Выявление во внешне не связанных между собою эпизодах «пересекающихся» смыслов, скрытых прежде от взора ис­ следователей, как нам представляется, должно помочь в восстановле­ нии целостного понимания текста. Еще более показательными представляются попытки установить общую идею древнерусских «хожений» — описаний паломничеств в Святую землю. Так, в «Хожении» игумена Даниила трациционно видят 24 «своего рода путеводитель для будущих паломников» . Это вполне логично, с точки зрения современного исследователя. Однако сам Да­ ниил прямо указывает, что целью создания Хожения было стремле­ ние удержать читателей от самостоятельного совершения паломни­ чества, чтобы те не впали в грех гордыни, возгордившись своим по­ ступком. Чтение же описания совершенного Даниилом путешествия приравнивалось к посещению Святой Земли. На это обратили внима­ 25 26 ние Н. В. Водовозов , В. В. Кусков , а в последнее время — Е. И. Мале27 28 то , М. Гардзанити и др. Именно поэтому Даниил так подробен в своем рассказе об увиденном. Есть и еще один важный элемент изучаемых нами текстов, кото­ рый может сыграть важную роль как в понимании отдельных сюже­ тов, так и в общей характеристике источника: цитаты, обильно вклю­ чаемые в оригинальные произведения Древней Руси. Некоторые из них (такие, скажем, как «Слово» или «Моление» Даниила Заточника) целиком состоят из цитат. До сих пор, однако, на эту особенность древнерусских памятников общественной мысли не обращали долж­ ного внимания. Мало того, в подавляющем большинстве работ (в том числе ис­ следований по истории общественной мысли) цитаты — фрагменты текстов Священного Писания, «топосы» из рассмотрения исключа- 118 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления ются, поскольку они, безусловно, не имеют отношения к тому, «как это было на самом деле», и явно «противоречат естествознанию и логике». Но ведь именно эти самые «общие места», «церковная рито­ рика» несут основную информацию о тех характеристиках и оцен­ ках, которые даются древнерусскими книжниками «объектам» их описаний. Цитируя библейские тексты, авторы апеллировали к «па­ мяти контекстов», из которых эти фрагменты были позаимствованы, а не к собственным обыденным впечатлениям. Для древнерусского же читателя — и на это, несомненно, рассчитывали авторы «ориги­ нальных» текстов — всякая цитата, в том числе и немаркированная, не только легко узнавалась, но и неизбежно отсылала к «текступредшественнику», заставляя вспомнить прежний контекст, из кото­ рого она вырывалась. Таким образом, создаваемый текст не только связывался со своими литературными истоками, но и приобретал со­ вершенно новые, порой неожиданные связи — как с современными ему, так и с предыдущими и последующими произведениями. Чтение же текстов превращалось в изощренную интеллектуальную игру. «Игроку»-читателю надлежало не только правильно определить пря­ мую или косвенную цитату, но и уловить новые смысловые нити, свя­ зывающие уже знакомые ему образы с лежащим перед ним новым описанием. Тут, собственно, и рождались те смысловые структуры, которые автор транслировал читателям текста и которые так важны для нашего современника, изучающего общественную мысль Древ­ ней Руси. Поэтому точное определение цитаты и ее контекста — одна из первоочередных задач, стоящих перед исследователем памятников общественной мысли Древней Руси. Задача эта непроста, поскольку разночтения в списках богослужебных книг четьим для X - X V вв. 29 были «велики, многочисленны и разнообразны» , «интенсивное лек­ сическое варьирование» в этих источниках «является изначальным и 30 восходит к переводческой деятельности Кирилла и Мефодия» , а по­ тому «варьирование по спискам затрагивало... библейские цитаты, их форма в разных рукописях одного текста подвержена большим коле­ 31 баниям» . Волей-неволей приходится начинать со сравнения древ­ 32 нерусских текстов с синодальным переводом Библии . Однако дело не может ограничиться только такими сопоставлениями. Любые су­ щественные расхождения в параллельных текстах требуют дополни­ тельной проверки. 119 Раздел II Так, анализируя притчу Кирилла Туровского о человеческой душе и теле (о слепце и хромце), новейшие комментаторы В. В. Колесов и Н. В. Понырко отмечают, что приводимая Туровским епископом ци­ тата («Говорит ведь пророк: "Твои небеса и Твоя земля: вселенную и пределы ее Ты основал"») неточна, ссылаясь на синодальный перевод 33 12-го стиха 88-го псалма . «Здесь, — отмечают они, — как и во мно­ гих других местах повести, Кирилл цитирует неточно, возможно, по памяти, и всегда приноравливает текст к цели своего повествования». Однако обращение к древнерусским переводам Псалтири убеждает, что комментаторы ошибаются: Кирилл дает точные цитаты — в пре­ делах отклонений допустимых и неизбежных для древнерусского 34 книжника . Еще более сложными оказываются случаи, когда в древнерусских библейских цитатах попадаются слова и обороты, отсутствующие в синодальном переводе Писания. Ярким примером такого рода является устойчивый оборот, кото­ рый встречается в сообщении о крещении Руси: «И погибе память его 35 с шюмом, и Господь в векы пребываеть» , в рассказе о Федорце, кото­ рого Андрей Боголюбский хотел поставить владимирским митропо­ литом, но затем вынужден был отдать на расправу киевскому митро­ 36 политу Константину: «И погибе память его с шюмом» , а также в Ска­ зании о Мамаевом побоище: «Начаша же погании половци съ многым студом омрачатися о погибели жывота своего, понеже убо умре не­ 37 честивый, и погыбе память их с шумом» . Это — неочевидная (для человека, не знакомого с церковнославянским переводом Библии) цитата из 9-го псалма: «Ты вознегодовал на народы, погубил нечести­ вого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил; погибла память их с ними. Но Господь пре­ 38 бывает вовек» . В данном случае синодальный перевод существенно отличается от церковнославянского: «И погыбе нечестивыи, ИМЯ его потребить еси въ векъ и въ векь века. Врагу оскудешя оружия вконець, и грады раздрушилъ еси; погыбе память его съ шумом. И Гь 39 пребывает въ векы» ; «И погыбе нечстивыи, и ИМЯ eго потребилъ еси въ век и в век века. Врагу оскудеша оpужa вконець, и грады раздрушилъ еси; погыбе память его с шюмом. И Гь пребываетъ въ 40 векы» ; «И погыбе нечьстивыи, ИМЯ его потребилъ е с и вь векы и вь векы века. Врагу оскудешя оружиа въконець, и грады раздрушилъ 41 еси; погыбе памят его съ шоумом. И Гь вь векы пребывает» ; «И по- 120 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления гибе нечестивыи, ИМЯ его потребилъ еси вь векъ и въ векъ века. Врагу оскудеша оружия. вконець, и грады разрушить еси. Погибе память его 42 съ шумомъ. И Гь въ веки пребываетъ» ; «И погибе нечестивый: ИМЯ его потребилъ еси въ векъ и въ векъ века. Врагу оскудеша оружия въ 43 конець, и грады разрушилъ еси: погибе память его съ шумомъ» . Другим примером может служить фрагмент из летописного ска­ зания о нашествии Едигея: «Свидригайло же, гордый лях, никогда и не побывал в столь почитаемой церкви Пречистой Богоматери. Потому-то и постигли нас многие беды: храбрые стали хуже жен и боязливее детей; пропала у сильного сила, по пророку: "И стрелы младенцев разили их..."» Приведенная летописцем цитата атрибути­ руется современным комментатором по не вполне понятным осно­ ваниям пророку Даниилу: «И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвы­ 44 чайно изменился, не стало во мне бодрости» . Между тем обращение к древнерусским переводам Библии позволяет утверждать, что в дан­ ном случае приводится точная цитата из Псалтири: «и възнесется Бъ 45 стрЪлы младенець бышя язвы ихъ» . Данные примеры показывают, насколько трудно бывает найти точное соответствие изучаемого текста источнику-протографу. При этом остается только догадываться, как могут выглядеть привычные библейские фразы при их адаптации к потребностям автора нового произведения. А ведь существовала еще и апокрифическая литерату­ ра, также хорошо известная древнерусским книжникам. Однако даже точное определение цитаты и ее атрибуция не яв­ ляются еще гарантией верного понимания смысла текста. Ярким образчиком неверного понимания (а отсюда — и неточного пере­ вода) текста памятника является истолкование Л. В. Соколовой сле­ дующего фрагмента «Слова» Даниила Заточника: «Имею бо сердце, аки лице безъ очию. И бысть умъ мой аки нощный вранъ на нырищи — забдех. И расыпася животъ мой, аки Ханаонскыи царь, буестию». Отрывая слово забдех от предыдущей фразы и присоединяя его к следующей косвенной цитате, она так переводит это место: «Ведь сердце мое — как лицо без очей, и был ум мой — как филин на развалинах. Радел я [о твоем благе] — и дерзостью погубил свою жизнь, как хананейские цари». Первую фразу она комментирует следующим образом: «Этим выражением Даниил объясняет, почему он не имеет "плода покаяния". Вероятно, смысл его таков: "имел я 121 Раздел И 46 бесстрастное сердце и настороженный, бодрствующий , как филин в ночи, ум", то есть руководствовался в своих поступках не сердцем, а разумом», добавляя при этом: «Образ бодрствующего филина на развалинах заимствован из Псалтири». Между тем слово зябдех 47 входит в указанную цитату из Псалтири и, следовательно, не может отрываться от нее — иначе непонятно, почему и, главное, зачем Да­ ниил сравнивает свой ум с филином на развалинах башни. Коммен­ тарий же и перевод Л. В. Соколовой данной фразы, включающие 48 вольную конъектуру «Радел я [о твоем благе]» , можно рассматри­ вать лишь как явное недоразумение. Итак, анализ цитат, инкорпорированных в изучаемый источник, представляется нам наиболее эффективным путем, позволяющим проникнуть в замысел автора произведения, выявить основную идею и социальную функцию текста, предполагаемую его создате­ лем. Без учета же замысла произведения, его смысл в целом, как и смысл отдельных сюжетов, его составляющих, остается «темным» — и позволяет исследователю более или менее произвольно манипу­ лировать информацией, почерпнутой из источника. Точнее, под­ гонять ее под концепцию, которую обосновывает исследователь с ее помощью. Именно поэтому причиной появления новых моно­ графий, посвященных изучению общественной мысли славянских народов (в том числе, древнерусской), которая «постоянно привле­ кала к себе внимание исследователей», и тех «немногих текстов, ко­ торые содержат материал на эту тему», которые «также неоднократ­ но изучались», является изменение историографической ситуации. Трансформация научных представлений о том, что собой представ­ ляли первые государственные образования, дискредитирует выво­ ды исследователей, которые «неправильно» это себе представляли: «Естественно, что в... новой историографической ситуации научные работы, авторы которых искали в славянской общественной мысли раннего средневековья отражение и осмысление отношений, ха­ рактерных для феодального общества, не могут быть признаны удо­ 49 влетворительными» . Другими словами, изменив свои взгляды на то, каков был общественный строй того или иного человеческого сообщества, исследователь склонен заставлять источник подтверж­ дать свои собственные выводы. При таком подходе, который может представляться в целом впол­ не оправданным и плодотворным, есть один существенный изъян: 122 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления каждое изменение наших взглядов на то, что собой представляло древнерусское общество, вынуждает каждый раз отказываться от того, что еще вчера казалось вполне удовлетворительным. И то, что вчера казалось подтверждением того, что это было феодальное об­ щество, «находящееся в процессе формирования, когда уже склады­ вались классы феодалов-землевладельцев и зависимых крестьян», сегодня оказывается подтверждением того, что это общество, «в ко­ тором такие процессы только начинались и занимали скромное место», поскольку «в настоящее время в науке утвердилось представ­ ление, гораздо более соответствующее всей совокупности известных 50 фактов об обществе раннего средневековья» . Преодоление этого изъяна — дополнение, но не замена упомяну­ того подхода вообще — возможно при ином взгляде на памятники общественной мысли Древней Руси, когда мы не навязываем им свою систему общественных координат, а пытаемся разглядеть ту систему представлений, которая присуща самим авторам изучаемых источ­ ников. При этом заблуждением является представление о возможно­ сти беспредпосылочного изучения текста. В этой самой беспредпосылочности и состоит главная опасность: мы тем самым исподволь, неосознанно навязываем изучаемым произведениям привычные нам представления и концепты. Это, собственно, и есть то, что называется потребительским от­ ношением к источнику. Подведем некоторые итоги наших наблюдений. Изучение общественной мысли — прежде всего, в эпоху ее ста­ новления, когда все еще зыбко и неопределенно, — должно опирать­ ся, как нам представляется, на следующие принципы. 1. Исследователь при обращении к тексту любого источника дол­ жен, прежде всего, выяснить (насколько это возможно) замысел его автора, опираясь на систему образов и характеристик, составляю­ щих, так сказать, базовую ткань изучаемого произведения. Путь к вы­ явлению смысла текста может, в частности, лежать через серьезное изучение цитат (прежде всего цитат из Библии, которая и по сей день является одним из важных источников образов, фразеологизмов, ха­ рактеристик). «Память контекста» этих цитат — ключ к лучшему по­ ниманию текстов, в которые они инкорпорированы. Текстология при этом является основой — но не конечной целью — изучения се- 123 Раздел II мантики этих текстов; она — лишь начало, точка опоры, от которой, мы можем совершить скачок в герменевтический круг. 2. Исследователь обязан отказаться от того, что Х.-Г. Гадамер на­ зывает «неосознанностью собственного словоупотребления», ясно определить «различие между привычным нам словоупотреблением и словоупотреблением текста»: «Обращаясь к любому тексту, мы при­ знаем своей задачей не пользоваться просто и без проверки соб­ ственным словоупотреблением либо, в случае иноязычного текста, словоупотреблением, знакомым нам из книг или из повседневного обращения, но добиваться его понимания, исходя из словоупотре­ 51 бления эпохи и (или) автора» . 3. Насущной задачей при этом является разработка метаязыка, с помощью которого мы сможем корректно описывать реалии, обна­ руженные в изучаемом тексте (а не наши собственные представле­ ния, которые нам кажутся реалиями истории мысли феодального или раннефеодального, или варварского, или какого угодно иного общества). Дня этого прежде надо понять исконный смысл изучае­ мых текстов, не навязывая им наши понятийно-категориальный ап­ парат, аксиологическую систему и логику. 4. Решение этой задачи будет во многом зависеть еще от одного важного момента. Сегодня ученые располагают богатейшим арсена­ лом исторических словарей русского языка. Но все они — семасио­ логические. Нам же нужен ономасеологический словарь, чтобы знать, какими словами обозначались «наши» понятия и категории в про­ шлом. Создав его, мы сможем корректнее и точнее описывать реалии прошлого (в том числе и явления, связанные с историей обществен­ ной мысли). Все сказанное позволяет думать, что мы — только в начале боль­ шого и сложного пути изучения истории отечественной обществен­ ной мысли. Примечания 1 Индивидуальный исследовательский проект № 10-01-0150 «Историческая реконструкция: между реальностью и текстом» выполнен при поддержке Про­ граммы «Научный фонд ГУ-ВШЭ». 2 «Вовлекая в изучение все сохранившиеся летописные тексты, определяя в них сплетение в большинстве случаев прямо до нас не сохранившихся сводов, А. А. Шахматову приходилось прибегать, так сказать, к методу больших скобок, 124 Общестенная мысль России: истоки, эволюция, основные направления каким пользуются при решении сложного алгебраического выражения, чтобы потом, позднее, приступить к раскрытию этих скобок, т. е. к уточнению анализа вывода» (Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940. С. 13 [Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. [2-е изд.] СПб., 1996. С. 45]). 3 Некоторые итоги были подведены в работах последних лет; см., напр.: Флоря Б. Н. Формирование славянских народностей. Их этническое самосозна­ ние в эпоху раннего Средневековья и перспективы его дальнейшего развития // Очерки истории культуры славян. М., 1996; Общественная мысль славянских на­ родов в эпоху раннего Средневековья / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2009; и др. 4 Логика подобных отождествлений вполне ясна. Так, современное широко бытующее в специальной литературе представление о боярине-огнищанине (термин Б. Д. Грекова; см.: Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1944. С. 88) базируется на том, что за убийство огнищанина, по Русской Правде, назначается вира, вдвое превышающая штраф за убийство свободного человека. Привилегированной же социальной стратой в Древней Руси, по мнению большинства исследователей, в Древней Руси могло быть только боярство. Между тем обращение к источникам показывает, что даже обельный холоп (т. е. раб), занимавший заметное место в княжеском хозяйстве, являлся фигурой весьма влиятельной, и за преступление против него вполне могло последовать наказание более суровое, чем за «про­ стого» — пусть даже и свободного — человека. 5 Лихачев Д С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. 1979- М., 1979. С. 68. 6 Лихачев Д С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк // Повесть временных лет / Подгот. текста, перевод, статьи и комм. Д С. Лихачева / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. М, 1996. С. 297; ср.: Лиха­ чев Д. С. Литература — реальность — литература. Л., 1981. С. 129-130. 7 Филипповский Г. Ю. Столетие дерзаний: Владимирская Русь в литературе XII в. М., 1991. С. 76. 8 Лихачев Д С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк. С. 297. Следует обратить внимание, что данный пассаж сохранен в «исправлен­ ном и дополненном» издании, вышедшем уже в постсоветское время. Из этого следует, что перед нами — не вынужденная уступка марксистской идеологии, а «следствие особенностей мышления» самого автора приведенного высказыва­ ния, специалиста, авторитет которого до сих пор является незыблемым. 9 Лурье Я. С. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 16-17. 10 Гадамер Х-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 318. 11 Одним из первых эту мысль сформулировал Я. С. Лурье, заявив, что иссле­ дователь «только от общей характеристики источника идет к оценке его отдель­ ных частей» (Лурье Я. С. Критика источника и вероятность известия // Культура Древней Руси. М., 1966. С. 126). В то же время, уточняют некоторые исследовате­ ли, «в оценке отдельных сведений... нельзя идти "только от общей характеристи­ ки источника". В недостоверном в целом источнике могут сохраниться и вполне доброкачественные известия. Для проверки степени правдоподобия конкретно­ го известия недостаточно общей характеристики источника» (Зимин А. А. Труд- Раздел II 125 ные вопросы методики источниковедения Древней Руси. С. 448). Однако тради­ ционно подобные случаи рассматриваются как исключение из общего правила. Попытки отдельных авторов (Б. А. Рыбакова, А. Г. Кузьмина и др.) при решении вопроса о степени достоверности тех или иных свидетельств источников опи­ раться на «общие соображения» (скажем, на «соответствие духу времени», либо на принципиальную — т. е. теоретическую — возможность совершения какоголибо события) встречают, как правило, жесткую критику коллег. Тем не менее такая практика использования непроверенной (и принципиально непроверяе­ мой) информации, почерпнутой из текстов сомнительного происхождения, существует и в целом ряде случаев (особенно, если автор не акцентирует внима­ ние своих читателей на попытках теоретического обоснования правомочности привлечения такого рода сведений в научной реконструкции) принимается профессиональной корпорацией (см., напр.: Акашев Ю. Д. Историко-этнические корни русского народа. М., 2000). 12 Лурье Я. С. О некоторых принципах критики источников // Источнико­ ведение отечественной истории: Сб. статей. М., 1973- Вып. 1. С. 8913 Ср.: «Всякое произведение, в противоположность lusus naturae [игра при­ роды — лат.], с необходимостью предполагает замысел»; и далее: «...замысел предстает одновременно и как точка отсчета, как аван-текст в полном смысле этого слова, — и как первообраз законченного произведения одновременно и ретроспективным движением назад» (Феррер Д. Шапка Клементиса: Обратная связь и инерционность в генетических процессах // Генетическая критика во Франции: Антология. М., 1999- С. 224). 14 Лурье Я. С. О некоторых принципах критики источников // Источникове­ дение отечественной истории: Сб. статей. М., 1973. Вып. 1. С. 89-91. 15 Лихачев Д С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М., 1979. С. 321 (кстати, в других работах Д. С. Лихачев, как мы уже убедились, категориче­ ски возражает и против существования этой самой «особой "философии исто­ рии"», и против религиозности самого летописца). Мало того, именно в «непо­ следовательности летописца», по мнению Д. С. Лихачева, и состояла «ценность летописи, так как только благодаря ей в изложение властно вторгаются опыт, непосредственное наблюдение, элементы реализма, политическая злободнев­ ность — все то, чем так богата и благодаря чему так ценна русская летопись» (Лихачев Д. С. Великое наследие: Классические произведения Древней Руси. 2-е изд., доп. М, 1980. С. 78). 16 Лихачев Д С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк. С 291. Ср.: «Собрав весь доступный ему материал, иногда многочисленный и разнообразный, иногда всего два-три произведения, летописец соединял его в погодном изложении... Работа эта не была механической...» (курсив мой. — И. Д.) (Лихачев Д. С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк. С. 293) 17 «Было бы недопустимой модернизацией рассматривать тексты летописей (в том числе и «Повести временных лет») как тексты единые [?!], принадлежащие единому автору» (ЛихачевД. С. «Повесть временныхлет»:Историко-литературный очерк С. 291). Ср.: ЛихачевД. С. Великое наследие... С. 78. 18 Лихачев Д С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк. С 297. Ср.: «Более глубокое, чем свойственное патриархально-общинному обще- 126 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления ству эпическое восприятие родной истории, свидетельствующее о том, что ле­ тописец был передовым человеком своего времени, представителем феодально­ го уклада общества, дало особый, глубокий оттенок патриотизму летописца. Его патриотизм зиждется на иных представлениях об историческом процессе, чем у его предшественника — эпического певца, певца-дружинника. Он гордится не только «звоном славы» военных подвигов русских князей. Для летописца Русь — государство, обладающее ценностями искусства (он рассказывает о строитель­ стве Ярослава в Киеве и др.), книжности (см. его хвалу книгам под 1037 г.), рели­ гии (русские — «новые люди христианские»), права и т. д. Русский народ обладает славной историей. Составление этой истории Руси летописец и рас­ сматривает как свою патриотическую задачу, сближаясь в этом отношении с эпическим певцом, но на более высоком уровне» (Там же. С. 351-352). Заметим попутно, что у Д. С. Лихачева «патриотизм» древнерусского летописца XI в. ока­ зывается гораздо ближе представлению о патриотизме историка середины 50-х годов XX в., нежели «патриотизму» современного летописцу гипотетиче­ ского «эпического певца», «певца-дружинника». 19 См., напр.: Хейзинга Й. Патриотизм и национализм в европейской истории до начала XX века //Хейзинга И. Об исторических жизненных идеалах. London, 1992 (особ. с. 121, 122, 131-132). В этом отношении характерно выражение, употребляемое Р. Пиккио: «религиозный киевский патриотизм». Сутью этого па­ триотизма «остается идея православного славянского мира, не зависимого от греческого христианства» (Пиккио Р. История древнерусской литературы. М., 2002. С. 50). 20 «В лето 6602. ...В се же лето придоша прузи на Русьскую землю, месяца августа въ 26, [и] поедоша всяку траву и многа жита. И не бе сего слышано в дьнехъ первых в земли Русьсте, яже видеста очи наши, за грехы наша» (Лаврентьевская летопись. Стб. 226); «В лето 6603. ...В се же лето придоша прузи, [месяца августа] въ 28, и покрыша землю, и бе видети страшно, идяху к полунощнымъ странамъ, ядуща траву и проса» (Там же. Стб. 229). 21 «В лето 6508. Преставися Малъфредь» (Там же. Стб. 129). По мнению А. А Шахматова, речь в данном случае идет о Малуше, дочери Малка Любечанина и матери князя Владимира (Шахматов А. А Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С. 269). Возражая ему, Б. А Рыбаков отметил, что «если бы она действительно была матерью князя Владимира Святого, то летописец не­ пременно отметил бы это» (Рыбаков Б. А. Древняя Русь. С. 195, прим. 6). В этом замечании есть свой резон, поскольку (как отмечал, кстати, и сам А А. Шахма­ тов), действительно, в сообщении, которое следует сразу за упоминанием о смерти Малфреди, подчеркивается: «В се же лето преставися и Рогънъдь, м а т и Ярославля (курсив мой. — И. Д.)». (Лаврентьевская летопись. Стб. 129). 22 Лихачев Д. С. «Повесть временных лет»: Историко-литературный очерк. С. 297. 23 Под внутренней формой источника имеется в виду его структура, «постро­ ение» (Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. С. 15). Так, вну­ тренняя форма документальных источников «состоит из комбинаций устойчи­ вых статей» (Каштанов С. М. Русская дипломатика М, 1988. С. 13). Под внешней же формой текста источника (а не его списка, как полагает Л. Н. Пушкарев) под­ разумеваются формы выражения содержания, скажем, «юридическая общность Раздел II 127 тематики: формулирование договорных условий (для актов), формулирование законодательных норм (для законов), выражение просьбы или требования (для челобитных)» и т. п. (Каштанов С. М. Русская дипломатика М., 1988. С. 14). Ср.: Пушкарев Л. Н. Классификация русских письменных источников по отечествен­ ной истории. М, 1975. С. 107-108,120 и др. 24 Творогов О. В. Литература XI — начала XIII в. // История русской литера­ туры X-XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева. М, 1980. С. 112. 25 Водовозов Н. В. История древней русской литературы. 3-е изд. М., 1972. С. 58-59. 26 Кусков В. В. История древнерусской литературы. 4-е изд, испр. и доп. М., 1982. С. 81. 27 Малето Е. И. Антология хожений русских путешественников, XII-XV века: Исслед., тексты, комент. / Е. И. Малето; [отв. ред. А. Н. Сахаров]. М., 2005. С. 26-27. 28 Гардзанити М. У истоков паломнической литературы Древней Руси: «Хожение» игумена Даниила в Святую Землю // «Хожение» игумена Даниила в Святую Землю в начале XII в. / Отв. ред. Г. М. Прохоров. СПб., 2007. С. 271-277. 29 Жуковская Л. П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. М, 1976. С. 222. 30 Верещагин Е. М. Ветхо- и новозаветные цитаты в Изборнике Святослава 1073 г. // Изборник Святослава 1073 г. С. 137; ср.: Верещагин Е. М. Из истории возникновения первого литературного языка славян: К проблеме греческославянских лексических и грамматических вариантов в древнейших славянских переводах. Доклад на VII Международном съезде славистов. М., 1972. Особ, с. 32-83. 31 Алексеев А А Текстология славянской Библии. СПб., 1999- С. 70. 32 Оппоненты часто упрекают автора этих строк именно в том, что он сли­ чает древнерусские цитаты с ныне общепринятым переводом Священного Писания. Хотя ни один из них не дал ни одного примера, когда мною была бы найдена неправильная параллель. Вместе с тем создается впечатление, что они помнят наизусть все сохранившиеся варианты древнерусских переводов Би­ блии. Между тем опыт показывает, что им неизвестны даже опубликованные тексты. Характерным примером являются ссылки А. Л. Юрганова на текст Ели­ заветинской Библии при анализе текстов, описывающих опричный дворец Ивана Грозного. Оправданием того, что он не использует параллели из более близкой по времени к его сюжетам Острожской Библии, является отсутствие разбивки текста последней на стихи (см.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 352; ср.: «Ввиду того что в Острожской Библии 1581 г. нет разбивки текста на стихи, цитаты даются по Елизаветин­ ской Библии. Разночтения в этих двух изданиях несущественны в рамках на­ шей темы» (Юрганов А. Л. Опричнина и Страшный суд // Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Опыт исторической феноменологии: Трудный путь к очевид­ ности. М., 2003. С. 109). Такое оправдание выглядит забавным для скольконибудь серьезного исследователя. 33 «Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет ее, Ты основал». 128 Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления 34 Ср.: «Твоя суть небеса и Твоя есть земля; вселенная и конця ея Ты основал еси» (Библия 1499 года и Библия в Синодальном переводе: С иллюстрациями: в 10-ти томах. М., 1997. Т. 4. С. 223) 35 36 Повесть временных лет. С. 55. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М, 1998. Т. 2. Стб. 553. 37 Сказание о Мамаевом побоище // Памятники литературы Древней Руси: XIV - середина XV века. М, 1981. С. 162. 38 Пс 9 6-8. 39 Геннадиевская Библия 1499 года. Л. 379 об. // Библия 1499 года и Библия в Синодальном переводе: С иллюстрациями: в 10-ти томах. М., 1992. Т. 8. С. 32. 40 Псалтирь: XVI в. РГБ. Ф. 37, № 432. Л. 11 об. // Библия 1499 года. С. 34. 41 Бибилейские книги: 1502-1507 гг. БАН, 24.4.28. Л. 175 об. // Библия 1499 года. С. 36. 42 43 Острожская Библия. [Елизаветинская] Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М., 1993. С. 690. 44 Дан 10 8. 45 Пс 63 8 (Библия 1499 года и Библия в Синодальном переводе: С иллюстра­ циями: в 10-ти томах. М., 1997. Т. 4. С. 163); ср. в синодальном переводе: «Но по­ разит их Бог стрелою: внезапно будут они уязвлены». 46 Характеристика ума Даниила как «настороженного, бодрствующего» вос­ ходит как раз к тому самому слову забдЪх (буквально: «не спит»), которое ком­ ментатор, проявляя явную непоследовательность, отнесла к следующей фразе. 47 «Я стал как филин на развалинах; не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня» (Пс 101 7-11). Из «па­ мяти контекста» становится понятно, что именно имеет в виду Даниил. 48 «Смысл данного выражения, — пишет она, — вероятно, таков: пребывая в бдении (бдительно, ревностно служа князю), Даниил своей "буестью" (дерзо­ стью, излишней прямотой) погубил, расстроил свою жизнь, подобно хананейским царям». 49 Введение // Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья / Отв. ред. Б. Н. Флоря. М., 2009. С. 8. 50 51 Там же. Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 319.