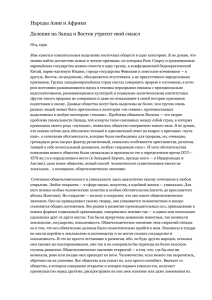М.А. Розов. Классификация и теория как системы знания
advertisement
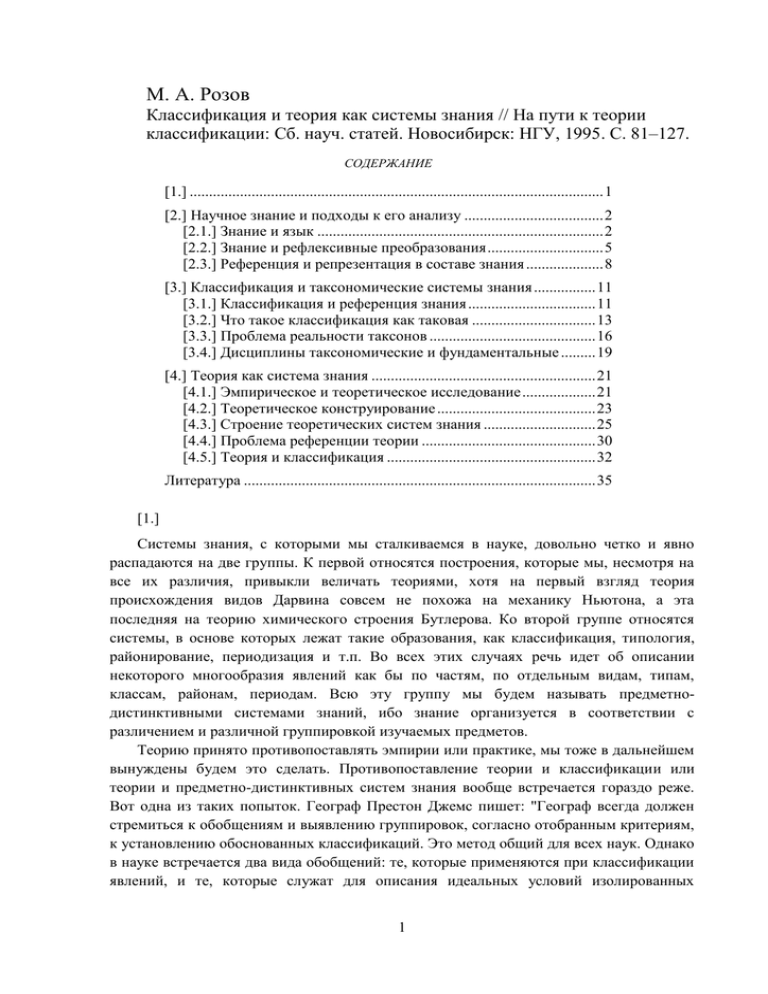
М. А. Розов Классификация и теория как системы знания // На пути к теории классификации: Сб. науч. статей. Новосибирск: НГУ, 1995. C. 81–127. СОДЕРЖАНИЕ [1.] ........................................................................................................... 1 [2.] Научное знание и подходы к его анализу .................................... 2 [2.1.] Знание и язык .......................................................................... 2 [2.2.] Знание и рефлексивные преобразования .............................. 5 [2.3.] Референция и репрезентация в составе знания .................... 8 [3.] Классификация и таксономические системы знания ................ 11 [3.1.] Классификация и референция знания ................................. 11 [3.2.] Что такое классификация как таковая ................................ 13 [3.3.] Проблема реальности таксонов ........................................... 16 [3.4.] Дисциплины таксономические и фундаментальные ......... 19 [4.] Теория как система знания .......................................................... 21 [4.1.] Эмпирическое и теоретическое исследование ................... 21 [4.2.] Теоретическое конструирование ......................................... 23 [4.3.] Строение теоретических систем знания ............................. 25 [4.4.] Проблема референции теории ............................................. 30 [4.5.] Теория и классификация ...................................................... 32 Литература ........................................................................................... 35 [1.] Системы знания, с которыми мы сталкиваемся в науке, довольно четко и явно распадаются на две группы. К первой относятся построения, которые мы, несмотря на все их различия, привыкли величать теориями, хотя на первый взгляд теория происхождения видов Дарвина совсем не похожа на механику Ньютона, а эта последняя на теорию химического строения Бутлерова. Ко второй группе относятся системы, в основе которых лежат такие образования, как классификация, типология, районирование, периодизация и т.п. Во всех этих случаях речь идет об описании некоторого многообразия явлений как бы по частям, по отдельным видам, типам, классам, районам, периодам. Всю эту группу мы будем называть предметнодистинктивными системами знаний, ибо знание организуется в соответствии с различением и различной группировкой изучаемых предметов. Теорию принято противопоставлять эмпирии или практике, мы тоже в дальнейшем вынуждены будем это сделать. Противопоставление теории и классификации или теории и предметно-дистинктивных систем знания вообще встречается гораздо реже. Вот одна из таких попыток. Географ Престон Джемс пишет: "Географ всегда должен стремиться к обобщениям и выявлению группировок, согласно отобранным критериям, к установлению обоснованных классификаций. Это метод общий для всех наук. Однако в науке встречается два вида обобщений: те, которые применяются при классификации явлений, и те, которые служат для описания идеальных условий изолированных 1 процессов. География преимущественно имеет дело с первыми..." [1, с. 29]. Термин "теория" здесь не упоминается, но речь явно идет об идеализации, которую традиционно принято связывать именно с теоретическими системами знаний. В 70-е годы у нас в стране сформировалось целое классификационное движение, захватившее представителей тех областей, где остро стоит проблема классификации, но совсем не затронувшее дисциплины, в которых есть развитые теоретические построения и вообще традиции теоретической работы. Иными словами, это движение как бы практически противопоставило классификацию и теорию, а также два типа дисциплин, одни из которых ставят классификационную проблему и пытаются ее решить, а другие практически с ней не сталкиваются. Однако многочисленные обсуждения, которые имели место в рамках этого движения, касались в основном методики классификации, а не соотношения классификации и теории. Это не случайно, ибо, строго говоря, пока не ясен даже сам принцип их противопоставления. Действительно, как противопоставить классификацию и теорию? Мы, конечно, в большинстве случаев без особого труда отличаем одно от другого, но в этом различении нет никакой принципиальной альтернативности. Более того, теория и классификация постоянно соседствуют друг с другом, ничуть, казалось бы, друг другу не противореча. Очевидно, например, что механика применима при изучении механических явлений, а биологические теории — типа теории происхождения видов — при изучении явлений биологических. Это выглядит даже как простая тавтология. Но не означает ли это все же, что совокупность имеющихся у нас теорий порождает и некоторую типологию явлений, что теории сами организованы по предметно-дистинктивному принципу? Где же здесь альтернативность противопоставления? Не удивительно, что в литературе мы сталкиваемся по этому вопросу с большим многообразием точек зрения или, точнее, с большим разнообразием достаточно расплывчатых словесных формулировок. Одни авторы полагают, что классификация — это необходимый этап формирования теории, другие рассматривают ее как наглядную форму выражения теории, третьи фактически отождествляют теорию и классификацию, приписывая последней функции моделирования [2, с. 71–73]. При более близком рассмотрении вопрос о соотношении классификации и теории оказывается очень сложным и требует для своего анализа не только введения принципиальных представлений о природе научного знания вообще и теории, в частности, но и обсуждения целого ряда методологических проблем. [2.] НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ И ПОДХОДЫ К ЕГО АНАЛИЗУ [2.1.] Знание и язык Говоря о научных знаниях, мы обычно имеем в виду нечто выраженное в языке, т.е. некий произнесенный или записанный текст. Наряду с естественным языком, мы можем при этом использовать чертежи, схемы, математические выражения разного типа — это ничего не меняет в сути дела. Не имеет значения и то, как именно был произнесен или записан текст, каким голосом или на какой бумаге. Важно, чтобы он мог быть воспринят и понят. И теория, и классификация тоже должны быть 2 представлены в виде каких-то текстов. Как же следует анализировать подобного рода образования? Что, образно выражаясь, следует понимать под "анатомией" знания? Начнем с конкретного примера. Вот описание химического эксперимента, выбранное нами из огромного количества аналогичных описаний только в силу его общедоступности и сравнительной лаконичности: "В трубке из тугоплавкого стекла нагревают на пламени в токе хлора небольшой кусок металлического натрия. Спустя некоторое время натрий соединяется с хлором, образуя хлорид натрия NaCl, при этом появляется ослепительный желтый свет" [3, c. 345]. Могут, конечно возразить, сказав, что перед нами не знание, а эксперимент, но это будет просто недоразумение. Перед нами знание о некотором проведенном эксперименте, и целые тома химической литературы заняты в значительной степени описаниями такого рода. Как же анализировать такие тексты? Разумеется, нас не интересует материал текста, т.е. звуковые колебания или пятна краски на бумаге. Как уже отмечалось, этот материал может варьировать в широких пределах. Не можем мы сосредоточиться и на анализе самого акта деятельности, в результате которого получается NaCl, ибо этот акт имеет самостоятельное существование независимо от знания. Необходимо найти нечто третье, нечто такое, что образует "тело" знания, его, так сказать, "субстанцию". Очевидно, что речь может идти прежде всего о "субстанции" нашего языка, т.к. именно язык, его нормативы связывают определенные события, происходящие в химической лаборатории, с актами звучащей или письменной речи. Значит ли это, что анализ знания — это лингвистическая проблема? Нет, не значит, и ниже мы попытаемся это показать. Но начинать удобно именно с языка. Прежде всего возникает вопрос: как существует и воспроизводится сам язык, каков способ его бытия? Очевидно, что языковые нормы передаются от поколения к поколению главным образом не в форме вербализованных правил, не на уровне грамматик и толковых словарей, а в виде непосредственных образцов речевой деятельности. Такие процессы воспроизведения различных форм человеческой активности по непосредственным образцам мы будем называть социальными эстафетами [4, с. 80–89]. Именно они и образуют "субстанцию" языка или, точнее, механизм его существования. Сказанное нетрудно обобщить и показать, что представление о социальных эстафетах с необходимостью выводит нас далеко за пределы языка и речи как таковых. Мы имеем в лице эстафет исходный, базовый механизм воспроизведения социальной жизни вообще, включая огромное количество самых различных форм поведения и деятельности. Вернемся с этой точки зрения к описанию химического эксперимента. Можно ли это описание считать достаточно полным? Вероятно, нет. В тексте, например, предлагается нагревать небольшой кусок металлического натрия в токе хлора. Как именно это сделать? Что такое "небольшой кусок"? Какой должна быть экспериментальная установка? Все эти подробности технологического характера в тексте отсутствуют. И все же любой химик-экспериментатор сумеет воспроизвести эксперимент, ибо недостающие детали — это невербализованный опыт, передаваемый на уровне множества образцов аналогичной лабораторной практики. А это уже означает, что "тело" знания образовано эстафетами далеко не только языка, что в его 3 создании принимает участие гораздо больший массив социального опыта. Язык не фиксирует этот опыт, он способен только его активизировать. Можно попробовать возразить, предположив, что описание является полным, но язык химика сильно отличается от обыденного языка. Это, однако, чревато большими трудностями. Слово "нагревать" встречается в химии в большом количестве разных контекстов, связанных с разными экспериментальными установками, и ему поэтому нельзя приписать определенного технологического содержания. В такой же степени, если мы конкретизируем выражение "небольшой кусок", указав точный вес, то это вовсе не будет выглядеть как тавтология. Итак, мы пришли к достаточно нетривиальному результату: анализ знания — это выявление и исследование тех эстафет, на базе которых знание существует. Речь при этом должна идти по крайней мере о двух типах эстафет, одни из которых — это эстафеты языка, лингвистические эстафеты, а другие — экстралингвистические. Очевидно, что непроходимой грани между ними нет, ибо развитие научных знаний во многих случаях сопровождается и обогащением языка науки. Как же их различить и как они соотносятся друг с другом? Мы будем исходить из следующего положения: к языку относятся нормативы (эстафеты) словоупотребления, но не относятся нормативы работы с теми объектами, которые слова обозначают. Это, конечно, сильное упрощение, но оно вполне допустимо в рамках данной работы. Важно, что при таком подходе один и тот же текст может быть истолкован различным образом. Например, прочитав приведенное выше описание эксперимента, человек, не имеющий никаких предварительных представлений о хлоре, может сделать для себя заключение, что хлором следует называть вещество, которое при заданных условиях дает хлорид натрия и ослепительный желтый свет. Это будет уже не знание о хлоре, а правило применения слова "хлор". Иначе говоря, одни и те же эстафеты можно истолковать и вербализовать и как экстралингвистические, и как лингвистические, что и является одним из механизмов постоянного обогащения языка науки. Ниже мы рассмотрим подобного рода преобразования более подробно. Прежде всего надо отметить, что они далеко не всегда имеют место. Возьмем, к примеру, язык, с помощью которого записываются правила шахматных ходов и шахматные партии. При построении этого языка налицо полная симметрия лингвистических и экстралингвистических нормативов. "Фигура, называемая слоном, ходит по диагоналям" — это правило оперирования со слоном. "Слоном называется фигура, которая ходит по диагоналям" — это правило словоупотребления. Однако в дальнейшем, когда язык уже введен, мы можем записать на нем любое количество партий, ничего не меняя в самом языке. Выражение "Слон в данной позиции дает мат черному королю" мы уже не будем преобразовывать в правило использования термина "слон". Знание и язык здесь можно без труда противопоставить друг другу, т.к. язык, оставаясь инвариантным, служит средством фиксации огромного количества знаний. Почему это происходит? Чем ситуация в шахматах отличается от ситуации описанного выше химического эксперимента? Воспользуемся аналогией Фейнмана и представим себе, что в шахматы играем не мы, а Боги, а наша задача — разгадать правила игры [5, с. 38]. Как в этом случае будет формироваться язык? Нам надо научиться различать 4 фигуры как по внешнему виду, так и по функциям, но мы пока не только не знаем простых правил ходов, но и не подозреваем об их существовании. Поэтому каждый записанный ход может оказаться и правилом. Допустим, мы выделили по внешним признакам такую фигуру, как конь, и обнаружили, что конь пошел с поля g1 на f3. В этой ситуации вполне естественно не только записать некоторое правило перемещения фигуры "Конь может пойти с поля g1 на f3", но и правило словоупотребления "Конем называется фигура, которая может пойти g1 — f3". Очевидно, однако, что конь может делать и много других ходов, и каждый раз это будет выглядеть как новое правило, как для фигуры, так и для соответствующего термина. Что же изменилось при переходе от обыкновенных шахмат к шахматам "божественным"? Изменился характер тех правил, которые мы формулируем. Дж. Р. Серль выделяет два типа правил: регулятивные и конститутивные. Первые регулируют деятельность, которая существует независимо от этих правил, вторые, напротив, полностью задают и определяют эту деятельность [6, с. 153–154]. Правила ходов в обыкновенных шахматах — это конститутивные правила. Мы сами их сформулировали, создав тем самым шахматную игру. И поэтому, сколько бы мы ни наблюдали шахматных партий, никаких новых правил мы не обнаружим. Другое дело "божественные" шахматы или мир химических реакций, здесь правила имеют регулятивный характер, и у нас нет никаких гарантий того, что мы знаем их все и не натолкнемся на неожиданность. Здесь каждый новый ход или новая химическая реакция — это и новое правило. Если конкретизировать сказанное применительно к науке, то к "божественным" шахматам ближе всего сфера эмпирического исследования, а шахматы обыкновенные похожи на работу в рамках так называемых теоретических моделей. Мы приходим еще к одному выводу: знания эмпирические и теоретические имеют разное строение в плане соотношения лингвистических и экстралингвистических правил. В сфере эмпирии эти правила постоянно преобразуются друг в друга, и можно довольно часто говорить о симметрии лингвистических и экстралингвистических эстафет. Поэтому и языковые средства в сфере эмпирического исследования неустойчивы и быстро изменяются. Наоборот, в сфере теории язык, терминология подвержены изменениям в гораздо меньшей степени и выступают в качестве инвариантов при переходе от одних знаний к другим. [2.2.] Знание и рефлексивные преобразования Вернемся теперь еще раз к эксперименту с получением хлорида натрия. Очевидно, что его можно воспроизводить и по непосредственному образцу, а, следовательно, для наблюдателя, постоянно присутствующего в лаборатории, описание вовсе не обязательно. Но оно обязательно, если мы хотим, чтобы достигнутый результат стал достоянием всего научного сообщества. Эстафета в этом случае становится вербализованной, т.к. воспроизведение деятельности происходит уже не по непосредственному образцу, а по описанию, с учетом, разумеется, всех сделанных выше оговорок относительно того, что описание, как правило, не является полным. 5 Такое описание — это и есть простейший случай знания, знания как посредника при воспроизведении деятельности. Именно этот случай мы и будем в дальнейшем рассматривать в качестве упрощенной модели, удобной для понимания более сложных ситуаций. Представим себе, что мы присутствуем в лаборатории, наблюдая за действиями экспериментатора, и хотим описать, что именно он делает. Легко показать, что наша задача не так уж проста, ибо с самого начала мы должны осуществлять выбор из многих предоставленных нам возможностей. Во-первых, не ясно, имеем мы дело с экспериментом или с производственным актом. В одном случае целью является получение знания, в другом — получение хлорида натрия. Все зависит от того, как осознаются действия участниками процесса. Одни и те же действия могут осознаваться самым различным образом [7, с. 21]. Не исключено, например, что экспериментатор хотел кому-то продемонстрировать яркую вспышку света или просто свое умение ставить опыты. Допустим, однако, что речь идет все же об эксперименте, т.е. о получении некоторого знания. В этом случае наша задача и задача экспериментатора фактически совпадают, мы просто берем на себя часть его работы и должны сформулировать окончательный результат. Какое именно знание мы хотим при этом получить? Приведенное выше описание является далеко не единственным. Приведем в качестве примера еще три варианта: 1. "Натрий используют при получении хлорида натрия NaCl. Для этого небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При реакции появляется ослепительный желтый свет." 2. "Хлор используют при получении хлорида натрия NaCl. Для этого небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При реакции появляется ослепительный желтый свет." 3. "Хлорид натрия NaCl получают следующим образом: небольшой кусок металлического натрия помещают в трубку из тугоплавкого стекла и нагревают на пламени в токе хлора. При реакции появляется ослепительный желтый свет." Чем приведенные описания отличаются друг от друга? Тем, очевидно, что в первом случае это знание о свойствах натрия, во втором — о свойствах хлора, а в третьем — о способе получения хлорида натрия. Иначе говоря, перед нами знания о разных объектах, они имеют разную референцию. А как с этой точки зрения оценить наше исходное описание? Там речь идет не о натрии и не о хлоре, а о самих действиях, которые кто-то осуществляет, получая при этом определенный результат. Строго говоря, это характеристика не химических элементов или их соединений, а самих химиков, которые "помещают", "нагревают" и т. д. В науке можно встретить и формулировки более определенные, не оставляющие сомнения в том, что референтом знания в подобных случаях является само действующее лицо. Вот, например, как Эпинус описывает свои опыты с турмалином: "Я разогрел турмалин на куске изрядно горячего металла в темной комнате, где я находился некоторое время. Я прикоснулся к поверхности концом пальца и, прикоснувшись, увидел бледный свет, который, казалось, исходил из пальца и расстилался по поверхности" [8, с. 425–426]. 6 Итак, если мы хотим описать наблюдаемый нами эксперимент, то прежде всего необходимо задать референцию знания, определить, знание о чем именно мы хотим получить. Один и тот же эксперимент может быть при этом описан различным образом, и одно описание, как мы уже показали, легко преобразовать в другое. Преобразования такого рода мы будем в дальнейшем называть рефлексивными преобразованиями, т.к. речь идет о различном осознании наших целевых установок. Строго говоря, та или иная совокупность действий сама по себе не представляет собой деятельности, ибо деятельность — это целенаправленный акт. Именно рефлексия и превращает действия в деятельность. И только от рефлексивной установки зависит тот факт, что одни и те же действия могут выступать и в роли акта производства, и в роли акта познания, могут в одном случае фигурировать как действия по изучению свойств хлора, а в другом — натрия. Если в результате таких преобразований ничего не меняется, кроме самой рефлексивной установки, то можно говорить о попарно симметричных актах деятельности или о попарно симметричных описаниях. Симметрию такого рода мы будем называть рефлексивной симметрией [4, с. 167–171]. В частности, все приведенные выше описания одной и той же лабораторной акции попарно симметричны. Возвращаясь к предыдущему разделу нетрудно показать, что проблема соотношения знания и языка, эстафет лингвистических и экстралингвистических тоже в значительной степени сводима к рефлексивным преобразованиям. Все опять-таки зависит от выбора референции. Объективно любое описание какой-либо деятельности предоставляет нам определенные возможности для характеристики не только тех, кто действует, и не только объектов, с которыми осуществляются эти действия, но и языка описания. Выбирая референцию соответствующим образом, мы получим либо правила словоупотребления, т.е. значения слов, либо знания об элементах самой деятельности, включая и объекты, и действующих лиц. В первом случае речь идет о вербализации лингвистических эстафет, во втором — экстралингвистических. Важно с самого начала оговорить одно возможное недоразумение. Могут сказать, что исходное описание эксперимента с получением хлорида натрия никто не воспринимает как характеристику каких-то неизвестных химиков. Эти химики никого не интересуют, чем и объясняется безличный характер таких выражений, как "помещают" или "нагревают". Описание с самого начала воспринимается как характеристика некоторых веществ. Это верно. Но это свидетельствует только о том, что рефлексивные преобразования мы сплошь и рядом осуществляем, сами того не замечая, под воздействием того или иного контекста, в рамках которого нам нужна вполне определенная информация. Неосознанный характер рефлексивных преобразований вовсе еще не означает, что они несущественны и что их не следует принимать во внимание. Мы вообще в основном осознаем мир неосознанно, т.е. не осознавая самого процесса осознания. Рефлексивные преобразования, как мы уже видели, могут носить разный характер. В частности, преобразование описаний не сводится к смене референции. В составе социальной эстафеты каждый акт выступает не только сам по себе, но и как образец для последующего воспроизведения. В этой последней роли он воспринимается как предписание. И, действительно, разве описание эксперимента с получением хлорида 7 натрия мы понимаем только как фиксацию того, что делали или делают? Разве не означает оно для нас некоторого указания такого типа: "Нагрейте кусок металлического натрия в токе хлора, и вы получите хлорид натрия"? Вероятно, почти каждый согласится, что такое понимание имеет место, а это означает, что мы, сами того не осознавая, преобразуем описания в предписания. Представьте себе, что к вам обращается ваш знакомый за советом, а вы отвечаете, что обычно в таких ситуациях поступают так-то и так-то. Дали вы совет или нет? Какое дело вашему знакомому до того, как обычно поступают в подобных случаях? Очевидно, что вы рассчитываете на то, что собеседник преобразует описание в некоторую рекомендацию, т.е. в предписание, но вы предоставляете сделать это ему самому, что, вообще говоря, снимает с вас некоторую долю ответственности. Преобразования, связанные со сменой референции вполне обратимы, что легко проверить на приведенных примерах. Этого нельзя сказать о преобразовании описаний в предписания. Конечно, любой состоявшийся акт деятельности может быть осознан и как образец для возможного воспроизведения. Поэтому любое описание легко преобразуется в предписание. Но можно ли сказать, что любой рецепт, даже если он правильный, свидетельствует о том, что кто-то его уже реализовал? Иными словами, можно ли утверждать, что любое предписание — это преобразованное описание? Достаточно очевидно, что нельзя. Например, используя географическую карту, вы можете дать конкретные указания, как пройти или проехать из одного пункта в другой, и это вовсе не будет означать, что кто-то когда-то прошел или проехал этим маршрутом. Но географическая карта — это модель земной поверхности. Поэтому можно сказать, что необратимость рефлексивных преобразований описаний в предписания по меньшей мере свидетельствует о том, что участники эстафет владеют какими-то моделями той реальности, в которой они действуют. Сказанное означает, однако, что в некоторых достаточно простых ситуациях указанные преобразования вполне обратимы. [2.3.] Референция и репрезентация в составе знания Предыдущее изложение показывает, что знание — это всегда знание о чем-то, о каких-то объектах. Очевидно, что эти объекты должны быть как-то заданы, как-то определены. Если, к примеру, мы характеризуем свойства натрия, то предполагается, что мы знаем, о чем говорим, что мы умеем отличить натрий от других веществ. В противном случае знание будет беспредметным, будет знанием ни о чем. Выражения типа "Х дает соединения с хлором" просто не являются знанием. Это значит, что в состав знания должны входить эстафеты выделения и распознавания такого рода объектов, объектов-референтов. Они могут быть вербализованными или нет, это пока неважно, важно, что они обеспечивают референцию знания, его предметную отнесенность. Некоторое усложнение картины обусловлено, как отмечает Х. Патнэм, "разделением языкового труда" [9, с. 383–385]. Немногие способны отличить мышьяк от других веществ, и тем не менее выражение "Мышьяк ядовит" — это знание, ибо в нашем языковом сообществе есть и постоянно воспроизводятся люди, владеющие соответствующими методами химического анализа. Иными словами, в нашем 8 сообществе "живут" эстафеты распознавания мышьяка, но далеко не все из нас являются их участниками. В такой же степени выражение "Золото — драгоценный металл" мы с полным правом воспринимаем как знание, хотя очень немногие сумеют отличить золотое кольцо от подделки. Знание, следовательно, — это достояние не отдельного человека, а общества в целом. Имеют место усложнения и другого типа, на которых мы не имеем возможности здесь останавливаться. В основном они связаны с тем, что далеко не все референты знания являются эмпирическими объектами. Например, выражение "Цезарь провел реформу календаря" — это знание, хотя речь идет о прошлом, и никто из нас не столкнется с эмпирической задачей распознавания Цезаря, если, разумеется, речь не идет о его скульптурных изображениях. Еще более сложные проблемы связаны с референцией теории, но это предмет дальнейшего рассмотрения. Перейдем теперь к эстафетам, которые определяют содержание знания. Мы будем их называть эстафетами-репрезентаторами или просто репрезентаторами. Что они собой представляют? Возвращаясь к уже рассмотренному выше описанию химического эксперимента, нетрудно видеть, что все предложенные там разновидности этого описания отличаются референцией, но содержат одну и ту же неизменную часть, некоторый инвариант. Речь идет об одной и той же ситуации человеческой активности, об одних и тех же действиях или операциях с одними и теми же объектами. Назовем это деятельностной ситуацией. Однако каждый раз описание ориентировано на характеристику разных элементов этой ситуации. В приведенных примерах мы характеризуем натрий и хлор как вещества, с которыми осуществляют или можно осуществлять определенные операции, получая хлорид натрия. Этот последний в свою очередь характеризуется как вещество, которое получают или можно получать, оперируя указанным образом с натрием и хлором. Наконец, сам автор или авторы эксперимента тоже характеризуются как выполняющие или способные выполнять определенную деятельность. Описания такого рода и задают эстафетурепрезентатор. Мы хотим обратить внимание на то, что химическим веществам приписывается при этом пассивная роль, роль объектов, а не агентов действия, в то время как сам экспериментатор определяется как действующее лицо. Имея в виду это различие, мы будем говорить в дальнейшем о пассивной и активной репрезентации. Знание возникает в результате взаимодействия эстафет, задающих референцию, и эстафет-репрезентаторов. При этом первые функционируют как лингвистические эстафеты, а вторые — как экстралингвистические. Если, например, речь идет о натрии, то референтами знания являются все объекты, которые можно обозначить словом "натрий", т.е. именно правила словоупотребления и определяют референцию. Рассмотрим в свете сказанного следующую статью из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, достаточно типичную и выбранную нами исключительно по причине ее краткости: "Ивановский (Лев Константинович, 1845–92), — доктор, более известный как археолог. Он производил раскопки на месте древней Вотской пятины, а также на р. Сити. Смерть застигла его во время описания богатой коллекции добытых им предметов" [10, с. 274]. Является ли этот текст знанием? Вероятно, нет, если мы не выделили в нем те части, которые ответственны за референцию и репрезентацию. 9 Очевидно, что это можно сделать различным образом. Можно, например, выбрать в тексте те признаки, которые достаточны, с нашей точки зрения, для правильного употребления имени "Ивановский Лев Константинович", скажем, даты жизни и профессия врача, а описание археологической деятельности этого человека и обстоятельств смерти считать репрезентатором. Важно, что без такого разделения, осознанного или нет, все описание задает только правило использования имени, поставленного в начале статьи, т.е. чисто лингвистическую эстафету. Затронем теперь еще один немаловажный вопрос. До сих пор мы рассматривали знание как вербализацию социальных эстафет, т.е. как описание человеческой деятельности. Как быть в тех случаях, когда никаких упоминаний о человеческих действиях в тексте нет? Вот конкретный пример, взятый опять из курса общей химии: "Хлор реагирует с водой с образованием хлористого водорода и хлорноватистой кислоты..." [3, с. 345]. В чем специфика этого текста по сравнению с предыдущими, которые мы уже анализировали? Прежде всего в том, что в предыдущих примерах в качестве агента действия выступал только человек, а химические вещества получали пассивную репрезентацию, здесь же речь идет о действиях хлора. Этот последний как бы занимает место экспериментатора. Действительно, сравним приведенный отрывок с таким вполне возможным текстом: "Химик нагревает небольшой кусок металлического натрия в токе хлора, получая хлорид натрия". Разве не бросается в глаза, что эти тексты построены как бы по одному шаблону с той только разницей, что в одном случае фиксируются человеческие действия, а в другом — действия хлора. Построение знания — это тоже некоторая социальная эстафета, в рамках которой реализуются одни и те же образцы. Иными словами, изучая описания деятельности, мы изучаем и знание вообще, ибо описание природных процессов строится по тем же принципам. Сказанное позволяет поставить вопрос о соотношении активной и пассивной репрезентации. Может показаться, что приписывая действия самой природе, мы от буквальных утверждений переходим к метафорическим. Это действительно так, если речь идет о целенаправленных действиях. Но никакой целенаправленности в приведенной нами характеристике хлора нет, а поэтому нет и метафоры. Скорее, речь должна идти опятьтаки о рефлексивных преобразованиях, о разных формах осознания человеческой деятельности, в рамках которой результаты наших действий зависят от взаимодействия вещей и наоборот. Можно акцентировать внимание на технологических деталях эксперимента или производственного акта, и тогда человеческие действия выступают на первый план. Можно, наоборот, обращать основное внимание на взаимодействие вещей, включенных в нашу деятельность, и тогда вся обусловленная нами технология начинает выступать только в функции некоторых условий, которые могли сложиться и иным путем. Короче, смена референции, как правило, приводит и к переходу от одного типа репрезентации к другому. Приведем в завершение еще один отрывок из курса химии, где хорошо видны указанные рефлексивные преобразования. "Железо с водой реагирует лишь при высоких температурах с образованием окиси: 3Fe + 4H2O — Fe3O4 + 4H2. Эту реакцию осуществляют, пропуская пары воды через фарфоровую или железную трубку, заполненную железной стружкой или гвоздями, 10 нагретыми до красного каления. Таким путем Лавуазье в 1783 г. установил состав воды" [3, с. 310]. Здесь налицо: а. Описание действий железа; б. Описание технологии эксперимента, где на первом месте уже действия экспериментатора; в. Характеристика Лавуазье, который, кстати, реализовал описанный эксперимент с целью изучения не свойств железа, а состава воды. [3.] КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗНАНИЯ Замечательный русский биолог и путешественник Н. А. Северцов писал в 1855 г.: "Прежде всего нужно уметь отличить одно животное от другого, это — предмет зоологической систематики или классификации животных. Эта часть зоологии более всего разработана, многие и до сих пор видят в ней всю науку, почитая все остальное за дополнительные, вернее вспомогательные, сведения. Это взгляд Кювье, который совершенство науки видел в естественной классификации, основанной на наружных и анатомических признаках... Таким образом, для его школы сравнительная анатомия есть только вспомогательная наука для систематики.... После Кювье образовалась новая школа ученых, господствующая и теперь; они сделали из сравнительной анатомии самостоятельную науку..." [11, с. 15]. Все, что мы скажем ниже в этом разделе, будет попыткой истолковать и объяснить приведенное наблюдение Северцова с точки зрения представлений о рефлексивных преобразованиях и рефлексивной симметрии. Что собой представляет классификация как таковая и может ли она выступать в качестве конечной цели в развитии науки? Почему и как происходит обособление дисциплин, первоначально выступающих как вспомогательные по отношению к систематике? Мы постараемся ответить на все эти вопросы, но прежде всего надо рассмотреть классификацию в составе таксономических систем знания, ее место и роль в составе этих систем. [3.1.] Классификация и референция знания Таксономические системы знания — это системы, в основе которых лежит классификация. Обычно достаточно взглянуть на оглавление учебного руководства или монографии, чтобы понять, что ты имеешь дело с таксономической системой. Возьмем в качестве примера "Опыт описательной минералогии" В. И. Вернадского, в двух томах [12]. Первый том посвящен описанию самородных элементов, второй — описанию сернистых и селенистых соединений. Описание самородных элементов разбито на две больших части: твердые и жидкие самородные элементы и газообразные элементы. Внутри каждой из частей существуют более детальные подразделения вплоть до выделения отдельных видов минералов. Нетрудно видеть, что мы имеем дело с классификацией. Аналогичным образом строится любой курс описательной минералогии, описательной зоологии или ботаники, палеонтологии, петрографии и т.д. Классификация лежит в основе описания свойств различных соединений в курсах органической или неорганической химии. Короче, мы имеем дело с достаточно распространенным в науке явлением. 11 Но вернемся к Вернадскому. Легко заметить, что оглавление его труда собрано как бы на базе двух основных элементов. Первый — это классификация минералов, второй — программа описания отдельных видов или групп минералов, которая с незначительными вариациями повторяется на протяжении всего оглавления, а следовательно, и всей книги. Вот эта программа на примере описания самородного свинца: химический состав и физические свойства; нахождение в земной коре; самородный свинец в России; изменение самородного свинца, труд человека; определение. В реализации трех пунктов из этой программы Вернадский видел основную новизну и значение своего труда. Во-первых, он ставил задачу пересмотра "природных химических соединений Земли с точки зрения процессов, в ней идущих"; во-вторых, он старался "выяснить значение человека в генезисе минералов"; наконец, в третьих, работа претендовала на то, чтобы "дать, по возможности, полную топографическую минералогию Российской империи" [12, т. 2, с. 9 ].Короче, важность своей работы Вернадский усматривал отнюдь не в классификации минералов. Какова же роль классификации в рамках таксономических систем, подобных той, которую мы встречаем у Вернадского.? Ответ достаточно очевиден: классификация задает референцию знания, точнее, она выделяет и упорядочивает те объекты, к которым относится знание, систематизируя тем самым и знание об этих объектах. Для наглядности таксономическую систему можно представить как набор определенным образом организованных ячеек памяти, каждая из которых содержит сведения о некотором виде объектов. При этом возникает та же проблема, что и при понимании энциклопедической статьи: какая часть описания задает ячейку памяти, отвечая за референцию, а какую следует рассматривать в качестве репрезентатора? Программа описания минералов у Вернадского содержит такой пункт как "определение" или "диагноз", и можно предположить, что именно здесь речь идет о методах, достаточных для референции. Во всяком случае, важно иметь в виду, что все зависит от нашего рефлексивного видения, от нашего осознания функциональной значимости тех или иных компонентов текста. Таксономическая система знания существует за счет фиксации некоторой рефлексивной установки, за счет запрета на рефлексивные преобразования. Обобщая сказанное, можно выделить по меньшей мере четыре вида программ, определяющих построение и функционирование таксономических систем знания. Первая — это программа разбиения всего множества изучаемых объектов на подмножества, т.е. собственно классификация или классификация как таковая. Вторая — это программа описания выделенных подмножеств, которая определяет характер решаемых задач, а следовательно, и тип репрезентации. Можно выделить и третью программу, программу решения поставленных задач. Например, для определения физических или химических свойств минералов нам необходимы соответствующие методы. Эти последние, однако, могут сильно варьировать в рамках одной и той же программы описания, никак не влияя до поры до времени на характер исходной классификации. Поэтому эта программа в рассматриваемой ситуации стоит как бы на заднем плане, хотя, разумеется без ее реализации не существует и знание. Ниже мы покажем, что в рамках теоретических систем положение кардинально 12 меняется. И наконец четвертая программа — это та рефлексивная "картинка", которая, как мы уже показали, определяет текст именно как систему знания, различая эстафеты лингвистические и экстралингвистические, референцию и репрезентацию. Разумеется, все выделенные программы могут существовать как на уровне воспроизведения непосредственных образцов, так и в виде вербально сформулированных правил. Как уже отмечалось в начале статьи, таксономические системы знания — это частный случай более общего класса систем, которые мы будем называть предметнодистинктивными. От таксономических они отличаются только способом выделения и организации ячеек памяти. Классификация группирует предметы по принципу их сходства и различия, не предполагая, что эти предметы как-то объединены в пространстве или во времени и взаимодействуют друг с другом. Она ложится в основу системы знаний, но не задает системного видения реальности. Например, в одну и ту же группу растений или животных могут быть отнесены виды, которые в природе никогда не встречаются и не встречались. В отличие от этого районирование выделяет группы явлений, которые пространственно объединены и имеют общие границы распространения. Выделенные районы граничат и взаимодействуют друг с другом в рамках некоторой объемлющей территории. В такой же степени периодизация объединяет явления по принципу их отнесенности к некоторому отрезку исторического времени. Вообще говоря, соотношение разных типов предметно-дистинктивных систем — это достаточно сложный и запутанный вопрос. Например, существовала и частично продолжается до сих пор многолетняя дискуссия о соотношении классификации и районирования. Здесь, однако, не место анализировать этот вопрос. Нам хотелось бы подчеркнуть не столько различие, сколько сходство всех этих систем, ибо все сказанное выше в равной степени относится и к системам знания, основанным на районировании, и к системам, связанным с периодизацией. Было бы, однако, неверно и полностью идентифицировать эти способы организации знания хотя бы потому, что они приводят к разным результатам. В исторической науке, например, мы встречаем и периодизацию и районирование, что приводит, с одной стороны, к выделению таких исторических дисциплин как история античности или история средних веков, а с другой, — дисциплин типа истории Франции или истории России. К предметнодистинктивным системам знания следует, вероятно, отнести и те случаи, когда некоторый сложный системный объект описывается по отдельным составным частям. Так, например, в анатомии растений традиционно выделяются такие разделы, как "стебель", "лист", "корень", "цветок"... Ниже мы рассмотрим этот случай более подробно. [3.2.] Что такое классификация как таковая? В принципе, как это следует из всего предыдущего, любую таксономическую систему знания можно представить просто как классификацию, классификацию как таковую. Речь идет о рефлексивном преобразовании, в результате которого все тексты начинают рассматриваться как вербализация правил словоупотребления, как способ задания ячеек памяти, которые еще не заполнены. Например, описание физических и 13 химических свойств минерала, его нахождения в земной коре и т.д. можно рассматривать в качестве средств его обособления и спецификации или в качестве оснований для его объединения с другими минералами в одну группу. Мы получаем как раз ту ситуацию, о которой писал Северцов, ситуацию, когда все дисциплины, например, анатомия работают на классификацию. Все зависит от рефлексивной установки, от того, рассматриваем мы классификацию как конечную цель или только как средство организации знаний. Рефлексивная переориентация такого рода может захватывать целую совокупность научных дисциплин, переосмысливая их функции относительно друг друга, их соподчиненность и значимость. Можно, например, считать, что вся биология работает на теорию эволюции. Вот конкретный пример такой точки зрения: "...По существу накопление данных по географии растений и животных, установление точных границ и взаимоотношений тех или иных животных или растительных групп в природе, выяснение тончайшего строения клетки или особенностей оплодотворения, даже открытие кода наследственности — важны не столько сами по себе, сколько потому, что они помогают нам понять общие закономерности существования и развития живого на Земле. Таким образом, любое биологическое исследование оказывается оправданным лишь в том случае, если оно имеет более близкий или более далекий, но обязательно эволюционный "выход" [13, с. 9]. Но с таким же правом можно считать, что сама теория эволюции, а следовательно, и вся биология работает на классификацию организмов. Приведем соответствующее высказывание. "Классификации постоянно изменяются. Частично это является результатом расширения наших знаний о богатстве живого мира. Частично приходится создавать новые высшие категории, чтобы отразить различия между новыми и давно известными видами. Кроме того изменения в классификации обусловлены накоплением теоретических знаний о механизмах эволюции. Поэтому можно сказать, что классификация всегда отражает современный ей уровень эволюционного мышления. Системы классификации, используемые разными одинаково высококвалифицированными учеными, обычно различаются просто потому, что поразному интерпретируется эволюция" [14, с. 125]. Классификация в функции средства может быть удобной или неудобной, может отвечать или не отвечать предъявляемым к ней требованиям. Вернадский, например , подчеркивает, что поставив перед минералогией новые задачи, он вынужден был изменить и классификацию. "В связи с этим, — пишет он, — мною критически пересмотрены все данные, касающиеся генезиса минералов и их химического состава. Очевидно, это вызвало необходимость новой классификации минералов, которая была мною выработана..." [12, т. 2, с. 9]. Иными словами, в рамках таксономической системы знания классификация как бы подконтрольна требованиям того целого, в рамках которого она должна играть определенную роль. Система в целом как бы выступает здесь в функции режиссера. В отличие от этого классификация как самоцель представляет собой в значительной степени чисто произвольную акцию, т.к. любое множество эмпирических объектов можно разбить на подмножества огромным количеством способов. Это 14 прекрасно понимал и Вернадский. "Классификация минералов, — писал он, — играет в минералогии такую же подчиненную роль, какую занимает классификация химических соединений в современной химии. Как среди соединений углерода, так и при изучении минералов эти вопросы в значительной мере открыты личным взглядам, вкусам, научным построениям исследователя. И в минералогии, как и в химии, классификации минералов могут и должны быть иными у всякого научного работника, пытающегося охватить целиком всю область минералогии" [12, т. 2, с. 11]. В литературе можно встретить немало аналогичных высказываний, подчеркивающих неоднозначность и даже субъективность классификационных подразделений. "Большое число видов, обладающих множеством таксономических признаков, можно распределить по группам многими очень различными способами. Какую классификацию из нескольких следует применить? Какая из них верно отражает филогению? Иногда кажется, что ответов на эти вопросы столько же, сколько таксономистов. Говорили даже, что таксономия на этом уровне не наука, а искусство и что ее методы не поддаются четкому и логичному объяснению" [14, с. 134]. Чаще всего трудности такого рода связывают с группами выше видового уровня, но можно встретить признания и такого рода: "Согласно несколько циничному, но содержащему долю истины определению, вид — это группа особей, которую компетентный систематик считает видом" [15, с. 27] Аналогичные высказывания можно встретить в географии применительно к районированию. Вот что пишет по этому поводу американский географ Престон Джемс: "Однако "правильной" системы районов, или системы "подлинных районов", не существует; ни одна система районов не является абсолютно верной, так же как и все остальные не являются полностью ошибочными" [1, с. 30]. Все это далеко не случайно, ибо, строго говоря, ни классификация, ни районирование сами по себе просто не являются знаниями в изложенном выше смысле слова. Знание не может состоять из одних только лингвистических эстафет, оно предполагает не только референцию, но и репрезентацию. Классификация и районирование как таковые — это просто язык, это система терминов, т.е. продукт соглашения. Терминология при всей ее значимости в развитии науки не может быть истинной или ложной, она может быть удобной или неудобной, четкой или расплывчатой. Однако, рассматривая районирование или классификацию как самоцель, мы невольно начинаем использовать те же критерии, что и при оценке знаний. Итак, в каждой области знания может, вообще говоря, существовать много разных таксономических систем, связанных с изучением одних и тех же объектов, но отличающихся друг от друга программами их описания. Каждую из таких систем можно рефлексивно преобразовать в классификацию как таковую, и мы получим множество классификаций, построенных на разных основаниях. Можно ли такую ситуацию считать нормальной? Ответ зависит от целевых установок исследователя. Выше, анализируя "Опыт описательной минералогии", мы подчеркивали, что важность своей работы Вернадский усматривал отнюдь не в классификации минералов, а прежде всего в новой программе их описания. Множественность классификаций, как это видно из приведенной выше цитаты, он оправдывает тем, что классификация играет 15 "подчиненную роль". В рамках такой установки множество таксономических систем, а следовательно, и классификаций — это нечто вполне естественное. Но если рассматривать классификацию как самоцель, как конечный продукт, важный сам по себе, тогда множественность решений не может нас удовлетворить. Именно здесь и появляется идея так называемой естественной классификации, основанной на наиболее существенных признаках, от которых зависят и которыми определяются все остальные признаки [2, с. 74]. Посмотрим, что это такое в свете изложенных представлений. Очевидно, что естественная классификация может быть только одна. Но это означает, что при любых программах описания, как бы они ни развивались и ни обогащались, рефлексивное преобразование соответствующих таксономических систем знания должно приводить к одной и той же классификации. Фактически это равносильно требованию того, чтобы все содержание соответствующей сферы знания, включая не только настоящее ее состояние, но и будущее, укладывалось в одни и те же изначально заданные ячейки памяти. Иными словами, превращение любых экстралингвистических эстафет в лингвистические не должно в ходе развития данной области приводить к каким-либо изменениям исходной терминологии. Но это, как мы видели выше, прерогатива только теоретических систем знания, где правила оперирования с объектами носят конститутивный характер. Иными словами, естественная классификация невозможна в качестве продукта эмпирического исследования, она невозможна как классификация эмпирических объектов, хотя именно применительно к этим объектам только и возникает идея естественной классификации. [3.3.] Проблема реальности таксонов С классификацией тесно связана проблема реальности выделяемых таксонов. Вообще говоря, это достаточно самостоятельная проблема, и здесь не место для ее детального обсуждения, но несколько замечаний принципиального характера хотелось бы сделать. Начнем с некоторых представлений, бытующих в биологических науках. Современный биолог чаще всего признает реальность видов, но сомневается в реальности высших таксонов. Э. Майр, например, пишет о виде: "Это единственная таксономическая категория, для которой границы между таксонами на данном уровне определены объективно" [16, с. 41]. А вот еще одно аналогичное высказывание: "Поскольку все группы выше видового уровня субъективны и поскольку наши знания постоянно пополняются, не существует "правильной" системы классификации или всеобщего согласия" [15, с. 28]. В действительности, однако, проблема реальности вида ничем принципиально не отличается от проблемы реальности высших таксонов. Попробуем это показать. В биологии принято выделять три концепции вида: типологическую, или эссенциалистскую, номиналистическую и биологическую [15, с. 38–40]. Уже в этом противопоставлении есть некоторое смешение понятий. Первые две концепции имеют давнюю философскую традицию и связаны с попытками постичь природу общих понятий. Эссенциализм полагает, что эти понятия фиксируют некоторую объективную идеальную сущность, в то время как номинализм 16 признает реальность только индивидов, относя общие понятия к числу искусственных творений нашего разума, которым в природе как таковой ничего не соответствует. Биологическая концепция вида, строго говоря, не имеет никакого отношения к этой философской дискуссии, ибо она вовсе не обсуждает природу общего. Вид, как пишет Э. Майр, — это "генетическая единица, включающая большой взаимосвязанный генофонд, тогда как особь — всего лишь некий сосуд, содержащий малую часть генофонда в течение короткого периода" [16, с. 21].Обратим внимание — "генетическая единица". Разве не ясно из этого, что биологический вид — это вовсе не таксон, а индивид, или, выражаясь несколько иначе, термины, обозначающие виды, — это сингулярные термины, аналогичные собственным именам. Поэтому признавая реальность вида, но отрицая реальность высших таксонов, биологи оказываются на позициях обыкновенного номинализма, которому, якобы, только-только противопоставились. Но рассмотрим это более подробно. Среди окружающих нас явлений можно выделить особый класс волноподобных объектов, которые мы будем называть куматоидами (от греческого kuma — волна). Для куматоидов характерно определенное безразличие к материалу, на котором они живут, иными словами, они постоянно материально обновляют себя, как, например, одиночная волна, бегущая по поверхности океана. Это понятие позволяет по-новому взглянуть на многие явления, сопоставляя то, что раньше не сопоставлялось. Речь идет, как мне представляется, о новом классе явлений, с которыми мы постоянно сталкивались, не замечая, однако, их общей специфики. К числу куматоидов можно отнести: волны на воде; университет, который перестраивает свои здания и постепенно меняет студентов и преподавателей; науку, которая подобна в этом плане университету; президента США, который меняется с определенной периодичностью; любое существительное нашего языка, которое, обозначая различные конкретные предметы, само может быть произнесено или записано бесчисленным множеством способов; постоянно воспроизводимые акты деятельности того или иного типа и т.д. К числу куматоидов следует отнести и социальные эстафеты, в рамках которых воспроизводится деятельность, поглощая и новые материалы и новых людей. Примеры показывают, что мы имеем дело с очень большим разнообразием, но во всех приведенных случаях речь идет о способе существования некоторых "программ", которые реализуются на все новом и новом материале. Достаточно очевидно, что биологический вид — это тоже куматоид, это "генетическая единица", реализующая себя на множестве постоянно сменяющихся особей. Он столь же индивидуален, как и одиночная волна на воде. Итак, признавая реальность вида, но отрицая объективную реальность высших таксонов, мы попадаем фактически на позиции номинализма. Это, однако, столь же шаткая позиция, как и эссенциализм, в силу крайней неопределенности понятия "индивид". Действительно, стоит только подумать о том, что собственное имя "Ключевская сопка" обозначает нечто существенно изменяющееся при каждом извержении, как сразу возникнет проблема реальности, напоминающая проблему реальности высших таксонов. Как же здесь следует рассуждать? Может быть, так: Ключевская сопка в данный момент t — это реальность, а Ключевская сопка вообще, т.е. в абстракции от времени — это нечто существующее только в нашей голове? Разве 17 не означает сказанное, что собственное имя, обозначающее, казалось бы, индивидуальный объект, оказывается при ближайшем рассмотрении именем таксона? Не будем поэтому противопоставлять вид и таксоны более высокого порядка, а поставим общий вопрос о реальности объектов, выделяемых нами с помощью понятий. Начнем с того, что наши понятия — это тоже куматоиды, но только не биологические, а социальные, т.е. реализация не биологических, а социальных программ. Можно ли считать, что эти куматоиды реально не существуют? Очевидно, что нельзя. Социальные программы столь же реальны, как и программы генетические, и существуют они отнюдь не только в головах отдельных людей, но имеют некоторое надличностное существование. Здесь тоже можно сказать, что отдельный человек — это всего лишь некий "сосуд", содержащий малую часть социального генофонда в течение короткого периода. Но если реальны социальные программы, выделяющие в Природе те или иные классы явлений, то столь же реальны и эти классы. Любой куматоид имеет некоторый "ареал", любой из них избирателен по отношению к элементам среды, которые он вовлекает в свое движение, иными словами, куматоиды порождают некоторые "границы" в той среде, в которой они живут. Но признавая реальность видов, биолог, вероятно, не может не признать реальность и их ареалов или реальность их пищевого рациона? Признавая существование нашей серой вороны, нельзя не признавать и реальность такого таксона, как вороньи гнезда? Едва ли их можно назвать творением нашего разума, ибо гораздо более очевидные творцы — сами вороны. Но в такой же степени таксоны типа "млекопитающие" или "рептилии" — это порождение наших понятий, это множества объектов, на которых соответствующие понятия реализуются. И таксоны, я полагаю, столь же реальны, как и сами понятия, т.е. некоторые социальные программы. Образно говоря, таксон "млекопитающие" — это "пищевой рацион" соответствующего социального куматоида или его "ареал". Но что, собственно говоря, доказывают все наши рассуждения? Может, было бы гораздо проще сразу согласиться с теми, кто полагает, что таксоны не существуют в природе сами по себе, а являются нашим интеллектуальным порождением? Разве не показали мы то же самое, настаивая только на надличностном характере социальных программ? Все не так просто. Сетования по поводу субъективности таксонов раздаются обычно на фоне молчаливого признания исключительности этой ситуации: виды объективно существуют, гены, вероятно, тоже, а вот высшие таксоны субъективны. Но если отказать в объективной реальности всему тому, что является порождением наших социальных программ, то в природе нет ни углерода, ни водорода, ни кислорода, ни азота..., нет жизни, а следовательно, и биологических видов, объективность которых биологи почему-то признают. А не получается ли так, что, изгоняя из природы все следы социальных куматоидов, мы лишаемся и самой природы? Суть в том, что естествоиспытатель, как правило, "видит" природу, но не замечает тех социальных программ, в которых работает и следы которых как раз и образуют то, что он видит. В большинстве случаев это столь же удобно, как смотреть кинофильм, забывая о технологии создания изображения на экране. Но где она, эта "природа", сама по себе при более внимательном рассмотрении? Мы указываем на конкретный предмет и говорим: "Это гранит". Но "гранит" — это либо социальный куматоид, либо его 18 следы, т.е. в природе самой по себе никакого гранита не существует. Как тогда следует понимать наше высказывание? Вероятно, так: "Это то, на чем может быть реализована социальная программа "гранит". Мы говорим: "Снег бел". Что это означает? Ведь никакого снега и никакой белизны не существует, и то и другое — это тоже социальные куматоиды и их порождения. Понимать, вероятно, опять-таки надо так: "Область реализации социальной программы "снег" позволяет реализовать и программу "бел". Иными словами, наши знания — это всего лишь попытка увязать друг с другом возможности реализации разных социальных программ. Конечно, наши программы при этом встречают некоторое "сопротивление", что и позволяет говорить о реальности, которая от этих программ не зависит. Тем не менее снег и гранит представляются чем-то вполне реальным: их можно пощупать, попробовать на зуб, ощутить сопротивление... Но вот существует ли в природе столь привычный нам со школьной скамьи закон Бойля-Мариотта? Мы записываем: V∙P = C, но, простите великодушно, ведь объем на давление никто умножать не умеет, умножение — это операция для чисел. И числа, и уравнения — это тоже социальные куматоиды, а закон в целом можно сформулировать так: "Если на объекте, применительно к которому реализуема программа "газ", реализовать программу измерений объема и давления, то мы получим условия для жизни такого математического куматоида, как "V∙P = C". А где же здесь природа как таковая, как мы ухитряемся ее видеть? Ситуация оказывается еще сложней, если мы от гранита, снега или газа перейдем к таким, например, явлениям, как электромагнитное поле. Вот как Р. Фейнман описывает свои попытки представить себе поле: "Вижу какие-то смутные, туманные, волнистые линии, на них там и сям надписано E и B, а у других линий имеются словно какие-то стрелки, то здесь, то там на них есть стрелки, которые исчезают, едва в них вглядишься. Когда я рассказываю о полях, проносящихся сквозь пространство, в моей голове катастрофически перепутываются символы, нужные для описания объектов, и сами объекты" [17, с. 133]. Фейнман хорошо показывает, что не так-то просто увидеть природу независимо от социальных куматоидов. Мы просто "видим" эти куматоиды и их следы, а полагаем, что видим природу как таковую. [3.4.] Дисциплины таксономические и фундаментальные Рассмотрим в заключение еще одно возможное преобразование таксономических систем знания. Ю. Одум в своем широко известном курсе "Основы экологии" подразделяет все биологические дисциплины на фундаментальные и таксономические. К первым относятся такие дисциплины, как морфология, физиология, генетика, экология, молекулярная биология, теория эволюции, биология развития. Ко вторым — зоология, ботаника, бактериология или, если брать более мелкие подразделения, фикология, протозоология, микология, орнитология, энтомология и т.д. Одум предлагает графическую модель соотношения этих дисциплин в виде круглого пирога разделенного на горизонтальные слои и вертикальные дольки: слои — это фундаментальные подразделения, дольки — таксономические [18, с. 10]. Термин "фундаментальный" в данном контексте не совсем удачен, но за неимением лучшего 19 мы будем им пользоваться. Попробуем показать, что в основе противопоставления указанных дисциплин опять-таки лежит смена рефлексивных установок. Первое, что бросается в глаза, — это то, что выделенные дисциплины как-то очень тесно связаны друг с другом, а точнее, просто неразделимы. Действительно, стоит, например, открыть современный курс зоологии, и мы найдем там такие разделы, как генетика животных, физиология животных, экология, сравнительная морфология, эволюция... Нечто подобное будет иметь место и в курсе ботаники, энтомологии, микологии с той только разницей, что там пойдет речь об экологии, морфологии, генетике растений, насекомых или грибов.. Эту неразделимость и подчеркивает предложенная Одумом модель. Та или иная дисциплина в рамках этой модели является таксономической в силу ее ориентации на изучение определенных групп организмов, в силу того, что свою специфику она усматривает в характере референции получаемых знаний. Но необходимы еще программы и методы описания, их определяют уже дисциплины фундаментальные. В некотором идеальном случае, который и представлен на схеме слоеного пирога, каждая таксономическая дисциплина должна использовать программы всех фундаментальных дисциплин, а каждая фундаментальная, следовательно, — входить в состав всех таксономических. В рамках этой модели фундаментальные науки в отличие от таксономических должны усматривать свою специфику прежде всего в характере формулируемых задач, в особенностях подхода к объекту исследования. В какой-то степени это соответствует действительности и позволяет, в частности, использовать такие термины, как "морфология", "анатомия", "физиология", "экология" в составе научных или литературных метафор: "морфология сказки", "экология науки", "политическая анатомия Ирландии", "физиология нравов". Выражения такого типа не вызывают протеста именно потому, что понимаются как фиксация определенного подхода к изучению сказки, науки, нравов. Мы привыкли к тому же, что методы и подходы обычно легко преодолевают границы отдельных научных дисциплин. Было бы, однако, очень странно услышать об орнитологии сказки или о микологии науки. Но где и как существуют фундаментальные дисциплины сами по себе? Чем обусловлена их самостоятельность? Этого Одум не объясняет. Можно ли полагать, что анатомические, физиологические, экологические знания всегда разрознены и распределены по разным таксономическим системам? Конечно же, нет. Об этом говорит хотя бы курс экологии самого Одума, на который мы только что ссылались. Этот курс вовсе не состоит из таких разделов, как экология птиц или экология насекомых. Уже оглавление показывает, что экологическое знание можно систематизировать на основании совсем других принципов. В частности, в курсе Одума оно организовано на базе понятия экосистемы. Именно экосистемы и процессы в них происходящие, отдельные виды экосистем становятся референтами знания. Обратите внимание, можно говорить об экологии животных или об экологии растений, можно, переходя к более дробным подразделениям, говорить об экологии отдельных видов, а можно переосмыслить все экологическое знание с точки зрения другой, уже собственно экологической референции. Такое рефлексивное преобразование и приводит к выделению и обособлению экологии как самостоятельной 20 фундаментальной дисциплины. Нечто подобное, вероятно, и имел в виду Северцов, когда писал о выделении сравнительной анатомии как самостоятельной науки. Действительно, здесь тоже можно говорить об анатомии отдельных видов, но можно найти референты в рамках собственно анатомических дистинкций. Вот, например, как В. Н. Беклемишев описывает принципы изложения анатомии позвоночных: "Позвоночные — лишь один из подтипов животных; все они обладают единым планом строения, и все системы органов и аппараты их тела представляют стройные ряды развития, обычно проходящие через несколько классов или через весь подтип. Поэтому после краткого описания общего прототипа всех позвоночных, за который иногда принимается организация бесчерепных, дальнейшее изложение весьма естественно строится по аппаратам, и развитие каждого аппарата рассматривается через весь тип, "от ланцетника до человека" [19, с. 5]. Перед нами довольно сложная перестройка таксономических систем знания в предметно-дистинктивные системы другого типа. Описывая, например, анатомию отдельных видов животных, мы, конечно же, выделяем скелет, мышцы, пищеварительную и нервную системы, органы чувств и т.п., но знание в целом организуется при этом в соответствии с зоологической систематикой. Есть, однако, возможность глобальной переориентации, в результате которой референтами становятся именно выделяемые в анатомии подсистемы организма, т.е. скелет, мышцы и т.д. Подразделения зоологической систематики при этом тоже остаются, но начинают играть как бы вторичную роль при сравнительном описании отдельных органов. Нечто аналогичное имеет место и в случае экологии. [4.] ТЕОРИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАНИЯ Перейдем теперь к теоретическим системам знания и сопоставим их с таксономическими. Начнем с выяснения того, что такое теория, или, начиная с более простого, что такое эмпирическое и теоретическое исследование. Надо сразу сказать, что несмотря на постоянное употребление этих выражений как в специально-научной, так и в философской литературе, их точный смысл не так-то легко уловить. Скорей всего, никакого точного смысла этих выражений просто не существует, его еще надо построить. Иными словами, эти понятия нуждаются в экспликации. Не претендуя на решение такой задачи в полном объеме, мы вынуждены, однако, сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении. [4.1.] Эмпирическое и теоретическое исследование Общепринято, что эмпирическое познание связано с наблюдением, с экспериментом, что оно предполагает непосредственный контакт с изучаемым объектом. Однако нетрудно показать, что непосредственность этого контакта есть нечто крайне относительное и неопределенное. Например, если вы измеряете длину стола обыкновенной сантиметровой линейкой, никто, вероятно, не усомнится, что речь идет об эмпирическом исследовании. А если вы измеряете площадь вашего кабинета? Мы сталкиваемся в этом случае с так называемым косвенным измерением, которое предполагает вычисление. Тем не менее и здесь все, вероятно, согласятся, что результат 21 получен эмпирическим путем, хотя мы и опирались при этом не только на прямые измерения, но и на знание азов евклидовой геометрии. Примеры подобного рода можно продолжить. Считается, что Милликен эмпирически измерил заряд электрона. Но непосредственно он имел дело с микроскопом, в поле зрения которого перемещались заряженные капельки масла. Для того, чтобы связать эти последние с зарядом электрона, нужно опираться на достаточно сложные теоретические предположения. А что собой представляют эти последние? Теоретическое исследование, в отличие от эмпирического, следует, вероятно, понимать как исследование, основанное не на наблюдении или эксперименте, а на уже накопленном опыте, на предшествующих, уже полученных знаниях. Разумеется, и эксперимент ставится на базе уже имеющегося опыта, хотя бы потому, что любой экспериментатор работает в определенных уже сложившихся традициях. Это можно сказать и о наблюдении. Но здесь все же результат исследования определяется не традициями самими по себе и не накопленными знаниями, а именно наблюдением или экспериментом. Непосредственный контакт с объектом является здесь необходимым посредником между накопленным опытом и новым знанием. Специфика теоретического исследования состоит в отсутствии такого посредника. Трудность, однако, в том, что практически любое эмпирическое исследование включает в себя интерпретацию непосредственных данных наблюдения, что невозможно без теории. А любая теория строится как интерпретация некоторых эмпирических данных. Рассмотрим сравнительно простой пример. Уже очень давно было замечено, что удаляющийся корабль как бы опускается за горизонт. Интерпретацию и объяснение этого наблюдения дают представления о шарообразности Земли. Возникает естественный вопрос, что мы здесь имеем: эмпирическое доказательство того, что Земля — это шар, или теорию, которая объясняет наблюдаемые факты? Аналогичный вопрос можно поставить и относительно эксперимента Милликена. Как уже было сказано, он определяет заряд электрона, наблюдая определенные закономерности поведения капелек масла в поле конденсатора. Идет ли речь о теоретическом объяснении этой наблюдаемой картины, или об эмпирическом измерении заряда злектрона, как это обычно представляют? И, наконец, вернемся к примеру с измерением площади кабинета. Вероятно, уже на заре развития геометрии измерение площадей прямоугольных фигур предполагало какие-то теоретические предположения, например, что любой прямоугольник можно разбить на маленькие квадратики. Но в таком случае и здесь можно поставить вопрос: имеем ли мы дело с практическим (эмпирическим) подтверждением теоретических представлений или с теоретическим обоснованием практического метода вычислений? Все опять-таки определяется нашими рефлексивными установками, а точнее, тем, как мы определяем референцию получаемого знания. Если, например, мы строим знание о наблюдаемых фактах, желая их объяснить, и именно наблюдаемые феномены выступают как объект исследования, то в целом все выглядит как построение теории этих феноменов. Если же, наоборот, данные наблюдения или эксперимента мы рассматриваем только как средство обоснования или детализации тех представлений, которые перед этим претендовали на роль теории, то все исследование приобретает 22 характер опосредованной эмпирии. В идеальных случаях можно, вероятно, говорить о рефлексивной симметрии эмпирических и теоретических исследований, а соответственно, и знаний. Сказанное относится, разумеется, только к таким эмпирическим исследованиям, опосредованный характер которых достаточно очевиден. Строго говоря, как уже отмечалось, любая фиксация результатов наблюдения включает в себя и некоторую интерпретацию, но иногда это подчеркнуто в самой формулировке знания, а иногда в силу привычности и очевидности имеет завуалированный характер. В соответствии с этим можно выделить два типа знаний. Примером первого типа может служить описание химического эксперимента, с анализа которого мы начинали наши рассуждения. Конечно, внимательно прочитав приведенный отрывок, мы легко обнаружим элементы интерпретации: в наблюдении нам не даны ни факт соединения натрия с хлором, ни тем более формула NaCl. Но эти моменты специально не выделены, и мы можем от них отвлечься. Можно, например, переписать отрывок, просто указав, что, нагревая натрий в токе хлора, мы получили поваренную соль. А вот описание эксперимента с турмалином из уже упоминавшейся выше работы Эпинуса с четким противопоставлением данных наблюдения и интерпретации: "После того как турмалин был нагрет на раскаленном угле, я извлек его оттуда с помощью щипчиков...и стал приближать к различного рода легковесным телам, рассыпанным по дощечке. Я заметил, что он действует одинаково на все, притягивая и отталкивая... Этот опыт подтвердил мое первоначальное положение о том, что действие турмалина происходит от электричества" [8, с. 423]. Знание второго типа состоит как бы из двух частей и может быть представлено по крайней мере в двух рефлексивно симметричных вариантах: 1. как формулировка некоторого итогового знания плюс описание способа его получения или обоснования; 2. как описание некоторого факта плюс его объяснение. Знания такого типа мы будем называть амбивалентными в отличие от унивалентных знаний. Специфической особенностью унивалентных знаний является то, что описание способа их получения совпадает с самим итоговым знанием. Например, знание, полученное в некотором эксперименте совпадает с описанием этого эксперимента. На этой особенности унивалентных текстов основаны различные варианты парадокса бесконечности описания: "Была темная штормовая ночь, и дождь лил как из ведра. Капитан сказал: "Расскажите что-нибудь". И рассказ начинался так: "Была темная штормовая ночь, и дождь лил как из ведра. Капитан сказал..." Из бесконечности нельзя выбраться, ибо рассказ претендует на описание происходящего, куда входит и сам рассказ. В форме такой бесконечности можно представить унивалентное описание любого эксперимента или наблюдения. Не исключено, что это можно рассматривать как специфическую особенность собственно эмпирических знаний. [4.2.] Теоретическое конструирование А что собой представляют собственно теоретические компоненты знания? Для выяснения этого вопроса удобно вернуться к уже рассмотренному выше противопоставлению описаний и предписаний. Важно следующее. 23 Если описание фиксирует некоторое наличное бытие, то предписание — некоторую диспозицию или возможность: что было бы, если бы мы поступили указанным образом. Во-первых, уже здесь появляется характерная для теоретических построений альтернативность умозрения и факта, т.к. любое предписание в той или иной конкретной ситуации может оказаться нереализуемым. Во-вторых, и это главное, рефлексивный переход от описаний к предписаниям позволяет использовать накопленные знания для построения проектов возможной деятельности, для конструирования и анализа возможных ситуаций. Вот отрывок из работы Ч. Дарвина, где он начинает излагать свою теорию образования атоллов, низменных коралловых островов кольцеобразной формы с мелководной лагуной внутри. "Итак, возьмем остров, окаймленный береговыми рифами, строение которых очень просто и легко объясняется; пусть этот остров со своими рифами...медленно погружается в океан. Судя по всему, что известно об условиях, благоприятствующих развитию кораллов, мы можем с уверенностью утверждать, что по мере того, как остров будет погружаться,...живые массы, омываемые прибоем волн на краю рифа, вскоре снова достигнут поверхности" [20, с. 395–396]. В нашу задачу не входит пока изложение сути развиваемой дальше теории, важно, однако, обратить внимание на сам характер рассуждения. Бросается в глаза, что Дарвин ведет себя как Бог или могущественный волшебник: "Пусть этот остров со своими рифами медленно погружается в океан", — говорит он, точно все силы мироздания только и ждут его распоряжений. Но он не одинок. Нечто подобное можно встретить в любом учебнике физики: "Пусть какое-нибудь тело скользит по другому телу. Благодаря трению это движение будет постепенно замедляться и, в конце концов, система придет в состояние теплового равновесия, причем движение прекратится" [21, с. 189].Оба отрывка очень напоминают какую-то игру: делается "ход", а потом обсуждаются его последствия. Действительно, представьте себе шахматистов, которые вслепую, т.е. не глядя на доску и не передвигая фигур, анализируют какую-нибудь позицию: "Пусть белые ходят Kg5, — говорит один, — тогда..." Разве это не напоминает текст из учебника физики? Игру, в которую играет теоретик, мы будем называть теоретическим конструктором. Игра эта и на самом деле отдаленно напоминает шахматы, ибо предполагает некоторый набор объектов (фигур) и правила ходов. Что собой представляют эти последние? В приведенном отрывке Дарвин выражается следующим образом: "Судя по всему, что известно об условиях, благоприятствующих развитию кораллов, мы можем с уверенностью утверждать..." Эта форма выражения, вероятно, отнюдь не случайна: Дарвин подчеркивает фактически, что конструктор построен на база уже накопленных знаний. В простейшем случае, как уже следует из сказанного, правила ходов представляют собой результат рефлексивного преобразования эмпирических описаний деятельности человека или объектов Природы в соответствующие предписания. Здесь, однако, надо сделать одну существенную оговорку. Продолжая аналогию с шахматами, нельзя не вспомнить, что шахматные фигуры целиком заданы правилами ходов. Иначе говоря, это не эмпирические объекты, существующие независимо от тех правил, которые мы формулируем, а нечто похожее 24 на объекты математики. Выражаясь языком Дж. Р. Серля, мы имеем здесь дело не с регулятивными, а с конститутивными правилами. Сказанное, вероятно, следует отнести и к теоретическому конструктору, во всяком случае если он достаточно развит. Это крайне важный момент, на котором надо специально остановиться. Как уже было сказано, рефлексивный переход от описаний к предписаниям создает возможность проектирования различных деятельностных или природных ситуаций. Такие теоретические проекты в большинстве случаев вовсе не предполагают практическую реализацию. Очевидно, например, что Дарвин отнюдь не собирается погружать в океан какой-либо реальный коралловый риф. Но это и означает, что работа в рамках конструктора до поры до времени контролируется только правилами и ничем больше. Правила тем самым и становятся конститутивными, ибо полностью определяют теоретическую игру. Эйнштейн писал: "Метод теории относительности весьма схож с методом термодинамики, поскольку последняя представляет собой не что иное, как последовательный ответ на вопрос: "Какими должны быть законы природы, чтобы нельзя было построить вечный двигатель?" [22, с. 549]. Обратите внимание на следующее. Невозможность вечного двигателя первого и второго рода — это принципы термодинамики, это то, что она постулирует. Вопрос ставится так: какой должна быть Природа, чтобы отвечать этим принципам? Сказанное относится, вероятно, к любой чисто теоретической игре: нас интересует, какой должна быть природа, чтобы отвечать правилам этой игры. Нередко бывает так, что получаемая картина оказывается довольно странной, но это еще не повод, чтобы перестроить конструктор. Часто можно ограничиться введением так называемых идеализаций. Проведем в заключение еще одну аналогию между шахматами и теоретической игрой. Представьте себе двух шахматистов, играющих без доски. "Я хожу е2 — е4", — говорит один из игроков. Очевидно, что в данной ситуации его заявление равносильно ходу, иными словами, — это перформативное высказывание. Но таким же перформативом является в таком случае и заявление Дарвина: "Пусть этот остров со своими рифами ...медленно погружается в океан." Наличие перформативных высказываний такого типа — это один из признаков теоретического рассуждения. [4.3.] Строение теоретических систем знания Перейдем теперь к теоретическим системам знания. Отличие этих последних от теории весьма относительно, и мы не будем пытаться провести между тем и другим точную границу. И тем не менее очевидно, что существование множества курсов, например, теоретической механики, как сжатых, так и очень объемных, вовсе не означает наличия множества теорий. Теория, вероятно, — это некоторый инвариант всех этих курсов, нечто такое, что сохраняется при переходе от одного изложения к другому. Речь идет, разумеется, не о буквальном совпадении кусков текста. Теория — это набор некоторых программ и прежде всего это программы теоретического конструирования. Именно они, т.е. программы, и должны быть заданы в рамках любого изложения. Конкретная реализация этих программ на том или ином материале, широта охвата этого материала, степень детализации — это уже зависит от вкусов автора и от задач, которые он перед собой ставит. Трудность, однако, в том, что программы 25 теоретического мышления, методы решения задач в значительной степени существуют только на уровне образцов, что стирает четкую границу между заданием программ и их реализацией. И тем не менее на уровне интуиции противопоставление теории как таковой и теоретических систем знания постоянно дает о себе знать. Л. Полинг, например, писал, что химики и ученые других специальностей используют слово "теория" в двух значениях. Первое значение этого слова такое — "под теорией понимают гипотезу, которая получила определенное подтверждение. Во втором значении слово "теория" означает систематизированный комплекс знаний, включающий факты, законы, выводы и т.д. Под "атомистической теорией", следовательно, понимают не только представление о том, что вещества состоят из атомов, но и обобщение всех фактических данных, которые могут быть объяснены и истолкованы на основании представлений об атомах, а также положения, выдвинутые для объяснения свойств веществ на основании их атомного строения" [23, с. 22–23]. Сказанное близко к противопоставлению теории и теоретических систем знания. Дело, правда, не в степени подтверждения гипотезы, ибо в подтверждении нуждается любое знание. Итак, как уже отмечалось, теоретические системы знания — это прежде всего теоретический конструктор и образцы его использования при решении тех или иных задач. В простейшем случае речь идет о задачах объяснения или прогнозирования эмпирических феноменов. В миниатюре мы с этим уже сталкивались. Так, например, объясняя исчезновение удаляющихся предметов за горизонтом шарообразностью Земли, мы строим миниатюрную теорию. Теоретическое конструирование здесь налицо, т.к. объяснение наблюдаемого явления как раз и предполагает демонстрацию того, как его можно теоретически построить. Можно, например, рассуждать следующим образом: возьмем шар, пусть в точке A на его поверхности находится наблюдатель на высоте h, пусть свет распространяется прямолинейно, тогда линия горизонта будет определяться... В силу очевидности этого рассуждения, мы не будем его продолжать, но учитель средней школы, вероятно, вынужден довести его до конца. Шарообразность Земли объясняет не только исчезновение корабля за горизонтом, но и многие другие явления: изменение звездной панорамы при движении к югу или к северу, расширение нашего кругозора при подъеме на гору, форму земной тени при лунных затмениях и т.д. Анализ всех этих фактов в принципе может составить единую теоретическую систему знаний, объединенных характером исходных положений. При этом хотелось бы подчеркнуть следующее: шарообразность Земли стала в настоящее время эмпирическим фактом, что, однако, вовсе не лишает указанную систему ее теоретического характера. Более сложный пример — статика Галилео Галилея. Это теория простейших механизмов, таких как рычаг, ворот, полиспаст, наклонная плоскость, винт. Галилей последовательно сводит все эти механизмы к равноплечему рычагу путем достаточно простых конструктивных преобразований. Так, например, равновесие на наклонной плоскости сводится к равновесию коленчатого рычага с равными плечами, из которых одно перпендикулярно наклонной плоскости, а другое направлено горизонтально. Винт 26 в свою очередь сводится к наклонной плоскости. Делается это следующим образом. Первоначально Галилей подчеркивает, что поднять груз, двигая его по наклонной плоскости, — это то же самое, что протолкнуть наклонную плоскость под неподвижный груз. Затем он пишет: "И вот, наконец: формой и первоначальной сущностью винта и является именно такой треугольник..., который, проталкиваемый вперед, проникает под тяжелое тело, которое нужно поднять, и поднимает его, как говорится, себе на голову. Таково первоначальное происхождение винта и, кто бы ни был его изобретатель, он, рассмотрев, каким образом треугольник..., продвигаясь вперед, поднимает груз..., смог сделать из какого-то твердого материала подобное этому треугольнику орудие...; но поразмыслив потом, как сделать такую машину небольшой и придать ей удобную форму, он взял тот же самый треугольник и обернул его вокруг цилиндра...таким образом, чтобы высота этого треугольника... стала высотой цилиндра, а восходящая плоскость образовала бы на этом цилиндре спираль..., которую в простонародье называют червем винта..." [24, с. 33]. Итак, винт — это наклонная плоскость, навернутая на цилиндр. Интересно сравнить эту теорию с теорией образования коралловых рифов Дарвина, о которой мы уже говорили. Известны и были выделены еще до Дарвина три типа коралловых рифов: береговые, образование которых объясняется достаточно тривиально, барьерные, отстоящие от берега, и атоллы. Теория Дарвина исходит из двух основных предпосылок — что платформы, на которых растут кораллы, медленно опускаются и что коралловые постройки и рифы, которые они созидают, способны расти вверх по крайней мере с такой же скоростью, с какой происходит опускание платформ. Таким образом береговые и барьерные рифы, а также и атоллы, оказываются последовательными этапами развития одной и той же коралловой постройки. Если Галилей все механизмы, кстати, хорошо известные и до него, последовательно сводит к тривиальному случаю равноплечего рычага, то Дарвин все виды коралловых рифов сводит к береговому рифу, объясняя тем самым не только сам факт существования других форм, но и многие их особенности. Следует обратить внимание на то, что обе теоретические концепции отталкиваются от некоторой исходной классификации или типологии и могут рассматриваться как их объяснение или обоснование. Создается также впечатление, что классификация и теория точно придерживаются разных стратегий: первая выделяет и противопоставляет друг другу виды или типы, вторая редуцирует одно к другому, преодолевая классификационные границы. Классификацию в качестве некоторого подчиненного компонента можно в принципе выделить почти в любой теоретической системе знания. Так, например, говоря о шарообразности Земли, можно все наблюдаемые феномены разделить по крайней мере на три группы: наблюдения земных объектов, наблюдения звезд, наблюдения лунных затмений. В механике бросается в глаза выделение видов движения. Например, в кинематике точки говорят о прямолинейном и криволинейном движении точки, в кинематике твердого тела — о поступательном и вращательном движении и т.д. В кинетической теории материи присутствует выделение различных агрегатных состояний вещества: твердое, жидкое и газообразное состояния. 27 Рассматривая отношение всех классификаций такого рода к теоретическому конструктору, можно выделить два разных типа теоретических построений. В одном случае, как, например, у Галилея или у Дарвина, конструктор формируется в рамках самой исходной классификации изучаемых объектов. Галилей все редуцирует к равноплечему рычагу, Дарвин — к береговому рифу. Конечно, не следует при этом смешивать рычаг или наклонную плоскость как объекты классификации реальных механизмов и как объекты теоретического конструирования. Но, во-первых, бросаются в глаза некоторые достаточно очевидные элементы изоморфизма, а во-вторых, переход от одних объектов к другим контролируется одной и той же процедурой превращения регулятивных правил в конститутивные. Совсем иначе строится конструктор кинетической теории материи. Он формируется на базе представлений атомистики и механики, т.е. фактически за пределами систематики тех явлений, которые подлежат теоретическому объяснению. И тем не менее только в рамках этого конструктора мы начинаем понимать, что собой представляют разные агрегатные состояния вещества. Какие же основные программы определяют характер теоретического знания и способы его организации? Как и в случае таксономических систем, здесь можно выделить по крайней мере четыре типа программ. Первая — это программа референции. Здесь, однако, появляется такое специфическое для теории явление, как идеальные объекты типа материальной точки или абсолютно твердого тела. На этом мы специально остановимся в следующем разделе. Вторая программа — программа описания, она тоже специфична, т.к. речь идет о перечне теоретических задач, а эти задачи в свою очередь требуют определенных исходных данных, представленных при этом в некоторой канонической форме. Например, в динамике точки этих задач всего две: 1. Зная закон движения точки, определить действующую на нее силу; 2. Зная действующие силы, определить закон движения точки [25, с. 247]. Третья программа — это программа решения указанных задач в разных конкретных ситуациях. Она как раз и предполагает теоретическое конструирование при сведении всех задач к некоторым исходным, решение которых считается уже заданным. В отличие от таксономических систем знания именно эта программа оказывается здесь основной и определяет в значительной степени распределение материала. Можно выделить, наконец, в качестве четвертой программы определенную рефлексивную установку, в силу которой мы воспринимаем текст именно как теорию, а не как опосредованное эмпирическое знание. Остановимся еще раз на роли конструктора, ибо именно он определяет в конечном итоге специфику теории. Если схематизировать предыдущие примеры, то теоретическая система знания будет выглядеть следующим образом. Задан некоторый теоретический объект, применительно к которому мы умеем решать интересующие нас задачи. У Галилея — это равноплечий рычаг, условия равновесия которого достаточно тривиальны. У Дарвина — береговой риф, происхождение и форма которого сравнительно легко объяснимы. В кинетической теории материи — множество частиц, подчиняющихся законам механики. Наконец, в динамике — простейшие ситуации движения точки, для которых непосредственно сформулированы законы Ньютона. 28 Теоретическая система знания строится как упорядоченная совокупность примеров, демонстрирующих сведение более сложных ситуаций к исходным. Это и есть работа теоретического конструирования. Приведем несколько иллюстраций. Известно, что газ при расширении охлаждается. Это эмпирический факт. Вот как строится его теоретическое объяснение в рамках молекулярной физики: "Представим себе сосуд с газом в виде цилиндра с поршнем. Пусть поршень поднимается вверх со скоростью V (газ расширяется) Рассмотрим некоторую молекулу, движущуюся со скоростью C в том же направлении, что и поршень. Если скорость этой "догоняющей" поршень молекулы относительно стенок сосуда равна C, то относительно поршня ее скорость равна C – V. После того как наша молекула "догонит" поршень и произойдет упругий удар, ее скорость относительно поршня должна остаться по-прежнему C – V, хотя теперь она уже движется не вслед за поршнем, а от него. Это значит, что скорость ее относительно стенок сосуда должна быть меньше, чем прежняя, на величину 2V. Таким образом, все молекулы, сталкивающиеся с движущимся поршнем, отражаются от него с меньшей, чем до удара, скоростью. Это и приводит к уменьшению средней скорости молекул, а значит, и к понижению температуры" [26, с. 129–130]. Фактически перед нами пример работы не в одном, а сразу в двух конструкторах. В рамках первого строится некоторая макроскопическая ситуация: "Пусть поршень поднимается..." В рамках второго — конструируется и "разыгрывается" соответствующая ситуация на молекулярном уровне. В достаточно развитых теоретических системах мы, как правило, сталкиваемся с разными уровнями конструирования. Так, например, в динамике первоначально изучают движение материальной точки, а затем переходят к рассмотрению случаев, когда тело уже нельзя рассматривать как точку, когда необходимо разбирать движение отдельных частей тела. "Чтобы применить к этим случаям то, что найдено для материальных точек, употребляют следующий искусственный прием: каждое тело мысленно разделяют на мелкие части и считают их материальными точками. Таким образом всякое тело и любую комбинацию тел рассматривают как совокупность большого числа материальных точек, как систему материальных точек" [27, с. 11–12]. Нетрудно видеть, что описанный здесь "искусственный прием" — это один из уровней теоретического конструирования в механике. Но с конструированием уже другого типа мы сталкиваемся при решении любой задачи, чаще всего даже этого не замечая. Вот максимально простой пример. Задача формулируется так: "Воздушный шар весом P опускается с ускорением W. Какой груз Q (балласт) надо сбросить, чтобы шар стал подниматься с таким же ускорением" [25, с. 247]. Прежде всего обратим внимание на то, что задача вовсе не представляет собой описания какойлибо эмпирической ситуации, она тоже сконструирована, но в рамках некоторого технического конструктора, а не конструктора механики. Но перейдем к решению. Непосредственно применять законы Ньютона мы здесь не можем, ибо ситуация описана на другом языке, фиксирующим только некоторую внешнюю феноменологию происходящего. Прежде всего мы должны построить, сконструировать аналогичную ситуацию в рамках механического конструктора, где, строго говоря, нет воздушных 29 шаров, а есть только точки, обладающие массой, и действующие на них силы. В данном случае эта конструкция выглядит следующим образом: на воздушный шар (точку) массы P/g действует в вертикальном направлении сила тяжести P и противоположно направленная подъемная сила F, шар падает с ускорением W. Теперь уже можно применить второй закон Ньютона и составить соответствующее уравнение. Детальный анализ развитой системы теоретического знания, особенно если речь идет о математизированной теории, — это громоздкая и сложная задача, далеко выходящая за рамки данной работы [4.4.] Проблема референции теории Отношение теоретических систем знания к эмпирической реальности гораздо сложнее, чем в случае классификации. С одной стороны, теория строится для объяснения и расчета эмпирических объектов, с которыми мы непосредственно практически имеем дело. Нас интересует происхождение конкретных атоллов, которые мы можем наблюдать в океане, расчет реальных машин, которые мы практически используем. Однако, с другой стороны, решения, предлагаемые теорией, непосредственно относятся только к самим теоретическим конструкциям. Такие результаты в принципе не могут полностью совпадать с эмпирической картиной хотя бы потому, что программы эмпирического исследования предполагают наличие только регулятивных правил, в то время как конструктор задан правилами конститутивными. Представьте себе, что вы играете в шахматы в условиях, когда фигуру может случайно передвинуть проходящий мимо человек или утащить ребенок. Очевидно, что эмпирическая позиция на доске не будет в этих условиях совпадать с теоретической. Поэтому сопоставление с эмпирической реальностью в случае теории имеет очень опосредованный характер и предполагает введение так называемых идеальных объектов. Что это такое? Вообще говоря, идеальными часто называют все объекты, заданные конститутивными правилами. С этой точки зрения, например, шахматные фигуры — это тоже идеальные объекты. Но есть и другой, более специфический смысл этого выражения, непосредственно связанный с проблемами референции. Дело в том, что расхождение теоретической картины с эмпирией — это ситуация, которую необходимо объяснить, т.е. опять-таки построить в рамках теоретического конструктора. Например, формулируя законы падения тел, Галилей прекрасно понимал, что они не должны соответствовать наблюдаемой картине в силу наличия сопротивления воздуха. Такое понимание приводит к двум параллельным ходам развития мысли. Во-первых, в механике появляется еще одна задача, задача изучения свободного падения в сопротивляющейся среде; во-вторых, все остальные задачи, связанные с изучением свободного падения тел, но не учитывающие сопротивление среды, осознаются как результат сознательной идеализации. Последняя есть не что иное, как некоторый шаг теоретического конструирования, т.е. перформатив типа: "Пусть сопротивление отсутствует!" Нетрудно видеть, что постановка новой задачи, связанной с учетом дополнительных факторов, и идеализация — это два разных аспекта осознания одной и той же теоретической конструкции. 30 Таким образом, теория сама конструирует объекты референции, указывая при этом, чего именно она не учитывает. Некоторый парадокс состоит в том, что не учитывать можно только то, что мы знаем, т.е. неучет в данной ситуации есть обратная сторона учета. Так и возникают конструкции типа материальной точки или абсолютно твердого тела. В одном случае мы не хотим учитывать размеры и форму тела, в другом — его деформации. Однако такой способ задания референции не только не сближает теорию и эмпирию, но, наоборот, выстраивает между ними китайскую стену, ибо очевидно, что все тела, с которыми мы практически имеем дело, не являются ни точечными, ни абсолютно твердыми. Как же тогда применять теорию в эмпирических ситуациях? Для этого надо исходить из особенностей именно этих ситуаций, из тех задач, которые перед нами стоят, из тех требований, которые мы предъявляем к результатам исследования. Очевидно, например, что все тела способны к деформациям, но далеко не всегда те или иные деформации имеют для нас какое-либо практическое значение. Сплошь и рядом они для нас несущественны. Такая оценка, однако, достаточно ситуативна и не подчиняется четкой регламентации. В силу сказанного существуют два способа задания референции теории: теоретический, когда объекты референции конструируются в рамках самой теории и на базе ее средств, и прагматический, при котором исходят из анализа конкретных практических ситуаций, в которых данная теория применяется. Это проявляется, в частности, в наличии двух разных определений идеальных объектов. Вот, например, как определяется понятие "материальная точка" в "Теоретической механике" Н. Е. Жуковского: "В одном случае (с бесконечно малой массой) материальная точка является результатом разделения тела на бесконечное число бесконечно малых частей... В другом случае (с конечной массой) материальная точка является результатом беспредельного сжатия тела. Это — как бы шарик, наполненный материей, радиус которого уменьшился до бесконечно малой величины, а масса сохранилась та же" [28, с. 11–12]. Перед нами очевидная теоретическая конструкция. А вот определение совсем иного характера, взятое из курса теоретической физики Ландау и Лифшица: "Одним из основных понятий механики является понятие материальной точки. Под этим названием понимают тело, размерами которого можно пренебречь при описании его движения. Разумеется, возможность такого пренебрежения зависит от конкретных условий той или иной задачи. Так планеты можно считать материальными точками при изучении их движения вокруг Солнца, но, конечно, не при рассмотрении их суточного вращения" [29, с. 9]. Нужно ли специально доказывать, что речь идет фактически о совсем другом понятии. Материальная точка при таком определении — это эмпирический объект конечных размеров, который можно описывать различным образом в зависимости от стоящих перед нами задач. Строго говоря, это означает, что быть материальной точкой — это характеристика не объекта, а способа его описания. Два разных способа задания референции механики четко просматриваются уже у Эйлера. Вот его рассуждение на эту тему: "Подобно тому как в геометрии... изложение обыкновенно начинается с точки, точно так же и движение тел конечной величины не может быть объяснено, пока не будет тщательно исследовано движение точек, из которых, как мы принимаем, составлены тела. Ведь нельзя наблюдать и определить 31 движение тела, имеющего конечную величину, не определив сначала, какое движение имеет каждая его маленькая частичка или точка". Обратите внимание, под точкой здесь понимается либо геометрическая точка, либо очень маленькая частичка тела. Но на той же странице несколькими строчками ниже Эйлер пишет: "Но то, что я изложил в этих книгах, часто идет дальше, чем исследование об одних точках, и из него зачастую можно определить движение конечных тел... То, что Ньютон доказал относительно движения тел, побуждаемых центростремительными силами, имеет значение только для точек, а между тем он правильно применил эти предложения также и к движению планет" [30, с. 35]. Итак, динамика точки оказывается относящейся отнюдь не только к точкам, но и к эмпирическим объектам типа планет. В принципе такая двойственность референции характерна для всех теоретических систем знания. [4.5.] Теория и классификация Попробуем теперь, обобщая сказанное, выяснить основные отношения таксономических и теоретических систем знания. Мы остановимся при этом на двух вопросах, которые представляются наиболее интересными: во-первых, в чеи состоит принципиальное отличие этих систем друг от друга, во-вторых, как они связаны друг с другом теми рефлексивными преобразованиями, которые были рассмотрены выше. Начнем с первого. Говоря о таксономических системах знания, мы основной упор делали на референцию, ибо именно референция лежит в основе организации знания в рамках таксономических или вообще предметно-дистинктивных систем. Принцип здесь такой: объединяются знания, имеющие одну и ту же референцию. Они как бы записываются в одну и ту же ячейку памяти. Поскольку сами такие ячейки нередко объединяются в агрегаты на тех или иных основаниях (разных, например, в случае классификации или районирования), то и система в целом приобретает иерархический характер. В рамках теоретических систем принцип организации совсем иной, т.к. решающую роль начинает здесь играть не референция, а репрезентация. Речь, правда, идет о репрезентации особого типа, ибо в качестве репрезентатора выступает теоретический конструктор. Чуть ниже мы поясним эту мысль. Но суть в том, что теория объединяет знания на том основании, что они получены в рамках одного теоретического конструктора. Так, например, в рамках кинетической теории материи один из ее основателей Клаузиус объединяет исследование самых различных, казалось бы, явлений, включая и выяснение природы теплоты, и объяснение давления газа, и анализ теплопроводности, и объяснение процесса испарения, и причины отклонения газов от закона Бойля — Мариотта и Гей-Люссака [31]. Теория объединяет все, что она может объяснить. Но что собой представляет конструктор в роли репрезентатора? Вернемся с этой точки зрения к уже рассмотренным выше примерам. В начале статьи мы столкнулись с репрезентацией на примере описания сравнительно простого химического эксперимента. Репрезентатор здесь — это указание способа получения или использования тех объектов, к которым относится знание. А что собой представляет репрезентатор в составе такого знания, как "Земля — шар"? На первый взгляд, ни о 32 каких возможных действиях здесь не говорится. Но это только на первый взгляд. Шар — это теоретический объект, т.е. объект, заданный на уровне конститутивных правил, на базе которых уже разработаны к тому же методы решения целого ряда задач. Поэтому, высказав предположение, что Земля имеет форму шара, мы сразу получаем возможность очень многое объяснить и предсказать, получаем методы измерения площади поверхности или объема и многое другое. Как следствие появления теоретического конструктора возникает и идеализация при сопоставлении с эмпирической реальностью. Вот, например, что пишет по этому поводу А. Клеро: "Когда мы представляем себе все то, что образует внешнюю поверхность нашей планеты — материки, моря, озера, горы, реки и так далее, то на первый взгляд мы склонны считать, что все исследования, которые можно провести в теории для определения фигуры Земли, являются бесполезными отвлеченными рассуждениями... Но если затем обратить внимание на то, что моря со всех сторон сообщаются между собой; что берега очень мало возвышаются над уровнем моря; что высота самых больших гор совершенно ничтожна по сравнению с диаметром Земли; что скат русла самых больших рек не требует, чтобы их истоки находились над уровнем моря выше, чем горы, то мы быстро придем к заключению, что фигура Земли должна подчиняться законам гидростатики..." [32, с. 9]. Клеро, разумеется, далек от мысли, что Земля — шар, он обосновывает мысль, что здесь можно говорить о правильной геометрической форме вообще, и обосновывает во многом чисто прагматически. В механике мы принимаем тела за точки, если их размеры малы по сравнению с расстояниями между ними, Клеро предлагает не принимать во внимание наличие гор на том основании, что их высота ничтожна по сравнению с диаметром Земли. Выше мы уже отмечали, что в определенном смысле классификация и теория прямо противоположны друг другу, они выглядят как две разных стратегии, два принципиально разных способа мышления. Это можно проиллюстрировать на простом искусственном примере. Представьте себе следующую ситуацию: вы встречаете человека, который кажется вам незнакомым, но вам говорят, что это ваш бывший сослуживец, но отпустивший усы и бороду. Ситуация проста и тем не менее вполне заслуживает анализа. Вы помните своего сослуживца, но не узнаете его в человеке, которого встретили, этого последнего вы склонны считать другим человеком. Вы таким образом осуществили операцию различения (дистинкции), построили, если хотите, некоторую примитивную классификацию. Эта классификация, однако, оказывается разрушенной за счет следующего аргумента: встреченный человек — это тот, кого вы давно знаете, но знаете без усов и без бороды. Иными словами, это звучит так: если бы убрать усы и бороду, то это был бы тот же человек, которого вы давно знаете. Перед нами два разных акта. Первый фиксирует некоторую наличную реальность: встреченного человека вы распознаете как нового, как отличного от знакомых вам людей. Он ведь и действительно отличен от них. Второй акт, напротив, фиксирует не наличное бытие, а некоторую возможность, некоторую диспозицию. Это, как я уже сказал, разрушает исходную классификацию (дистинкцию), заменяя ее новой: исходная дистинкция просто фиксировала наличие двух разных предметов, новая задает преобразование одного в другой, что позволяет, кстати, перенести на нового, якобы, 33 человека уже накопленный опыт общения с вашим давним сослуживцем. Ситуацию можно несколько усложнить, предполагая, что окружающие нас люди все время изменяют свою внешность, отпуская или сбривая бороду и усы, крася волосы, меняя одежду... Один способ мышления при этом состоит в том, то мы будем постоянно фиксировать различия, относя бородатых или безбородых, брюнетов или блондинов и т.д. к разным видам или типам. Это классификационный или дистинктивный способ мышления. Другой способ, который мы назовем диспозициональным, состоит в постоянных попытках разоблачить маскировку и идентифицировать людей, которые изменили свою внешность: А ничем не отличался бы от В, если бы был без бороды. Но для этого надо иметь основания, надо иначе представлять себе человека, надо представлять его как существо, способное к постоянному изменению своей внешности определенным количеством способов. Такое представление в данном случае — это и есть конструктор. Перейдем теперь ко второму вопросу. Вернемся к дарвиновской теории происхождения атоллов. Как мы уже отмечали, ей предшествовала классификация коралловых рифов, которая выделяла рифы береговые, барьерные и атоллы. Как соотносится с этой классификацией теория Дарвина? Начнем с того, что она очень напоминает рассмотренное выше разоблачение маскировки. Классификатор, встретив в разное время человека с бородой и с усами, человека только с усами и человека и без усов, и без бороды, выделил три разных вида. Но пришел теоретик и показал, что речь идет об одном и том же субъекте, который постепенно освобождался от волосяного покрова. Два разных подхода, о которых шла речь, налицо, но стоит обратить внимание на одну деталь. Разоблачив маскировку, теоретик, строго говоря, не уничтожил классификацию, он, скорее, ее объяснил и тем самым подтвердил, вложив в нее, правда, несколько иное содержание. И действительно, теория Дарвина, показывая, что выделяемые типы представляют собой разные этапы развития береговых рифов, вовсе не отбрасывает исходную классификацию. Как же она с ней соотносится? В свете развитых выше представлений о соотношении эмпирического и теоретического знания у нас две возможности: либо мы рассматриваем концепцию Дарвина как объяснение эмпирически полученной классификации, либо, наоборот, рассматриваем классификацию как эмпирическое обоснование дарвиновской теории. Оба рефлексивно симметричных варианта имеют право на существование. Они, однако, не исчерпывают всех возможностей рефлексивной интерпретации происходящего. Дело в том, что традиционно образования такого типа рассматривают как генетическую классификацию. Так что же построил Дарвин — теорию развития атоллов или генетическую классификацию коралловых рифов? Вероятно, и то и другое, нам нужно только объяснить, механизм нашего собственного видения. Какие рефлексивные преобразования позволяют нам в сложившейся системе знания видеть и теорию и классификацию? Скорее всего, мы имеем здесь ситуацию, уже рассмотренную при анализе таксономических систем знания. Теорию Дарвина можно рассматривать как объяснение особенностей выделяемых в классификации видов рифов, т.е. как определенное их описание. Теория, иными словами, может быть рассмотрена как 34 элемент в составе таксономической системы знаний. Фактически с такого примера мы начинали нашу статью, подчеркивая, что любая теория применима только в пределах определенного класса явлений. В этом плане дарвиновская концепция ничем не отличается от экологии или анатомии. А это значит, что перед нами здесь три возможности: 1. теория в составе таксономической системы знания; 2. теория как самостоятельная система со своей собственной референцией; 3. Теория как основание классификации. В этом последнем случае утверждения теории приобретают характер правил словоупотребления: барьерным рифом называют промежуточное состояние между рифом береговым и атоллом и т.п. Мы получаем при этом теоретически сконструированную классификацию, объекты которой заданы конститутивными правилами, а поэтому не имеют эмпирических диагностических признаков. В частности, в рамках теоретических представлений риф изменяется непрерывно, и нет никаких оснований для проведения границ между, скажем, береговым рифом и барьерным. Сказанное нетрудно обобщить на все аналогичные ситуации построенных таким образом классификаций. ЛИТЕРАТУРА 1. Американская география. — М., 1957. 2. Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. — Новосибирск: Наука, 1986. 3. Неницеску К. Общая химия. — М., 1968. 4. Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. — М., Контакт-Альфа. 1995. 5. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.1. — М., 1965. 6. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? //Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1986. 7. Гилберт Дж., Малкей М. Открывая ящик Пандоры. — М., 1987. 8. Эпинус Ф. У. Т. Теория электричества и магнетизма. — Л., 1951. 9. Патнэм Х. Значение и референция //Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1982. 10. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. Биографии. Т.5. — М., 1994. 11. Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад воронежской губернии. — М., 1950. 12. Вернадский В. И. Избранные сочинения. Т.2. — М., 1955; Т.3. — М., 1959. 13. Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий очерк теории эволюции. — М., 1969. 14. Рауп Д., Стенли С. Основы палеонтологии. — М., 1974. 15. Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. Т.1. — М., 1992. 16. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. — М., 1974. 17. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т.6. — М., 1966. 18. Одум Ю. Основы экологии. — М., 1975. 19. Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т.1. — М., 1964. 20. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света. Соч. Т.1. — М. — Л., 1935. 21. Ландау Л. Д., Ахиезер А. И., Лившиц Е. М. Курс общей физики. — М., 1965. 22. Эйнштейн А. Собр. науч. трудов. Т.4. — М., 1967. 23. Полинг Л. Общая химия. — М., 1974. 24. Галилео Галилей. Избранные труды. Т.2. — М., 1964. 25. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — М., 1963. 26. Кикоин И. К., Кикоин А. К. Молекулярная физика. — М., 1963. 27. Кирпичев В. Л. Беседы о механике. — М. — Л., 1951. 28. Жуковский Н. Е. Теоретическая механика. — М. — Л., 1950. 29. Ландау Л. Д., Лившиц Е. М. Механика. — М., 1958. 30. Эйлер Л. Основы динамики точки. — М. — Л., 1938. 31. Клаузиус Р. Кинетическая теория газов //Основатели кинетической теории материи. — М. — Л., 1937. 32. Клеро Л. Теория фигуры земли, основанная на началах гидростатики. — Л., 1947. 35