САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БИРГЕР ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ
advertisement
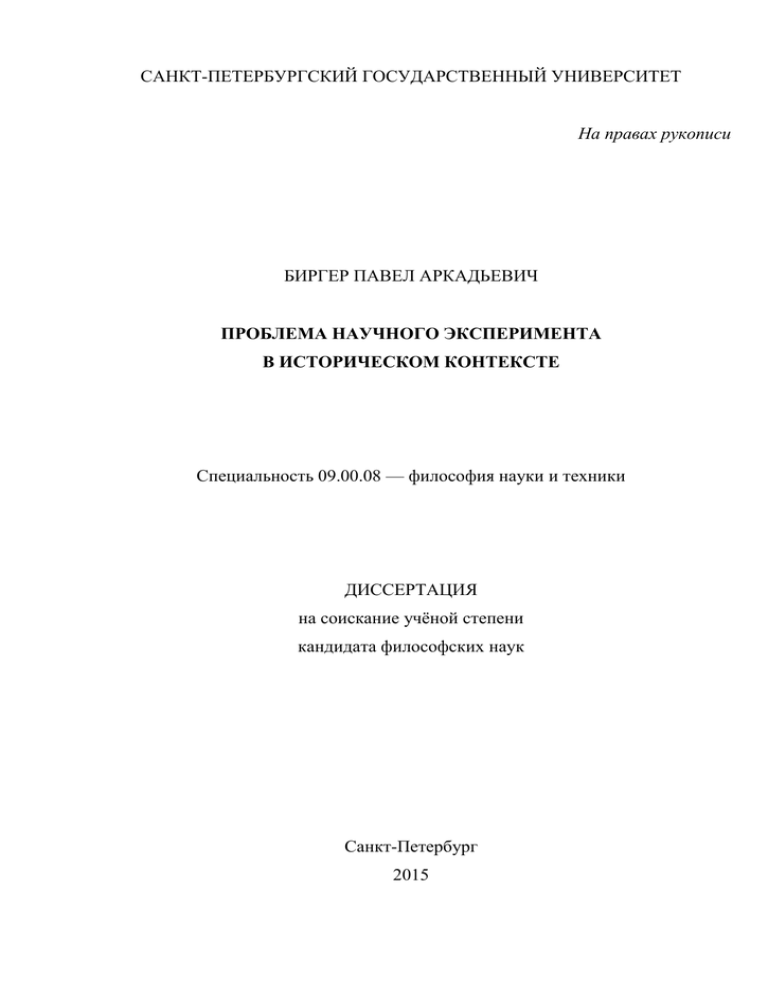
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ На правах рукописи БИРГЕР ПАВЕЛ АРКАДЬЕВИЧ ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ Специальность 09.00.08 — философия науки и техники ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата философских наук Санкт-Петербург 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3 Актуальность проблемы.............................................................................................. 3 Степень разработанности темы .................................................................................. 4 Цель и задачи исследования ....................................................................................... 5 Методологическая база исследования ....................................................................... 6 Результаты исследования и их научная новизна ...................................................... 7 Теоретическая и практическая значимость полученных результатов ................... 8 ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ........................................................................................................ 10 1.1. Эксперимент и наблюдение ............................................................................... 12 1.2. Эксперимент и свидетельство ........................................................................... 18 ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТ В ДОНОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКЕ ...................... 23 2.1. Ранние формы эксперимента ............................................................................. 23 2.2. Эксперимент в античной науке ......................................................................... 27 2.3. Научный эксперимент в средние века .............................................................. 44 ГЛАВА 3. НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В НОВОЕ ВРЕМЯ .................................. 60 3.1. Мысленный эксперимент Галилея .................................................................... 61 3.2. Экспериментализм Бойля .................................................................................. 69 3.3. Манипулятивный эксперимент Нового времени ............................................ 77 ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ....................................... 86 4.1. Философская рефлексия современной науки .................................................. 86 4.2. Проблематика современного эксперимента .................................................. 104 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 109 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................... 114 2 ВВЕДЕНИЕ Актуальность проблемы Эксперимент — один из базовых методов науки, её необходимый элемент, который входит в область интересов философии науки и научно-философской рефлексии. В рамках философии науки эксперимент традиционно рассматривается как один из основных критериев научности. Эксперимент, так или иначе истолкованный, всегда включается в пространство философского и исторического исследования феномена науки. Будучи исторически определен логикой познания Нового времени, эксперимент является его конститутивным моментом. Хотя эксперимент признаётся неотъемлемым элементом современной науки и включен в стандартную методологию, он, тем не менее, остаётся предметом скрупулезных исследований и серьезных дискуссий, что позволяет говорить об определенной проблематичности эксперимента в современной философии науки. Проблематичность научного эксперимента проявляется в следующих принципиальных вопросах. Во-первых, в вопросе соотношения эксперимента и теории: является ли эксперимент вторичным, выступая подтверждением или опровержением теории, или же эксперимент обладает в известной степени автономным статусом? Во-вторых, в проблеме вмешательства в объект исследования и «принуждения» природы: с одной стороны, экспериментальный метод претендует на объективность, но с другой стороны, эксперимент всегда подразумевает вмешательство субъекта в объект исследования, активное воздействие на него, создание искусственных условий опыта, изменение, нарушение естественного порядка вещей. Исходя из предпосылки исторической обусловленности науки (почти безоговорочно принимаемой философией науки последней четверти XX столетия), данная работа имеет целью проследить развитие понятия эксперимента 3 в европейской науке, начиная с самых ранних её форм вплоть до современности, что позволит прояснить генезис проблем, в латентном виде содержащихся в современном понятии научного эксперимента. В целом, исследование понятия научного эксперимента в его историческом развитии актуально в следующих контекстах: во-первых, в контексте истории науки, как обзор литературных, философских и научных источников, реальных экспериментов и их результатов. Понятие эксперимента носит исторический характер и требует отдельного рассмотрения в зависимости от временного контекста его употребления; во-вторых, в контексте философии науки, так как принципы научного эксперимента являются эпистемологически неоднозначными. Сопоставление различных понятий эксперимента, предложенных учёными и философами на разных стадиях развития науки, позволяет более глубоко исследовать научнофилософское значение эксперимента в современности, оценить его место в эпистемологии, выяснить взаимосвязь эксперимента с теорией, объектом и субъектом; в-третьих, в контексте философии в целом, так как исследование имеет дело с одним из фундаментальных принципов человеческого познания, так или иначе сформировавшего новоевропейскую научную рациональность. Степень разработанности темы Понятие эксперимента и его статус в различные исторические эпохи не раз становились предметом разностороннего анализа как со стороны классиков философской и научной мысли, так и современных исследователей. Можно выделить два основных типа работ: труды самих учёных, в которых рассматривается проблематика эксперимента, и философские сочинения, в которых осуществляется критическая рефлексия этого понятия. К работам первого типа можно отнести классические труды Р. Гроссетеста, Ф. Бэкона, Р. Бойля, Г. Галилея, Н. Бора, А. Эйнштейна и косвенно — всех тех учёных, которые документировали свои опыты, позволяя нам тем самым проследить работу их 4 мысли. Философская и историко-научная рефлексия научного эксперимента широко представлена в работах второго типа — это труды А. Койре, П. Дюгема, Я. Хакинга, А. В. Ахутина, Г. Е. Р. Ллойда, С. Самбурского, С. Шэффера, С. Шейпина, Л. Дэстон, П. Галисона, Х.-Й. Райнбергера, И. Стенгерс, В. П. Бранского, И. С. Дмитриева, В. С. Стёпина, С. Дрейка, Х. фон Штадена, О. Столяровой, Т. Куна, И. Лакатоса, Б. Латура, Н. Бора, П. Дюгема и других. Степень глубины и охвата проблем, рассматриваемых упомянутыми выше авторами, крайне разнообразна: от всеобъемлющих эпистемологических исследований, затрагивающих несколько эпох и рассматривающих эксперимент в контексте общей истории развития науки, как в труде «История принципов физического эксперимента» А. В. Ахутина, до подробнейшего рассмотрения отдельно взятых предельно конкретизированных проблем, как в статье «Придумал ли Галилей самый красивый мысленный эксперимент в истории науки» П. Пальмиери. Диссертационная работа написана в рамках исследовательской программы исторической эпистемологии, задачей которой является рассмотрение процесса развития знания и исторического контекста его развития, а также извлечение из этого выводов о специфике проблем знания современного1. Концептуальными ориентирами в этом контексте являются работы И. Хакинга, И. Стенгерс, Л. Дэстон, С. Шейпина и С. Шэффера. Цель и задачи исследования 1 О таком подходе к исследованию современных проблем философии науки см, например, Касавин И.Т. Проблема и контекст. О природе философской рефлексии // Вопросы философии. 2004. № 11. С. 19-32; Касавин И.Т. Проблема как форма знания // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XXII № 4. С. 5-13, а также диссертационное исследование Л.В. Шиповаловой «Научная объективность в исторической перспективе [Электронный ресурс]. URL: (http://spbu.ru/science/disser/dissertatsii-dopushchennye-k-zashchite-i-svedeniya-o- zashchite/details/12/111). (дата обращения 13.01.2014) 5 Целью работы является систематический анализ понятия научного эксперимента в его историческом контексте с целью выявления внутренних предпосылок проблематичности этого фундаментального понятия. Цель исследования предполагает решение следующих конкретных задач: 1. Определить основные проблемные черты современного научного эксперимента. 2. Типологизировать основные подходы к решению вопроса о зарождении экспериментального метода. 3. Реконструировать историю развития экспериментального метода, начиная с самых ранних его форм, присутствующих еще в античной традиции, вплоть до современной науки. 4. Продемонстрировать на конкретных исторических примерах внутренние противоречия, свойственные эксперименту на всех этапах развития науки. 5. Проследить внутреннюю логику исторической трансформации функций и места эксперимента в научном исследовании. 6. Выявить универсальные и исторические черты научного эксперимента. 7. Доказать, что концептуальное содержание современного научного эксперимента наиболее эффективно раскрывается с учётом исторического контекста. Методологическая база исследования Исторический и эпистемологический подходы являются основной методологией исследования. Исторический подход позволяет рассматривать генезис и развитие эксперимента, исходя из конкретных экспериментов и исследований, дошедших до нас в научной литературе. Историчность является одной из общепризнанных характеристик научного знания и темой исследований многих современных учёных — П. Галисон, Л. Дэстон, Б. Латур, Х.-Й. Райнбергер, Я. Хакинг и др. В таком контексте рассмотрение научного эксперимента как исторического феномена представляется оправданным и логичным. 6 Эпистемологический подход позволяет интерпретировать и оценивать роль экспериментального метода в структуре научного знания каждой из рассматриваемых эпох. В работе также используется междисциплинарный подход к рассмотрению проблемы, так как эксперимент является не только философским, но и естественно-научным понятием. В диссертации используются отдельные элементы аналитического и проблемного методов рассмотрения понятия эксперимента для концептуализации исторического многообразия его смыслов. Результаты исследования и их научная новизна Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в следующем: 1. Проведен широкий анализ исторического развития понятия эксперимента, без привязки к одной исторической эпохе или научной дисциплине. 2. Выявлены и систематизированы основные этапы концептуализации научного эксперимента в истории науки. 3. Обоснован исторический характер понятия научного эксперимента, доказано, что современное понимание научного эксперимента предполагает обращение к истокам, генезису и истории концептуализации этого научного понятия. Полученные результаты позволяют сформулировать следующие основные положения, выносимые на защиту: 1. Научный эксперимент необходимо рассматривать как исторически обусловленное понятие и исследовать в контексте его генезиса и исторического развития. 2. В античной науке эксперимент присутствует в качестве риторического приема, имея подчиненный статус к выбранной исследователем теории. 7 3. В схоластической науке знание, полученное в результате реального экспериментирования, получает подчиненный статус по отношению к религиозному опыту. 4. В процессе перехода от средневековой учености к новоевропейской науке мысленный эксперимент приобретает первостепенное значение. 5. В Новое время эксперимент становится инструментом выбора научной теории и приобретает статус центрального элемента научной методологии. 6. Важнейшей чертой современного научного эксперимента выступает создание объекта исследования в ходе самого эксперимента. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в следующем. Исследование демонстрирует исторический характер научного эксперимента, его эволюционное развитие, внутреннюю проблематику, преходящие и имманентные характеристики, тем самым внося вклад в развитие теоретических областей философии науки и исторической эпистемологии. Результаты исследования могут быть использованы в других теоретических исследованиях, посвященных изучению роли научного эксперимента в различные эпохи (античность, Средние века, Новое время), изучению эпистемологических и методологических вопросов в различных областях философии науки. Практические результаты диссертационной работы могут быть использованы в исследованиях по различным философским, историческим и научно-теоретическим дисциплинам: истории философии, истории науки, философии науки, исторической эпистемологии, в исследованиях современной науки и в дескрипции её исторических форм, в педагогической практике при рассмотрении проблем современной науки, для рефлексии студентами научнотехнических специальностей с целью понимания неоднозначности и проблематичности современной науки в целом и экспериментального метода в частности. Результаты работы могут быть полезны для чтения образовательных 8 курсов по истории и философии науки, концепциям современного естествознания, составлению справочников и пособий по философии науки. 9 ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОНЯТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА Современные исследования науки неразрывно связаны с философской рефлексией относительно её оснований, методов и принципов. Потребовалось много времени, прежде чем наука заняла то место в европейской культуре, которое ей отводится сейчас, и хотя одной из ключевых характеристик научного метода является его способность приносить качественные плоды в виде прироста технологического знания и, как следствие, улучшать качество жизни, одного этого было недостаточно для того, чтобы наука закрепилась как основной способ познания мира — требовалась также философская рефлексия, в том числе осуществляемая учеными, определяющими основания собственной деятельности2. В стандартной версии философии науки научная методология делится на теоретические и эмпирические уровни3. На разных этапах развития науки этим двум сторонам уделялась разная степень внимания, однако между ними существует очевидная связь — с этим согласны большинство исследователей науки, кроме самых радикальных рационалистов и эмпириков. Для обыденного сознания эксперимент — самая главная сторона научного метода, поскольку он дает «зримые» результаты и «обещает» их практическое применение. «Новый эксперимент позволил выяснить», «в результате успешного эксперимента учёные определили» и прочие тропы журналистских отчетов о научной работе закрепляют эксперимент как один из важнейших методов научного исследования. В самом деле, наравне с наблюдением, эксперимент представляет собой наиболее «наглядную» сторону науки — эксперименты получают финансирование, об экспериментах можно отчитываться, их можно Такого рода рефлексия представлена, например, в работе А. Эйнштейна «О мотивах научного исследования», в которой определяются цели и причины деятельности ученого (см. Эйнштейн, А. Мотивы научного исследования // Собр. науч. трудов: в 4-х томах. М.: Наука, 1967. Т. IV. С. 29-41), а текстах А. Пуанкаре, собранных в сборнике «О науке», где речь идет о специфике математического знания и о тех ценностях, которые определяют работу математика (см. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1983. 560 с.) 3 Стёпин В. С. Структура и динамика научного познания // Философия науки и техники / Ред. В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. М.: Гардарики, 1999. 400 с. 2 10 проводить под контролем свидетелей и с применением установленных процедур, позволяющих подтверждать «правильность» эксперимента. Согласно классическому определению отечественного исследователя науки А. В. Ахутина, эксперимент — это «род опыта, имеющего познавательный, целенаправленно исследовательский, методический характер, который проводится в специально заданных, воспроизводимых условиях путем их контролируемого изменения»4. Тем не менее, основания научного эксперимента далеко не однозначны. В определении нигде нет упоминания об объективности полученного знания, хотя представляется очевидным, что именно эта характеристика на протяжении истории науки являлась одной из важнейших причин выбора экспериментального метода как одного из главных методов исследования. Все экспериментальные процедуры так или иначе направлены на то, чтобы минимизировать вмешательство экспериментатора в исследуемый процесс, свести к минимуму возможные колебания переменных и воздействие внешних факторов, получив тем самым представление о том, как процесс происходит «на самом деле». Эксперимент, таким образом, рассматривается как достоверная репрезентация процессов, происходящих в природе. Однако здесь заключается значимое противоречие. Претендуя на репрезентацию естественных процессов, эксперимент, тем не менее, является абсолютно искусственным человеческим конструктом. Действительно, событий, так как они совершаются во время эксперимента, в природе не происходит практически никогда. Протоны и ионы не разгоняются в природе по 26километровой трубе, прежде чем столкнуться друг с другом под «взглядом» множества датчиков. Белых мышей в природе не бьёт током при выборе неправильного пути в лабиринте. Эксперимент препарирует реальность до неузнаваемости, выделяет из нее такие переменные, которые не существуют сами по себе в «естественных условиях», производит «насилие» над предметом исследования (иногда в переносном смысле, но зачастую даже и в прямом — 4 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Ред В. С. Стёпин. М.: Мысль. 2001. Т. IV. С. 426-426. 11 достаточно лишь вспомнить эксперименты на животных), но продолжает при этом претендовать на объективность. Рассмотрим ситуации, в которых проявляется указанная противоречивость эксперимента5. 1.1. Эксперимент и наблюдение Один из самых ранних научных методов — это наблюдение (по определению Э. Ф. Караваева — «целенаправленное изучение и фиксирование данных об объекте, взятом в его естественном окружении; данных, опирающихся в основном на такие чувственные способности человека, как ощущения, восприятия и представления»6). На первый взгляд, наблюдение является своего рода противоположностью эксперимента. Созерцая происходящее в природе, учёный делает выводы о внутренних механизмах её функционирования. Майкл Гордин цитирует записки русского зоолога Н. П. Вагнера, известного своим пиететом к методу научного наблюдения, приведшего его к открытию феномена педогенеза: «Наблюдения должны стать доказательством для любого скептика, до тех пор, пока нет подозрения, что сам наблюдатель осознанно вмешался в факты»7. Безусловно, наблюдение является эффективным самостоятельным способом познания природы (на основании астрономических наблюдений уже в Древней Греции были построены масштабные схемы). Однако связь наблюдения и эксперимента, хотя и не абсолютна, всё же очевидна. Есть наблюдения, не являющиеся экспериментом — скажем, изучение звездного неба. Однако всякий эксперимент с необходимостью имеет в своей структуре наблюдение, более того, как отмечает Я. Хакинг, «хорошим экспериментатором часто является тот, который видит оказывающиеся впоследствии важными детали или неожиданные О такого рода проблематичности эксперимента, с одной стороны, претендующего на объективность в репрезентации реальности и, с другой стороны, заставляющей природу отвечать как того нужно экспериментатору пишет, например, Б. Латур (см. Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестник МГУ, Сер. Философия. 2003. №3. С. 20-39). 6 История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Ред. А. С. Мамзин. СПб: Питер. 2008. С. 29 7 Gordin Michael D. Seeing Is Believing: Professor Vagner’s Wonderful World // Histories of Scientific Observation / Ed/ by Daston Lorraine, Lunbeck Elizabeth. The University of Chicago Press. 2011. P. 139. 5 12 результаты, выдаваемые тем или иным элементом оборудования»8. Лишь незначительное количество экспериментов происходят в абсолютно квантифицируемой среде и полностью анализируются лишь с числовой точки зрения. По большому счету, даже сама регистрация изменений показаний прибора является актом наблюдения. Квантифицируемая среда не является строго необходимым условием научного эксперимента, однако с XIX века возможность точного измерения результатов эксперимента становится одной из ценностей науки9. Согласно одной из версий, высказанной Хакингом, страсть к измерениям объясняется попперовской диалектикой гипотез и опровержений: «точные измерения должны соответствовать лучшим экспериментам, поскольку измеряемые числа скорее всего, будут конфликтовать с предсказанными»10. Однако на практике точные измерения находятся всё же в рамках нормальной науки. Тем не менее, чем точнее измерения, тем больше накапливается несоответствий между предсказанными и полученными данными, которые впоследствии помогают предположить новую теорию, которая объяснит эти несоответствия. В то же время, необходимо понимать, что наблюдение редко бывает «чистым». Во-первых, наблюдение, как и эксперимент, часто бывает теоретически нагруженным: чтобы осознанно «увидеть» некое событие природы, необходимо как минимум отдавать себе отчёт в том, что такое событие вообще может происходить (или иметь смысл — см. о протонауке в Древней Греции — знание единичных случаев не рассматривалось как основание для суждений об общем)11. Во-вторых, наблюдение, как и эксперимент, всегда или почти всегда происходит с участием технических средств. Будь то астрономия или молекулярная биология, ученый-экспериментатор использует различную аппаратуру, которая расширяет возможности человеческих органов чувств. Как 8 Хакинг Я. Представление и вмешательство [Электронный ресурс] URL: http://philosophy.ru/library/hacking/index.html Дата обращения: 02.10.14 Там же Там же 11 Об этом подробнее в следующем параграфе 9 10 13 отмечает Э. Ф. Караваев, используемые в эксперименте приборы «во-первых, усиливают — в самом общем значении этого слова — имеющиеся у нас органы чувств, расширяя диапазон их действия в различных отношениях (чувствительность, реактивность, точность и т. д.). Во-вторых, они дополняют наши органы чувств новыми модальностями, предоставляя возможность воспринимать такие явления, которые мы без них осознанно не воспринимаем, например, магнитные поля»12. Можно сказать, что приборы «расширяют границы той части реальности, которая доступна нашему познанию»13. Непосредственное наблюдение редко встречается в современной науке, просто потому, что возможности человеческих чувств весьма ограничены. Разумеется, научные открытия, полученные с помощью «чистого» наблюдения, существуют. Например, российский зоолог XIX века Н. П. Вагнер открыл феномен педогенеза, то есть полового размножения животных на ранних (до взросления) стадиях развития. Вагнер был принципиальным последователем идеи беспристрастного наблюдения как основной научной практики и как основного метода доказательства. Подозрение о вмешательстве в наблюдаемые факты, по мнению Вагнера, опровергает надежность наблюдения. Зоолог считал, что внимательного «вглядывания» достаточно, чтобы природа открыла исследователю свои тайны. И хотя его заслуги перед наукой нельзя недооценивать, каталогизация новых видов животных и растений требует гораздо меньше технологических средств, чем, скажем, исследование процессов полураспада сверхтяжёлых элементов. Как справедливо отмечает по этому поводу Б. Латур: «Во многих моментах своего дискурса исследователи ничего не говорят, а просто тычут пальцем в то явление, которое было обнаружено их приборами, явление, которое показывает себя с большой неохотой»14. Чаще всё-таки им приходится опираться на интерпретацию тех или иных инструментальных данных. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Ред. А. С. Мамзин. С. 32-33. Там же. 14 Латур Б. Научные объекты и правовая объективность // Герменея. Журнал философских переводов. 2010. № 1 (2). С. 80 12 13 14 Можно ли считать наблюдение с помощью приборов естественным «видением»? Этот вопрос обстоятельно рассматривается в работе «Представление и вмешательство» Яна Хакинга. Вопрос видения с помощью тех или иных устройств и приспособлений вообще крайне двусмысленен. Является ли видение через корректирующие зрение очки истинным? А через защитное стекло в лаборатории? Можем ли мы пренебречь этим искажением? Можем ли мы пренебречь искажением, вызванным различными свойствами глаза у разных людей? И если вопрос с оптическими приборами можно отложить до тех пор, пока они не нарушают законы линейной оптики, или же «физические взаимодействия со световым лучом, которые делают объект видимым (или могут сделать его видимым, будучи достаточно большими), совпадают с теми, которые приводят к образованию изображения в микроскопе»15, то что делать, когда речь идёт об инструментах, отличающихся по принципу работы от человеческого глаза? Микроскопы бывают не только оптические, но, например, рентгеновские или сканирующие электронные. Можно ли считать, что исследователь «видит» молекулы в электронном микроскопе, если на самом деле изображение получается методом, совершенно отличным от обычного зрения, и только с помощью специальной механической, а потом и умственной интерпретации полученного результата? С одной стороны, можно считать, что в случае со сложными микроскопами (а по большому счёту даже в случае с лупой или очками), наблюдение всегда будет по определению нагружено теорией — как минимум, оптической теорией, которая позволяет создавать эти оптические приборы, а также физической (биологической, химической, и т.д.) теорией, которая позволяет считать полученные инструментом изображения тем или иным феноменом. Кроме того, в большинстве случаев, микроскопические исследования требуют специально подготовленной материи (препаратов), в случае с органической материей — 15 Хакинг Я. Представление и вмешательство 15 нередко уже мертвой, специального подкрашивания, микросрезов, и так далее — то есть, фактически объект исследования уже перестает быть природным. С другой стороны, как бы мы скептически ни относились к самой возможности наблюдения через микроскоп, всегда можно привести аргумент решётки: на специальной бумаге чернилами рисуется крупная сетка с подписанными ячейками, затем она уменьшается до микроскопических размеров с помощью фотографического метода, и на микрофотографию химическим методом уже наносится металл. Получившуюся микрорешетку, со всеми подписями, можно рассмотреть в микроскоп любого вида, оптический, электронный, сканирующий и так далее. Получив такой результат, очень сложно пребывать в сомнении насчёт реальности полученного объекта. Научный реализм16 предполагает существование континуума наблюдения, то есть идеи, что мы можем бесконечно совершенствовать инструменты для наблюдения мира (очки — увеличительное стекло — микроскоп и так далее). «Если нечто можно увидеть через окно — пишет известный философ науки Б. ван Фрассен — то его можно увидеть и с поднятым окном. Похожим образом, спутники Юпитера можно увидеть в телескоп, но их также можно увидеть и без телескопа, если подойти достаточно близко. Если нечто наблюдаемо, это не значит автоматически, что условия для наблюдения соблюдены именно сейчас. Принцип таков: X наблюдаемо если условия таковы, что если X присутствует при данных условиях, то мы его наблюдаем»17. Если руководствоваться этим принципом, то оптические телескопы позволяют нам наблюдать явления, а вот электронные микроскопы — уже нет. Ван Фраассен, как сторонник конструктивного эмпиризма, развивает эту метафору на примере реактивного следа: когда речь идёт о самолёте, мы можем Направление в философии науки, предполагающее существование независимых от сознания объектов, которые могут быть проинтерпретированны с помощью тех или иных теорий, и интерпретация может быть как истинной, так и ложной. См, например, Гровер Максвелл, Хилари Патнэм. О научном реализме см, подробнее работу отечественного исследователя Е.А. Мамчур (Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современной эпистемологии. М.: ИФРАН, 2004. 244 с.), а также сборник статьей под редакцией Д. Папино (The Philosophy of Science / Ed. Papineau D. — Oxford: Oxford University Press, 1996. 340 с.) 17 Van Fraassen B., The Scientific Image. Oxford: Clarendon Press, 1980. P. 16 16 16 указать на источник следа; когда речь идёт о частице в газовом микроскопе — то уже нет. Поэтому в первом случае можно говорить о наблюдении, а во втором — только о теории. Как отмечает18 В. А. Фок, в квантовой физике, в отличие от классической, появляется необходимость «учитывать не только движение средств наблюдения, но, в какой-то схематизованной форме, и их внутреннее устройство», а «формулировка качественно новых свойств микрообъектов требует новых методов описания, и прежде всего необходимо внести в их описание новый элемент относительности — относительность к средствам наблюдения». Квантовые объекты невозможно наблюдать средствами классической механики, но в ситуации эксперимента нам необходимо сообщить другим полученные результаты. Н. Бор формулирует следующий принцип: «как бы далеко ни выходили явления за рамки классического физического объяснения, все опытные данные (evidence) должны описываться при помощи классических понятий»19. Исходя из этого положения, Бор делает вывод о том, что «поведение атомных объектов невозможно резко отграничить от их взаимодействия с измерительными приборами, фиксирующими условия, при которых происходят явления»20. Итак, наблюдение, будучи частью эмпирического уровня научного познания и одним из частей экспериментального метода или дополняющей эксперимент процедурой, содержит в себе определенные противоречия, в частности, наблюдение с помощью инструментов требует теоретической интерпретации объекта. По мере уменьшения или удаления объектов наблюдения, а также качественного перехода в устройстве приборов от оптических схем к иным способам передачи информации — звуковым, магнитным, интерференционным и так далее — встаёт вопрос о реальности наблюдаемых с помощью инструмента объектов. То есть наблюдение предполагается в качестве процедуры, отличающейся от эксперимента «естественностью» условия опыта, но Фок, В.А. Интерпретация квантовой механики // Успехи физических наук. 1957. Т. LXII. вып. 4. С. 465 Бор, Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике // Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Издательство иностранной литературы, 1961. С. 60 20 Там же. 18 19 17 в современных условиях редко такому определению отвечает и разделяет с экспериментом проблематичность объективности и чистоты от теоретических предпосылок. 1.2. Эксперимент и свидетельство21 Ещё одной важной характеристикой эксперимента как практики достижения объективности является возможность свидетельствования независимым очевидцем результатов эксперимента. Этот тезис был одним из ключевых в эмпиристской программе Роберта Бойля. Для достижения того, что Шейпин и Шефер называют реальными фактами (matters of fact), Бойль считал строго контролируемый эксперимент недостаточным; его должны наблюдать несколько человек, а в теории — любой желающий (и все человечество). Здесь Бойль видел отличие истинной науки от алхимии или религиозного опыта, которые строго индивидуальны и не поддаются свидетельству очевидцев. 21 Свидетельство здесь рассматривается как evidence, в его судебно-юридическом контексте. В качестве такового оно становится актуальным в научной практике в эпоху Нового времени. О роли эмпирических свидетельств в удостоверении научного знания как новоевропейской процедуре, отличающейся от средневековой апелляции к авторитету см., например, Dear, P. From Truth to Disinterestedness in Seventeenth Century // Social Studies of Science. 1992. № 22. P. 619-631. Так как в Новое время акцент сдвигается с поиска общих оснований на изучение конкретных фактов, большее значение начинает придаваться экстраординарному, выходящему за рамки обыденности. В случае с экстраординарными явлениями зачастую приходилось полагаться на слово того, кому довелось их наблюдать, и в этом случае дополнительное свидетельствование, подобно тому, как это происходит в суде, придавало явлению большую достоверность (о роли свидетельства в случае неординарных фактов см., например, Da Costa P. F. The making of extraordinary facts: authentication of singularities of nature at the Royal Society of London in the first half of the eighteenth century // Studies in History and Philosophy of Science Part A. 2002. Vol. 33, № 2, P. 265–288. Параллели между юридическим и экспериментальным методом проводят Ф. Бэкон (судебная комната, разделенная границами между подсудимым, адвокатами, обвинителями и т.д) и Лейбниц («пыточные» метафоры, получение истины от природы с помощью насилия, но так, чтобы не причинить ей непоправимого вреда). Об этом см. подробнее И. С. Дмитриев, С. А. Никитина «Inquisitor De Rerum Naturae»: Истоки эксперименталистской методологии Ф. Бэкона [Электронный ресурс] URL: http://philosophy.spbu.ru/1697/13309 Дата обращения: 4.09.2014 18 Гарантией возможности такого свидетельства Бойль видел проведение экспериментов в публичном пространстве, каковым, в той или иной степени, являлось Королевское общество. Здесь, впрочем, снова проявляются определенные двусмысленности. Во-первых, даже публичный сеанс проведения эксперимента не может быть полностью публичным — очевидно, что на заседание Королевского общества пустят не любого желающего (скажем, оппонента Бойля, Гоббса, не пускали — из-за его склочного нрава). Во-вторых, как подчеркивает сам Гоббс, просто наблюдать эксперимент недостаточно. Свидетель должен обладать как минимум двумя качествами: способностью понимать происходящее в рамках эксперимента (то, что Бойль называет «виртуозностью») и честностью. Если один из пунктов вызывал сомнение, такое свидетельство можно было отвергнуть — как некачественное. Р.-М. Сарджент подчеркивает, что роль свидетельства в установлении экспериментального научного знания преувеличивать всё же нельзя. «Вес факту придает не приумножение свидетельств, а их независимость. Так как философэксперименталист делает вывод только когда получены все возможные свидетельства, и задача слишком велика, чтобы выполнить ее одному, тогда требуется свидетельство очевидца. Но факты не являются всего лишь продуктом консенсуса мнений о чувственной информации»22. Свидетельство — лишь одна из практик, привнесённых в науку из юридической практики. «Суд», выспрашивание, допрос, ответ перед человеком — всё это распространенные в Новое время метафоры относительно научной практики. «Насилие» над природой в процессе эксперимента — производная этих идей. Материя рассматривается как пассивное начало, которое возможно изменять и формировать по желанию активного субъекта, больше того, без деятельности разумного субъекта природа не могла бы воплотить все свои потенциальные возможности: у естественного развития есть свои пределы. 22 Sargent R.-M., Scientific experiment and legal expertise: The way of experience in seventeenth-century England // Studies in History and Philosophy of Science Part A, Volume 20, Issue 1. March 1989. Pp. 19-45. 19 Фрэнсис Бэкон, один из главных мыслителей новоевропейского научного метода, будучи по образованию юристом, не раз прибегает в своих работах к метафоре пытки. Как подчеркивает петербургский философ науки И. С. Дмитриев, «использование пыточной риторики оправдывало перенос методологических подходов, применявшихся для получения информации у обвиняемого, на процесс “вырывания” секретов у Природы. Метод связывания, контроля и допроса человека стал методом, используемым при “допросе” природы. Экспериментатор ставит вопрос — эксперимент дает ответ»23. Пытки, разумеется, нужны не для того, чтобы «издеваться» над природой: эта метафора означает скорее важность целенаправленного давления, применения силы, осознанного изменения природы с целью получить необходимый ответ. Более того, само слово «эксперимент» происходит от латинского experimentum, а оно, в свою очередь, от глагола experiri, который означает «испробывать, испытывать» и, в том числе, «судиться»24. Как и судебный процесс, эксперимент должен полагаться на показания свидетелей. «Очевидность» экспериментального метода была одним важных аргументов учёных и философов-эмпириков, в особенности британской традиции. В частности, Роберт Бойль, один из активнейших поборников экспериментальной науки, акцентировал внимание на том, что его опыты проводятся под присмотром «независимых экспертов» и теоретически их может не только наблюдать, но и самостоятельно повторить любой желающий. Тем не менее, разумеется, эта очевидность была условной — даже «очевидные» результаты эксперимента могли быть по-разному истолкованы, а машин, подобных воздушному насосу Бойля на всю Англию существовало всего две, да и попасть на заседание научного сообщества и вживую посмотреть на эксперимент было доступно только немногим избранным (например, главный противник Бойля — Гоббс — членом Дмитриев И. С., Никитина С. А. «INQUISITOR DE RERUM NATURAE»: Истоки эксперименталистской методологии Ф. Бэкона 24 Online Etymology Dictionary / Ed. Harper Douglas [Электронный ресурс] URL: http://www.etymonline.com/index.php?term=experiment Дата обращения: 02.10.2014; Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Ред. Касавин И.Т. М: «Канон +» РООИ «Реабилитация»: 2009. С. 1135 23 20 Королевской академии не являлся, и даже не столько из-за отсутствия заслуг или из-за радикально несоответствующих научным принципам взглядов, а всего лишь из-за склочного характера и страсти к полемике). Но именно свидетельство и возможность повторения опыта являются важной чертой экспериментального знания. Тематика эксперимента как судебной процедуры поднималась и французским социологом науки Б. Латуром: «Невозможно, описав, как даже в самом банальном эксперименте осуществляется научная ордалия истины, и далее опираться на господствующую идею о том, что науки чисты, объективны, беспристрастны, дистанцированы»25. Слово ордалия (испытания огнём и водой в архаическом праве) у Латура, кажется менее удачным, чем «муки» (vexationes) Бэкона, ведь в отличие от последних они ставят своей целью испытать подсудимого на прочность, и не важно, останется он в живых (или по крайней мере в целости), в то время как инстицуонализированные пытки, на которые ссылается Бэкон, проводятся по строгому протоколу, для того, чтобы добиться истины, и только в самых сложных случаях (скажем, когда нет свидетелей — ещё одна отсылка к непосредственности опыта). Таким образом, несмотря на то, что эксперимент апеллирует к объективности, независимости от человеческого суждения, он в то же время требует свидетельства очевидца26, и подобно прокурору на суде «выспрашивает» факты у природы, порой добиваясь их насилием. Итак, эксперимент, как бы учёные не уповали на его объективность, всегда находится в рамках уже существующей теории, господствующей научной парадигмы. Как пишет Ян Хакинг в работе «Самооправдание лабораторных наук», «лабораторные науки таковы, что их притязания на истину относятся только к работе, проделанной в лаборатории. Они изучают феномены, которые Латур Б. Научные объекты и правовая объективность // Герменея. Журнал философских переводов. 2010. № 1 (2). С.87. 26 Здесь мы встречается с необычным смыслом объективности, присутствующим в традиции эмпирических исследований, где объективности опыта понимается как удостоверяется большим числом незаинтересованных (анонимных, не разбирающихся в научных исследованиях) свидетелей. 25 21 редко или вовсе никогда не происходят в чистом виде до тех пор, пока люди не начинают их наблюдать. Слегка утрируя, я скажу, что исследуемые феномены создаются в лаборатории»27. Более того, Хакинг подчеркивает, что наши «законсервированные теории и мир так точно подходят друг к другу не столько потому что мы поняли, каков есть мир, а сколько благодаря тому, как мы их подогнали друг к другу»28. Как видно, эксперимент обладает внушительным списком противоречивых свойств и характеристик. С одной стороны, эксперимент претендует на объективность получаемого с помощью него знания, на то, чтобы показывать природу так, как она есть, но в то же время эксперимент представляет собой полностью искусственный человеческий конструкт, опыт, ставящий естественные процессы в противоестественные условия. Эксперимент опирается на использование инструментов для преодоления ограниченности человеческих органов чувств, но само использование приборов ставит под вопрос реальность и «самостоятельность» того, что мы видим с их помощью. Как получилось, что несмотря на свою неоднозначность, экспериментальный метод занимает такое важное место в современной европейской науке, одной из главных ценностей которой всегда считается точность? Рассмотрев эксперимент в его исторической перспективе, мы можем лучше понять, как предпосылки современной экспериментальной программы, так и то, что неоднозначность научного эксперимента обусловлена его историческим развитием. 27 Hacking I. Self-Vindication of the Laboratory Sciences // A. Pickering, Science as Practice and Culture, Chicago: University of Chicago Press. 1991. P. 33. 28 Ibid 22 ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТ В ДОНОВОЕВРОПЕЙСКОЙ НАУКЕ 2.1. Ранние формы эксперимента С точки зрения современной философии и истории науки, расцвет экспериментальной науки приходится на Новое время29. Однако, как и любой другой элемент человеческой культуры, научная деятельность не отделима от предшествующей традиции, так как знание кумулятивно и передается с помощью текстов, чертежей, рассказов, инструментов и артефактов и не возникает из ничего30. Поэтому, чтобы понять любое научное явление — в нашем случае эксперимент — необходимо проследить историю его развития, становления и формирования в качестве признанного научного метода. Рассмотрев исторические формы эксперимента в том виде, в каком информация о них сохранилась до наших дней, мы можем лучше понять эпистемологическую ситуацию, в которой находились первые новоевропейские учёные-эксперименталисты, ведь так или иначе они должны были быть знакомы с историей предшествовавшей науки. Кроме того, наша задача состоит в том, чтобы проследить истоки проблематичности эксперимента и, исходя из исторического контекста, лучше понять современную ситуацию, связанную с ним. Наше обращение к периоду до Нового времени, с обнаружением там «научного эксперимента», оправдано тем, что историки математики и механики как науки приписывают зарождение научного знания эпохе античности, так как именно с тех времен сохранились тексты, в которых описываются методы Энциклопедия эпистемологии и философии науки. С. 425. Стандартная концепция философии науки включает представление о том, что о науке следует говорить только как о новоевропейском математическом естествознании, вязанном непосредственно с экспериментальной деятельностью. 30 Одним из первых историков науки, поставивших под сомнение абсолютность новоевропейского начала исследования, был П. Дюгем. 29 23 познания и в той или иной степени систематизируются факты о мире31. Некоторые историки науки, например, Генри Смит Уильямс или Джон Десмонд Бернал32, и вовсе считают, что ранние формы «науки» можно выделить еще в доисторические времена. В качестве «факта, установленного экспериментальным путем», Уильямс приводит умение добывать и поддерживать огонь. Знание несъедобных растений он называет «бессознательным экспериментом»: «Для практических целей достаточно знать, что определенные корни, листья и плоды обладают принципами, ядовитыми для человеческого организма, и, если бы человек не научился тем или иным образом их избегать, наш вид неминуемо пришёл бы к катастрофе. Фактически, он научился их избегать, и такие данные подразумевают элементарное знание токсикологии»33. С современной точки зрения (да и, прямо скажем, с точки зрения современников Уильямса) эта мысль кажется несколько абсурдной. Ни о какой науке «токсикологии», разумеется, здесь речи идти не может, так как, хотя здесь можно говорить о воспроизводимости, тем не менее отсутствует систематическое знание о действии ядов, выводимость нового знания, доступность для обобщений и предсказаний и другие признаки научного знания34. Однако, устанавливаемую причинноследственную связь между поеданием ядовитых растений и отравлением можно было бы считать результатом определенного прото-эксперимента, как, скажем и осознание человеком того, что заостренный камень лучше режет плоть убитого животного, чем тупой, или что брошенный с большей силой предмет пролетает большее расстояние. Бернал также считает, что изготовление и применение человеком орудий можно считать началом рациональной механики, а ещё до появления науки как таковой уже можно говорить о «математической логике в См. например, Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб.: Алетея. 1994. 376 с., Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. М.: Физматлит, 1959. 460 с. 32 Бернал Дж. Наука в истории общества, М.: Издательство иностранной литературы, 1956. С. 50. 33 Williams H., A History of Science in Five Volumes, Vol. I The Beginnings of Science. 1905 [Электронный ресурс] URL: http://www.gutenberg.org/ebooks/1705 (Дата обращения: 02.10.2014) 34 История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. С. 11-13 31 24 физическом обращении с определенными и абстрактными предметами»35. К сожалению, сделать каких-либо серьезных выводов на основе этих предположений нельзя, так как в отсутствие дошедших до нас письменных источников мы не можем знать абсолютно достоверно, как мог быть устроен опыт доисторического человека. Отметив ранние формы «научности» у древнего человека, Уильямс переходит к более поздним прото-научным феноменам36. Древнеегипетская цивилизация известна своими техническими достижениями: строительство пирамид, ирригационные системы и принципы геометрии, применявшиеся для раздела земель. К сожалению, практические знания древних египтян не были достаточными для построения целостной научной картины мира. Тем не менее, возможно говорить о ранних формах эксперимента — по крайней мере математического. В качестве такового Уильямс приводит «эксперимент» с умножением: «Чтобы найти сколько раз 7 содержится в 77, согласно существующему примеру, устанавливались значения 7, умноженного на 1, 7 на 2, 7 на 4, 7 на 8, и производились различные экспериментальные операции сложения, чтобы выяснить, какой набор чисел составляет 77»37. Как и в случае с «экспериментами» древних людей, Уильямс весьма свободно употребляет терминологию и следует признать, что это не выглядит убедительным доказательством существования до-античного эксперимента. Необходимо отметить, что замечания Уильямса представляются скорее маргинальными в философии и историографии науки, нежели общепринятыми. Когда речь идёт о до-эллинистической эпохе, даже весьма серьезные открытия зачастую рассматриваются вне научного дискурса. Как отмечает Олаф Педерсен, клинописные таблички из Месопотамии показывают, что в Плодородном полумесяце были известны методы добычи ртути из киновари, нашатыря из навоза, методы дистилляции и обработки руды, примитивная металлургия, и, Бернал Дж. Наука в истории общества. С. 51 См. также Нейгебауер О. Точные науки в древности. М.: Наука, 1968. 224 с. 37 Williams H., A History of Science in Five Volumes. Vol. 1. 35 36 25 разумеется, «гордость» вавилонских астрономов — методы предсказания восходов и заходов небесных тел. Даже египетская математика, несмотря на свою чисто практическую принадлежность, «содержит по крайней мере некоторые черты, указывающие на существование теоретических методов» 38. Вавилонская астрономия оказала заметное влияние на последующую греческую, а затем и христианскую науку, однако следует признать, что она не ставила своей целью построение рациональных моделей мира. В то время как греческие астрономы, пусть и используя достижения вавилонян, создавали систему сфер, вводили понятия «неподвижных звезд», эпициклов, благодаря которым можно было теоретически строить орбиты даже невидимых глазу небесных тел, месопотамские астрономы в основном интересовались расчётами восходов и закатов небесных тел, без какой бы то ни было общей системы. Негативное влияние на восприятие вавилонской науки оказали и астрологи, в христианской традиции называемые «халдеями» — используя астрономические знания с целью «предсказать» бытовые события, они надолго дискредитировали научные достижения Месопотамии в глазах европейских мыслителей. Несмотря на это, распространено мнение, что «ни вавилоняне, ни египтяне не владели теоретическим доказательством, и их уровень научной культуры описывается некоторыми авторами как до-логический. Это не означает, что он был нелогичным. Фактически, многие применяемые ими математические методы корректны, и показывают, что человеческий разум того времени был способен мыслить последовательно и различать истину и ложь также, как и последующие поколения. Таким образом, термин «до-логический» обманчив, и будет лучше уточнить, что отсутствует все-таки идея природной каузальности, а вместе с ней и возможность теоретического понимания эмпирических методов»39. Общим аргументом против научности до-греческого знания предстаёт тот факт, что технические, математические, астрономические и прочие знания 38 Pedersen O. Early physics and astronomy: A historical introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. 2-3 39 Ibid. Pp. 6-7 26 являлись инструментальными и/или религиозными, но не нацеленными на выработку систематичных знаний о мире, не выявляя сущностных связей между природными объектами. Словами Педерсена, «египетская и вавилонская наука и математика [...] сильно отличались от греческой. При тщательном рассмотрении обнаруживается, что достижения египтян и следовавших за ними народов Месопотамии были близко связаны с практическими требованиями повседневной жизни и не включали в себя элементы, считающиеся сегодня необходимыми в науке: доступные свидетельства говорят о том, что эти народы не были знакомы с логическим доказательством или законами природы»40. Таким образом, несмотря на неоспоримые практические достижения людей догреческого периода, их сложно считать подлинно научными, так как отсутствует необходимый контекст — систематичность знания, выводимость нового знания, поиск универсальных оснований — а, следовательно, и говорить о научном эксперименте в эти эпохи представляется преждевременным. Поэтому имеет смысл перейти к эпохе античности. 2.2. Эксперимент в античной науке Научные достижения греков безусловны — это и некоторые законы механики (например, закон Архимеда), астрономия, и, конечно, математика. При этом следует отдавать отчет в том, что мышление греков было сугубо теоретическим. На значение противопоставления теоретического и практического мышления указывает, например, Аристотель: «владеющий искусством [считается] более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник — более мудрым, нежели ремесленник, а науки об умозрительном (theoreticai) — выше искусств творения (poietikai). Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах […] наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами […] А наиболее достойны познания первоначала и 40 Pedersen O. Early physics and astronomy: A historical introduction. P. 5 27 причины, ибо через них и на их основе познается все остальное, а не они через то, что им подчинено»41. Истина — это нечто умопостигаемое, частные явления могут давать лишь знание о частном; истинное знание об общем доступно только свету разума. Любой эксперимент, по определению, будет иметь дело не с причинами и началами, а с их следствиями. Научные институты как таковые в древней Греции еще отсутствовали. Зато существовали философские школы — именно на их базе и происходило развитие греческой прото-науки. Как отмечает Самбурский, «греческая философия привела к переходу от мифологического к рациональному мышлению. В самом деле, поначалу центральной проблемой философии было объяснение естественных феноменов рациональными причинами. Но эта цель быстро слилась с более широким импульсом по систематическому изучению различных форм знания, фундаментальной природы реальности и места человека в мире. Именно таким путем философские школы стали центрами научного исследования»42. Непререкаемый авторитет Платона и Аристотеля долгое время заставлял греков смотреть на знание исключительно как на продукт рациональности и диалектики. Зрение для древних греков это в первую очередь умозрение, то есть познание рациональное. Исследование логических и математических законов, принципы диалектики, красноречия, дедукции занимали для них место более важное, нежели индукция и вывод общего из частного. Как подчеркивает В. С. Швырев, хотя греческое слово «теория» и восходит к значению «вглядывание», речь идёт скорее о вглядывании с помощью разума43. Понятие «теории» является одним из ключевых в философии науки, однако свое современное значение — как высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях определенной области действительности — оно приняло сравнительно поздно. Аристотель Никомахова этика // Сочинения в 4-х томах (Сер. Философское наследие), Т.1 М.: «Мысль», 1976. С. 67-68 42 Sambursky S, The Physical World of the Greeks, Londond: Routlege, 1964. P. 225 См. также Pedersen O. Early physics and astronomy: A historical introduction, Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: 2001, Lloyd G. E. R., Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers. Cambridge: CUP Archive, 1993. 457 p. 43 Касавин, Энциклопедия эпистемологии и философии науки, М: «Канон +» РООИ «Реабилитация»: 2009. С. 973. 41 28 Для древних греков теория — это «экстатическое, мистическое созерцание», сохраняющее связь «с дотеоретическими архаическими формами сознания» и сохраняющее «свой исходный смысл мысленно-интуитивного “всматривания” в космос, восприятия идеальных сущностей “духовными очами”»44. В таком контексте гораздо большее значение придавалось познанию «истинных причин», нежели явлений: «ни одно из чувственных восприятий мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о единичном, но они ни относительно чего не указывают «почему», например, почему огонь горяч, а указывают лишь, что он горяч»45. Истина может быть только всеобщей, а всеобщее невозможно постичь, исследуя частное, манипуляции с земными объектами не дают нам истинного знания о причинах. Теория в античной традиции — деятельность не только созерцательная, но и незаинтересованная. Теория как искусство для «времяпрепровождения» противостоит искусствам, направленным на «удовлетворения необходимых потребностей» и всегда считается занятием более «мудрым»46. Кроме того, в древней Греции бытовало пренебрежительное отношение к труду и материальным благам. Как следствие вышеуказанного отношения к знанию вообще, ручная работа и её практическое применение (а точные механизмы — во многих случаях необходимый элемент успешного научного эксперимента) рассматривались как занятия менее достойные, чем размышление: «мы полагаем, что знание и понимание относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают “что”, но не знают “почему”; владеющие же искусством знают “почему”, т. е. знают причину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем больше, Швырев Б. С. Теория // Новая философская энциклопедия. См. также Хайдеггер, М. Наука и осмысление // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 238-252., Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: 1969 45 Аристотель Никомахова этика // Сочинения в 4-х томах (Сер. Философское наследие), Т.1 М.: «Мысль», 1976. С 67 46 Аристотель Метафизика 981b24 44 29 полагая, что они больше знают, чем ремесленники, и мудрее их, так как они знают причины того, что создается. А ремесленники подобны некоторым неодушевленным предметам: хотя они и делают то или другое, но делают это, сами того не зная (как, например, огонь, который жжет); неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу ремесленники — по привычке. своей природы, а Таким образом, наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают отвлеченным знанием и знают причины»47. Знание ради знания, или знание причин, таким образом, становится более ценным, чем знание конкретных вещей. Прикладное мастерство в таких условиях развивалось с большим трудом, так как было по определению низшей формой деятельности. Свою роль сыграло и отношение греков к техническому прогрессу. Знания важны лишь как знания сами по себе, а не знания ради улучшения бытовых обстоятельств. Если природа и полис и так дают греку все необходимое для жизни, зачем тратить усилия на попытки достичь больших материальных благ? Ещё одна причина недостаточного технического развития греков, как отмечает Самбурский, это знаменитая греческая умеренность: человеку нужно ровно столько, чтобы поддерживать свое комфортное существование, остальное — излишества. «Древние греки фундаментально верили в то, что мир нужно понимать, но нет никакой необходимости его менять»48. Само греческое понятие природы как космоса, как упорядоченного и эстетичного целого49 обусловливало специфический подход к ее исследованию. Мир для древнего грека был единым целым, основным качеством которого была гармония, и человек был частью этого целого — пусть и частью, обладающей собственным разумом. Именно поэтому греческая наука, несмотря на заверения Архимеда о том, что ему достаточно точки опоры, чтобы перевернуть мир, не Аристостель Метафизика 981a24 Sambursky S, The Physical World of the Greeks. P. 230 49 Павленко А.Н. Космос // Новая философская энциклопедия 47 48 30 могла на самом деле посмотреть на мир «со стороны» и соответственно обеспечить систематическое знание в свете некоторого единого принципа. Астрономия, изучающая небесную сферу и сферу неподвижных звёзд, получила наибольшее среди всех направлений науки развитие именно потому, что она наблюдает естественный ход вещей в самом незамутненном виде: человек не может вмешаться в процесс движения планет, а лишь наблюдать их. Причём, что важно, изнутри — ведь Земля находится внутри астрономических сфер. В том же, что касается процессов, происходящих «внизу», греки в большинстве случаев избегали обращения к эксперименту, даже в случае эмпириков. Г. Е. Р. Ллойд отмечает, что дошедшие до нас документы говорят, что зачастую подкрепить теоретические результаты экспериментом было грекам вполне по силам, но они не желали этого делать — сама форма античного теоретизирования не предполагала экспериментальной проверки50. И Ахутин, и Ллойд сходятся в том, что в философских исследованиях роль эксперимента в античной науке оценивается по-разному. С одной стороны, ряд исследователей51 придерживается весьма логичной позиции: если нам известны хотя бы несколько случаев успешного применения эксперимента, то разумно предположить, что таких случаев было больше, просто они не дошли до нас. Ллойд приводит цитату Дж. Бернета: «Невозможно представить, что любознательные люди могли применить экспериментальный метод в одном случае и не перенести его на другие проблемы […] Всё, что мы знаем об этом вопросе доступно из сборников и справочников, составленных века спустя людьми, не заинтересованными в науке, для ещё менее заинтересованных в ней читателей»52. Если мы видим мало примеров экспериментирования в античности, то это, согласно такому рассуждению, вина поздних исследователей, через которых греческая учёность дошла до нас. 50 Lloyd G. E. R. Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers. P. 70 Burnet J. Early Greek Philosophy, London: A. and C. Black, 1908, Blüh O. Did the Greeks Perform Experiments? // American Journal of Physics, 17, 384 (1949), Heidel W. A. Heroic Age of Science. Baltimore: Williams and Wilkins, 1933 52 Lloyd G. E. R., Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers. P. 75 51 31 С другой стороны, уже в «Новом органоне» Бэкона говорится, что «из всех философий греков и из частных наук, происходящих из этих философий, на протяжении стольких лет едва ли можно привести хотя бы один опыт, который облегчал бы и улучшал положение людей и который действительно можно было бы приписать умозрениям и учениям философии»53. Что же касается экспериментов Аристотеля, то Бэкон вовсе считает, что «его решение принято заранее, и он не обратился к опыту, как должно, для установления своих мнений и аксиом; но, напротив, произвольно установив свои утверждения, он притягивает к своим мнениям искаженный опыт, как пленника. Так что в этом отношении его следует обвинить больше, чем его новых последователей (род схоластических философов), которые вовсе отказывались от опыта»54. Самбурский также утверждает, что для древних греков идея изоляции объекта эксперимента от среды — то есть то, на чем строились классические эксперименты Галилея и Ньютона — была абсурдной, и для Аристотеля «окружающая среда была неотъемлемой частью самого феномена, и он считал даже идею изоляции несостоятельной»55. Здесь необходимо уточнить, что Самбурский делает акцент на физике и физическом эксперименте, объясняя это следующим образом: «то что физический опыт человека по большей части является механическим, в значительной мере определяет характер его знания об окружающем мире, которое существует за счёт механических аналогий»56. Другие сферы науки — химия, оптика, медицина — интересуют Самбурского в меньшей степени. Именно против такого подхода (сторонником которого является далеко не только Самбурский) и выступает Ллойд. По его мнению, в попытках ответить на общий вопрос, экспериментировали ли греки, «слишком часто забывают, что эксперимент обладает различной полезностью и релевантностью в разных областях научного исследования, и даже для разных проблем в рамках одного Бэкон Ф. Новый органон [Электронный ресурс] URL: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (Дата обращения: 02.10.2014 54 Там же. 55 Sambursky S., The Physical World of the Greeks. P. 233. 56 Ibid, 234. 53 32 поля; более того, можно сказать, что роль эксперимента может варьироваться на разных уровнях научного развития, в зависимости от уровня знаний, достигнутых в конкретной сфере в конкретный период»57. До нас дошли (пусть часто и через вторичные источники) сведения о проводимых в разные периоды античности опытах разной степени сложности и с разным успехом используемые для подтверждения или опровержения теорий. В таком контексте более разумным представляется не пытаться сделать единый вывод о качестве и статусе античного эксперимента, а попытаться рассмотреть конкретные примеры опытов, проводимых древними греками и разобраться, насколько они соответствуют современным представлениям об эксперименте как о «целенаправленном изучении и фиксировании данных об объекте, находящемся в специально созданных и точно фиксируемых и контролируемых условиях»58. Современные исследователи науки приводят примеры целого ряда экспериментов, проводимых древними греками. В трактате «Оптика» Птолемей иллюстрирует эксперименты, проведенные для доказательства теории распространения света: автор закрывает на зеркалах места, в которых отражается объект, и постепенно открывает их, обнаруживая, что «зрительный луч» распространяется по прямой. В другом эксперименте, используя три типа зеркал — обычное, выгнутое и вогнутое — Птолемей доказывает свой тезис о том, что угол падения равен углу отражения. В своих наиболее сложных экспериментах, направленных на изучение преломления света в средах, Птолемей кладет на дно цилиндра с водой диск, разделенный на 90 секторов, подобно транспортиру, и, используя цветные отметки и помещенный в воду тонкий стержень, выясняет, как именно преломляется изображение в воде. Более того, Птолемей использует воду «разной плотности», оставляя прочие элементы эксперимента неизменными, и приходит к выводу, что плотность воды не влияет на преломление света — то есть, фактически, пользуется экспериментальным методом ненамного хуже современного ученого (контролируя несколько переменных — сосуд, количество 57 58 Lloyd G. E. R., Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers. P. 76 История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. C. 30 33 воды, угол стержня и так далее — он меняет только одну — плотность воды — и отмечает, меняется ли результат)59. Сохранились сведения о экспериментах Пифагора с определением соотношений высот звуков и их источников (измерение весов молоточков, измерение силы натяжения струны, изменение высоты водяного столба и размера медных дисков).60 Наибольших успехов в плане эксперимента, и это признается многими авторами, греки достигли на почве медицины и биологии, особенно если слегка расширить временные рамки и включить в рассмотрение работы выдающегося врача II века н.э. Галена. Но даже уже начиная с Алкмеона Кратонского (V век до н.э.) греческие медики активно прибегают к технике препарирования, причем не только взрослых животных, но и эмбрионов, и даже вивисекции. В частности, Аристотель передает результаты вскрытия животных и рыб, благодаря которым удалось опровергнуть популярную в то время теорию о том, что пол эмбриона определяется положением, занимаемым им в утробе матери61. Разумеется, своего рода эксперименты проводил и Гиппократ (или, если быть более точным, он или кто-то из его последователей, так как точной атрибуции всем текстам Гиппократова корпуса дать невозможно). В работе «О сердце» автор приводит (пусть и мельком) несколько интересных анатомических экспериментов: «После смерти, если кто, зная древний обряд, удаляет сердце и если одну из перепонок отодвинет, другую же наклонит, то не войдет в сердце ни вода, ни воздух, который будут вдувать, особенно с левой стороны»62, верно отмечая не только принцип работы клапанов сердца, но и то, что клапаны аорты сильнее клапанов лёгочной артерии. К сожалению, объяснение этому феномену врач даёт сильно отличающееся от современного: «ибо ум человека пребывает по 59 Lloyd G.E.R. Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers. P. 82. Ibid. 61 Von Staden H. Experiment And Experience In Hellenistic Medicine // Bulletin of the Institute of Classical Studies. Volume 22. Issue 1. 1975. P. 184 62 Гиппократ О сердце // Избранные книги, М: Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 1936. C. 180. 60 34 природе в левом желудочке и управляет остальной душой»63, но сам факт экспериментальной проверки теории (путь и неверной с современной точки зрения) примечателен. Во втором параграфе того же сочинения выдвигается следующий тезис: «надгортанник есть крышка, очень точно закупоривающая и не дающая прохода ничему, кроме питья», который проверяется экспериментальным методом: «если кто окрасит воду в голубой цвет или красный и даст ее выпить очень жаждущему животному, лучше всего свинье, ибо это животное не отличается ни разборчивостью, ни чистотою, потом перережет ей горло в то время, как она пьет, то он найдет надгортанник окрашенным питьем»64. Примечательно, что автор признаёт, что этот эксперимент «не всякому удается» — то есть уже в текстах греков мы видим отсылку к опыту «любого человека», которая будет особенно важна для Бойля и его коллег по Королевскому научному обществу. Кроме того, любопытно, что метод окрашивания жидкости для прослеживания её перемещения по организму используется в медицине до сих пор при диагностике различных заболеваний. Г. фон Штаден приводит в пример пять типичных для античности биологических экспериментов. Первый из них был проведён врачом Эрасистратом (по неслучайному совпадению — внуком Аристотеля). В то время существовала идея о том, что все тела испаряют некие невидимые эманации — именно поэтому увядшие фрукты весят меньше, чем свежие, а количество воды в сосуде со временем уменьшается. Согласно папирусу Anonymus Londinensis (один из важнейших исторических документов о греческой медицине, дошедший до наших дней и хранящийся в Британской библиотеке в Лондоне — отсюда и название), для доказательства этой теории Эрасистрат помещал в закрытый котёл «подходящее животное» (в примере — птицу) и оставлял там на какое-то время без еды и воды. В результате, разумеется, животное сильно теряло в весе, и врач 63 64 Там же, с. 180. Там же, c. 177. 35 объяснял это «постижимой разумом» эманацией (так как видимой эманации не происходило)65. Разумеется, Эрасистрат приходит к неверному (или, скажем, не до конца верному) выводу — его эксперимент далеко не полон и не учитывает многих факторов, в то время неизвестных ученому (например, метаболизм). Его нельзя назвать действительно успешным — он не дает никакой новой информации, только «подтверждает» теорию. Кроме того, как отмечает фон Штаден, в третьем веке до нашей эры греческие врачи проводили эксперименты в том числе и над живыми людьми (осужденными преступниками), в частности, совершали рассечение нервов и тем самым выясняли, за движения каких частей тела они отвечают. Изучая разветвления нервов и реакции «пациентов», Эрасистрат пришёл к выводу, что нервы являются и «передатчиками» движения, и относятся к ощущениям, больше того, выяснил, какие принадлежат к какому классу — более чем достойный вывод. Итак, до нас дошёл целый ряд античных экспериментов в разных областях. Это были как эксперименты со специально созданными с исследовательской целью инструментами (струны и молоточки в музыкальной теории), так и с исследованием объекта в естественных условиях (опыты по изучению преломления света), так и активным «вмешательством» в объект исследования — хирургические опыты вплоть до вивисекции и операций на живых людях. Но если со времен античности до нас дошёл целый спектр экспериментов, то в чём же причина того, что экспериментальный метод уже тогда не стал основополагающим в науке? Следует признать, что далеко не все эксперименты греческих врачей были настолько успешными. Зачастую, особенно когда дело касалось более сложных проблем — например, «субстанций», из которых состоит тело человека, они прибегали к «экспериментам», которые формально и можно считать таковыми, но 65 Von Staden H. Experiment And Experience In Hellenistic Medicine. P. 180. 36 по современным меркам они просто абсурдным. Например, один из авторов гиппократова корпуса пытается «доказать» свою теорию о причинах женских болезней с помощью эксперимента над куском ткани: «у женщины мышцы более рыхлые и более мягкие, чем у мужчины, а раз это так, тело женщины тянет из живота жидкость быстрее и больше, чем тело мужчины. Действительно, если кто положит сверх воды или даже во влажное место на два дня и две ночи очищенную шерсть и платье чистое из плотной ткани, весящее точно столько же, как и шерсть, то, вынув их, он найдет на весах, что шерсть сделалась гораздо тяжелее, чем платье; это происходит таким образом: вода, находящаяся в сосуде с широким отверстием, беспрестанно испаряется кверху, и шерсть, будучи редкой и мягкой, получает более испарения, а платье, плотное и густое, оказывается наполненным, получив не особенно много»66. В этом примере типичные проблемы античного научного эксперимента предстают особенно ясно. Здесь он не является инструментом открытия, не является даже в подлинном смысле эпистемологическим явлением — это скорее риторический прием, нежели научный процесс. Исследователь придерживается выбранной им теории и пытается сформулировать её доказательства, прибегая порой к весьма натянутым аналогиям. В том же, что касается физических наук, наиболее очевидно — механики, греки либо не экспериментировали вовсе, либо их эксперименты были настолько несовершенны, что не несли никакого положительного содержания. Наиболее же удачные эксперименты, как видно из примеров этой главы, совершались в основном в сфере анатомии и биологии — то есть там, где это есть непосредственная возможность взаимодействия с объектом исследования, «вмешательство» в природу — будь то вскрытие эмбрионов животных или вивисекция осужденных преступников. 66 Гиппократ О женских болезнях // Избранные книги. C. 620. 37 Одной из причин такого подхода к эксперименту, по мнению Х. Гомперца67, является отношение к самой теории. Греки далеко не всегда были уверены в том, что факты могут подтверждать теорию в большей или меньшей степени, так как теория существовала для них только как единое целое — поэтому если какой-то факт хотя бы частично «подтверждал» теорию, или один из фактов, её составляющих, он признавался аргументом в пользу теории как таковой. Например, Ксенофан, согласно Ипполиту, говорил, что «земля смешивается с морем и со временем растворяется в воде, утверждая, что у него есть следующие доказательства: в глубине материка и в горах находят раковины. В Сиракузах, по его словам, был найден в каменоломнях отпечаток рыбы и тюленей, на Паросе — отпечаток лавра в толще камня, а на Мальте — плоские отпечатки всех морских существ. Эти [отпечатки], по его словам, образовались в древности, когда все обратилось в жидкую грязь, а отпечаток на грязи засох. Все люди истребляются, всякий раз как земля, погрузившись в море, становится грязью, а потом снова начинают рождаться. И такое основание бывает во всех мирах»68. То есть, Ксенофан интерпретирует в общем-то верный факт (отпечатки морских существ в глубине материка означают, что когда-то там было море), как доказательство того, что Земля регулярно обращается в грязь, давая этим начало новой жизни. Согласно Сенеке, другой греческий философ объясняет с помощью повседневного опыта свою теорию происхождения землетрясений: «в доказательство того, что именно вода повинна в землетрясениях, Фалес приводит то обстоятельство, что при всяком более или менее крупном землетрясении на поверхность вырываются новые источники, как это случается и при кораблекрушениях; когда судно накренится и ляжет на бок, оно зачерпывает воду, и если груза на борту слишком много, вода бьет вверх и заливает корабль, а если нет — все равно поднимается значительно выше обычного уровня и справа и 67 68 Gomperz H. Problems and Methods of Early Greek Science // Journal of the History of Ideas, Vol. 4, No. 2. 1943. P 174. Фрагменты ранних греческих философов. М: Наука, 1989. с. 165. 38 слева»69. Снова повседневный эмпирический опыт становится аргументом для предельно широкого теоретического тезиса. Может показаться, что отсылка к эмпирии в данном случае предстает не столько эпистемологическим, сколько риторическим приемом. Там, где просто утверждение теории предстаёт по какой причине недостаточным, эмпирический аргумент приводится в доказательство тезиса, часто с вводными словами «и в самом деле, …»70. Даже весьма практически ориентированные исследователи, например, Гален, не брезгуют прибегать к риторическим приемам. Л. Тотелин в своём исследовании авторских стратегий Галена рассматривает его методы апроприации опыта предшественников с помощью риторики. Гален приводит результаты исследований других врачей в качестве аргумента в пользу эффективности своих рецептов. Тотелин отмечает, что «сам Гален не был эмпириком, но он неоднократно отмечал, что в области фармакологии, один частный тип опыта, компетентный опыт (diōrismenē peira), обретает приоритет над логическим рассуждением в получении фармакологического знания»71. Греческая наука всегда брала начало в умозрительной теории, и лишь затем обращалась к эмпирии. К. Поппер особо подчеркивает, что эпистемология греков никогда не начиналась с наблюдения, однако в той или иной степени была «стимулирована эмпирической аналогией» — как, например, в случае с теорией землетрясений Фалеса. Фон Штаден отмечает72 также своеобразное внутреннее противоречие, характерное для античной науки: популярность философии эмпиризма растет, а частота появления продуктивных научных экспериментов падает. На первый взгляд кажется, что это нелогично: ведь кто, если не эмпирики, с их стремлением Сенека О природе // Философские трактаты .СПб.: Алетейя, 2001. C. 320-321. Gomperz H. Problems and Methods of Early Greek Science .P 173. 71 Totelin L. And to end on a poetic note: Galen’s authorial strategies in the pharmacological books // Studies in History and Philosophy of Science 43 (2012). P. 310. 72 Von Staden H. Experiment And Experience In Hellenistic Medicine. P. 187. 69 70 39 к чувственному опыту, должны были оценить эпистемологические возможности эксперимента. Чтобы объяснить это несоответствие, фон Штаден пытается подробнее разобраться с теорией познания греческих эмпириков, местом в ней эксперимента и понятием πεῖρα. Эмпирики использовали следующую схему устройства «искусства медицины» (τέχνη ἰατρική). Одним из трёх её оснований была собственно эмпирия, совокупный личный опыт видимого, без применения разума (логоса). Однако к эмпирии ведет промежуточный шаг — πεῖρα, совокупность ощущений во времени. «Пейра», в свою очередь, состоит из трёх элементов: непреднамеренного опыта, преднамеренного или произвольного опыта, и «имитирующего опыта». Непреднамеренный опыт делится на случайный и естественный и мало подходит для экспериментирования — в первом случае речь идёт о знании, полученном по непреднамеренному стечению обстоятельств (Гален приводит пример человека, страдающего головной болью и случайно рассекающего себе лоб об камень, в следствие чего головная боль проходит и человек приходит к выводу о пользе кровопускания), во втором — то же самое, но без участия внешних факторов (как если бы у того же самого человека просто пошла кровь из носа). Оба этих вида опыта, вполне очевидно, не подразумевают эксперимента в принципе. Преднамеренный опыт (αὐτοσχέδιος πεῖρα), в свою очередь, подразумевает опыт, полученный из того, что есть «под рукой» (одно из значений αὐτοσχέδιος). Фон Штаден подчеркивает, что здесь речь идет не о случайном открытии, а о непосредственном «тестировании» предметов, попавших в поле зрение исследователя. Казалось бы, как раз этот вид опыта должен быть благодатен для экспериментирования, однако на деле это не совсем так. Среди характерных примеров этого вида опыта — случайная находка целебного растения человеком, которого укусил дикий зверь, «ниспосланный богами» во сне рецепт снадобья. Как видно, здесь нет даже речи о систематическом экспериментировании с целью доказать гипотезу — это действительно, «импровизированное» решение 40 проблемы с помощью того, что было дано в непосредственном опыте, будь то лечебное растение или сон. Кроме того, как подчеркивает фон Штаден, этот вид опыта считается дополнительным по отношению к опыту непреднамеренному — таким образом, и он тоже не дает устойчивого методологического основания для эксперимента. Третий, имитационный, вид опыта, так же не может стать базисом для эксперимента: он подразумевает «миметический опыт», или пассивное повторение только что наблюдаемого, с целью «сделать ненаучный опыт научным путем уменьшения фактора случайности первого наблюдения73. Таким образом, эмпирическая составляющая опыта, включая все её подразделы, методологически не содержит никаких предпосылок для эффективного экспериментирования. Второе основание «науки медицины», к сожалению, также не улучшает картины. «История» включает в себя передачу полученной с помощью чувств информации от одного исследователя к другом, так же пассивное. «Работа» исследователя заключается лишь в том, чтобы сопоставлять «историческую» информацию с собственными ощущениями, а также, при необходимости, прибегать к биографическому методу — чтобы убедиться, что у предыдущего автора не было каких-бы то ни было (этических, эмоциональных, и т.д.) предрассудков. Третье и последнее основание дает наибольшую надежду на методологическое обоснование эксперимента — переход с помощью подобного, «метабазис». Для эмпириков это довольно простая операция переноса результатов действия с одного предмета на другой: если снадобье работает для лечения руки, значит оно может работать для лечения ноги (обе — конечности); если болезнь лечится локвой, то она будет лечиться и айвой; если лекарство действенно против антонова огня, то оно сработает и в случае опоясывающего лишая, и так далее. Получается, что методологическая стратегия эмпириков не только не способствовала развитию научного эксперимента, но и, возможно, привела к его 73 Von Staden H. Experiment And Experience In Hellenistic Medicine. P. 190. 41 упадку, так как в структуре знания для методологического экспериментирования не оставалась места — но уже не по причине исключительно рациональной познаваемости мира, как у платоников, а, напротив, из-за отказа от какой-либо рационализации опыта. Таким образом, однозначной характеристики экспериментальному методу античности дать невозможно. Утверждение, что греческие учёные не экспериментировали — очевидно, ложно, что показано на дошедших до нас примерах. Утверждение же, что эксперимент успешно существовал в древней Греции, также будет преувеличением: несмотря на вышеуказанные примеры, греки в большинстве случаев не осознавали эпистемологической важности своих экспериментов и «доказательства» пользовались исключительно ими бессистемно, умозрительных использовали теорий, и, их для разумеется, проводили их без протокола. Греческое понятие эксперимента можно было бы сформулировать, отсылая к Ллойду, как «непосредственное обращение к наблюдению, где данные наблюдения получены благодаря сознательному вмешательству с целью изучить феномены в искусственных условиях»74. Это не нейтральный инструмент выбора между теориями, но средство подтверждения своей или опровержения чужой теории. В греческой науке эксперимент имеет четкие риторические коннотации, так как, будучи связан с миром конкретных вещей, не может являться проводником в мир истины, элементами которого являются идеи. Как показывает отношение к греческому эксперименту в истории философской и научной рефлексии, они не оказали значительного влияния на дальнейшее развитие науки — сколь бы то ни было заметное признание историками науки греческий научный эксперимент получает только в наше время. Следует признать: обобщенное мнение о том, что в древней Греции не было эксперимента как такового, базируется на очевидных предпосылках, однако при подробном рассмотрении конкретных случаев становится ясно, что такое мнение 74 Lloyd G.E.R. Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers, p. 72. 42 является чрезмерным упрощением реальной ситуации. Приведенные в данной работе примеры демонстрируют, что экспериментальное подтверждение теории, пусть и без определенных (с точки зрения современной науки) недостатков было не чуждо греческим исследованиям. Однако определенные методологические проблемы не позволили эксперименту распространиться на все сферы науки: отсутствие научных институтов (чьё место занимали философские школы — с вытекающими отсюда последствиями в виде натурфилософской нагруженности теорий); восприятие теории как неделимого целого, из чего следовала практика доказательства всей теории с помощью одного эксперимента, подтверждающего лишь один факт-следствие теории; восприятие эксперимента как риторической конструкции, предназначенной для убеждения, а не для исследования; наконец, эпистемологическая программа эмпирической философии, несмотря на свою отсылку к чувственному опыту, совершенно не отводила места для реального экспериментирования. Итак, можно сделать следующие выводы. Распространённое мнение о том, что эксперимента в античности нет в принципе, представляется слишком резким. Разумеется, эксперимент в эпоху античности далек от новоевропейского идеала: он не воспроизводит факты реальности, не является критерием выбора теории, не позволяет верифицировать или фальсифицировать ту или иную научную гипотезу, античные учёные не озабочены повторяемостью, протоколизацией и очевидностью своих экспериментов. Тем не менее, экспериментальные методы всё же использовались: исследователи применяли инструменты, проводили операции на животных и людях, использовали механизмы для изменения естественных условий, в которые помещен объект, что позволяло, так или иначе, получать новые данные о мире. Античный научный эксперимент занимает подчиненное положение по отношению к теории. Эксперимент часто используется в качестве риторической конструкции для подтверждения заранее выбранной умозрительной теории, его связь с реальностью ставится под сомнение вплоть до того, что результат эксперимента, проведенного над одним объектом, мысленно переносится на 43 другой, абсолютно от него отличный объект. Принадлежа по определению к сфере менее «мудрой», чем абстрактное теоретизирование, эксперимент не может оказывать сколько бы то ни было значительного влияния на теорию — просто потому, что, относясь к конкретным вещам, он не позволяет делать вывод об истинных причинах вещей, которые лежат за пределами единичных предметов. Непосредственный опыт не поддается рационализации. 2.3. Научный эксперимент в средние века Как было показано в предыдущем параграфе, ранние формы эксперимента присутствовали в античности, и тот факт, что они дошли до нас через переводы и сборники более поздних исследователей, говорит о том, что интерес к эксперименту в той или иной степени сохраняется в Средние века. Вопрос заключается в том, сохранилась ли как таковая традиция экспериментирования и если да, то какие изменения претерпевает понятие эксперимента? Очевидно, что меняются не только теоретические предпосылки, но и культурная ситуация в принципе, что не может не оказать влияния на принципы науки в целом и эксперимента в частности. Рассмотрев ситуацию с экспериментом в Средние века, мы можем приблизиться к понимаю того, какие свойства эксперимента остаются неизменными, а какие меняются, и найти его связь с теорией. Понятие «Средних веков», хотя и традиционное, подвергается у современных историков серьезной критике. Даже если закрыть глаза на происхождение этого условного термина (среднее время — между упадком Римской империи и эпохой Возрождения), он пропитан характерным для классической историографии европоцентризмом (считается, что в повседневный обиход разделение европейской истории на древнюю историю, средние века и новое время Христофора пришло Целлариуса благодаря учебному «Всеобщая история, пособию историка-классика разделённая на древний, средневековый и новый периоды»75). Для Китая, Индии или Арабских стран 75 Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. Chicago: University of Chicago Press, 2008. P. 181 44 термин «средневековый» несет гораздо меньше смысла — уже просто потому, что в контексте местной истории падение Рима и начало «возрождения» не несут никакого смысла. Даже с точки зрения современной европейской историографии искусственный водораздел, проходящий между «средневековьем» и «возрождением» в 1450-1500 году не однозначен, так как приход новой эпохи не ознаменовал собой радикальных перемен в Европе (по крайней мере, в сравнении с переменами, вызванными началом Нового времени). Тем не менее, хотя проблема темпоральной и содержательной демаркации Средних веков остается открытой для историков, и может оказаться темой самостоятельного исследования, это не должно помешать в изучении экспериментальных практик c V по XVI век. Как предлагают М. Шэнк и Д. Линдберг, этот период можно продолжить называть «средневековьем», понимая, однако, всю его географическую, временную и эпистемологическую неоднородность. Как и в случае с античной наукой, невозможно дать однозначной характеристики природе эксперимента в Средние века — хотя бы потому, что ранняя европейская наука V века совсем не то же самое, что наука XIII века, а европейская ученость не идентична учености китайской, индийской или арабской. Тем не менее, мы предполагаем выделить определенные общие моменты, присущие средневековому эксперименту в целом и рассмотреть индивидуальные случаи. Кроме того, следует отметить, что, как и в случае с греческой учёностью, понятие науки, а соответственно, и научного эксперимента, в контексте средневековья приходится включать в рассмотрение экзегетическую практику толкования текстов и мысленные эксперименты, строящиеся на теологических предпосылках. Как отмечают М. Шэнк и Д. Линдберг76, в средневековье не было людей в белых халатах, и современное, даже широко понятое определение науки как «вида познавательной деятельности, нацеленного на выработку объективных, 76 The Cambridge History Of Science / Ed. by Shank M.H., Lindberg D. C.. Vol. 2. Medieval Science. Cambridge: Cambridge University Press. P. 6-7. 45 системно организованных и обоснованных знаний о мире»77, зачастую является слишком узким для эпистемологических проектов того времени. Как и у греков, многие «исследования» средневековых мыслителей были умозрительными, однако свести их все к натурфилософии и ограничиться исследованием одного лишь Роджера Бэкона было бы неверно. «Смежные» области знания — например, медицинская астрология («чтение» звёзд с целью предсказания болезней) или алхимия, — хотя и пользовались ненаучным по современным меркам аппаратом, могли содержать то, что можно назвать ранними формами эксперимента. Известный американский исследователь средневековья Л. Торндайк опубликовал восьмитомное сочинение, озаглавленное «История магии и экспериментальной науки в первые 13 веков нашей эры», оправдывая такое исследование тем, что «магия и экспериментальная наука были едины в своём развитии, что маги, возможно, были первыми экспериментаторами, и что история и магии, и экспериментальной науки может быть лучше понята при совместном их изучении»78. Соглашаясь в целом со словами Торндайка (ведь наука действительно может проявлять себя в различных формах — будь то около-мистические концепции пифагорейцев и их исследования теории звука или врачебные трактаты эмпириков), следует добавить, что от науки в Средневековье неотделима и религия. На этом существенном моменте подробно останавливается А. В. Ахутин — разбор эпистемологического взаимоотношения христианства и науки составляет основную часть его исследования принципов физического эксперимента в Средние века. И хотя ограничивать средневековую науку исключительно христианской мыслью — определенное упрощение, Ахутин идёт на него хотя бы потому, что именно европейская религиозная ученость оказала наибольшее влияние на дальнейшее развитие европейской науки (пусть и через её отрицание). 77 78 Степин В.С. Наука // Новая философская энциклопедия. С. 23. Thorndike L. A History of Magic and Experimental Science. New York: Macmillan, 1923. P. 2. 46 Развитие науки в Средние века натолкнулось на ряд сложностей. Даже во времена Римской империи основными научными источниками служили греческие тексты, после падения же Римской империи греческая ученость была в значительной степени утрачена для европейцев, а большинство латиноязычных источников были фрагментарными или с сомнительным уровнем достоверности. Средневековая ученость была в основном сосредоточена в монастырях, но там, разумеется, основной акцент делался на изучении священного писания. Изучение природы из чистого научного интереса поощрялось мало: в основном научные старания были сосредоточенны на практических целях. Необходимость в лечении больных требовала изучения античных текстов по медицине, а чисто клерикальные нужды вроде расчета времени молитв и выяснения даты пасхи — попыток восстановления астрономии и рудиментарной математики. Ключевой особенностью средневековой европейской учёности, как это неоднократно подчеркивается многими исследователями этого исторического периода, и Ахутиным в том числе, являлась взаимосвязь науки и христианской мысли, а именно рассмотрения природы как «книги творения», а всех предметов и явлений — через их связь с богом. Одним из основоположников христианского теологического (а как следствие, и научного) мышления был Августин. Сочинение Августина «О христианской науке» представляет собой, как видно из обзора его содержания, первое законченное систематическое изложение принципов христианской экзегезы и гомилетики»79 на которого, в свою очередь, глубоко повлияла философия неоплатонизма. Отсюда — идея противостояния телесного и духовного, связь познания и спасения. Предметы телесного мира познаются лишь через связь их с богом, бог обращен к человеку через творение. Поэтому, хотя познание вещей и ценно, но не само по себе, а лишь как инструмент приближения к божественному. Иванова Ю. В., Степанцов С. А. Трактат Аврелия Августина «О христианской науке» // Культура интерпретации до начала Нового времени Под науч. редакцией: О. С. Воскобойников, Ю. В. Иванова М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2009. С. 125-166. 79 47 Предметы, понимаемые через призму неоплатонизма в контексте мира как божественного творения, приобретают новую, до сих пор не свойственную познанию характеристику: степень бытия. Предметы, обладая в равной степени свойством существования, имеют в христианской эпистемологии различную степень бытия. Другая характерная черта, на которую обращает внимание Ахутин — это пиетет к слову, к книге, к первоначальному источнику (в ближайшем приближении — к автору того или иного трактата, а далее, восходя по цепи бытия — к священному писанию и, в конечном итоге, к богу). Исследователь подчеркивает, что для христианской мысли истина является в слове, и, более того, она уже «высказана, возвещена, так что всё дело человека состоит теперь только в том, чтобы правильно услышать истинное слово, благоговейно внять его сокровенному смыслу»80. Такое отношение к слову порождает особый тип мышления — школьный, схоластический, в котором изучение текста, слова, становится главной ценностью. Такое положение дел закрепляется и благодаря тому, что классическое средневековое образование строится на основе античного разделения науки на «семь свободных искусств». Однако в средневековье основной акцент делался все же на тривиуме, состоящем, как известно, из изучения грамматики, риторики и диалектики. Все три дисциплины направлены на изучение, на работу с текстом и словом (грамматика — очевидно, для чтения священного писания и других религиозных трактатов, риторика и диалектика — для проповедей, толкования писания и разговоров с неверующими). Неудивительно, что в таком контексте ключевой проблемой схоластической науки становится уже не взаимоотношение между предметом и человеком, предметом и миром, а между предметом и словом, предметом и понятием. Для христианина истина уже заключена в слове, она возвещена в божественном писании. Слово становится бестелесной субстанцией, в который выражено 80 Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. М: Наука, 1975 С. 117. 48 божественное, в слове совпадает человеческая мысль о вещи и божественный замысел. Манипуляции с физическим предметом не дают, по мнению схоластов, истинного знания о нём — так как это будет просто смена акциденций, который ничего не скажут о сути субстанции. Таким образом, эксперимент в схоластической науке превращается в проблему толкования смысла — и, соответственно, на первый план выходит изучение и трактовка текстов и мысленный эксперимент. За пределами схоластической учености места для науки оставалось не так уж и много — в основном это были прикладные (инженерные или медицинские) занятия, а также алхимия. Место непосредственного экспериментирования с физическими предметами в средние века занимает эксперимент мыслительный. Как уже было отмечено выше, своеобразное отношение средневековой учёности к слову и божественному, а также отношение к миру и вещам как творениям бога и следующее из этого почтение к ним и недопустимость манипулирования, сформировало особый вид экспериментирования, который Ахутин называет «истолковывающим». Идеализации (возможные миры, виртуальное экспериментирование), как математические, так и схематические, получают статус реальности. И только эта идеализированная реальность и поддаётся эксперименту. «Прибегая к абсолютной власти бога, — отмечает К. Грелляр, — эти философы смогли достигнуть уровня, превосходящего обычный опыт. В этом контексте мысленный эксперимент стоит понимать, как воображаемый сценарий, в котором эмпирические концепты применяются к ненаблюдаемым феноменам. Это позволяет визуализировать квази-эмпирическую ситуацию и, возможно, привести к открытию новых законов природы. Следовательно, у него есть как 49 эвристическая роль, так и метафизическое значение, поскольку он достигает стабильного феномена за пределами изменчивости случая»81. Мысленный эксперимент оказался особенно важным для атомистов, что абсолютно неудивительно: им приходилось иметь дело с объектами, слишком маленькими для непосредственного наблюдения, но, тем не менее, также подверженным физической интерпретации — объектами невидимыми, но естественными. Впрочем, мысленный эксперимент средневековых ученых приобретает не совсем привычный для науки оборот: для его обоснования приходится обращаться к идее бога. К. Грелляр приводит пример мысленного эксперимента атомистов: если мы возьмем сферу и плоскость (или окружность и прямую), то они всегда будут иметь лишь одну точку соприкосновения — в противном случае это значит, что-либо сфера становится приплюснутой, либо поверхность «проседает»82. Поскольку идеальных сфер и идеальных поверхностей не существует в природе, приходится прибегнуть к «помощи» бога — ведь он, будучи всемогущим, способен их создать. Если точка соприкосновения сферы и поверхности всегда одна, следовательно, при перемещении по поверхности эта точка должна меняться. Противники атомизма могут приводить контр-пример бесконечного деления отрезков на все меньшие и меньшие. В конце концов, такой аргумент приходит к некой «невидимой» точке, однако это противоречит всесилию бога — он должен быть способен «разглядеть» конечную точку. Таким образом, за неимением реальной возможности экспериментировать, атомисты прибегают к эксперименту мысленному, с метафизическими объектами, обладающими, тем не менее, физической реальностью, но только при условии обращения к божественному агенту познания. Grellard С. Thought Experiments In Late Medieval Debates On Atomism // Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts / Ed. By Katerina Ierodiakonou, Sophie Roux. Boston: Brill, 2011. P. 65. 82 Ibid, p. 66-67. 81 50 Мысленный эксперимент позволяет исследователю идеализировать предмет, в противном случае ограниченный его чувственным восприятием. Проблема такого эксперимента, в отличие от «классического», в том, что его можно опровергнуть только с помощью логики, показав противоречие в аргументации или же проведя в той же мере, что и в оригинальном эксперименте, логичную интерпретацию эксперимента и получить другие выводы (также не противоречащие логике). Например, Буридан в своих Quaestiones83 опровергает мысленный эксперимент с помощью обращение к логике: если рассматривать понятие целого как синкатегорематическое84, то мы получаем внутреннее противоречие: у целого не может быть частей, следовательно, идеальная сфера и идеальная поверхность не могут соприкоснуться в принципе, как не могут соприкасаться две идеальных точки. Если же сферу можно разделить на точки, то это значит, что она не является идеальной. Гораздо интереснее то, что мысленный эксперимент порой предстает своего рода «физической лабораторией». В другом своем опровержении мысленного эксперимента со сферой и плоскостью Адам Вудхэм, один из учеников Уильяма Оккама, вводит в эксперимент новые переменные примерно так же, как это могли бы делать лабораторные исследователи. Философ «размещает» между мысленными объектами протяженный медиум — воздух — и строит, таким образом, аргументацию против идеи единичной точки соприкосновения. Если мы предположим наличие воздуха между поверхностью и опускающейся на нее сферой, то мы вынуждены признать либо существование абсолютной пустоты, либо отсутствие реального касания между объектами, так как между ними должен оставаться тончайший слой воздуха. Тем не менее, следует отметить, что имело место и «реальное» экспериментирование. Одним из основоположников экспериментального метода на рубеже средних веков и эпохи возрождения становится теолог, епископ, 83 84 Цит. по Grellard C. Thought Experiments In Late Medieval Debates On Atomism. P. 71 То есть имеющее значение только в контексте другого понятия 51 канцлер Оксфордского университета Роберт Гроссетест. Будучи скорее человеком церкви, Гроссетест не так уж и много писал о науке и его труды сами по себе не оказали значительное влияние на естественно-научную мысль его современников и ближайших последователей. Однако, по мнению некоторых исследователей средневековой философии, Гроссетест одним из первых европейцев — опередив, хотя и ненадолго, даже Роджера Бэкона — сформулировал принципы научного метода, в том числе контролируемого научного эксперимента. Гроссетест считает, что телесность человека довлеет над его интеллектуальными способностями — мешают «видеть умом». Эти телесные «фантазмы», результат грехопадения и осознания человеком конечности и грешности своего тела, являются источником всех ошибок в познании (позже эту идею — но уже без контекста грехопадения — будет развивать Фрэнсис Бэкон в «Новом органоне»), однако при повторении и при разумной интерпретации опыта этих ошибок можно избежать. Гроссетест одним из первых авторов в истории науки приводит пример контролируемого эксперимента, основанный на исследованиях Авиценны. Как пишет Гроссетест в комментариях ко «Второй аналитике» Аристотеля, «когда кто-то много раз наблюдает поедание скаммония и следующее за ним выделение красной желчи, и не видит, что скаммоний притягивает и выводит за собой красную желчь, тогда от многократного наблюдения этих двух видимых явлений начинает формироваться понятие третьего, невидимого элемента, того, что скаммоний — причина выделения красной желчи»85. Таким образом мы придём «от чувств к наблюдаемому (experimentale) универсальному принципу»86. К сожалению, хотя Гроссетест и предлагает контролируемый эксперимент в качестве одного из инструментов познания, он не включает его в программу своего научного метода — эксперимент остается всего лишь одним из многих вариантов получения знания, наравне с интуицией и умозрением. 85 Oliver S. Robert Grosseteste on Light, Truth and "Experimentum" // Vivarium. Vol. 42. No. 2. 2004. P. 173. Lewis N. Robert Grosseteste // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition) / Ed. by Zalta E. N. [Электронный ресурс] URL: http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/grosseteste/ Дата обращения 4.09.2014. 86 52 Ричард Дейлс в своём анализе научных работ Гроссетеста подчеркивает, что, хотя он изредка и прибегает к экспериментальному методу, он практически никогда не используется «по делу». Зачастую это пересказ проведенных другими авторами опытов, которые если и повторяются Гроссетестом, то для удовлетворения любопытства. Там же где простой эксперимент может быть на самом деле использован для подтверждения умозрительной теории или для фальсификации неверной теории, он к нему не прибегает87. Дело в том, как отмечает Саймон Оливер, что для Гроссетеста эксперимент — лишь способ пробудить душу к созданию универсальных принципов при посредстве света благодати, и, хотя благодаря эксперименту мы можем прийти к знанию от незнания, это не специальный, отдельный метод познания88. С таким же успехом к абсолютной истине мы можем прийти благодаря божественному озарению — и «экспериментальная» истина будет в таком случае ею поглощена. Поэтому эксперимент Гроссетеста — это всего лишь степень приближения к абсолютной истине, а не радикально новый вид получения знания. Э. Серин, более того, считает показательным тот факт, что Гроссетест в своем описании экспериментального метода ограничивается лишь примером из Авиценны и Аристотеля; по мнению исследователя, епископ лишь использует неоднозначный вокабуляр античного философа89. Б. Иствуд указывает также на тот факт, что само латинское слово experimentum, применяемое Гроссетестом, переводится скорее как «опыт», «наблюдение», чем «эксперимент» в современном смысле, поэтому под понятие experimentum подпадает не только проверка теории, например, о действии скаммония, но и опыт повседневный опыт и даже знания, переданные предшественниками автора (часто — без какой бы то ни было критической 87 Dales R. C. Robert Grosseteste's Scientific Works // Isis. Vol. 52. No. 3. 1961. Pp. 401-402. Oliver S. Robert Grosseteste on Light, Truth and "Experimentum". P. 179. 89 Serene E.F. Robert Grosseteste on Induction and Demonstrative Science // Synthese. Vol. 40. No. 1. Modern Studies in Medieval Logic, Semantics, and Philosophy of Science. 1979. P. 109. 88 53 оценки, и, как следствие, далеко не всегда истинные, о чем Гроссетест, разумеется, не подозревает)90. Именно поэтому он и не получает у епископа действительно широкого применения. Хотя Гроссетест и вводит в европейскую науку понятие контролируемого эксперимента, он сам не понимает его значимости. Метафизика познания так и останется для Гроссетеста важнее разработки научного метода. Как справедливо замечает А. В. Ахутин, «речь шла только о необходимости и, может быть, даже о преимуществе опытного постижения божественных истин через наблюдение порядка творения».91 Два вида опыта, чувственный, экспериментальный, переданный через поколения, и опыт мистический, религиозный, божественный, и, разумеется, в этом смысле подлинный — всегда сосуществуют, и второй, конечно, «гораздо лучше первого». Одной из тех сфер науки, где в средневековые учёные наиболее непосредственно продолжают античную экспериментальную традицию, становится музыка. С. Дрейк подчеркивает этот факт в своей работе «Ренессансная музыка и экспериментальная наука»92. Музыка и механика в Средние века были связаны общим теоретическим основанием — математикой. Обе науки прибегали к математическому методу для обоснования своих положений — будь то правило рычага или знаменитая теорема Орема о средней скорости в случае механики или правила гармонии в случае музыки. Для нас особенно важно то, что, в отличие от механики, музыкальная теория обладала более прочной связью с музыкальной практикой. В музыковедческих исследованиях наиболее ясно прослеживается взаимосвязь эксперимента и теории. Музыканты (по крайней мере, профессиональные) четко следовали музыкальной теории, а теоретики, в свою очередь, были практикующими музыкантами и учителями музыки — в то время как механикитеоретики редко были практикующими инженерами, и уж тем более инженеры не 90 Eastwood B.S. Mediaeval Empiricism: The Case of Grosseteste's Optics // Speculum. Vol. 43. No. 2. 1968. P. 320-321. Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. С. 149 92 Drake S. Renaissance Music and Experimental Science // Journal of the History of Ideas. Vol. 31. No. 4. 1970. Pp. 483500. 91 54 учились у «калькуляторов» строить рычаги. Кроме того, если речь идёт о XIV веке, то тренированное человеческое ухо — главный экспериментальный прибор в музыкальной теории — было в разы более точным, чем любой прибор для измерения механического воздействия. Всё это дает музыке определенное преимущество в том, что касается экспериментальной проверки теории. Начавшись с теорий Пифагора, согласно преданию, взвешивавшего молотки, ударявшие по наковальням и тем самым выведшего основные соотношения нот, музыкальная теория взяла из эксперимента базовые пропорции — 2:1, 4:3 и так далее, но дальше начала «подгонять» практику под теорию. Использование ряда целых чисел было слишком привлекательным, чтобы отказаться от него, даже если экспериментальные данные получались противоречивыми. Музыкальные звуки представляют собой континуум, а числа — дискретны, и известно, что если руководствоваться простыми пропорциями, то уже на второй октаве начнут появляться диссонансы — так называемые коммы. Но для пифагорейцев математическая красота музыкальной гармонии была важнее реальной музыкальной практики. Появляющиеся в музыке диссонансы они списывали на несовершенство человеческого восприятия, а не на проблемы в теории. Такой ситуации способствовало то, что до Средних веков музыка в основном была монофонической, одноголосной (максимум с аккомпанементом в октаву). Когда же начали появляться аккомпанирующие инструменты и многоголосное пение, а также инструменты вроде органа, где невозможность регулировать высоту звука требовала более точной, чем обычно, настройки, необходимость нового разделения музыкального строя встала более ясно. Первым поставил под вопрос целесообразность деления музыкального континуума исходя из чисел Джамбатисто Бенедетти93, один из предшественников Галилея, выдающийся теоретик музыки, и, что немаловажно, одновременно механик. Бенедетти решил рассмотреть проблему не с точки 93 Ibid, p. 493. 55 зрении гармонии, а с точки зрения физики, соотнеся консонансы не с числами, а с источниками звука. Консонансы и диссонансы он связал с частотой совпадения вибраций струн разной длины, а не с абсолютной длиной этих струн, превратив тем самым консонансы и диссонансы не в противоположные абстрактные понятия, а в прямую функцию физических свойств предмета. Для того чтобы прийти к такому выводу, Бенедетти пришлось прибегнуть к физическому эксперименту, во многом удовлетворяющему современным научным критериям. Поставив под сомнение господствующую научную теорию, итальянский механик применил физический прибор для ее проверки. В его случае это был монохорд с подвижным ладом, позволявшим установить любое соотношение длин двух звучащих отрезков струны. Дергая одновременно оба отрезка и прислушиваясь к звуку, Бенедетти определял зависимость благозвучности пропорции. Начатое Бенедетти исследование было продолжено Винченцо Галилеем, отцом Галилея, композитором и теоретиком музыки (что, к слову, в очередной раз подтверждает, что важность преемственности в философии)94. Винченцо Галилей, как и Бенедетти, отказался от идеи того, что консонансы определяются соотношением чисел, и предложил экспериментальную проверку теории. Кроме опытов с различной длиной струн, Галилей также испытывал различные материалы и пришел к выводу, что даже если первоначально две струны из разных материалов звучат в унисон, при их равномерном укорачивании консонанс теряется. Дрейк отмечает, что такой отказ от восприятия чисел как причины гармонии важен не только сам по себе, но и как сигнал к тому, чтобы начать воспринимать число в его связи с реальными физическими объектами, обладающими длиной, весом, площадью, объемом, то есть тем, что раньше затмевалось мистическим значением числа. 94 Ibid, 495-496. 56 Не представляется удивительным, что физические эксперименты отца в той или иной степени оказали влияние и на Галилео Галилея, считает Дрейк 95. В отличие от Бенедетти, Винченцо Галилей подвешивал к струнам грузы, чтобы рассмотреть не только влияние длины, но и фактор натяжения струны. Быть ученым-экспериментатором и не заметить во время подобного опыта эффект колебания подвешенных грузов кажется маловероятным, поэтому неудивительно, что одной из первых тем экспериментального изучения Галилея стали именно маятники. Таким образом, эксперимент в сфере музыки, хотя и дошёл до средневековых учёных практически в неизменном по сравнению с экспериментами пифагорейцев виде, претерпел качественное изменение. Отказ от пифагорейского мистического отношения к числу позволил совершить переход к новому понимаю связи числа и физического объекта, замостив дорогу науке Нового времени. Во многом продолжая античную традицию (не без помощи греческих текстов, дошедших до европейских схоластов благодаря арабским переводам), средневековая наука всё также относится к физическому эксперименту как к случайному и необязательному инструменту. Ориентированность на тексты, религиозность средневековых учёных ставили чувственное познание на нижнюю ступень в эпистемологической иерархии. Но если у Аристотеля это объясняется необходимостью поиска истинных причин, то для средневекового схоласта истинная причина уже известна — это бог, акт творения, божественная воля. Оказавший влияние на многие поколения схоластов, богослов Гуго СенВикторский составил классификацию искусств, согласно которой механика (необходимая для проведения эксперимента) занимает низшее положение, и в целом, «научное познание сотворенного мира имеет, по Гуго, лишь пропедевтическое значение и “находится в услужении” у богословия, цель которого 95 — умозрительное постижение Бога-Творца на основе истин Ibid, 497-498. 57 Откровения»96. Согласно Гуго, механические искусства являются «подражательными, поскольку осуществляются трудом мастера, заимствующего формы у природы»97. В результате такого положения дел реальный физический эксперимент в Средние века отходит на второй план. Несмотря на то, что на практике эксперименты всё же проводятся, повторяя античные эксперименты и даже совершенствуясь по сравнению с экспериментальными практиками в античности (например, вышеописанный эксперимент Роберта Гроссетеста со скаммонием), такого рода деятельность остается случайной и не систематичной. Мысленный эксперимент, напротив, выходит на первый план, но существует в основном в математической, логической и философских сферах мысли. В то время как реальный эксперимент опирается на чувства и поэтому, по мнению средневековых схоластов, по определению несовершенен, как и сами человеческие органы чувств, мысленный эксперимент позволяет оперировать идеальными конструкциями и давать истинное знание, не отягощенное бренностью мирского. В то же время в Средние века происходит определенное «оправдание» практики — бог как творец легитимирует творческое начало человека. Это отличает Средние века от античности, где практика в принципе рассматривалась недостойным ученого занятием. Тем не менее, мысленный эксперимент Средних веков задает важные основания для новоевропейской науки. Именно на поле мысленного эксперимента происходит трансформация средневековой учёности в новоевропейскую науку, он становится связью между ригидной схоластикой и новой наукой, пытающейся опираться не только на рациональные и теологические, но и на эмпирические основания. Впрочем, мысленный эксперимент новоевропейской науки будет отличаться от идеализированного эксперимента схоластов — как именно, будет рассмотрено в следующей главе. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Т1. C. 566. Гуго Сен-Викторский Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/acts/12/2/gugo_sv2.htm (Дата обращения: 4.09.2014) 96 97 58 В арабской учености существовала особая форма научного доказательства, родственная эксперименту — «митхал» (mithal), что примерно соответствует понятию «иллюстрация» или «демонстрация». Оптика традиционно была одной из самых развитых арабских наук, что объясняется ее местом на пересечении чистой математики и механики — в оптике было доступно как математическое, так и экспериментальное доказательство. Понятие «митхал» в разных контекстах включает в себя разные процедуры. Элахех Хейрандиш приводит несколько характерных примеров «митхала» в арабских текстах. В персидскоязычных документах, приписываемых Ибн Сине (Авиценне), приводятся подробные иллюстрации механизмов, которые можно собрать для иллюстрации приводимых автором тезисов — лебедку с колесами и осями которая позволяет поднимать больший вес с помощью меньшего. Интересно, что в приводимых Хейрандишем отрывках отмечается, что желающие могут с помощью представленных иллюстраций повторить эксперимент, хотя люди и так знают об устройстве подобных механизмов из обыденного опыта. В другой своей работе Хейрандиш рассматривает оптические труды Ибн Исы и Ибн Аль-Хайтама. По словам Абдельхамида Сабры, на которого ссылается Хейрандиш, «в “Оптике” Ибн Аль-Хайтама впервые появляются четкие концепты эксперимента, [...] существенно отличающиеся от аристотелевской и средневековой empeiria».98 98 Kheirandish E. Footprints of “Experiment” in Early Arabic Optics // Early Science and Medicine. 2009. № 14. P. 79104. 59 ГЛАВА 3. НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В НОВОЕ ВРЕМЯ В Новое время онтологические основания науки претерпевают серьезные изменения, причём сразу по нескольким направлениям. Во-первых, продолжается начатая ещё оксфордскими «калькуляторами» математизация естествознания (или, точнее, придание онтологического статуса математической предметности) — число, измерение становится все более важным атрибутом научного исследования. Во-вторых, и это, разумеется, более важно, начинается утверждение новых мировоззренческих и философских оснований науки — аристотелизм, античные идеи гармонии, идея божественного света как источника знания99 перестают удовлетворять учёных, им на смену приходят идеи эмпиризма, рационализма, сенсуализма и связанный с ними новый экспериментальный подход. Изобретение Галилеем зрительной трубы, первого научного прибора новой истории, открывает перед человеком принципиально новые возможности. «Не только астрономия, но и наука вообще, — как верно отмечает в этой связи А. Койре, — началась с этого изобретения Галилея. Началась новая фаза ее развития, которую можно назвать инструментальной»100. В этой главе мы проследим, как меняется отношение к эксперименту по сравнению со Средними веками, какие «проблемы» решаются, и какие возникают, а также рассмотрим вопрос о том, в каком смысле мысленный эксперимент Средних веков подготавливает базу для возникновения новой экспериментальной науки101. Ахутин отмечает удивительную ситуацию, отраженную в «Диалогах» Галилея: «физика схоластического аристотелизма [...] имела к тому времени статус непосредственной эмпирической очевидности, так что коперниканство Данные концепты не являются тождественными по смыслу, они определяют предпосылки понимания науки в разное время. Однако все они отходят на второй план, не исчезая полностью, в условиях формирования новоевропейской научности. 100 Койре А., От замкнутого мира к бесконечной вселенной, М: Логос 2001, с. 77 101 О возникновении новоевропейской науки как явления в целом см. также Кожев А. Христианское происхождение науки // Атеизм и другие работы М: Праксис, 2006. С. 416-429; Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры, М: Институт психологии РАН, 1997. 359 с.; Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: Университетская книга, 2000. 456 c. 99 60 воспринималось как спекулятивно-математический парадокс». В самом деле, данность истины в религиозном опыте с точки зрения с христианской культуры, предстает более очевидной, чем любая отсылка к опыту повседневному — так как он обманчив, по определению не полон и несовершенен. 3.1. Мысленный эксперимент Галилея Традиционно создание новой научной парадигмы, в которой единство физических законов устанавливается для всего мироздания — будь то Земля, Луна или «надлунные сферы», приписывается Галилею. Повсеместная известность приходит к итальянскому учёному в начале XVII века вместе с его выдающимися астрономическими открытиями — сверхновой Кепплера в 1604, спутниками Юпитера в 1610, землеподобностью луны, звездным составом Млечного пути, и так далее. Научность этих открытий сегодня не подвергается сомнению, однако современники Галилея высказывали серьезные претензии к тому, насколько достоверным являются полученные астрономом знания. Поднимая тот же вопрос, что отмеченные во введении Б. ван Фраассен и Я. Хакинг, критики Галилея высказывали сомнения насчет возможности точного знания, полученного с применением линз. Как отмечает Ахутин, линзы и вообще оптические приборы того времени считались отнюдь не инструментами, позволяющими улучшить несовершенное человеческое зрение, а, напротив, инструментом искажения, иллюзии102. Ситуация осложнялась тем, что Галилей использовал телескопы собственной разработки, превышавшие по своим качествам подзорные трубы того времени. Другие учёные, даже если напрямую не отрицали возможность открытия Галилеем новых небесных тел, пытались наблюдать то же, что и он с помощью своих инструментов, и терпели поражение. Таким образом, уже в ранних наблюдениях Галилея намечается инструментальная проблематика, которая актуальна для науки и по сей день: 102 Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. С. 175. 61 наблюдение за объектом требует применения приборов, благодаря которым объект становится «очевиден». Повторяемость эксперимента также находится в непосредственной связи с доступностью инструментов. Галилей приглашает всех желающих «воочию» убедиться в достоверности своих утверждений, однако инструментарием для этого кроме него никто не обладает, что вызывает естественное недоверие к результатам эксперимента. Впоследствии, как будет рассмотрено в этой главе, к подобному аргументу очевидности будет прибегать Бойль, но его воздушный насос окажется еще более сложным инструментом. Не менее примечателен и тот факт, что Галилей, так же, как и его противники, прибегает к интерпретации их экспериментальных данных в контексте собственной теории. Ученый иезуит патер Шайнер, как и Галилей, проводит тщательные наблюдения движений пятен на Солнце, и делает из них вывод о том, что они не могут принадлежать «атмосфере» солнца. Галилей же строит такую математическую модель, которая бы включала в себя наблюдения Шайнера, но при этом поддерживала его собственную теорию103. Другая проблема, которую приходится преодолевать Галилею — это соотношение эксперимента и теории. Экспериментальные (или, в данном случае, наблюдаемые) данные ученого, будь то рельеф поверхности Луны или «пятна» на Солнце, могли быть рассмотрены в своем полном значении только в условии принятия его расширенной картины мира. Если, как большинство современников Галилея, подразумевать, что существует мир подлунный, в котором есть движение, и сфера «неподвижных звёзд», то любые сделанные Галилеем наблюдения всегда будут не более чем аберрациями, так как не вписываются в господствующую теорию (например, Луна «должна» представлять собой отполированную сферу, следовательно, то, что Галилей принимает за горы и кратеры — на самом деле эффект преломления внутри прозрачного тела, подобный тому, который можно наблюдать в отполированном янтарном шарике). 103 Shea W. R. Galileo, Scheiner, and the Interpretation of Sunspots // Isis, Vol. 61. No. 4. 1970. Pp. 498-519. 62 Определенную историческую иронию можно найти и в том, что Галилей, считающийся основоположником современной науки и экспериментальной доказательной парадигмы, одинаково активно боролся как со схоластической ученостью, опирающейся на умозрительные и рационалистические теоретические предпосылки, так и с догматическим эмпиризмом. Применяя теоретическую «оптику», Галилей предлагает «исправить ошибки»104 в наблюдениях, если они незначительны и позволяют более точно «подогнать» наблюдения к теории. Таким образом, программой Галилея —а затем и фундаментом современной науки — становится «критика непосредственного чувственного опыта и перестройка всей чувственности с тем, чтобы она могла послушно следовать за разумом»105. Наравне с «коперниканским переворотом», как его видел Кант, можно обозначить и «галилеевский переворот». Как для червяка «невообразим мир человеческого опыта», такого же масштаба усилие потребовалось от человека, чтобы признать безграничность вселенной и отказаться от антропоцентрической идеализации «сферы неподвижных звезд». Такой парадигмальный сдвиг позволил не только по-другому посмотреть на место человека в мире, но и, более конкретно, найти объяснение определенным нестыковкам в наблюдении и теории. Отсутствие параллакса неподвижных звёзд, являвшееся главным эмпирическим аргументом против коперниканской системы, становится объяснимым, если мы принимаем фундаментально новые теоретические предпосылки, признаем, что наши ограничения — произвольны и сугубо рациональны. В такой ситуации, когда и чистая эмпирия, и чистая рациональность оказываются под сомнением, становится действительно необходимым эксперимент — как механизм отстаивания одной теории и связанных с ней эмпирических данных перед другой. Непосредственно с усилением статуса эксперимента по отношению к теории связана математизация естествознания. Онтологический статус числу 104 105 Галилео Галилей Избранные труды в двух томах, Т.1 М: Наука, 1964, С. 387. Ахутин А. В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. С. 182. 63 приписывалось еще со времен пифагорейцев, однако, как было показано в предыдущих главах, числа принимали собственное значение, не связанное с реальными физическими явлениями, за ними стоящими. Коперник стал первым, кто создал космологию, основанную на непосредственной связи между физической реальностью и её математической моделью. Как пишет А. Койре, «Коперник полностью воспринял математический аппарат, созданный Птолемеем, — одно из величайших достижений человеческого разума. Однако вдохновение его питается не Птолемеем, не Аристотелем — он ищет его до них, в золотом веке Пифагора и Платона. […] Согласно Ретику — его прямому ученику и пропагандисту его учения: “следуя Платону и пифагорейцам, великим математикам того божественного времени, (он) помыслил, что для того, чтобы определить причину явлений, шаровидной земле должно приписать круговое движение”»106. Отдельного упоминания заслуживает знаменитый «эксперимент» Галилея со свободным падением тел. Впервые факт того, что учёный, поднявшись на Пизанскую башню, сбрасывал с нее тела различного веса, благодаря чему пришел к выводу о том, что они падают с одинаковой скоростью, упоминается в написанной учеником Галилея Винченцо Вивиани биографии: «Это свойство было подтверждено Галилеем в опытах на Пизанской башне, проведенных им, согласно Вивиани, с большой торжественностью в присутствии его коллег — последователей Аристотеля — и учеников»107. Однако описания непосредственного бросания предметов с башни Галилей в собственных текстах не приводит. Закон о равной скорости падения тел различной массы учёный формулирует, прибегая к мыслительному эксперименту: «Если мы имеем два падающих тела, естественные скорости которых различны, и соединим движущееся быстрее с движущимся медленнее, то ясно, что движение тела, падающего быстрее, несколько задержится, а движение другого несколько ускорится. [...] Но если это так и если вместе с тем верно, что большой камень 106 107 Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. С. 21. Льоцци М. История физики. М: Мир, 1970. C. 69. 64 движется, скажем, со скоростью в восемь градусов, тогда как другой, меньший, — со скоростью в четыре градуса, то соединяя их вместе, мы должны получить скорость, меньшую восьми градусов; однако два камня, соединенные вместе, составляют тело большее первоначального, которое имело скорость в восемь градусов, следовательно, выходит, что более тяжелое тело движется с меньшей скоростью, чем более легкое, а это противно вашему предположению. Вы видите теперь, как из положения, что более тяжелые тела движутся с большей скоростью, чем легкие, я мог вывести заключение, что более тяжелые тела движутся менее быстро»108. В своих рассуждениях о свободном падении тел Галилей нередко прибегает к экспериментальным примерам, однако, не приводит никаких подтверждений того, что они проводились на самом деле. Галилей обращается к повседневному опыту который, тем не менее, имеет ярко выраженное экспериментальное начало: «Теперь скажите мне, синьоры, если груз, падающий на сваю с высоты четырех локтей, вгоняет последнюю в землю приблизительно на четыре дюйма, — при падении с высоты двух локтей он вгоняет ее в землю меньше и, конечно, еще меньше при падении с высоты одного локтя или одной пяди, и когда, наконец, груз падает с высоты не более толщины пальца, то производит ли он на сваю больше действия, чем если бы он был положен без всякого удара? Еще меньшим и совершенно незаметным будет действие груза, поднятого на толщину листка. Так как действие удара находится в зависимости от скорости ударяющего тела, то кто может сомневаться в том, что движение чрезвычайно медленно и скорость минимальна, если действие удара совершенно незаметно? Вы видите теперь, какова сила истины; тот самый опыт, который с первого взгляда порождает одно мнение, при лучшем рассмотрении учит нас противному»109. Является ли этот пример экспериментом? В какой-то степени, определенно, да: в нем присутствуют константы (свая, вкопанная в землю; вес груза, на неё падающего) и переменная (высота, с которой падает на сваю груз), а также сравнение измерений, которое и 108 109 Галилео Галилей Избранные труды в двух томах, Т.2 М: Наука, 1964. С.165. Там же, с. 241. 65 является результатом эксперимента, а именно, что чем выше высота, с которой падает груз, тем глубже уходит в землю свая. Этот и остальные подобные «эксперименты» очень сильно напоминают приписываемые Пифагору опыты с молоточками и наковальнями, дающими звуки разной высоты, и, не исключено, что, как и в случае с греческим мыслителем, был исключительно мысленным. Исследователь научного наследия Галилея П. Пальмиери предполагает, что такие мысленные эксперименты, как и «реальные» физические, на самом деле далеко не однозначны. Мысленный эксперимент также требует «настройки аппаратуры» и интерпретации полученных результатов, и может проходить реальную эволюцию на протяжении периода исследования: «То, что сегодня может показаться примером очень особого вида познания, выходящего за пределы эмпиризма и дающего нам мимолётный взгляд на платоновское царство законов, — замечает Пальмиери, — рождалось в мутных водах аналогического мышления, когнитивной автобиографии ex post facto, и, вполне вероятно, реального экспериментирования»110. Пальмиери предполагает, что уже упомянутый знаменитый мысленный эксперимент с падающими телами получил свою финальную форму далеко не сразу — на его совершенствование Галилею потребовались десятки лет. Прежде чем быть сухо изложенным в «Беседах и математических доказательствах, касающихся двух новых отраслей науки», он прошёл цепочку примечательных изменений. Пальмиери прослеживает первое упоминание эксперимента к трактату Галилея 1590 года «О движении». В нём, отталкиваясь как от начальной точки от Аристотелевской концепции, что тело падает тем быстрее, чем больше его вес, Галилей приводит свою, отличающуюся идею — что тела разного веса падают с одинаковой скоростью при условии одинаковой плотности (условие, в конечной версии закона отсутствующее). Основанием для этого утверждения Галилей сначала приводит аналогию — со щепкой и брусом, в одинаковой мере Palmieri P. “Spuntar lo scoglio piu` duro”: did Galileo ever think the most beautiful thought experiment in the history of science? // Studies in History and Philosophy of Science. No. 36. 2005. P. 238. 110 66 держащимися на плаву, переводя мысленный эксперимент из одной среды в другую. Однако эту иллюстрацию учёный «доказывает» с помощью аргумента reductio ad absurdum: если представить два тела, a и b, первое из которых больше второго, и движется быстрее, то, соединив эти два тела, полученное новое тело будет двигаться быстрее чем b, но медленнее чем a, то есть большее тело будет двигаться медленнее, чем меньшее, что, как считает Галилей, «нескладно». Затем, с помощью похожей аналогии Галилей делает вывод, что тела в вакууме будут падать со скоростями, пропорциональными их тяжести: так как, если согласно его теории, предметы в любой среде (будь то вода или воздух) погружаются соответственно разнице между их плотностью и плотностью среды, а плотность вакуума — нулевая, то предметы будут падать соответственно своей плотности, то есть с разной скоростью при разной плотности. Таким образом, ранняя версия Галилеевского мысленного эксперимента противоречит более поздней. Ответ на вопрос о том, как Галилей всё-таки пришёл к его финальной версии Пальмиери видит в поздней — 1634-35 годов — работе ученого, названной «Примечания к Рокко» (Postils to Rocco)111, которая представляет собой ответ на критическую книгу Антонио Рокко, одного из противников Галилея. В этом автобиографическом анализе самого учёного мы узнаем, что на мысль о том, что тела одинаковой плотности падают с одинаковой скоростью, навели все-таки не экспериментальные, а рациональные основания. Более того, Галилею приходится приводить сложное умозрительное доказательство, опирающееся одновременно на опыт очевидности и на логические умозаключения, прежде чем он приходит к краткой формуле, выраженной в «Двух науках». Итак, мы видим, что даже за строгой и лапидарной формулой мысленного эксперимента может крыться исторически обусловленная череда умозаключений, домысливаний постфактум, «подстройки» экспериментальных данных под теорию и, возможно, «реального» экспериментирования. То, что кажется Palmieri P. “Spuntar lo scoglio piu` duro”: did Galileo ever think the most beautiful thought experiment in the history of science? P. 224. 111 67 естественным и априорным, на самом деле нередко является результатом проб и ошибок — Пальмиери считает, что даже теорема Пифагора, которую сейчас принято считать аксиоматической, так как мы можем доказать её без отсылки к реальному опыту, скорее всего, потребовала от своего изобретателя долгого и тщательного экспериментирования. В научной деятельности Галилея мы наблюдаем два контрастных направления. С одной стороны, это многократно увеличивающееся значение научного инструмента. Изобретение зрительной трубы позволило не просто обнаружить неизвестные ранее звёзды и планеты; оно полностью изменило представление современников о их свойствах. Теоретическому сдвигу в естествознании, расширившему мир до неведомых ранее пределов, и позволившему взглянуть на наше собственное место во вселенной извне, мы обязаны в том числе именно телескопу. С другой стороны, Галилей выступает в роли связующего звена между интроспективно-ориентированной моделью схоластических учёных и экспериментализмом нового времени. Поэтому, для Галилея значение мысленного эксперимента и эксперимента «реального» приобретает равновеликое значение, не в последнюю очередь благодаря тому, что провести границу между мысленным и физическим экспериментом Галилея не всегда возможно. Самые знаменитые эксперименты Галилея вполне могли проводиться реально (хотя и потребовали бы значительных усилий, и, вполне возможно, принесли бы не те плоды, на которые рассчитывал исследователь), но форма мысленного эксперимента всё ещё выигрывала своей универсальностью и отсутствием необходимости «подстраиваться» под сложные условия проведения реального эксперимента, особенно когда речь идёт о множестве сложно выполнимых условий (см. эксперимент с плывущим кораблём и ядром). Тем не менее, мысленный эксперимент Галилея радикально отличается от мысленных экспериментов схоластов как минимум по двум важным моментам: во-первых, несмотря на свою умозрительность, мысленный эксперимент Галилея апеллирует к физической реальности, он укоренен в ней, мысль становится просто лабораторией, в которой условия проведения наиболее удачны; во-вторых, он 68 «переворачивает» отношение «теория — эксперимент», и эксперимент впервые в истории науки становится инструментом выбора научной теории. 3.2. Экспериментализм Бойля Если для Галилея мысленный эксперимент был не менее важен, чем «реальный» опыт, то Роберт Бойль рассматривал реальный экспериментальный метод доказательства самым важным для науки. Если эксперимент Галилея становится ключевой точкой перехода от схоластики к новоевропейскому научному методу, то эксперимент Бойля — наиболее ярким и непосредственным результатом этого переворота. Мало кто в истории сделал для продвижения экспериментального метода столько, сколько Бойль. Он первым не только начал осознанно практиковать экспериментальный метод как способ получения новых фактов о природе и доказательства теоретических предпосылок, но и разработал первую методологию научного эксперимента, с контролируемыми условиями, ограниченными переменными, свидетельством, лабораторными практиками, а также подробно и исчерпывающе описывал как сам ход эксперимента, так и механизмы, для них необходимые, убеждал своих современников в необходимости экспериментирования и отвечал на критику как рационалистов, так и эмпириков. Одно из самых подробных описаний экспериментальной программы Бойля дают исследователи С. Шейпин и С. Шефер. Они не только проанализировали методики Бойля, его предметный и эпистемологический инструментарий, чертежи, рисунки и публичную аргументацию, но и подробно рассмотрели его полемику с главным противником экспериментального метода, рационалистом Гоббсом112. Их работа позволяет детально взглянуть на экспериментальные практики Нового времени. Поддерживая в целом принципы «новой науки», изложенные в «Новом Органоне» Бэкона, Бойль, однако, дистанцировался от него: экспериментальный 112 Shapin S, Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life, Princeton: Princeton University Press, 1985. 442 p. 69 метод для Бойля был важнее бэконовской индукции: «Роберт Бойль утверждал, что правильное натурфилософское знание должно создаваться с помощью эксперимента и что основания такового знания должны составлять экспериментально произведенные реальные факты (matters-of-fact)»113. Бойль совершил несколько важных открытий в физике и химии, одно из которых получило его имя (закон Бойля-Мариотта), также исследовал принципы капиллярного эффекта и законы преломления света, однако самыми важным и интересными с эпистемологической точки зрения были именно эксперименты со знаменитым воздушным насосом, который позволял создавать разреженную атмосферу к контролируемых условиях. До XVII века, как можно увидеть, в том числе из указанного исследования современных эпистемологов, характерной чертой знания, в отличие от мнения, были очевидность, абсолютная точность демонстрации — как в геометрии, математике или мысленном эксперименте. Начиная с Бэкона и Галилея, с появлением эксперимента, формирующего саму теорию, появляется необходимость в новых основаниях истинности. Бойль находится в поисках уже не универсальной, догматической истины, а той или иной степени подтверждения существующей теории с помощью эксперимента — до тех пор, пока другой эксперимент не покажет обратное. Экспериментализм доводится Бойлем до крайности: его не интересуют фундаментальные теоретические вопросы, например, возможен ли вакуум как таковой; ему важны экспериментальные реальные факты (matters-of-fact), с помощью которых можно подтвердить — или опровергнуть — отдельно взятую теорию. Он не ставил своей задачей создать полноценную и систематическую философию знания, его эксперименты позволяли ему создать пример рабочей философии знания. Мы видим, что Бойль предлагает иное отношение эксперимента к теории — самостоятельное и обосновывающее. У Бойля эксперимент перестаёт быть одним из множества (и не самым при том 113 Ibid. P. 22 70 популярным) научных инструментов и становится образующим элементом научного метода. И хотя экспериментальная модель Бойля оказалась чрезвычайно эффективной (и была, фактически, принята всей последующей европейской наукой), она не была лишена определенных «недостатков», вызывавших критику противников и зачастую очевидных и самому Бойлю и требующих определенной рефлексии. Шейпин и Шефер выделяют три технологии, которые Бойль использует для установления реальных фактов: материальную (сами инструменты, используемые при эксперименте), литературную (письменную передачу результатов эксперимента, чертежи используемых агрегатов) и социальную (как философам и ученым следует обсуждать эксперименты и их результаты). Основой материальной технологии Бойля был, разумеется, его «воздушный насос»114, позволявший откачивать из камеры воздух и наблюдать за тем, какой эффект это производит на помещенные в камеру предметы, будь то аппарат для измерения давления или отполированные мраморные шайбы, приложенные друг к другу. Подобно тому, как микроскоп или телескоп усиливают чувства наблюдателя и позволяют ему увидеть то, что недоступно невооруженному взгляду, так и воздушный насос Бойля делает доступным невидимые ранее взаимодействия природных явлений. В то же время он создаёт такие условия, которые без инструментов получить невозможно, то есть позволяет наблюдать то, что ранее наблюдать было невозможно. Впрочем, как глаз наблюдателя может ошибаться, так и инструмент исследователя может вызывать помехи. В случае с телескопом или микроскопом это могут быть оптические аберрации — именно так некоторые противники Галилея объясняли видимый рельеф Луны. В случае с воздушным насосом Бойля всё так же непросто. Будучи крайне непростым с инженерной точки зрения прибором, 114 насос Бойля был несовершенен. Воздух проникал внутрь Подробное описание механизма можно найти на стр. 26-30 труда Шейпина-Шефера 71 экспериментальной камеры, к каким бы технологиям его создатель не прибегал. Как бы то ни было, получаемой даже в «протекающем» насосе области низкого давления воздуха было достаточно, чтобы проводить эксперименты и получать результаты, отличающиеся от того, что доступно в «естественных» условиях. Однако даже незначительное нарушение безупречности эксперимента вызывало острую критику оппонентов Бойля. В своей классической работе «Новые физико-химические эксперименты, касающиеся упругости воздуха» Бойль приводит 43 эксперимента с применением воздушного насоса, однако, как отмечают Шейпин и Шефер115, наиболее важным с точки зрения самого Бойля был опыт с торричеллиевой трубкой. Природа так называемой торричеллиевой пустоты — пространства в верхней части запаянной сверху стеклянной трубки, заполненной ртутью (или другой жидкостью) и опущенной в емкость с ртутью (или той же другой жидкостью), то, что сейчас известно как барометр — занимала мысли натурфилософов и учёных с самого момента открытия этого феномена. Вероятно, и воздушный насос Бойля был создан первоначально с целью проведения эксперимента «вакуума в вакууме», по словам самого учёного, это было «принципиальным плодом, который [он] себе пообещал от аппарата»116. Торричеллиева пустота обычно рассматривалась современниками Бойля в контексте возможности существования пустоты как таковой, в контексте спора пленизма и вакуизма — учения о невозможности существования пустоты в природе и, соответственно, возможности таковой. Для самого Торричелли и Паскаля пространство вверху ртутного столба было действительно пустым; для Декарта и его соперника Роберваля пространство было наполнено неизвестной субстанцией, хотя их объяснения этого факта и разнились (Декарт относил опускание уровня ртути на счёт атмосферного давления, Роберваль — на horror vacui, или «страх природы перед пустотой»), однако так или иначе спор 115 116 Shapin S, Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. P. 40. Ibid. 72 подразумевал философско-онтологическую постановку вопроса о возможности существования пустоты как таковой. Необычность позиции Бойля состояла в том, что его, на самом деле, не беспокоили вопросы существования или не существования пустоты в природе. Фундаментальный вопрос наличия или отсутствия вакуума был для Бойля мало значимым: его интересовало производство экспериментальных фактов. Поместив барометр в воздушный насос и откачав воздух, Бойль наблюдал падение уровня ртути в столбе, продолжавшееся до определенного момента; закачав туда воздух, он наблюдал повышение уровня ртути (опять же, ограниченное). Из этих наблюдений Бойль делает вывод о том, что падение и возрастание уровня ртути непосредственно связано с воздухом — это и есть экспериментальный факт. А поскольку, давление столба воздуха на поверхность сосуда невозможно, так как он заключен в насос, Бойль совершает предположение о наличии некоторой «упругости воздуха». Был ли в торричеллиевом пространстве вакуум, был ли он в самом насосе — для Бойля не имеет значения. Он обнаружил «реальный факт», который требует не философского осмысления, а его онтологическая интерпретация остаётся «за скобками». «“Вакуум” в его откачанном насосе был не экспериментом, но пространством, в котором можно проводить эксперименты и производить реальные факты, не впадая в метафизические диспуты»117. Такой отказ от поиска онтологических оснований Бойль считал преимуществом своей эмпирической экспериментальной программы. Подобно тому, как эксперимент Галилея производил парадигмальный сдвиг в сознании современников, заставляя их пересмотреть сами основания их научного мировоззрения, эксперимент Бойля требовал от них ещё большего: полностью отказаться от самой идеи онтологического обоснования физики. Эксперимент показывает «реальные факты», а задача учёного — разработать такую теорию, 117 Ibid., p. 46. 73 которая эти факты вбирала бы в себя без необходимости во внешних онтологических, рационалистских, религиозных или других опорах. Определенная противоречивость программы Бойля, однако, скрывается в том, как он сам интерпретировал свои эксперименты. Одним из серьезных пунктов критики против Бойля был тот факт, что его воздушный насос, пусть и весьма эффективный, не был всё-таки совершенным. К каким технологическим ухищрениям не прибегал Бойль, камера насоса всё равно пропускала воздух — создать абсолютный вакуум в ней было невозможно. Главный оппонент Бойля, Гоббс, считал технологическое несовершенство воздушного насоса серьезным аргументом против экспериментальной программы Бойля как таковой — как можно говорить о «фактах о реальности», если сам инструмент их продуцирования дефективен? Если инструмент не полностью выполняет заявленную им функцию, могут ли полученные с помощью него факты считаться истинными? Гоббс был уверен, что не могут, однако Бойль со свойственной ему изобретательностью использовал несовершенство собственных экспериментальных технологий в свою пользу. Тот факт, что воздушный насос пропускает воздух, Бойль использует для объяснения фактов, которые могли бы на самом деле быть использованы против него. Например, в случае с торричеллиевой пустой, тот факт, что насос пропускает воздух оправдывал бойлевский отказ от углубления в понятие вакуума: происходящее внутри насоса Бойль назвал «пространством, почти полностью лишённым воздуха», и это «почти», по его мнению, как раз позволяло экспериментировать, не вдаваясь в метафизику. Более того, несовершенством своего аппарата исследователь объяснял «неудачные» на его взгляд эксперименты. Например, в случае с двумя полированными мраморными шайбами, слипающимися друг с другом, Бойль считал причиной этого феномена всё те же «упругость» и давление воздуха, и предполагал, что, поместив шайбы в насос, можно будет наблюдать, как по мере откачивания воздуха они «разлепляются». Когда же эксперимент показал, что изменение давления воздуха в аппарате не влияет на адгезию дисков, Бойль списывает это на неполноту откачки воздуха и тем самым «спасает» свою 74 первоначальную теорию. Таким образом, несовершенством технологии Бойль объясняет как удачные, так и неудачные эксперименты. Один из пунктов критики Бойля было также и то, что исследователь не отличает реальные факты (matters-of-fact) и их причины. Бойль вполне волюнтаристски трактует результаты экспериментов, используя полученные результаты так, как ему видится необходимым для своей экспериментальной программы. Скажем, тот же феномен с адгезией полированных поверхностей Бойль в одном случае может трактовать как феномен, чьей причиной является «упругость» воздуха, а в другой — делать вывод об самой «упругости» воздуха из этого феномена118. Такое вольное обращение с интерпретацией эксперимента было частью литературной технологии Бойля. Этот волюнтаризм казался особенно неприемлемым Гоббсу, который считает, что эксперимент бесполезен без познания причин. Они могут быть ложными или произвольными, но они должны показывать, как явления следуют из них по необходимости. Каталог фактов о реальности без поиска их причин бессмысленен, считает Гоббс. Однако, как показала история, эта эпистемологическая стратегия всё же позволила Бойлю совершить свои научные открытия. Здесь кроется ключевое различие бойлевского и галилеевского эксперимента, различие между экспериментом, перевернувшим средневековые научные установки и давшей начало новоевропейской экспериментальной программе, и этой программой, возведенной в абсолют. Экспериментализм Бойля становится своего рода «отдачей», противоположной крайностью схоластики. Бойлевский эксперимент ставит своей задачей производить факты реальности и представлять их в таком виде, чтобы они были доступны для интерпретации. Он «выхватывает» факты из реальности, отделяя их от естественного хода вещей, позволяя взвесить, измерить, сосчитать, проанализировать отдельно взятую часть реальности. Теория перестаёт иметь решающее значение, первостепенную 118 Ibid. 50-51. 75 важность приобретает получение новых экспериментальных фактов, которые уже в свою очередь доступны для интерпретации в рамках той или иной теории. Отдельно необходимо отметить социальные технологии установления экспериментальных фактов. Одним из важных условий своей экспериментальной программы была возможность свидетельства и повторения проведенных Бойлем экспериментов. Возможность наблюдать за экспериментом исключала, во-первых, необходимость принимать результаты эксперимента на веру, а, во-вторых, обеспечивала защиту от «личных» ошибок экспериментатора — невнимательного наблюдения и неверного истолкования, связанного с личными притязаниями проводящего эксперимент учёного. Идея независимого наблюдателя кажется крайне современной, однако реализация её была все ещё далека от совершенства. Воздушный насос Бойля находился в условно открытом доступе в Королевском научном обществе, и многие эксперименты на нём проводились в присутствии публики. Впрочем, понятие «публичности» в данном случае весьма относительно. Попасть в Королевское общество даже на правах наблюдателя мог далеко не каждый — нужно было быть как минимум аристократом или человеком высокого достатка. Но даже этого было недостаточно: например, Гоббс, будучи известным и респектабельным натурфилософом, был исключен из Королевского научного общества за свои личные качества — он был известен вздорным характером и не терпящим возражений догматизмом. Более того, Бойль уточняет, что хоть наблюдателем может быть и любой, это должен быть подготовленный человек, иначе он может сделать неправильные выводы из того, что видит (то, какие выводы являются правильными, как мы отметили, Бойль решает в индивидуальном порядке). Вопрос воспроизведения эксперимента Бойль, как ему кажется, решает с помощью эскизов и чертежей своих приборов и подробного описания проводимых им экспериментов, с таблицами и расчётами, подразумевая, что любой желающий может сконструировать аналогичный аппарат и повторить эксперименты Бойля. Однако создание воздушного насоса было крайне сложно технологически и дорогостояще, поэтому даже у Королевского научного 76 общества, имевшего весьма большие ресурсы, было всего несколько таких насосов. Возможность создания этого аппарата ученым-одиночкой вне научной институции высокого уровня стремилась к нулю. Итак, можно отметить, что несмотря на достаточно разработанную экспериментальную программу и важные научные достижение, совершенные с ее помощью, эксперимент остаётся для Бойля актом слишком персональным, сильно зависящим от личности экспериментатора, а его попытки его «объективизировать», хотя и выглядят удачными, на самом деле мало эффективны. 3.3. Манипулятивный эксперимент Нового времени Тем не менее, несмотря на эти недостатки и критику со стороны антиэксперименталистов, идеи Бойля начинают приобретать популярность уже у его современников. В отличие от Средних веков, когда эксперимент был маргинальным инструментом, в Новое время его популярность развивает чрезвычайно быстро, что говорит об реальности описываемого парадигмального сдвига. К. Экхолм подробно рассматривает историю ученых-соперников У. Харви, Н. Хаймора и К. Дигби, современников Бойля119. Трое английских исследователей занимались изучением не физики, но биологии, а конкретно — процессом формирования зародыша на примере куриц и голубей. Подобно Бойлю и другим своим современникам, и Харви, и Хаймор активно использовали экспериментальный метод, хотя и в самом базовом его варианте. Предмет изучения — зародыш курицы — был выбран неслучайно: куриные яйца и сами курицы были доступны исследователям в огромных количествах, формирование зародыша вне тела животного и относительно крупный размер яиц позволяли подробно наблюдать различные стадии развития птенца. Ekholm K. J. Harvey’s and Highmore’s Accounts of Chick Generation // Early Science and Medicine. No. 13. 2008. Pp. 568-614. 119 77 Оба исследователя производили вскрытие яиц на разных стадиях, при этом имело место и нечто подобное контролируемому эксперименту. Благодаря тому, что курицы откладывают несколько яиц в одну кладку, возможно производить поочередное вскрытие яиц и тем самым строить временную шкалу развития зародыша, так как все остальные факторы — генетика родителей, питание, температура, при которой высиживаются яйца, «автоматически» поддерживаются неизменном состоянии — фактически, кладка куриных яиц представляет собой идеальный природный объект для экспериментирования. Они изучали полученные образцы с помощью лупы (Харви) и микроскопа (Хаймор), вследствие чего получили несколько отличающиеся результаты. Кроме того, они совершали вивисекцию почти сформированных зародышей, манипулировали с их органами (кололи иголкой и трогали пальцем сердце) — экспериментальные подходы обоих ученых были приблизительно одинаковы. В некоторых случаях исследователи производили даже более существенные манипуляции с объектом — в частности, Хаймор извлекал из зародыша сердце и спустя несколько часов клал его на солнце; ученый утверждал, что после этого в органе наблюдалось новое биение. Интерес их сравнение представляет потому, что различия в технологии — лупа Харви, микроскоп Хаймора и невооруженный глаз Дигби — позволили им прийти к противоречащим друг другу выводам. Харви, чья лупа была не настолько эффективна, предполагал, что сначала в яйце формируется кровь, и лишь затем сердце (так как разглядеть маленькую красную точку сердце сложнее, чем сеть сосудов). Хаймор же мог рассмотреть сердце непосредственно в микроскоп. Как обычно, проблема исследований заключалась в конечной интерпретации экспериментальных находок. Используя примерно одинаковые экспериментальные методы, получая с их помощью похожие экспериментальные данные, учёные делали из них совершенно непохожие выводы. Они находились внутри разных естественно-научных — и, что еще более важно — натурфилософских традиций. Если более молодой Хаймор увлекался идеями 78 алхимии, атомизма, влиянием теплоты и был знаком с Бойлем и его научными трудами, то Харви был сторонником аристотелизма. Хотя, как и отмечал знакомый с обоими исследованиями Бойль, разницу в выводах можно списать на индивидуальные особенности куриц, случайные факторы в процессе высиживания яиц и прочие непредсказуемые процессы, в той или иной степени влияющие на эксперимент, реальная причина разницы в выводах заключалась в том, что миниатюрные размеры объектов исследования оставляют большое пространство для интерпретации в зависимости от мировоззрения ученого. Однако, заслуживает особого внимания ещё одна тенденция, появляющаяся в Новое время: манипулирование экспериментальным объектом. Если Бойль помещал предметы в воздушный насос, то есть заставлял естественные природные процессы (например, капиллярный эффект) протекать в неестественных условиях (да, в природе существует разреженный воздух, как в воздушном насосе, но обычно для этого не требуется стеклянный аппарат и группа наблюдающих за ним техников и учёных), то чем далее мы продвигаемся по истории науки, тем чаще мы наблюдаем за тем, как учёный подвергает объект исследования «противоестественным манипуляциям», имея, однако, своей целью получить знание об объекте в его естественной среде. Мы наблюдаем зарождение лабораторной практики, которая в современной науке станет практически синонимом научной практики как таковой, лабораторного, контролируемого способа получения истинного знания. Далее приведём несколько примеров таких прото-лабораторных исследований, которые демонстрируют эту новую практику «принуждения» природы к открытию своих свойств. П. Уайт в статье «Экспериментальное животное в Викторианской Британии»120 рассказывает о практиках ученых-физиологов второй половины XIX века. Одним из главных экспериментальных животных были лягушки: «Это существо изучалось как обобщённое животное, и даже, вопреки классификации, 120 White Paul S. The Experimental Animal in Victorian Britain // Thinking With Animals: New Perspectives on Anthropomorphism / Ed. by Daston Lorraine, Mitman Gregg. New York: Columbia University Press, 2005. 230 p. 79 как суррогатное млекопитающее». Такой завидной участи лягушки должны быть благодарны своей особенности сохранять нервную активность в удаленных из организма мышцах в течение 30 часов (то есть, говоря проще, отрезанные лягушачьи лапки могут дергаться, когда на нервные окончания подается напряжение). Уайт приводит пример классического в то время труда «Руководство ведения физиологической лаборатории», написанного британским физиологом Дж. Бурдоном-Сандерсом: «“Руководство” было исчерпывающей инструкцией по проведению экспериментов в области физиологии и гистологии и описывало сотни экспериментов с животными. Одним из свойств работы, отмеченным читателями за пределами исследовательского сообщества было то, что описания были настолько сосредоточенны на функционировании инструментов и манипуляциями ими, что практически стирали подопытных животных со сцены эксперимента. И тем не менее лягушки все-таки присутствовали в этих описаниях по крайней мере в одном аспекте: они были разложены на части и вновь собраны — как элементы научного инструмента»121. Обычным делом было поместить изолированную мышечную ткань лягушки в сложный аппарат (например, миограф Гельмгольца), закрепить в тисках и подсоединить к самописцу, чтобы при сокращении мышцы под воздействием электрического тока она «сама» чертила график движения. Полученные таким образом данные впоследствии экстраполировались на физиологию не только самих лягушек (естественно, живых, а не разрезанных), но и на других земноводных, млекопитающих, и даже человека. «В лабораториях налаживалась тождественность между животными и пациентами-людьми, особенно в сфере бактериологии, где тела животных были успешными полигонами разработки лекарств для человека. Такие связи играли важную роль в продвижении лабораторной диагностики и процедур в медицине. Но достижения в лаборатории, и более вероятно, в медицинском кабинете, 121 Ibid. P. 63. 80 требовали, чтобы ученые действовали как точные инструменты. Механизация и автоматизация научной практики и инструментальное использование животных и людей оставалось очень спорным вплоть до конца XIX века» 122. Сложно говорить о животных, как о вещах, но для физиологов они таковыми как раз и являются. Характерно, что в эпоху расцвета вивисекции животные не изображались целиком, только в виде фрагментов мышечной ткани, надрезов, язв, в зажимах экспериментального прибора — то есть исключительно экспериментально, как вещь. Такое отношение к существу как к экспериментальному объекту иногда распространялось даже на человека. Американский физиолог У. Бомонт на протяжении десятилетия изучал солдата А. Сент-Мартина, у которого в результате случайного ранения образовалось отверстие в животе, проникающее в желудок123. Бомонт оказывал Сент-Мартину первую хирургическую помощь, и в результате операции оставил солдата с аккуратной фистулой, ведущей в желудок. Хотя Бомонт в своих записках отрицает злой умысел и утверждает, что сделал все возможное для закрытия раны, у историков вызывает сомнение честность этого утверждения — не исключено, что врач поступился клятвой Гиппократа и, быстро просчитав открывающиеся ему возможности, предпочёл не зашивать рану. Так или иначе, Бомонт получил уникальный образец — живого человека с фистулой, человека-пробирку, или, как его называли современники, «патентованный перевариватель». В ходе экспериментов, хоть и не нарочно, Бомонт причинял Сент-Мартину не значительные, но всё же чувствительные физические страдания (скажем, процедура откачки желудочного сока через фистулу или извлечение из желудка не переваренной пищи). Кроме того, сами взаимоотношения между врачом и пациентом зачастую принимали весьма специфический характер: свидетели замечали, что Бомонт обходился с СентМартином неуважительно и требовал беспрекословного выполнения его указаний — то есть, в общем-то, использовал человека как неодушевленный инструмент. 122 123 Ibid, 75. Roach M. Gulp: Adventures on the Alimentary Canal. New York: W. W. Norton & Company. 2013. 352 p. 81 Возможность непосредственно изучать процессы переваривания пищи дала Бомонту уникальное преимущество перед всеми остальными физиологами того времени. Он мог помещать пищу непосредственно в желудок, избегая контакта со слюной; он мог получать образцы желудочного сока в разное время суток; наблюдать за выделением сока в зависимости от различных стимулов — в целом, у Бомонта была возможность контролировать эксперимент по многим параметрам, тогда как лучшее, что было доступно его коллегам — это вскрытия трупов, животных и исследования желудочного сока вне организма. Именно последнее, исследование действия желудочного сока внутри человека, делало Сент-Мартина уникальным «экспериментальным прибором» сродни воздушному насосу Бойля, ведь он позволял воспроизводить явления природы в таких условиях, в которых экспериментатор может не только наблюдать за ними, но и менять по своему желанию. И тем не менее, достижения Бомонта в области гастроэнтерологии оказались весьма ограниченными. Кроме действия желудочного сока на перевариваемую пищу и отсутствие зависимости его от присутствия в человеческом организме исследователь сделал мало существенных открытий. Скорее всего, причина этого в том, что Бомонт был слишком увлечен открывшейся ему возможностью исследования желудочного сока, что практически полностью проигнорировал важность ферментов поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки, несмотря на имеющиеся более ранние труды медиков на эту же самую тематику. Чуть ранее, в середине XVII века, шотландский врач Дж. Линд, как принято считать, проводит первый в мире клинический эксперимент. Будучи корабельным врачом, Линд пытается найти средство от цинги, в то время уносившей жизни большого количества моряков. Во время одного из рейсов Линд разделяет 12 моряков, страдающих цингой на шесть групп по два человека, каждой из которых дает одно из предполагаемых средств от болезни: сидр, купорос, уксус, морскую воду, электуарий из чеснока и, наконец, апельсины и лимоны, остальные же условия их жизни и питания оставались прежними. В течение двух недель испытаний группа, которой давали цитрусовые, продемонстрировала 82 значительное улучшение, в то время как у остальных никакого прогресса не наблюдалось. Таким образом, казалось бы, было установлено, что цитрусовые, в отличие от остальных продуктов, снимают симптомы цинги124. Однако, как показывает в своем исследовании М. Бартоломью, Линд почему-то не делает таких выводов. Если внимательно изучить аргументацию Линда, то к решению о применении цитрусовых его подталкивает теория «гниения» организма, основанная на теории невидимого испарения итальянского медика Санторио. Линд предполагал, что неблагоприятные условия на корабле (духота, отсутствие света, правильного питания, тяжелая работа) приводили к проблемам с выделением из организма вредных веществ, которые, накапливаясь, и вызывали симптомы цинги. Кислоты цитрусовых (также, как и, например, раствор еловой смолы) должны были бороться с «гниением» и открывать поры, восстанавливая тем самым испарение. Следовательно, это очередной случай, когда одержимость одной теорией мешала ученому правильно интерпретировать результаты собственного эксперимента. Текст трактата Линда о цинге «понастоящему путаный и это происходит от неумения или нежелания Линда интегрировать свои экспериментальные находки со своей теорией усваивания веществ и теории того, что происходит с телом во время цинги. Он никогда, что называется, не прочищает горло и не объявляет читателю о важности эксперимента»125. В приведенных примерах мы можем отчетливо наблюдать впервые выраженную Бэконом идею создания «контролируемого ограниченного эксперимента», которая требует нескольких идей: ученого, который активно ставит вопросы природе («active inquisitor») и субъектно-объектных отношений. Они опираются на «представление об ограничении Природы “действием мощных препятствий” (“violence of impediments”), т. е. о ее трансформации “искусством и человеческой рукой” (“art and the hand of man”)», и здесь зарождается «судебная» 124 125 Bartholomew M. James Lind and scurvy: A revaluation // Journal for Maritime Research. Vol. 4:1. 2002. Pp. 1-14. Ibid, p. 9. 83 риторика науки, требующая «вырвать» секреты у природы, провести ордалию истины, узнать факты о вещах, даже если они не хотят говорить126. Начало активного использования экспериментального аппарата потребовало новых практик доказательства истинности, одной из которых стала апелляция к факту. Хотя изначально «реальные факты» (matters-of-fact) были сферой юридического знания и означали деяния людей, бэконовский акцент на естественную историю привел к логическому и лингвистическому сдвигу, и под фактами стали пониматься как природные явления, так и объекты исследования. Сама идея факта как доказательства противоречила господствующим в предновоевропейскую эпоху схоластическим понятиям достоверности. Аристотелевская традиция требовала универсальности, но экспериментальные факты были, напротив, ограниченными во времени и пространстве, и не могли быть использованы для универсальных демонстраций причинности. Для схоласта факты реальности не покидали сферу «мнения», не входя в сферу «знания», так как основывались не на универсальных умозрительных фактах, а на свидетельстве конкретного человека. В этой сфере наука многое почерпнула из юридической практики, где свидетельство всегда считалось важным аргументом в установлении истины. Поэтому, несмотря на то, что с одной стороны, эксперимент начинает апеллировать к самой природе, к «объективной» реальности (хотя в то время слово еще не приобрело своего нынешнего значения), он становится привязан к «юридическому» аппарату свидетельствования. Любой эксперимент требует проверки не только инструментальной, но и взглядом независимого наблюдателя, в противном случае он не будет являть собой истину. Эксперимент таким образом становится не только главным продуктом науки Нового времени, но и конституирующим фактором самого новоевропейского мышления. Сама логика познания радикально меняется благодаря экспериментальному методу: сущее больше не воспринимается в его идеальной форме, но наоборот, «раскладывается» на части для проникновения в Дмитриев И. С., Никитина С. А. «INQUISITOR DE RERUM NATURAE»: Истоки эксперименталистской методологии Ф. Бэкона 126 84 сущность вещей. В то же время природа отныне предстаёт как континуум, не разделенный формальными новоевропейском мышлении признаками. устанавливается Благодаря связь эксперименту между в конкретными, конечными вещами и возможностью познания причин. 85 ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ Как и в случае с переходом от средневековой схоластики к новоевропейской науке, на рубеже XIX и XX веков классическая наука претерпевает серьезные изменения, связанные с фундаментальным парадигмальным сдвигом в самих принципах восприятия науки. Научная рефлексия начинает затрагивать не только объект науки, но и того, кто занимается наукой. В то же время усложнение техники, появление новых фундаментальных физических теорий ставит вопрос о статусе самого объекта науки. Чтобы понять, как преломляется значение эксперимента через призму современности, необходимо сначала понять, что же из себя представляет современная наука в принципе, какие задачи и проблемы, которых не было в Новое время, Средние века и античности, ставятся в ней. 4.1. Философская рефлексия современной науки Наука — это всегда взаимодействие субъекта познания (учёного, научного коллектива, научного сообщества, лабораторного коллектива) и окружающего его мира или определенной его части — то есть объекта. Однако науку, сопутствующую ей научную рефлексию, философско-научные дисциплины, методологию в целом никогда практически не интересовала специфика субъекта науки. Начиная с Нового времени, главный предмет интереса представлял метод, с помощью которого возможно получить объективное знание, вопрос о том, что есть объективное знание и как оно возможно, как таковое. Так, Бэкон своём «Новом органоне» развивает методы познания, рассматривает виды индукции, описывает правильную практику мысли, необходимую для получения объективного знания. И, конечно же, приводит критику знаменитых «идолов». На первый взгляд может показаться, что вот это и есть проблематика субъекта. Однако «идолы» и практики избавления от них не имеют никакого отношения к антропологическому субъекту. Бэкону чужда 86 антропологическая проблематика. Да, нас интересуют эти идолы, заблуждения, но лишь постольку, поскольку так вышло, что человек занимается наукой, «по совпадению». Цель бэконовского метода — идеальный субъект (хотя, разумеется, у него трансцендентального субъекта можно увидеть только в тенденции), который по определению не живой человек. И хотя в конкретном случае познания «носителем» идеальной универсальной субъективности выступает человек, учёный, в гносеологическом плане такого рода субъект предшествует миру, и антропологическому субъекту в частности. Это не поиск антропологического в субъекте науки, наоборот, это целенаправленное методическое изживание из субъекта всего антропологического, человеческого. В том же направлении развивается и мысль Декарта. Несовершенство человеческих органов чувств, которые могут обманывать, предлагается нивелировать с помощью абсолютных, математических способов познания, отказавшись от чувственности как критерия достоверности. Декартовское cogito — совершенно и бесчеловечно; в нём нет места частностям и партикулярностям. В классической науке объективность сугубо антиантропологична. Эксперимент же всегда проводится конкретным человеком (группой людей), в отдельно взятой точке времени и пространства, это процесс предельно конкретизированный в своей ограниченности, и это становится очевидным только в современной науке. Двадцатый век увидел расцвет исследований, посвящённых социологической и антропологической проблематизации и тематизации науки. Проводится множество разноплановых исследований научных институтов и учёных. Причём предметом оказываются по преимуществу учёные именно как конкретные люди. Проводятся исследования гендерной специфики в научном дискурсе, лабораторных практик, полевых исследований, взаимодействия научных поколений, научной коммуникации, даже практик написания заявок на научные гранты и составления презентаций — всё то, что принято называть Science Studies, сродни популярным Social Studies, Cultural Studies и проч. При этом в большой части случаев антропологические исследования обходят стороной эпистемологическую проблематику. И хотя отношение к эпистемологии науки 87 разнится от вполне безобидного «не является основным предметом исследования» до полного отрицания особого статуса объективного научного знания и низведения его, например, до производства консенсуса в среде учёных, объективность как таковая обычно остаётся не тематизированной. Такое положение эпистемологической дел является ценности, неудовлетворительным. конструктивизм, Отказ крайние от степени эпистемологического релятивизма представляются не слишком справедливыми по отношению к достижениям науки. Но и игнорировать антропологическую проблематику, как это свойственно классической науке, — тоже сродни «зарыванию головы в песок». Необходимо установить диалог между антропологией и эпистемологией, и этот диалог возможен, как показывает практика науковедения: “эпистемолог отнюдь не против разработок в духе культурологического и натуралистического подходов. Но он полагает, что их результаты должны обязательно сочетаться с результатами, полученными в рамках эпистемологического анализа знания. Для него ясно, что эти направления в исследовании науки могут развиваться параллельно, независимо друг от друга; но без сочетания полученных с их помощью результатов постичь природу научного знания невозможно”127. Важно обратить внимание, что субъект науки проблематизируется именно в современной науке. Но и объект современной науки невозможно понять безотносительно субъекта, причём субъекта не трансцендентального, а эмпирического. Антропологическая и эпистемологическая проблематики науки являют собой диалектику, взаимопорождающую структуру. Научный эксперимент как необходимый элемент исследования также попадает в поле философской рефлексии науки, антропологического и эпистемологического характера в том специфическом ключе, что и наука в целом. Научный эксперимент всегда рождается при столкновении субъекта и объекта, человека и природы, но лишь современная наука начинает по-настоящему 127 Мамчур Е. А. Образы науки в современной культуре. М., Канон +, 2008. С. 61. 88 рефлексировать о субъекте, а не только об объекте. Поэтому, чтобы понять проблематику современного эксперимента, необходимо понять проблематику также и субъекта. В науке Нового времени господствует классический тип рациональности, для которого характерно дистанцирование разума от вещей, его суверенность, при этом из научного познания с целью достижения «объективного» знания исключается всё, что относится к субъекту познания и его научной деятельности. Классическая рациональность постулирует существование мира самого по себе, с присущими ему объективными законами; в таком случае цель науки — как можно точнее «раскрыть» эти законы, не привнося в них ничего субъективного. Наука производит «перекрестный допрос именем априорных принципов»128. Классическая научная рациональность создаёт некую, по выражению М. К. Мамардашвили, «онтологию ума», ума, наблюдающего физические тела. Само понятие физического тела, ключевое для классической науки, подразумевает существование его в пространстве, его пространственную развёрнутость, то есть возможность наблюдать его целиком, и на основании этого наблюдения характеризовать его. Это приводит к отождествлению «объективного» и «пространственного», отождествление и, как материальности следствие, и восходящее пространственности. ещё к Отсюда Декарту следует исключение из материального всего, что имеет психическое измерение, поэтому материальное всегда есть поддающееся внешнему, и только внешнему наблюдению — фактически, Декартовское дихотомическое деление на res extensa и res cogitans. В классической философии внешнее наблюдение производит декартовское cogito. Оно рефлексивно, то есть сознание сознаёт, что оно сознаёт. Такой рефлексивный характер cogito предполагает, что «события в мире, наблюдаемые субъектом (любым субъектом — человеческим или каким-нибудь иным, но удовлетворяющим 128 своей формальной тождественностью и постоянством Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: УРСС, 2003. С. 46. 89 определению сознания и не производящим никаких изменений в действиях мира), происходят в мире как бы дважды — один раз стихийно и спонтанно, наблюдаясь в своих воздействиях на человеческое или какое-либо иное чувствующее и сознающее устройство, а затем повторяясь в качестве сознательно контролируемых, воспроизводимых и конструктивных»129. Таким образом, явления мира повторяются в некоем «пространстве наблюдения». Это возможно только при условии непрерывности этого пространства, то есть непрерывности опыта, сознания. Классический рационализм требует универсального субъекта, такого субъекта, который мог бы обеспечить непрерывный перенос знания без потерь из одной точки в другую: предполагается, что есть некоторое «одно сознание», и в какой точке пространства не находился бы наблюдатель, он может воспроизвести любое знание в любом месте, получит те же результаты эксперимента, и т.д. Декартовские врожденные идеи или кантовские априорные формы чувственности и категории мышления являются структурами, позволяющими говорить об универсальном конкретному субъекте. сознанию Они и не локальны, благодаря этому не принадлежат позволяют никакому обосновывать непрерывность опыта. Другой необходимый для классической науки момент — это инстантизм130: как только нечто воздействовало на чувства (или на их расширение в виде измерительного прибора), оно считается воспринятым (здесь возможна дальнейшая нейрофизиологическая редукция, например, можно считать, что информация поступает по зрительному нерву, затем по синапсам, аксонам и нейронам в коре головного и мозга и т.п., однако, сам момент перехода данных в сознание внутри этой парадигмы невычислим и мгновенен). Точно так же это значит, что любое знание в любой другой точке мира и в любое другое время возможно передать любому другому человеку, больше того, любой другой может прийти к этому же самому знанию, повторив последовательность действий. Эти аксиомы объективности, непрерывности опыта, пространства и времени, 129 130 Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Лабиринт, 1994. С. 10. Там же 90 внешней данности, моментальности являются неотъемлемыми свойствами классической научной рациональности и определяют единственно возможного субъекта классической науки — трансцендентального. Трансцендентальный субъект как основание классической науки лишается всех антропологических характеристик, кроме одной: способности познания. Можно сказать, он их никогда и не имел. Это просто совпадение, что человек занимается наукой — лишь постольку, поскольку он причастен внеантропологической сущности — божественному интеллекту в случае Декарта, априорным формам чувственности в случае Канта (который, как известно, считал, что любые мыслящие существа будут мыслить, как и люди, или, точнее, люди мыслят, как любые мыслящие существа). Классическая рациональность считает миропорядок не зависящим от субъекта познания. Описание всегда объективно лишь настолько, насколько наблюдатель исключён из него, и насколько оно «произведено из точки, лежащей de jure вне мира, т.е. с божественной точки зрения, с самого начала доступной человеческой душе, сотворенной по образу бога. Таким образом, классическая наука по-прежнему претендует на открытие единственной истины о мире, одного языка, который даст нам ключ ко всей природе»131. Для классической науки язык природы равен языку математики, он логичен, естественен, и, главное, единственен — потому позволяет допустить, что конкретный эксперимент в конкретном месте, если он соответствует правилам математики и критериям объективности, будет репрезентативен для всего мира в целом. Она прослеживает взаимосвязи уже готового бытия, воспроизводит внешнюю данность фундаментального знания. «Принятие пространства как атрибута Бога и как универсального места хранения или вместилища всего — это средство, и притом единственное, избежать бесконечности, т.е. самодостаточности, материи и спасти саму концепцию творения»132. 131 132 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. С. 55-56. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. С. 228. 91 Знаменитый мысленный эксперимент физика и математика Лапласа — если некое существо будет знать положение и скорость каждой частицы во вселенной в данный момент времени, оно будет способно «предсказать» эволюцию вселенной и реконструировать прошедшие события. Демон, то есть вымышленное, но подобное нам существо, отличающееся от человека лишь отсутствием предела физических возможностей — трансцендентальный субъект! — был для науки настоящим «демоном», ведь его существование зависит от детерминистических законов, регулирующих поведение системы. С непрерывностью пространства эксперимента связан и другой, один из наиболее фундаментальных принципов классической науки — обратимость. В классической динамике возможно поставить перед переменной знак «минус», и обратить вспять движение системы, сохранив все данные, то есть фактически совершить обратную эволюцию во времени. Всё может быть задано изначально и всё может быть обращено вспять. Мир классической науки — вечный двигатель, он комфортабелен, полон, и внутренне непротиворечив. «Ньютоновская наука претендовала на создание картины мира, которая была бы универсальной, детерминистической и объективной, поскольку не содержала ссылки на наблюдателя, полной, поскольку достигнутый уровень описания позволял избежать “оков” времени»133. Рефлексия современной науки в её многообразии, разумеется, не ограничивается понимаем её лишь как методологии познания. В настоящий момент наука является одной из самых фундаментальных и важных сторон деятельности человечества, как по количеству человеческих и экономических ресурсов, направляемых на неё, так и по эффекту на повседневную жизнь людей. Поэтому нельзя рассматривать современную науку как нечто оторванное от реальности, понятой, как деятельность субъектов; насколько развитие науки руководствуется внутренней необходимостью, настолько же и внешними по отношению к непосредственному знанию факторами. Современная наука требует 133 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. С. 189. 92 огромных денежных вложений, как очевидных, — покупки приборов, лабораторий, оплаты труда исследователей — так и косвенных — обучение будущих учёных, поддержание авторитета науки в обществе для притока новых умов, даже своего рода «реклама» науки (выставки, научно-популярные передачи, и т.п.). В глазах современного исследователя науки её субъект конкретен и историчен. Современный учёный как субъект науки подвержен влиянию огромного количества антропологических факторов: научной моды, финансирования, статуса текущих исследований, научного сообщества, даже географического положения. Субъекта современной науки уже невозможно рассматривать в качестве трансцендентального, ибо он проблематичен. Как будет показано далее, это не просто совпадение, а необходимость, следующая из специфики понимания современной науки. Понятие современности и модерности можно принципиально разводить. «Современное» это «со-временное», то есть происходящее в тех же временных рамках, что и бытие употребляющего это понятие, современность расположена «в календаре, где ей предшествует некая досовременность, более или менее наивная или же архаическая эпоха, а за ней следует загадочная и тревожащая постсовременностью эпоха постмодерна»134. Современность сугубо темпоральна. Современная наука — это исследования в области синергетики, клонирования, изучения стволовых клеток, эксперименты, проходящие в CERN на Большом адронном коллайдере. Современная наука — это наука сегодняшнего дня, охватывающая события, которые происходят «сейчас», при том, что временные рамки этого «сейчас» остаются неопределенными. Под наукой в смысле contemporary science обычно понимается «текущая» наука, наука со-временная, начиная примерно с 70-х годов XX века, то есть с момента упрочнения в науке идей системности и саморазвития135. Для современной науки характерны такие черты как ориентированность на Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 344. 135 История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. С. 164. 134 93 комплексные исследовательские программы, сильные междисциплинарные связи, исследование сложных, открытых и саморазвивающихся систем, внедрение принципов исторической реконструкции не только в гуманитарные, но и в естественные науки (в сами науки или в исследования феномена науки?) изучение человекоразмерных объектов, использование сложнейших средств хранения и обработки информации. Современную научную картину мира также называют эволюционносинергетической. Теории самоорганизации, теории информации, теории систем принимают в последней трети XX века статус общенаучных. Эволюционносинергетическая научная картина мира заменяет классическую парадигму детерминизма Лапласа. Физика рассматривается с точки зрения принципа развития, и это развитие, во-первых, нелинейно, во-вторых, необратимо — сам момент вмешательства в систему для её измерения необратимо изменяет систему. Вселенная предстает как развивающаяся целостность. Идеи развития и системности, возрастания сложности становятся главенствующими парадигмами, признается историчность и изменчивость предметных областей большинства сфер науки. Современная наука становится человекоразмерной, и антропный принцип занимает всё более важное место — отсюда возрастающая значимость вопросов научной ответственности и границ деятельности человека, а также развитие теории устойчивого развития, согласно которой существует коэволюция человека и природы. Идеи развития проникают в естествознание так же благодаря развитию теорий самоорганизации сложных систем136. Модерностью можно — и мы будем называть — установку, критическую позицию, состояние неопределенности, нахождения на грани, неустойчивости, нехватки: «Современность, какой бы эпохой она ни датировалась, всегда идет рука об руку с потрясением основ веры и открытием присущего реальности Стёпин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической рациональности // Этос науки. М.: Academia. 2008. 544 c. 136 94 недостатка реальности, открытием, связанным с изобретением других реальностей»137. Для модерности «высокая ценность настоящего неотделима от стремления представить его иным, чем оно есть, преобразовать его, причем не разрушая, а схватывая его таким, как оно есть … современный человек — это не тот, кто отправляется открывать самого себя, свои тайны или свою скрытую истину; это тот, кто стремится изобрести себя»138. Модерность есть свободный, осознанный выбор, способ действовать и мыслить. «Модерн больше не может и не хочет формировать свои ориентиры и критерии по образцу какой-либо другой эпохи, он должен черпать свою нормативность из самого себя. Модерн видит себя однозначно самоотнесенным»139. Модерность подразумевает осознание дисконтинуальности времени, «чувство новизны, головокружение от происходящего»140. Это разрыв со традицией. Модерный субъект — субъект становящийся, осознающий свою протяженность, производящий сам себя. «Так как новый мир, мир модерна отличается от старого тем, что открывает себя будущему, то в каждом моменте современности, порождающей новое из себя самой, повторяется и приобретает характер непрерывности процесс зарождения новой эпохи заново»141. Модерность — это ситуация проблематичности, требующая перестройки устойчивых структур понимания. «Современное или проблематичное будет выступать тогда перед нами как нечто, что мы не можем освоить и понять, приводя в действие умения, которые у нас уже есть»142. Модерность требует усилия, но усилия не только над объектом, а над самим субъектом, над тем, как он понимает реальность и самого себя. И поэтому хотя проект модерна как таковой принято отсчитывать с XVIII века, модерной наука становится позже. До-эйнштейновская наука открывала Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т. 2008. С. 23. 138 Фуко М. Что такое Просвещение? [Электронный ресурс] URL: http://www.lib.ru/CULTURE/FUKO/nachala.txt (Дата обращения: 02.10.2014) 139 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М: Весь мир, 2003. С. 12-13. 140 Фуко М. Что такое Просвещение? 141 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. С. 12. 142 Мамардашвили М. К. Современная европейская философия // Логос. 1991. №2. С. 117. 137 95 «книгу природы», руководствуясь устоявшимися концепциями науки, как знания о том, как мир устроен на самом деле. Классическая наука требует от учёного новых идей, переосмысления предыдущего научного опыта, отказа от одной теории в пользу другой, более совершенной, но она не требует форматирования оснований мышления. Подлинно модерная наука “требует покинуть ту почву, на которой покоилась прежняя наука, и в известном смысле совершить прыжок в пустоту”143. В этом смысле подлинно модерной наукой выступает наука со времени формулировки Альбертом Эйнштейном теории относительности. Это действительно был акт создания новой физической реальности. Отказавшись от фундаментального для классической физики понятия одновременности, Эйнштейн создаёт новый мир, пространственно-временной континуум, где время является лишь ещё одной координатой (то есть изменяет саму Декартову систему координат, фактически само основание не только новоевропейской науки, новоевропейской ментальности). Отныне — время есть лишь то, что показывают часы. Создание новой физической реальности будет продолжено Вернером Гейзенбергом, Нильсом Бором, Эрвином Шрёдингером, Максом Планком. Конечно, модерность присутствует не только в нашей современности, и текущая современность не всегда обладает характеристиками модерна. Знаменитый «коперниканский переворот» в астрономии был, в сущности, актом модерна. Важно понимать, что невозможно строго провести разграничение между современной наукой и модерной. Современная наука может находиться или не находится в ситуации модерна. Одна из ключевых идей современной науки — принцип дополнительности — в то же время является существенным свойством модерности. Современность и модерность не опровергают друг друга, они дополняют друг друга. Современность невозможна без модерна; но и модерн всегда опирается на современность. Чтобы изобрести новую реальность, необходимо произвести рефлексию существующей. 143 Гейзенберг В. Часть и целое. М.: УРСС, 2004. С. 66. 96 В каком-то смысле в ситуации модерности можно говорить о повсеместном принципе дополнительности144 охватывающем современную науку как таковую. Экспериментальное подтверждение, как и фальсификация теории, зачастую становится чрезвычайно сложной или вообще невозможной на данном этапе развития технических возможностей науки, всё большее значение принимают математическая экстраполяция и такие универсалии непротиворечивость. Эта ситуация особенно как внутренняя видна в космологии и в фундаментальной физике (хотя столь же часта и в гуманитарных науках). Предполагается, что космология должна основываться на теории квантовой гравитации — однако её пока не существует. Космологам приходится «довольствоваться» насколько можно более непротиворечивым объединением квантовой и релятивистской теорий, однако это вызывает, разумеется, парадоксы и сложности. Общая теория относительности описывает гравитационные взаимодействия, которые происходят в макромасштабах — в масштабах искривления пространства-времени, а квантовая теория — в микромасштабах, масштабах ядерного взаимодействия. Они несовместимы; но эта несовместимость не играет роли из-за разности масштабов, это два дополнительных объяснения реальности. Однако в ситуации сингулярности — то есть в точке, где кривизна пространствавремени становится бесконечной (например, момент так называемого Большого взрыва) — эти масштабы сравниваются и необходима теория, которая могла бы сделать их совместимыми. Для этого и необходима квантовая теория гравитации. К сожалению, квантовой теории гравитации пока не существует, и проблему приходится решать другими способами. В изначальном смысле принцип дополнительности, как его определяет Бор, утверждает, что для полного описания объектов квантового мира требует двух взаимоисключающих классов понятий, применимых каждый в своих условиях, но необходимых чтобы получить целостный объект, что требует признать ограниченность понятий классической физики в применении к квантовым объектам. В более широком смысле это также означает, что нельзя пренебречь процессами наблюдения, так оно обязательно означает взаимодействие с наблюдаемыми объектами микромира. А, следовательно, любое наблюдение становится вмешательством, и граница между экспериментом и наблюдением становится всё более тонкой. 144 97 Например, сейчас в физике известно пять основных теорий суперструн и теория супергравитации. Эти теории отличаются в некоторых существенных аспектах, тем не менее, все они объединены целой сетью взаимозависимых соотношений. Предположительно, их можно будет объединить в одну теорию (условно называемую M-теорией), однако сейчас каждая из них может используется с определенной целью. «Все пять теорий суперструн описывают одну и ту же физическую реальность, и они к тому же эквивалентны супергравитации. Нельзя говорить, что суперструны фундаметальнее супергравитации и наоборот. Скорее, они являются разными представлениями одной и той же фундаментальной теории, и каждый подход удобен для работы со своим классом задач. Поскольку теории струн не содержат бесконечностей, они хорошо подходят для расчета того, что случается, когда несколько высокоэнергетических частиц сталкиваются и рассеиваются друг на друге. Однако они не слишком полезны для описания того, как энергия очень большого числа частиц искривляет Вселенную или образует связанное состояние, подобное чёрной дыре. В таких ситуациях требуется супергравитация, которая в основе представляет собой эйнштейновскую теорию искривленного пространства с некоторыми дополнительными типами материи»145. Таким образом, пока не решена одна из ключевых проблем современной физики — проблема сингулярности, «всё, что можно сделать, — это находить математические модели, описывающие Вселенную, в которой мы живем»146. В целом можно говорить о недостатке концептуальных средств для адекватного описания современной космологии, до тех пор, пока не появится новая фундаментальная теория, которая сможет дать язык для более адекватного описания реальности. На данный момент «критериями отбора являются уже не эксперимент и тестирование, а только логические требования, такие как См. Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. СПб.: Амфора, 2007. С. 65-67. Также об этом вопросе см.: Greene B. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory, New York: Vintage Books, 2000. 464 p. 146 Хокинг С. Мир в ореховой скорлупке. С. 68. 145 98 непротиворечивость, а также эстетические критерии, такие как простота и элегантность»147. Задача научной теории — объяснять факты. Классическая корреспондентная теория истины гласит, что истинность есть соответствие действительному положению вещей. Прагматическая теория истины гласит, что истинность теории подтверждается её функционированием. Птолемеевская астрономия просуществовала много веков, потому что с её помощью возможно было эффективно предсказывать положения небесных тел, в то время как гелиоцентрическая система существовала еще со времен Древней Греции. Однако птолемеевская система требовала слишком большого количества расчётов, система циклов и эпициклов была слишком сложной, хотя и давала верные результаты. Ньютоновская механика позволяет делать еще более точные астрономические расчёты с меньшими затратами. Она вообще позволяет с высокой степенью точностью рассчитывать движения физических тел. Однако дело не только в успешности, ведь рассчитать движения планет можно и с помощью птолемеевской системы. Здесь можно вспомнить правило Декарта: из множества вариантов объяснения следует выбрать то, что проще. Ньютоновская динамика действительно проще: она сводит движения тел к одному принципу сил гравитации, «сила равна произведению массы на ускорение». В своей теории относительности Эйнштейн делает нечто подобное. Сложную систему взаимодействий он сводит к одному принципу пространства-времени. В такой системе не существенен вопрос о том, что такое время, для кого оно существует. «Время — это то, что показывают часы» — к такой просто фразе можно свести. Такое кардинальное упрощение классического понимания времени (Кантовского) являлось своего рода отказом от привычных, работающих отношений в физике, но оно доказало свою эффективность. «Так, например, в случае астрономии Коперника дело сводилось не только к выбору между более простой и более сложной теорией движения небесных тел: речь шла о выборе между физикой Фоллмер Г. Размышления о книге Дж. Хоргана «Конец науки». // Эпистемология и философия науки. Т. II. №2, 2004. С. 144. 147 99 Аристотеля, представлявшейся более простой, и другой физикой, казавшейся более сложной; о выборе между доверием к чувственному представлению (последовательным проводником этой точки зрения был Бэкон) и отказом от такого доверия в пользу чистого теоретизирования»148. Но как в таком случае вообще современная наука соотносится с реальностью? Не может ли оказаться так, что её ценность лишь эвристическую, являясь, по большому счёту, всего лишь игрой ума? Как видно, объективность в современной науке далеко не так очевидна, как в классической. Понимание объективности как независимости от предмета познания уже невозможно. Причём это остро видно как в гуманитарных, социальных, так и в физических науках. Введение принципов саморазвития, исследования человекоразмерных систем, невозможность полностью адекватного представления объектов микромира макроскопическими средствами — лишь одни из примеров, когда объективность в традиционном понимании становится проблематичной. Однако объективность остается одной из важнейших научных универсалий и критерием научности знания. В гуманитарных науках вопрос объективности научного знания стоит весьма очевидно. Если рассматривать предмет исследования гуманитарных наук как человеческую деятельность и её результаты, то мы получаем неминуемо рекурсивное определение. Исследование человеческой деятельности является деятельностью человека, и отделить субъект от объекта в данном случае невозможно. Если же таковое отделение произвести возможно, то такую науку нельзя считать в полном смысле гуманитарной. Если же отталкиваться от субъекта познания в гуманитарных науках, то гуманитарное знание рассматривается как самопознание; в таком случае субъект и объект не только сложно разделимы, но, возможно, являются одной и той же сущностью. Если рассматривать объективность лишь как независимость субъекта познания от 148 Койре А. Очерки истории философской мысли. М.: Прогресс, 1985. С. 12. 100 объекта познания, то статус гуманитарных наук становится весьма проблематичен. Вопрос об объективности, однако, остро встаёт и в современных естественных науках. Если с классической точки зрения, существует единственное объективное описание системы такой, как она есть, и не важно, какой выбран способ наблюдения, то современная же наука — например, одна из важнейших естественно-научных теорий XX века, квантовая теория — понимает объективное знание как результат осознанной деятельности субъекта познания, так как «ответы природы на наши вопросы определяются не только устройством самой природы, но и способом нашей постановки вопросов»149. В квантовой системе измерительное устройство и измеряемое явление является единым целым, включая взаимодействие в процессе измерения. Соответственно и результат измерения — численные значения — зависят от того, какой вопрос «задаётся» системе. В квантовой механике невозможен трансцендентальный субъект — только конкретный субъект, так как измерение системы существенно только относительно конкретной экспериментальной ситуации. И тем не менее, несмотря на проблематичность, объективность даже в современной науке остаётся одним из ключевых понятий. И хотя в современной научной парадигме невозможно говорить о независимости объекта от наблюдателя и средств наблюдения, наука, так или иначе, стремится к объективности своих высказываний. Если объективность рассматривать именно в ключе какой бы то ни было независимости от субъекта, то она может принимать оттенок мировоззренческой позиции, характеризующейся свободой от оценочности, непредвзятостью, нейтральностью научного познания по отношению к социальным, политическим, моральным и прочим предпосылкам познающего субъекта. В парадигме постнеклассической научной рациональности такая установка на 149 нейтральность вызывает большие сомнения. Когда речь идёт о Стёпин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической рациональности. С. 39. 101 «человекоразмерных» объектах, о науках, имеющих непосредственное отношение к человеку — социология, нейрофизиология, генетика — учёному необходимо принимать во внимание этическую специфику исследования, соотносить этос науки с общегуманистическими ценностями. «Научное познание, — как справедливо замечает В. С. Степин, — начинает рассматривать в контексте социальных условий его бытия и его социальных последствий как особая часть жизни общества, детерминируемая на каждом этапе своего развития общи состоянием культуры данной исторической эпохи, ее ценностными ориентациями и мировоззренческими установками. Осмысливается историческая изменчивость не только онтологических постулатов, но и самих идеалов и норм познания»150. Так же в современной науке проблематика объективности приобретает зачастую характер проблематики истинности — то есть объективность определяется как соответствие научной теории некой истине мира. Однако в таком случае понятие объективности в определенном смысле подменяется понятием истинности, что не вполне оправдано. Один из подходов к началу разрешения проблемы — это разведение смыслов понятия объективности. Две парадигмы объективности различает Е.А. Мамчур: «В проблеме объективности квантовой механики оказываются слитыми, не расчлененными, две, на самом деле различные, проблемы, связанные с различным пониманием самого термина «объективность». Одна из них — это проблема объектности описания, т.е. описания реальности такой, как она существует сама по себе, без отсылки к наблюдателю. Другая — проблема объективности в смысле адекватности теории действительности, ее истинности»151. Самой характерной проблемой объективности в современной физике является, безусловно, объективность в квантовой теории (и вообще вопрос об объективности описания микромира). Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, невозможно одновременно точно измерить и положение, и импульс 150 151 Там же, С. 44. Мамчур Е. А. Образы науки в современной культуре. С. 23 102 частицы. Мы можем точно знать либо импульс, либо координаты частицы. «В отличие от классической физики, где предполагается, что явления существуют до любого акта измерения и открываются в процессе исследования, в квантовом мире, согласно рассматриваемой трактовке, явления создаются самим актом измерения. При этом, от экспериментатора и используемой им аппаратуры зависит, какие именно свойства микрообъекта (волновые или корпускулярные) вызвать к жизни»152. В этом смысле квантово-механическое описание не абсолютно объектно. Оно обладает определенной степенью объектности — в той мере, в какой возможно определение либо импульса, либо положения частицы. Тем не менее, некоторые свойства микрообъектов не зависят от макроприборов, например, спин или заряд — они вполне объектны. Но если рассматривать объективность как идеал знания, соответствующего истинному положению дел, то «можно смело утверждать, что квантовая теория объективна в той же мере, как и классическая физика. В данном отношении при переходе от классической парадигмы к неклассической ничего не изменилось. Идеал объективности знания, в смысле адекватности его положению дел в мире, так же важен и значим в неклассической физике, как и в классической. И там, и здесь (если сделать скидку на историческую ограниченность и относительную истинность теории, обусловленных уровнем существующей системы знаний, экспериментальными возможностями данного периода развития науки и техники т. д.) можно утверждать, что хотя бы относительная истинность теорий достигается»153. получаемыми Квантовая теория экспериментальными непротиворечива, она данными, способ хотя согласуется с проведения эксперимента в квантовой физике и несколько отличается от эксперимента в классической, так как для получения экспериментальных данных об одном объекте необходимо два типа экспериментальных установок и два эксперимента: один для исследования волновой, другой для исследования корпускулярной специфики объекта. 152 153 Мамчур Е. А. Образы науки в современной культуре. С. 27. Там же, С. 33. 103 Возникает резонный вопрос о статусе физических объектов, в частности объектов микромира, изучаемых квантовой механикой. Существуют ли они «сами по себе»? Квантовая механика должна быть применима, и теоретически это действительно так, и к уровню макромира (хотя в случае макрообъектов ею можно пренебречь и пользоваться уравнениями теории относительности). «Боровский принцип дополнительности является своеобразным проявлением так называемой негативной диалектики, т. е., другими словами, есть своеобразный сигнал или симптом того, что мы выходим при познании микромира за границы применимости макропонятий»154. Таким образом, можно считать, что в современной науке и в современной рациональности изменились каноны объектности описания, но не изменилось стремление к поиску объективного знания в рамках квантовой теории. Постоянно ведутся эксперименты, направленные на подтверждение адекватности описания микромира квантовой теорией. Идеал объективности пока не ставится под сомнение — по крайней мере самими учёными. 4.2. Проблематика современного эксперимента Итак, мы видим, что современность ставит ряд вопросов, принципиально отсутствовавших в классической науке, однако логически вытекающих из неё. С одной стороны, имеет место важный философский сдвиг, в результате которого субъект науки начинает играть роль не менее важную, чем объект. Тот конкретный человек, который стоял за телескопом или регулировал подачу воздуха в воздушном насосе, никогда не был включен в качестве необходимого элемента классическую науку, теперь же оператор эксперимента становится такой же действующей фигурой, как и объект, над которым эксперимент проводится. Это значит, что результаты эксперимента теперь уже нельзя рассматривать независимо от того, кто его производит — сам факт того, что в современной науке встает вопрос о статусе эксперимента, несмотря на его многовековую 154 Бранский В. П. Философия физики XX века. Итоги и перспективы. СПб.: Политехника, 2002. С. 49. 104 практическую ценность, подтвержденную тысячами научных открытий, говорит о том, что это понятие становится всё более проблематичным. Как подчеркивает А. В. Волков, объективное отражение действительности «выступает отнюдь не как самоочевидная фиксация преднайденной реальности, а как результат напряженной, ответственной работы сознания»155. Работа учёного, кроме формализованных методов, включает в себя множество умений и навыков, передающихся и усваивающихся только на личной основе. Обучение нового ученого требует инкорпорирования практических навыков в его «хабитуальном» теле, формировании привычек, навыков. Более того, сами способы познания требуют необходимости присутствия субъекта: современные тенденции эволюционной эпистемологии говорят, что человеческие способы познания сформированы эволюционно в процессе реакции на окружающий мир, а, следовательно, человеческие чувства являются не просто односторонним отражением безличного мира, но сущностно связаны с объектами. Т. Б. Романовская так же отмечает, что «внутри научных результатов всегда можно отыскать некие включения, не укладывающиеся во внутринаучные представления, имеющие своей основой и источником человеческую субъективность»156. Эволюция идей, подобно дарвиновской теории эволюции, происходит согласно человеческим возможностям — «выживают» те теории, которые дают больше ответов и задают меньше неразрешимых человеком вопросов. Человеческие факторы в науке начинают наблюдаться повсюду: в целеполагании, в порядке открытия, в интерпретации, в доминировании творческой активности. Объект эксперимента теперь уже не просто берётся из природы и помещается в особые условия — современный эксперимент создает объект в процессе своего совершения. Если экспериментальный инструмент Нового времени позволял по-новому видеть объект и по-новому им манипулировать, то в Волков А.В. О человеческом измерении науки // Эпистемология и философия науки. 2009. Т. XX. № 2. С. 169. Романовская Т.Б. Объективность науки и человеческая субъективность или в чем состоит человеческое измерение науки. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 199. 155 156 105 результате современного эксперимента сам объект может меняться и даже создаваться новый. Эксперимент в квантовой механике является наиболее характерным примером воздействия экспериментатора на объект, но далеко не единственным. Х.-Й. Райнбергер в своей статье «Частицы в цитоплазме…» описывает, как в процессе совершенствования экспериментального аппарата, от микроскопа к центрифуге к мечению аминокислот к электронной микроскопии (принципиально отличающейся от обычной микроскопии тем, что он лишь показывает «следы» объекта), цитоплазматические части клетки проходят путь преобразования из митохондрий морфогенетические единицы, в микросомы и плазмагены, затем в гранулярные элементы цитоплазмы, рибонуклеиновые частицы. Эти объекты уже существуют не сами по себе, а «в рамках экспериментальных систем, которые открывают учёному определенные подступы к объектам и позволяют их определенными образом видоизменять. Экспериментальные системы включают научные объекты в более обширные материальные поля научной культуры и практики, которые охватывают область инструментария и записывающих устройств, равно как и организмы-модели и концепции, с которыми они по ходу дела ассоциируются»157. Начинает цениться «непредсказуемость» эксперимента. Учёному недостаточно провести эксперимент и увидеть то, в чём он и так уверен. Будучи включенными одновременно в разные эксперименты и ограниченные разными инструментами, объекты исследования могут трансформироваться и принимать новые формы, и именно такая непредсказуемость является залогом того, что эксперимент дает пространство для интерпретации158. Одновременно с этим эксперимент «преобразует и конструктивное воображение субъекта», давая учёному новую точку зрения, новый модус видения, то, что Ольшки называет «сократической» функцией эксперимента159. Райнбергер Х.-Й. Частицы в цитоплазме: пути и судьбы одного научного объекта // Наука и научность в исторической перспективе. СПб: Европейский университет в Санкт-Петербурге; Алетейя, 2007. С. 292 158 Там же, с. 315-316 159 Энциклопедия эпистемологии и философии науки. С. 426 157 106 Эксперимент и теория находятся в бесконечно самовоспроизводящейся диалектике предположения, создания схемы, подтверждения, опровержения. Любое фундаментальное научное исследование начинается с мысленного эксперимента, «умозрительного знания», которое находится в соответствии с существующим эмпирическим знанием и предсказывает новое знание, новое же в свою очередь проверяется экспериментально и тем самым подтверждает или опровергает выдвинутую теорию. Эксперимент становится неотъемлемой частью научного знания, а «конечным результатом физического исследования, к достижению которого ведут все другие результаты, является построение новой фундаментальной теории, предсказания которой подтверждаются экспериментами, проводимым в изучаемой предметной области с помощью приборов определенной чувствительности»160. В современности эксперимент приобретает универсальное значение для науки, поэтому, а вместе с ним формальную определенность. Дефиниции эксперимента могут меняться от одного пособия к другому, однако костяк его остаётся одним и тем же: «это целенаправленное, четко выраженное активное изучение и фиксирование данных об объекте, находящемся в специально созданных и точно фиксированных и контролируемых исследователем условиях»161. Требования исследовательского контроля — продукты всё той же необходимости верификации данных эксперимента с которой сталкивался ещё Бойль; специальные фиксированные условия становятся необходимостью при установлении ориентации на объективность (исключение внешнего воздействия). Строго заданная пространственно-временная область проведения эксперимента (лаборатория) становится не просто условием, а структурным элементом эксперимента, наравне с протоколом, который контролирует все его этапы. Такой формализации, начавшейся еще в Новое время эксперимент обязан своему потенциалу, с одной стороны, продуцировать новое знание, с другой стороны, 160 161 Бранский В. П. Философия физики XX века. Итоги и перспективы. С. 101. Стёпин В. С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической рациональности. С. 30. 107 огромной вариативности — результаты эксперимента может изменить малейшая флуктуация переменных, а вслед за результатами изменится и его значение. В современной науке, по сравнению с наукой Нового времени, нужно выделить следующие моменты в характеристике научного эксперимента: вопервых, ориентация на объективность или как минимум на объектность; полноценное включение эксперимента в научный метод и эпистемологическую программу; качественная взаимосвязь экспериментального и теоретического метода познания, в результате которой эксперимент перестает быть «приёмом» и становится неотъемлемой частью теоретизирования как такового; требующая постоянной рефлексии взаимосвязь между субъектом и объектом познания; преобразование объекта и рождение нового объекта в результате эксперимента; необходимость свидетельства научного сообщества, и, как следствие, протоколизация, контроль, изоляция эксперимента в рамках лаборатории. Но, как мы видим, несмотря на очередной радикальный переворот в научном сознании, эксперимент всё ещё продолжает сохранять определенные черты противоречивости, свойственные ему с самого начала его появления как научного инструмента. Несмотря на то, что эксперимент выходит из-под давления теории — через выполнение функции фальсификации — и занимает с ней взаимозависимое диалектическое положение, он всё ещё непосредственно связан с интерпретацией теории конкретным учёным — результаты эксперимента всегда рассматриваются в рамках той или иной теории. Впрочем, эксперимент становится не только инструментом опровержения или подтверждения, но и выбора теории. Продемонстрированный в Новое время импульс ученых к механизму свидетельствования, апеллирующего к опыту любого человека (проведение эксперимента в публичных пространствах, повторение эксперимента своими силами), напротив, практически сходит на нет. Современный научный эксперимент становится слишком сложным, чтобы его мог повторить обыватель, да и полиматов-энциклопедистов, образованных в нескольких науках, как было принято в эпохи Возрождения и Просвещения почти не остаётся. Действительно 108 релевантным свидетелем эксперимента становится только обученный в той же сфере специалист, понимающий и теоретическую, и практическую стороны поднятого вопроса. «Насилие» над объектом, которое можно заметить в эксперименте Нового времени, приобретает совершенно новую глубину: объект не просто препарируется или помещается в неестественные условия чтобы «заставить» его говорить, но он преобразуется и даёт жизнь новому объекту в процессе эксперимента. Наконец, рефлексия над субъектом науки становится не менее важной, чем рефлексия над объектом, и эта субъектно-объектная взаимосвязь пронизывает любой эксперимент. К. Ф. Вайцзекер отмечает162, что «объективность классической физики — что-то вроде полуправды. Она весьма хороша, представляет собой выдающееся достижение, но почему-то затрудняет полное понимание реальности в гораздо большей степени, чем кажется». Дискуссия об объективности в современной физике требует объединить проблематику субъекта и проблематику объекта, а все попытки сохранить объективность классической механики в применении к квантовой физике вызваны тем, что сформировать новые взгляды крайне трудно. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе работы мы рассмотрели процесс появления и развития эксперимента от самых условных протонаучных опытов до квантовой физики современности. Последовательный, исторический формат исследования позволил не только выявить закономерности в философском понимании научного эксперимента и то, как эти закономерности влияют на научную мысль, но и показать, что 162 Вайцзекер К.Ф. Физика и философия // Вопросы философии. 1993. № 1. С. 115-125. 109 эксперимент является своеобразным отражением научной мысли каждого периода. Целью работы было раскрыть неоднозначные стороны эксперимента в их историческом развитии. Как мы увидели, начиная с античности, отношения эксперимент-теория, эксперимент-объект — проблематичны. Греки, часто считающиеся основателями европейской науки, использовали эксперимент как риторическое средство для подтверждения собственных умозрительных теорий. Обращение к эксперименту было случайным и несистематичным, методы его проведения — несовершенными, а задачи, ради которых он применялся — порой бессмысленными, устройство греческого общества и отношение к ремеслу мешало развитию механического инструментария, а идея упорядоченного космоса противоречила самой идее манипуляции с земными вещами ради постижения истины. Однако, несмотря на это, грекам удалось совершить ряд экспериментальных прорывов, которые впоследствии будут использоваться учёными в Средние века — в оптике, медицине, в меньше степени механике, и возможно, даже математике — ведь даже геометрические теории, кажущиеся нам очевидными на практике, могли быть изначально доказаны экспериментально. Эмпирическая школа163 приводит к дальнейшему упадку популярности эксперимента, так как её эпистемологическая модель просто не оставляет места систематическом экспериментированию, и, к сожалению, с наступлением христианской эры принципиального улучшения в этом положении не наблюдается. Общий упадок образования и сохранение культуры в монастырях, текстоцентричность, теологическое обоснование истины, контраст между идеальным божественным знанием и ограниченным, несовершенным мирским, практически не оставляют места эксперименту за пределами мысленного эксперимента, который становится заменой эксперименту физическому. Возникшая в III веке в Греции медицинская школа, последователи которой считали непосредственный опыт необходимым атрибутом познания. Среди представителей школы — Герофил, один из первых врачей, систематически вскрывавших тела умерших с анатомическими целями и Эраститрат, изучавший органы пищеварения и нервную систему. (Это прояснение будет убрано в соответствующий параграф) 163 110 Именно мысленный эксперимент становится одним из связующих звеньев между средневековой схоластической мыслью и новоевропейской рациональностью. Мысленный эксперимент, хотя и продолжает апеллировать к безусловной истине, обретает постепенно столь необходимую ему связку с миром чувственным. Мысленный эксперимент становится тем поворотным механизмом, благодаря которому меняется само представление ученого о мире. Эксперимент всё так же неразрывно связан с теорией, но теперь он уже не просто служит способом доказать её или опровергнуть; благодаря эксперименту происходит переворот самой теории. Здесь впервые проявляется их диалектическая взаимосвязь, которая предстанет в своей несомненности в современной науке. Вместе с этим начинается расцвет реального эксперимента: инструменты, механизмы, новые оптические приборы позволяют изучить предметы физической реальности настолько подробно, как это не было возможно до этого — будь то планеты или поверхность луны. Но это вызывает справедливую критику противников новой науки: может ли эксперимент сам по себе давать знание об истинной сути вещей, если по сути он собирает лишь разрозненные факты о реальности, да и те — вырванные у природы насильно? По мере того, как экспериментальные приборы становятся все эффективнее, а объекты исследования — всё более туманными, вопрос взаимоотношения субъекта и объекта исследования выходит на первый план, и для современной философии науки становится очевидно, что эти два понятия неотделимы друг от друга: рефлексия объекта науки требует не меньшей рефлексии субъекта. В то же время отношение эксперимента и теории претерпевает очередное изменение и входит в состояние бесконечной диалектики. Мы увидели, что на протяжении всей истории науки, научный эксперимент остается одновременно и противоречивым, и в то же время эффективным методом верификации, фальсификации теорий и получения нового знания. Отношения эксперимента с теорией, инструментом и механизмом, субъектом исследования, понятиями истины и объективности меняются на протяжении истории науки, однако эти изменения происходят органически. Более того, научный эксперимент 111 играет решающую роль в сменах научных парадигм на рубеже Средних веков и Нового времени, Нового времени и современности. Сейчас, из-за возрастающей сложности, дороговизны, ресурсоемкости научных исследований, эксперимент становится изолированным в научных лабораториях и становится уделом квалифицированных специалистов, целенаправленно практикующих определенные сферы знания. Эксперимент становится полностью контролируемым, запротоколированным, предсказуемым, прирученным, но от того не менее сложным с эпистемологической точки зрения. Эксперимент помогает нам в поисках объективного знания о природе, научный эксперимент является синонимом непредвзятости, отстраненности, исключённости, однако в тоже время он как ни один другой инструмент познания препарирует природу по велению человека, разделяя объект на все более мелкие части, пока не объект не перестает быть самим собой. Именно поэтому и учёным, и философам науки необходимо понимать, что вся история развития научного эксперимента говорит о том, что он — не статичное явление, и, однажды, мы можем столкнуться с очередным эпистемологическим переворотом в понимании эксперимента. Он может быть связан, например, с теорией всего — если будет создана универсальная физическая теория, описывающая все существующие в природе виды взаимодействия, то что тогда произойдёт с экспериментом? Будет ли он вытеснен на периферию науки, как чисто инструментальный прием для разработки новых видов пластмассы? Или же вместе с концом теоретической физики эксперимент приобретёт новую, доселе невозможную форму, как это произошло на рубеже средневековья и Нового времени? Мы не знаем, какие изменения нас ждут в науке будущего, но мы должны понимать, что эксперимент обязательно будет меняться вместе с ней, и нам нужно быть к этому готовым и не забывать о том, чему нас учит история — эксперимент неоднозначен, и в этом заключается его эпистемологическая мощь. В процессе исследования нами были рассмотрены работы ряда авторов, как непосредственно занимавшихся наукой ученых, так и философов науки, 112 проводивших рефлексию проблематики эксперимента. Была проведена тематизация понятия эксперимента, его взаимоотношения с теорией, объектом, субъектом и инструментом. Был проведен анализ конкретных экспериментальных практик античности, Средних веков, Нового времени и современности. Были показаны характерные для каждой их эпох внутренние противоречия в эксперименте. Проведенный анализ эксперимента в его историческом контексте позволяет нам прийти к выводу, что эксперимент в современном его понимании является исторически обусловленным феноменом, который, если мы хотим его понастоящему понять, невозможно рассматривать вне контекста его развития и появления. Исследование показывает, что значительная часть проблематики эксперимента формируется ещё в эпоху античности, впоследствии трансформируясь и обрастая новыми словами в процессе развития научной мысли. Неоднозначность научного эксперимента, таким образом, можно считать его неотъемлемым, имманентным свойством, так как она лежит в самых его основаниях. 113 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Александров, Д.А., Хагнер, М. Наука и научность в исторической перспективе / Д.А. Александров, М. Хагнер. — СПб.: Алетейя, 2007. — 336 с. 2. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: в 4-х томах. — М., Издательство «Мысль», 1975. — Т.1. — С. 63-368. 3. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: в 4-х томах. — М., Издательство «Мысль», 1983. — Т.4. — С. 53-294 4. Ахутин, А.В. История принципов физического эксперимента от античности до XVII в. / А.В. Ахутин. — М: Наука, 1976. — 292 с. 5. Бернал, Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. — М: Издательство иностранной литературы, 1956. — 736 с. 6. Бор, Н. Можно ли считать квантовомеханической описание реальности полным? // Бор Н. Избр. Науч. Труды / Н. Бор. — М.: Наука, 1971. — Т. 2. — С. 180-191. 7. Бранский, В.П. Философия физики XX века. Итоги и перспективы / В.П. Бранский. — СПб.: Политехника, 2002. — 253 с. 8. Бэкон Ф. Новый органон [Электронный ресурс] URL: http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt (Дата обращения: 02.10.2014 9. Вайцзекер, К.Ф. Физика и философия / К.Ф. Вайцзекер; [пер. с англ.] // Вопросы философии. — 1993. — № 1. — С. 115-125. 10.Ван дер Варден, Б.Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции / Б.Л. Ван дер Варден. — М.: Физматлит, 1959. — 460 с. 11.Волков, А.В. О человеческом измерении науки / А.В. Волков // Эпистемология и философия науки. — 2009. — Т. XX. — № 2. — С. 157170. 114 12.Гайденко, П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П.П. Гайденко. — М.: Университетская книга, 2000. — 456 с. 13.Галилей, Г. Диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой / Г. Галилей. — М.-Л.: ГИТТЛ, 1948. — 380 с. 14.Галилей, Г. Избранные труды в двух томах. Т.1 / Г. Галилей. — М: Наука, 1964. — 640 с. 15.Гейзенберг, В. Часть и целое / В. Гейзенберг. — М.: УРСС, 2004. — 232 с. 16.Гиппократ. Избранные книги / Гиппократ. — М: Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 1936. — 736 с. 17.Дмитриев, И.С., Никитина, С.А. «INQUISITOR DE RERUM NATURAE»: Истоки эксперименталистской методологии Ф. Бэкона [Электронный ресурс] URL: http://philosophy.spbu.ru/1697/13309 (Дата обращения: 15.04.2015) 18.Жмудь, Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме / Л.Я. Жмудь — СПб.: Алетея, 1994. — 376 с. 19.Иванова, Ю.В., Степанцов, С.А., Трактат Аврелия Августина «О христианской науке» // Культура интерпретации до начала Нового времени Под науч. редакцией: О. С. Воскобойников, Ю. В. Иванова. — М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009 — с. 125-166 20.История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов / Ред. А.С. Мамзин. — СПб: Питер, 2008. — 304 с. 21.Канке, В.А. Основные философские направления и концепции науки / В.А. Канке — М.: Логос, 2000. — 320 с. 22.Караваев, Э.Ф. Взаимосвязь истории науки и философии науки в курсе по подготовке к кандидатскому экзамену / Э.Ф. Караваев // Философия и наука. Альманах по философии образования, эвристике и методологии преподавания социогуманитарных дисциплин. — СПб.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. — С. 93-117. 23.Касавин, И.Т. Проблема и контекст. О природе философской рефлексии / И.Т. Касавин // Вопросы философии. — 2004 — № 11. — С. 19-32. 115 24.Касавин, И.Т. Проблема как форма знания / И.Т. Касавин // Эпистемология и философия науки. — 2009.- Т. XXII № 4. — С. 5-13. 25.Кнорр-Цетина, К. Наука как практическая рациональность / К. КноррЦетина; [пер. с нем.]. // Ионин Л.Г. Философия и методология эмпирической социологии / Л.Г. Ионин. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004. –С. 318-330. 26.Кожев А. Христианское происхождение науки // Атеизм и другие работы М: Праксис, 2006 С. 416-429. 27.Койре, А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной / А. Койре. — М: Логос, 2001. — 288 с. 28.Косарева, Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры / Л.М. Косарева. — М: Институт психологии РАН, 1997. — 359 с. 29.Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун М.: Аст, 2009. — 320 с. 30.Лакатос, И. Методология исследовательских программ / И. Лакатос. — М.: Аст, Ермак, 2003. — 384 с. 31.Латур, Б. Научные объекты и правовая объективность / Б. Латур; [пер. с англ.] // Герменея. Журнал философских переводов. М., 2010. — № 1(2). — С. 78-120. 32.Латур, Б. Дайте мне лабораторию, и я переверну мир / Б. Латур; [пер. с англ.] // Логос — 2002. — №5-6. 33.Латур, Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки / Б. Латур; [пер. с англ.] // Вестник МГУ, Сер. Философия. — 2003.- №3. — С. 20-39. 34.Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? / Ж.-Ф. Лиотар // Постмодерн в изложении для детей. Письма 1982-1985. — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. — 145 с. 35.Льоцци, М. История физики / М. Льоции. — М: Мир, 1970. — 464 с. 36.Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности / М.К. Мамардашвили. — М.: Лабиринт, 1994. — 88 с. 116 37.Мамчур, Е.А. Образы науки в современной культуре / Е.А. Мамчур. — М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация». 2008. — 400 с. 38.Мегилл, А. Историческая эпистемология / А. Мегилл; [пер. с англ.]. — М.: Канон+, 2007. — 480 с. 39.Нейгебауер, О. Точные науки в древности / О. Нейгебауер. — М.: Наука, 1968. — 224 с. 40.Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под ред. В. С. Стёпина. М.: Мысль. 2001. 41.Поппер, К. Объективное знание. Эволюционный подход / К. Поппер; [пер. с англ.]. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 384 с. 42.Пригожин, И., Стенгерс, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. — М.: УРСС, 2003. — 304 с. 43.Пуанкаре, А. О науке / А. Пуанкаре; [пер. с франц.]. — М.: Наука, 1983. — 560 с. 44.Райнбергер, Х.-Й. Частицы в цитоплазме: пути и судьбы одного научного объекта // Наука и научность в исторической перспективе / Ред. Д. Александров, М. Хагнер СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Алетейя, 2007. — С. 284-316. 45.Романовская, Т.Б. Объективность науки и человеческая субъективность или в чем состоит человеческое измерение науки / Т.Б. Романовская. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 208 с. 46.Сен-Викторский, Г. Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/acts/12/2/gugo_sv2.htm Дата обращения: 4.09.2014 47.Сенека. Философские трактаты / Сенека. — СПб.: Алетейя, 2001. — 399 с. 48.Стёпин, В.С. Эволюция этоса науки: от классической к постнеклассической рациональности // Этос науки / Ред. Л.П. Киященко, Е.З. Мирская. — М.: Академия, 2008. С. 21-47 49.Философия науки и техники / Ред. В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, М. А. Розов — М.: Гардарики, 1999. — 400 с. 117 50.Фоллмер, Г. Размышления о книге Дж. Хоргана «Конец науки» / Г. Фоллмер // Эпистемология & философия науки, т. II, №2. 2004. С. 136-152 51.Койре, А. Очерки философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий / А. Койре; [пер. с фр.]. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 272 с. 52.Фрагменты ранних греческих философов, Часть I. / Сост. А.В. Лебедев. — М: Наука, 1989. — 576 с. 53. Фок, В.А. Интерпретация квантовой механики / В.А. Фок // Успехи физических наук. 1957. — Т. LXII. — вып. 4. — С. 461-474. 54.Фок, В.А. Квантовая физика и философские проблемы / В.А. Фок // Нильс Бор. Избранные научные труды. Т. II. Статьи 1925 — 1961. М.: Наука, 1971. — С. 648-650. 55.Фуко, М. Что такое Просвещение? / М. Фуко // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть I. — М.% Праксис, 2002. — С. 335-359. 56.Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне. / Ю. Хабермас. — М.: Издательство «Весь Мир», 2003. — 416 с. 57.Хакинг, Я. Представление и вмешательство. Начальные вопросы философии естественных наук / Хакинг Я. — М.: Логос, 1998. — 296 с. 58.Хокинг, С. Мир в ореховой скорлупке / С. Хокинг. — СПб.: Амфора, 2007. — 218 с. 59.Эйнштейн, А. Мотивы научного исследования // Эйнштейн, А. Собр. науч. трудов: в 4-х томах / А. Эйнштейн. — М.: Наука, 1967. — Т. IV. — С. 2941. 60.Bartholomew, M. James Lind and scurvy: A revaluation / M. Bartholomew // Journal for Maritime Research. 2002. 4:1. — Pp. 1-14. 61.Burnet, J. Early Greek Philosophy / J. Burnet. — London: A. and C. Black, 1908. — 269 p. 62.Blüh, O. Did the Greeks Perform Experiments? // American Journal of Physics, 17, 384 (1949). 118 63.Cartwright, N. How the Laws of Physics Lie / N. Cartwright. — N. Y.: Clarendon press, 1983. — 221 p. 64.Dales, R. C. Robert Grosseteste's Scientific Works / R. C. Dales // Isis. Vol. 52, No. 3. 1961. Pp. 381-402. 65.Daston, L., Galison, P. Objectivity / L. Daston, P. Galison. — New York: Zone Books, 2007. — 501 p. 66.Dear, P. From Truth to Disinterestedness in Seventeenth Century / P. Dear // Social Studies of Science. — 1992. — № 22. — P. 619-631. 67.Drake, S. Renaissance Music and Experimental Science / S. Drake // Journal of the History of Ideas. Vol. 31. No. 4. 1970. — Pp. 483-500. 68.Eastwood, B. S. Mediaeval Empiricism: The Case of Grosseteste's Optics / B. S. Eastwood // Speculum. Vol. 43. No. 2. 1968. — Pp. 306-321 69.Ekholm, K. J. Harvey’s and Highmore’s Accounts of Chick Generation / K. J. Ekholm // Early Science and Medicine. No. 13. 2008. — Pp. 568-614 70.Breisach, E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern, Third Edition / E. Breisach. — Chicago: University of Chicago Press, 2008. — 500 p. 71.Gomperz, H. Problems and Methods of Early Greek Science / H. Gomperz // Journal of the History of Ideas. Vol. 4. No. 2. 1943. — Pp. 161-176. 72.Gordin, M. D. Seeing Is Believing: Professor Vagner’s Wonderful World / M. D. Gordin // Histories of Scientific Observation Ed. By Daston L., Lunbeck E. — Chicago: The University of Chicago Press, 2011. — Pp. 135-155. 73.Greene, B. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory / B. Green. — New York: Vintage Books, 2000. — 464 p. 74.Grellard, C. Thought Experiments In Late Medieval Debates On Atomism / C. Grellard // Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts Ed. by Ierodiakonou K., Roux S. — Boston: Brill, 2011. Pp. 65-82. 75.Hacking, I. Self-Vindication of the Laboratory Sciences / I. Hacking // A. Pickering, Science as Practice and Culture, Chicago: University of Chicago Press, 1991. — 233 p. 119 76.Heidel, W. A. Heroic Age of Science / W. A. Heidel. — Baltimore: Williams and Wilkins, 1933. — 200 p. 77.Latour, B. Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society / B. Latour. — Cambridge, Mass: Harvard University Press. — 1987. — 282 p. 78.Lewis, N. Robert Grosseteste / N. Lewis // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition) [Электронный ресурс] http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/grosseteste/ URL: (Дата обращения 4.09.2014) 79.Lloyd, G.E.R. Methods and Problems in Greek Science: Selected Papers / G.E.R. Lloyd. — Cambridge: CUP Archive, 1993. — 457 p. 80.Oliver, S.R. Grosseteste on Light, Truth and "Experimentum" / S.R. Oliver // Vivarium. Vol. 42. No. 2. 2004. — Pp. 151-180. 81.Palmieri, P. “Spuntar lo scoglio piu` duro”: did Galileo ever think the most beautiful thought experiment in the history of science? / P. Palmieri // Studies in History and Philosophy of Science. No. 36. 2005. — Pp. 223-240. 82.Pedersen, O. Early physics and astronomy: A historical introduction / O. Pedersen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. — 413 p. 83.Roach, M. Gulp: Adventures on the Alimentary Canal / M. Roach. — New York: W. W. Norton & Company, 2013. — 352 p 84.Sargent R.-M. Scientific experiment and legal expertise: The way of experience in seventeenth-century England / R.-M. Sargent // Studies in History and Philosophy of Science Part A. Vol. 20. No. 1. 1989. — Pp. 19-45. 85.Sambursky, S. The Physical World of the Greeks / S. Sambursky. — London: Routlege, 1964. — 255 p. 86.Serene, E.F. Robert Grosseteste on Induction and Demonstrative Science / E.F. Serene // Synthese. Vol. 40. No. 1. 1979. — Pp. 97-115. 87.The Cambridge History Of Science Vol. 2 Medieval Science / M.H. Shank, D.C. Lindberg. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 667 p. 120 88.Shapin, S., Schaffer, S. Leviathan and the Air-Pump / S. Shapin, S. Schaffer Princeton: Princeton University Press, 1985. — 441 p. 89.Shea, W.R. Galileo, Scheiner, and the Interpretation of Sunspots / W.R. Shea // Isis. Vol. 61. No. 4. 1970. Pp. — 498-519. 90.Thorndike, L. A History of Magic and Experimental Science Vol. 1 / L. Thorndike. — New York: Macmillan, 1923. — 835 p. 91.Totelin, L. And to end on a poetic note: Galen’s authorial strategies in the pharmacological books / L, Toteling// Studies in History and Philosophy of Science. No. 43. 2012. — Pp. 307-315. 92.Van Fraassen, B. The Scientific Image / B. van Fraassen. — Oxford: Clarendon Press, 1980. — 235 p. 93.Von Staden, H. Experiment And Experience In Hellenistic Medicine / H. von Staden // Bulletin of the Institute of Classical Studies. Vol. 22. No. 1. 1975. — Pp. 178–199. 94.White, P.S. The Experimental Animal in Victorian Britain / P.S. White // Thinking With Animals: New Perspectives on Anthropomorphism / Ed. By L. Daston, G. Mitman. — New York: Columbia University Press, 2005. — 229 p. 95.Williams, H.A History of Science in Five Volumes, Vol. I. The Beginnings of Science. [Электронный ресурс] URL: http://www.gutenberg.org/ebooks/1705. (Дата обращения: 4.10.2014) 121
