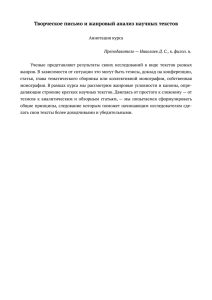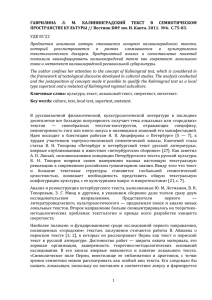Текстуальная революция в России как реализация схемы
advertisement
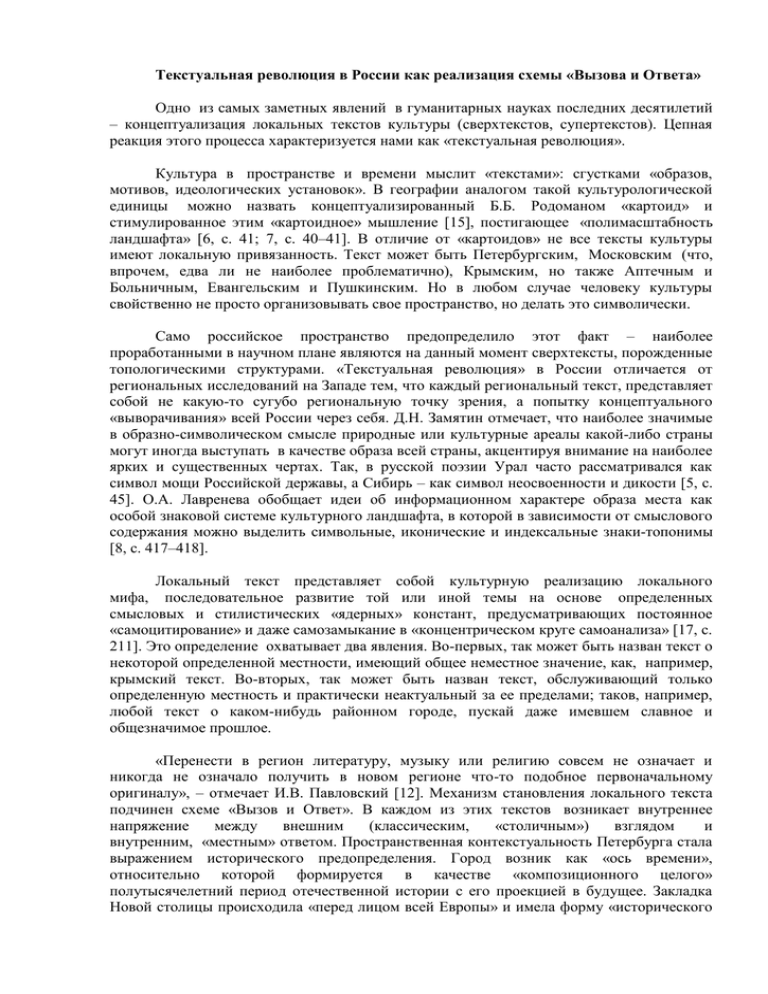
Текстуальная революция в России как реализация схемы «Вызова и Ответа» Одно из самых заметных явлений в гуманитарных науках последних десятилетий – концептуализация локальных текстов культуры (сверхтекстов, супертекстов). Цепная реакция этого процесса характеризуется нами как «текстуальная революция». Культура в пространстве и времени мыслит «текстами»: сгустками «образов, мотивов, идеологических установок». В географии аналогом такой культурологической единицы можно назвать концептуализированный Б.Б. Родоманом «картоид» и стимулированное этим «картоидное» мышление [15], постигающее «полимасштабность ландшафта» [6, c. 41; 7, c. 40–41]. В отличие от «картоидов» не все тексты культуры имеют локальную привязанность. Текст может быть Петербургским, Московским (что, впрочем, едва ли не наиболее проблематично), Крымским, но также Аптечным и Больничным, Евангельским и Пушкинским. Но в любом случае человеку культуры свойственно не просто организовывать свое пространство, но делать это символически. Само российское пространство предопределило этот факт – наиболее проработанными в научном плане являются на данный момент сверхтексты, порожденные топологическими структурами. «Текстуальная революция» в России отличается от региональных исследований на Западе тем, что каждый региональный текст, представляет собой не какую-то сугубо региональную точку зрения, а попытку концептуального «выворачивания» всей России через себя. Д.Н. Замятин отмечает, что наиболее значимые в образно-символическом смысле природные или культурные ареалы какой-либо страны могут иногда выступать в качестве образа всей страны, акцентируя внимание на наиболее ярких и существенных чертах. Так, в русской поэзии Урал часто рассматривался как символ мощи Российской державы, а Сибирь – как символ неосвоенности и дикости [5, c. 45]. О.А. Лавренева обобщает идеи об информационном характере образа места как особой знаковой системе культурного ландшафта, в которой в зависимости от смыслового содержания можно выделить символьные, иконические и индексальные знаки-топонимы [8, c. 417–418]. Локальный текст представляет собой культурную реализацию локального мифа, последовательное развитие той или иной темы на основе определенных смысловых и стилистических «ядерных» констант, предусматривающих постоянное «самоцитирование» и даже самозамыкание в «концентрическом круге самоанализа» [17, c. 211]. Это определение охватывает два явления. Во-первых, так может быть назван текст о некоторой определенной местности, имеющий общее неместное значение, как, например, крымский текст. Во-вторых, так может быть назван текст, обслуживающий только определенную местность и практически неактуальный за ее пределами; таков, например, любой текст о каком-нибудь районном городе, пускай даже имевшем славное и общезначимое прошлое. «Перенести в регион литературу, музыку или религию совсем не означает и никогда не означало получить в новом регионе что-то подобное первоначальному оригиналу», – отмечает И.В. Павловский [12]. Механизм становления локального текста подчинен схеме «Вызов и Ответ». В каждом из этих текстов возникает внутреннее напряжение между внешним (классическим, «столичным») взглядом и внутренним, «местным» ответом. Пространственная контекстуальность Петербурга стала выражением исторического предопределения. Город возник как «ось времени», относительно которой формируется в качестве «композиционного целого» полутысячелетний период отечественной истории с его проекцией в будущее. Закладка Новой столицы происходила «перед лицом всей Европы» и имела форму «исторического ответа». Петербург – артикуляция симметрично-неравноправного «имперского диалога». В «симметрии» Невского проспекта оказались расставлены неслучайные смысловые акценты, притом что приоритеты политического экономического партнерства не могли распространяться на равенство позиций в сфере духовной (кумира на бронзовом коне и местного маргинала Евгения). Ответом на имперский романтический («туристический», по определению М.А. Волошина) миф Тавриды стал «внутренний» миф Киммерии [3, c. 217], который, впрочем, А.А. Ахматовой тоже казался неуместным «вызовом», почему она полемически идентифицировала себя в своем крымском измерении как «последняя херсонидка» [10, c. 240]. Ответом на поверхностно-идеологическое рассмотрение Сибири представителями русской классической литературы, позволявшей, в частности, Л.Н. Толстому стать «толстовцем», было литературное и общественное движение «областничества». Урал – тоже место поиска общей, но «геологически обоснованной истины» [16, c. 78–79]. В конечном счете, самой концепцией Петербургского текста В.Н. Топоров бросил методологический вызов России, и та ответила ему текстуальной революцией гуманитарного знания. Вызов В. Топорова заключался в заявленной эксклюзивности данной концепции, постулирующей ее «непереносимость» на другие пространства. Ответ – в повсеместном учреждении разнообразных локальных «текстов культуры» разного уровня и масштаба. Внимательное изучение данных наработок позволяет сделать вывод, что, как правило, весь уже накопленный материал является не поверхностным подражанием, как это может показаться на первый взгляд, а ответом самого российского пространства, со всеми его особенностями и всего ранее сформировавшегося комплекса гуманитарного знания на глубинные потребности национального семиозиса. Возникновение каждого нового типа семиозиса и семиосферы представляет собой не что иное, как семиотическую мутацию [4, c. 11]. Сама по себе семиотическая мутация возникает в ситуации, описанной А. Тойнби как механизм «Вызова и Ответа». В общем же механизме поиска, отбора и внедрения семиотической мутации видится аналогия с синергетическим механизмом самоструктурирования социума. Некоторые филологи держат текстологическую оборону, пытаясь построить разделительную филологическую «решетку», охраняющую наследие ученого («строгую» филологию) от вольной интерпретации («популярной культурологии») и использования применительно к иным пространствам. Между тем сам В.Н. Топоров не только отстаивал уникальность Петербургского текста, но и обучал желающих правилам выхода за его пределы, не боясь «сорваться с проспекта прямо в метафизику» [17, c. 657]. Эта «метафизика» выхода на оперативные просторы новой «русской теории», как можно закрепить данное, по-разному используемое ранее понятие именно за текстологической концепцией русской культуры в ее локальном измерении, получает мощную концептуальную поддержку в других работах этого ученого. «Даже в этом неполном виде (т. е. еще не столь семантически насыщенном, как пространство Петербургского текста. – А. Л.) портрет Земли весьма информативен, – пишет он в статье “К реконструкции балто-славянского образа земли-матери”, – он характеризуется двумя сотнями ключевых слов, которые в сочетании с словом Земля и некоторыми другими словами – как полнозначными, так и служебными – образуют большое количество контекстов… Из этих контекстов легко составляются тексты, чаще всего вполне самодостаточные. Одни из этих текстов довольно близки (или даже просто тождественны) известным и реально засвидетельствованным текстам, другие дают возможность реконструировать “потенциальные” тексты, которые некогда могли существовать, но в русской или славянской традиции не сохранились. Тем более важны такие потенциальные “микротексты”, если они находят подтверждение в родственных культурно-языковых традициях – балтийской, древнеиндийской, древнеиранской, древнегреческой, древнегерманской и других, и в таком случае позволяют приблизить потенциальную реконструкцию неизвестного славянского фрагмента к реальной … Учитывая множество подобных “микротекстов” и целый ряд некоторых более пространных текстов, можно утверждать, что в распоряжении исследователя оказывается и значительная часть морфологического инвентаря и даже ряд синтаксических схем, а иногда и некоторые элементы поэтики соответствующих текстов, что также повышает надежность реконструкции» [18, c. 272–273]. «Реконструкция» места В. Топорова – типологический ответ на вызов М. Хайдеггера, настаивавшего в своем на том, что наш язык и наши земные пределы — это та открытость, в которую мы выходим по ту сторону нашего собственного «я», наших привычек, истории и мира как такового. «Наше место — в той темной и расплывчатой экстратерриториальности, которая и есть теперь фундамент нашего дома. Таковы исторические координаты земного существования, которое настойчиво вопрошает нас, не предлагая комфорта воспроизводства тех готовых локальных истин, которых мы жаждем, тех “истин”, которые только укрепляют нас в нашем эгоизме и ставят нас в центр мира. Именно эту экстратерриториальность, открытость Хайдеггер называет местом нашего бытия» [19, c. 41]. Методы считывания В.Н. Топоровым «текстов земли» «сверху» и их практическая концептуализация и полевые исследования И.В. Павловским, Д.Н. Замятиным, О.А. Лавреневой, И.И. Митиным и др. «снизу» вполне соответствуют расширенному пониманию текстуальности в проекте социологии культуры А. Реквица, который излагается в статье немецкого слависта Д. Бахманн-Медик «Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии. Вызовы, границы, перспективы» (представляющей собой специально подготовленный для российского читателя вариант послесловия к его книге «Культура как текст»). Проект нацелен на понимание текстов через «теорию практик», именно в этом направлении интерпретируя «культуру как текст» — не под знаком «чистого резервуара значений», а в качестве «смысловых образцов как “моделей, руководящих действиями”, или как “совокупности диспозиций действия”» [2, c. 45]. Текстуальная революция имеет свои горизонтальное и вертикальное измерения. Единый текст культуры – это осмысление рефлексий по поводу культуры и в то же время творческая потенция в самореализации культуры. Самые объемные текстуальные оппозиции русской культуры –«горизонтальная», предстающая все более абстрактной – оппозиция Восток – Запад и менее идеологизированная, исторически первичная внутри культурная «вертикальная» оппозиция Север – Юг (с ее «северным» и «южным» текстами). «“Парадигма” противостояния России “Западу” как целому, – писал Ю. Левада, – оформилась лишь в XIX в., после наполеоновских войн и обладает многими характеристиками позднего социального мифа... Образ “Запада” во всех его противостояниях (официально-идеологическом, рафинированно-интеллигентском или простонародном) – это прежде всего некое превратное, перевернутое отображение своего собственного существования (точнее, представления о себе, своем). В чужом, чуждом, запретном или вожделенном видят прежде всего или даже исключительно то, чего недостает или что не допущено у себя. Интерес к “Западу” в этих рамках – напуганный или завистливый, все равно – это интерес к себе, отражение собственных тревог или... надежд» [9, c. 180–181]. Этот, по выражению Левады, «комплекс зеркала» объясняется многими критическими переломами и перипетиями русской истории и культуры. Взаимодействия самых общих культурных текстов – Северного и Южного – осуществляется и в текстах иного уровня. Поморская культура как квинтэссенция Северного текста возникла в результате колонизации пришлым русским населением северных территорий. Но это был особый тип колонизации, важнейшей стороной которой была «монастырская колонизация» преимущественно безжизненных и малонаселенных просторов, хотя известны и эпизоды этнических конфликтов. «Русское население, пришедшее на Север с более южных территорий, не только создает новую систему жизнеобеспечения, более адекватную, чем их традиционная, в новой для него вмещающей среде, но и “строит” во взаимодействии с местным населением свою сакральную среду – среду своей собственнойкультуры, воспроизводя тем самым воплощенную в совокупности культовых сооружений духовную ее составляющую. Таким образом, природный ландшафт превращается в культурный ландшафт, который включает в себя как профанную, так и сакральную части. Последняя является для пришельцев вещественно реализованной “картиной Мира”, и на ее создание тратится заметная доля общественных энергоресурсов» [1, c. 153]. В целом процесс освоения Севера порождался не «материальными» (в широком смысле слова) интересами или нуждами людей, а преимущественно духовными. На север изначально шли не столько колонисты, сколько люди, руководствовавшиеся православной идеей поиска Града Небесного, Царства Божия на Земле. Материальные интересы имели второстепенное значение. Южный культурный вектор имел в русской культуре более прагматичную направленность. «Море – наше поле», – взял на историософское вооружение поговорку архангельских поморов писатель ХХ в. Борис Шергин. Отчасти это напоминает «геософию» «южанина» Максимилиана Волошина. «Материк был для него стихией текущей и зыбкой – руслом великого океана, по которому из глубины Азии в Европу текли ледники и лавины человеческих рас и народов. Море было стихией устойчивой, с постоянной и ровной пульсацией приливов и отливов средиземноморской культуры. “Дикое Поле” и “Маре Интернум” определяли историю Крыма. Для Дикого Поля он был глухой заводью» [3, c. 215]. В отличие от «земного» Волошина для Шергина именно море – изначальная стихия русской души как таковой, ее «твердый фундамент», материк, а также «души моей строитель», причем не какое-то «внутреннее» и по-нутряному теплое, среди-земное море, а распахнутое «великое море Студенец-окиан». У Пушкина из места «вывернутой» полночно-полуденной (северо-южной) ссылки (крайний юг южного полушарья, вблизи которого находится пустынный остров святой Елены – зеркальный аналог овидиевого «севера») выводится обнадеживающая для полунощной страны весть. Хвала!.. Он русскому народу Высокий жребий указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал. Еще далее продвинулся Пушкин в этом направлении в повести «Капитанская дочка». Пугачев при первом появлении как будто бы сгустился из снежной бури: «Я ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели… Вдруг увидел я что-то черное… Ямщик стал всматриваться: “А бог знает, барин… Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек”». То же, кстати, и в «Бесах»: «Что там в поле, пень иль волк?» Таким образом, пугачевщина предстает полнощной изнанкой российской истории, готовой сокрушить не только искусственно-стройный город, но и искусственно-стройное государство, созданное той же самой историей. Петр в «Медном всаднике» воплощает обе ипостаси России. Во вступлении к поэме он присутствует как исторический человек. В основных частях поэмы – как наводящий ужас истукан. Между прочим, не столько усмиряющий возмущенные волны, сколько провоцирующий и вдохновляющий их буйство своей простертой дланью [14]. Для Гоголя северо-южный инициальный проект в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», по замечанию И. Поплавской, воспроизводит в отдельных деталях структуру волшебной сказки, включая четыре основных момента: уход героя из дома, поиск волшебного помощника, временную смерть, за которой следует воскресение, а затем возвращение на родину [13]. В контексте ветхозаветной гностической традиции путешествие Вакулы из Диканьки в Петербург осмысляется в пространственном отношении как движение с Юга на Север, где Юг символически соотносится с Западом, а Север – с Востоком. При этом образ Диканьки выступает как своеобразный центр западного мира, который имеет тенденцию к неограниченному расширению как во внешнем, так и во внутреннем плане. Так, упоминание в повести сорочинского заседателя и шинкаря из Нежина, городов Миргорода и Полтавы формирует характерную центробежную пространственную модель повести. Напротив, подробное описание внутреннего убранства диканьской церкви, хат Чуба, Солохи и Пацюка обнажает центростремительные пространственные связи. Эти противоположные тенденции создают целостный и одновременно внутренне противоречивый мир, онтологическая сущность которого определяется через распадение слова и дела, намерения и поступка. Приказание же Оксаны достать ей сапоги, которые царица носит, воспринимается как словесный императив для героя, заставляющий его отправиться в Петербург, который так же, как и Диканька оказывается целостным и в то же время внутренне поляризованным миром. С одной стороны, Петербург как русский аналог Иерусалима, как средоточие земной Премудрости органично совмещает в себе слово и поступок, становится своего рода символом исполненного слова. С другой стороны, проводником героя в Петербурге выступает черт. Возвращение же затем в Диканьку описывается, как и реальное, и метафизическое воскресение. Так через пространственное движение главного героя с Юга на Север и обратно раскрывается своеобразие трактовки писателем гностического. Подчеркивается равнозначность и Диканьки, и Петербурга в плане обретения героем высшего здания. В параллельной христианско-мифологической традиции путешествие героя с Юга на Север соотносится с картинами Страшного суда и Ада, находящихся соответственно в правом и левом притворах диканьской церкви. При этом правая сторона воспринимается в повести как аналог Севера и Востока, а левая – Юга и Запада. Так, пространственная симметрия, объединяющая в повести Север (Петербург) и Юг, Восток и Запад, проецируется на ключевые символы Священной истории. Список литературы 1. Базарова Э.Л., Бицадзе Н.В., Окороков А.В., Селезнева Е.В., Черносвитов П.Ю. Культура русских поморов. М., 2005. 2. 2. Бахманн-Медик Д. Режимы текстуальности в литературоведении и культурологии. Вызовы, границы, перспективы // НЛО. № 107 (2011. № 1). 3. Волошин М.А. Коктебельские берега. Симферополь, 1990. 4. Гриценко В.П. Культура как знаково-семиотическая система: Автореф. дисс. … докт. филос. наук. М., 2000. 5. 5. Замятин Д.Н. Социокультурное развитие Сибири и его образногеографические контексты // Проблемы сибирской ментальности. СПб., 2004. 6. Каганский В.Л. Мир культурного ландшафта // Наука о культуре. Итоги и перспективы. Вып. 3. М., 1995. 7. Калуцков В.Н. Ландшафт в культурной географии. М., 2008. 8. Лавренева О.А. Образ места и его значение в культуре провинции // Геопанорама русской культуры: провинция и ее локальные тексты. М., 2004. 9. Левада Ю. Советский человек и западное общество: проблема альтернативы // Левада Ю. Статьи по социологии. М., 1993. 10. Найман А.Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 2009. 11. Орехова Л.А. Север и Юг в биографии Н.И. Надеждина: мифологический и архивно-фактографический аспекты // Северный текст в русской культуре: Материалы международной конференции, Северодвинск, 25–27 июля 2003 г. / Отв. ред. Н.И. Николаев. Архангельск, 2003. 12. Павловский И.В. Магия Земли. Научный вектор и околонаучные термины // Россия и Запад: диалог культур. 2013. № 2. URL: http://regionalstudies.ru/journal/homejornal/rubric/2012-11-02-22-03-27/271--q-q.pdf 13. Поплавская И.А. Мифопоэтика сюжета путешествия в раннем творчестве Н.В. Гоголя («Ганц Кюхельгартен, «Вечера на хуторе близ Диканьки) // Святоотеческая традиции в русской литературе. Ч. 2. Литература как культурный феномен. Омск, 2005. 14. Поспелов Г. Полнощный и полуденный края в мироощущении пушкинской эпохи // Искусствознание. 1999. № 2. 15. Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды: Сб. трудов. Смоленск, 2007. 16. Славникова О.А. 2017: Роман. М., 2006. 17. Топоров В.Н. Петербургский текст. М., 2009. 18. Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. 4. Кн. 1. М., 2010. 19. Чемберс Й. Рамки земли: Хайдеггер, гуманизм и «Дом» // НЛО. № 114 (2012. № 2).