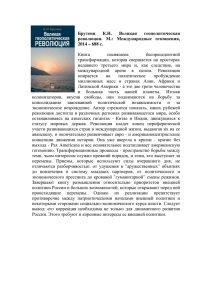Революция как идеологема (к историй формирования)
advertisement
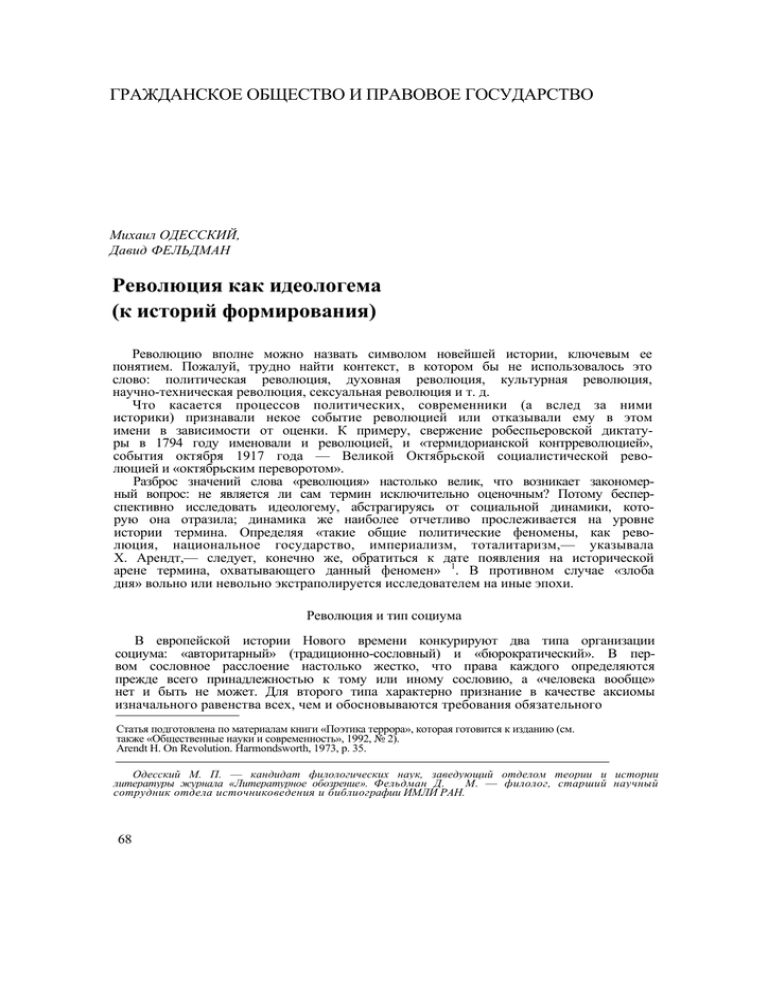
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО Михаил ОДЕССКИЙ, Давид ФЕЛЬДМАН Революция как идеологема (к историй формирования) Революцию вполне можно назвать символом новейшей истории, ключевым ее понятием. Пожалуй, трудно найти контекст, в котором бы не использовалось это слово: политическая революция, духовная революция, культурная революция, научно-техническая революция, сексуальная революция и т. д. Что касается процессов политических, современники (а вслед за ними историки) признавали некое событие революцией или отказывали ему в этом имени в зависимости от оценки. К примеру, свержение робеспьеровской диктатуры в 1794 году именовали и революцией, и «термидорианской контрреволюцией», события октября 1917 года — Великой Октябрьской социалистической революцией и «октябрьским переворотом». Разброс значений слова «революция» настолько велик, что возникает закономерный вопрос: не является ли сам термин исключительно оценочным? Потому бесперспективно исследовать идеологему, абстрагируясь от социальной динамики, которую она отразила; динамика же наиболее отчетливо прослеживается на уровне истории термина. Определяя «такие общие политические феномены, как революция, национальное государство, империализм, тоталитаризм,— указывала X. Арендт,— следует, конечно же, обратиться к дате появления на исторической арене термина, охватывающего данный феномен» 1. В противном случае «злоба дня» вольно или невольно экстраполируется исследователем на иные эпохи. Революция и тип социума В европейской истории Нового времени конкурируют два типа организации социума: «авторитарный» (традиционно-сословный) и «бюрократический». В первом сословное расслоение настолько жестко, что права каждого определяются прежде всего принадлежностью к тому или иному сословию, а «человека вообще» нет и быть не может. Для второго типа характерно признание в качестве аксиомы изначального равенства всех, чем и обосновываются требования обязательного Статья подготовлена по материалам книги «Поэтика террора», которая готовится к изданию (см. также «Общественные науки и современность», 1992, № 2). Аrеndt H. On Revolution. Harmondsworth, 1973, p. 35. Одесский М. П. — кандидат филологических наук, заведующий отделом теории и истории литературы журнала «Литературное обозрение». Фельдман Д. М. — филолог, старший научный сотрудник отдела источниковедения и библиографии ИМЛИ РАН. 68 соблюдения «естественных прав человека». Соответственно формулируется и отношение к государственной власти. В «авторитарном» обществе носитель власти — монарх — сакрализован. Он считается особой священной, его право повелевать — Богоданно. Социум — в целом — осознает (и признает), что законный монарх рожден властвовать и властвует по природе своей, отличной от природы подданных, а вопрос о том, кому быть (стать) монархом — прежде всего, вопрос происхождения. Согласие же общества на подчинение законному монарху вроде бы само собой подразумевается. В «бюрократическом» обществе природа у всех — по определению — одна, следовательно, право повелевать уже не признается изначальным (Богоданным) и нуждается в обосновании. Правительство вынуждено добиваться согласия социума, без чего перестает быть правительством. В зависимости от того, какими средствами правительство получает согласие социума, «бюрократические» общества подразделяются на «демократические» и «тоталитарные». В первых согласие — результат компромисса, баланса мнений и сил — политических партий, различного рода ассоциаций, центра и провинций и т. п. Компромисс обеспечивается «демократической» процедурой выборов. Во вторых правительства добиваются согласия, используя чрезвычайные меры устрашения, необходимость которых доказывают ссылкой на некие чрезвычайные обстоятельства. В обществах «авторитарного» и «демократического» типов чрезвычайные меры устрашения возможны лишь в качестве эксцессов. Жестокий монарх свирепствует не ради того, чтобы доказать свое право на власть — оно и так бесспорно. «Демократическое» правительство порою вводит чрезвычайное положение, которым оправдывает применение репрессий, законам не соответствующих, но дела- ' ется это не с целью подтверждения собственной легитимности (подобные меры ее отрицают), а для решения конкретных локальных задач — ведения войны, выхода из экономического кризиса и т. п. По мере решения поставленных задач правительство отменяет чрезвычайное положение или — с изменением баланса сил в обществе — уступает место другому правительству, предложившему альтернативную программу. А вот «тоталитарный» режим варьирует лишь формы устрашения, суть же самого способа управления, равным образом ссылка на чрезвычайные обстоятельства — неизменны. Чрезвычайные меры подавляют волю социума к сопротивлению, вынуждая каждого беспрекословно повиноваться правительству2. Динамика преобразования «авторитарного» типа социума в «бюрократический», а также противопоставление в рамках последнего «демократии» «тоталитаризму» и отражена в идеологеме «революция». От астрономии — к политике Первоначально латинское слово «revolutio» использовалось в качестве естественнонаучного термина, означающего «обращение», «оборот», «переворот», «круговорот», применительно к астрономическим процессам, о чем, к примеру, свидетельствует заглавие трактата Н. Коперника «De revolutionibus orbium coelestium» — «Об обращениях небесных сфер» (1543)3. К XVII веку термин переходит в лексику политическую, и смысл его несколько 2 См., например, Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М., 1896; T o e n n i e s F. Gemeinschaft und Gesellschaft. Berlin, 1926; Б о г д а н о в А. А. Вопросы социализма. М., 1990; Weber M. Staatssoaologie. Berlin, 1966; Камю А. Бунтующий человек. М., 1990; Тalmоn J. L. The Rise of Totalitarian Democracy. New York, 1970; S o r o k i n P. Social and Cultural Dynamics. V. 2. New York, 1962. 3 Истории слова и понятия «революция» посвящен фундаментальный труд К. фон Гриванка ( G r i e wank К. von. Der neuzeitliche Revolutionsbegriff: Entstehung und Entwicklung. Weimar, 1955), где указаны астрономические контексты слова «revolutio» в сочинениях И. Кеплера, Г. Галилея (s. 171 — 173). 69 иной: изменение государственного порядка. Вероятно, расширение семантического поля было обусловлено почти повальным увлечением политиков астрологией. Кстати, со времен античности для историков характерно использование «астрономических» понятий при описании социальных процессов, когда эти процессы воспринимаются в качестве проявления неких общих закономерностей. «Астрономизм классической философии истории,— писал А. Лосев,— навсегда остался в памяти человечества как один из самых ярких и своеобразных типов философии вообще». По мнению русского философа, «это вечное и правильное движение небесного свода является только предельным обобщением всякой внутрикосмической, а в том числе и человеческой жизни» 4. Потребность в понятии «революция» возникла благодаря значительным трансформациям общественного сознания, связанным с реалиями эпохи позднего Возрождения. Мир, указывает современный исследователь, «не воспринимался в средние века в изменении. Он стабилен и неподвижен в своих основах. Перемены касаются лишь поверхности Богом установленной системы. Привнесенная христианством идея исторического времени не могла преодолеть этой коренной установки. В результате даже историческое сознание в той же мере, в какой о нем возможно говорить применительно к средневековью, оставалось, по существу, антиисторичным» 5. Новомодный термин «революция» употреблялся прежде всего как антоним «неизменности», «постоянства». Но в то же время его значение принципиально отличалось от ныне привычного. Например, А. де Перефикс именовал «революцией» восстановление сильной королевской власти Генрихом IV в 1594 году 6, тогда как свержение и казнь Карла I в 1649 году назвали «Великой революцией» лишь историки XIX века, а современники, если и пытались охарактеризовать события терминологически, то предпочитали иные определения: «Великий бунт» (Great Rebellion) или же нейтральное — «Гражданская война» (Civil War)7. Противопоставление революции бунту — отнюдь не парадокс для философов XVII века. Бунт — восстание против законной власти, это отклонение от нормы, преступление, а вот контрпереворот (насилие, обращенное против узурпаторов) уже не преступно, поскольку результат его — возвращение к норме. Революция — контрпереворот: посредством ее происходит возвращение к норме, каковой считалась власть законного монарха. Следуя этой схеме, Т. Гоббс считал революцией реставрацию Стюартов — восшествие на престол Карла II, сына Карла I, что ныне кажется терминологической путаницей. Подобные суждения встречались и позже. Революциями европейцы именовали российские дворцовые перевороты8, в том числе и свержение в 1762 году Петра III9, завершившееся восшествием на престол Екатерины II, да и сама Екатерина II, планируя в 1792 году войну с республиканской Францией, называла «революцией» насильственное отстранение республиканцев от власти. «Революция эта (cette revolution),— писала она,— без сомнения, должна состоять не в чем ином, как в восстановлении монархического управления, которое существует со времен прихода франков» 10. Однако на исходе XVIII века такое словоупотребление — уже явный анахронизм, если не парадокс. 4 Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977, с. 201—202. Г у р е в и ч А. Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984, с. 140. 6 См.: Рeref i x e H. de. Histoire du Roy Henry le Grand. Amsterdam, 1661, p. 219. 7 C l a r e n d o n Hyde E. The History of the Rebellion and Civil Wars in England, Begun in the Year 1641. 1 ed. 1702—1704. Вопрос о классификации гражданских смут в Англии 1640— 1660 годов остается открытым. Очевидно лишь, что в сознании современников концепция «Великого бунта», бесспорно, предшествовала всем прочим — «революции», «пуританской революции», «буржуазной революции» и др. 8 M o n t e s q u i e u Ch. De l'esprit des loix. Paris, 1956, p. 123. 9 См., например, Р ю л ь е р К. К. История и анекдоты о революции в России в 1762 году. «Россия XVIII века глазами иностранцев». Л., 1989. 10 Русский архив, 1866, № 1, с. 407—410. 3 70 Революция, знавшая свое имя Значение, близкое к нынешнему, термин обретает в 1688—1689 годах: изгнание Якова II Стюарта, которого оппозиция обвинила в стремлении к тирании, англичане назвали «Славной революцией» (Glorious revolution)11. Начиналась она, как и многие другие династические распри: заговор против короля возглавили его зять (он же — родной племянник) и дочь — принц Вильгельм и принцесса Мария. Заговорщики добились общественной поддержки, победили, после чего специально созванный парламент объявил их законными монархами и тут же существенно расширил свои полномочия, приняв «Декларацию прав», а затем — на ее основе — знаменитый «Билль о правах». Так, в результате династического переворота установился принципиально новый государственный строй — конституционная монархия, что предполагало ограничение исполнительной власти (королевской) властью законодательной (парламента). По мнению Дж. М. Тревельяна, «объявление Вильгельма и Марии королевской четой диктовалось нуждами момента. Но так получилось, что при этой оказии нужды момента совпали с магистральными тенденциями века, и перед нацией открылись наилучшие перспективы» 12. Первоначально определение «славная» отражало отношение к «славному Вильгельму III», захватившему трон при «славных» же обстоятельствах, а термин «революция» показался удачным, поскольку в изменении порядка управления современники видели «возврат» традиционных свобод, на которые якобы покушались узурпаторы-Стюарты. Соответственно, термин получил диаметрально противоположный смысл: если ранее «революция» понималась как «переворот», возвративший власть законной династии, то теперь «революцией» именовали «переворот», посредством которого нация возвращает похищенные тираном законные права. Следует отметить, что в формировании идеологемы немалую роль сыграли «Два трактата о правлении» Дж. Локка, изданные в 1690 году. Благодаря английскому философу впервые было обосновано право народа «не только избавляться от тирании, но и не допускать ее», равным образом «создавать новый законодательный орган всякий раз, как будет недоволен прежним». Соответственно, восставшие против тирана совершили не противозаконное деяние — мятеж (rebellion), а вполне законную революцию, тогда как тираны, посягнувшие на права нации, оказались «виновными в мятеже» («guilty of Rebellion»)13 и даже «мятежниками из мятежников» 14. К столь экстравагантным выводам Локк пришел, систематически изложив учение о договорной природе государственной власти — обоюдных обязательствах властителя и народа — и «естественных правах человека». Учение Локка, в отличие от политических систем его современников — Т. Гоббса, Б. Спинозы,— стало своего рода теоретической базой, программой будущих революций, уже знавших свое имя 15. В течение XVIII века термин «революция» в локковском значении все более распространяется, поскольку английский государственный строй признается образцовым, а значит, образцовым признается и способ его установления. По словам Вольтера, неутомимо пропагандировавшего британский опыт, «то, что стало в Англии революцией (revolution), в других странах было не более как 11 См., например, Memoires de la derniere Revolution d'Angleterre... La Haye, 12 T r e v e l y a n G. M. England under the Stuarts. London, 1960, p. 430. 13 1702. Locke J. Two Treatises of Government. Cambridge, 1960, p. 429,432—434; Локк Дж. Сочинения в 3-х томах. Т. 3. М., 1988, с. 389, 392—394. 14 В английском тексте «мятежниками» (rebels) названы посягающие на законную власть, а те, кто, будучи у власти, посягают на «общественный договор», определены посредством тавтологической англолатинской химеры «rebels rebellantes», где «rebellantes» — «бунтующие», «пребывающие в мятеже». Этот нюанс упущен в цитируемом выше русском издании. 15 Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М., 1991, с 150—151. 71 мятежом (sedition)» 16. Расширяется и смысловое поле термина — век Просвещения буквально бредит идеей революции: особую популярность обретает жанр «истории революций» (сочинения П. Ж. Дорлеана, Р. О. Верто, Ф. Дюпора-Дютера и др.), а великие просветители призывают к «революции духа», считая свое время переломной эпохой в судьбах всего человечества (Вольтер, Кондильяк, Кондорсе, Мармонтель, Рейналь, Руссо и др.). Новый мир в Новом Свете Окончательно идеологема «революция» была вычеканена американцами в годы войны за независимость. Доказывая британцам законность своих претензий, американские политики апеллировали поначалу к «славным» традициям 1688 года: если, утверждали они, англичане имели право бороться с узурпатором Яковом И, покусившимся на исконные свободы нации, то колонисты в качестве британских же подданных имеют право бороться с новыми узурпаторами — Георгом III и его министрами. Сопоставление колониального конфликта со «Славной революцией» оказалось вполне убедительным аргументом по обе стороны океана, и английский либерал Дж. Уилкс, прогнозируя в 1773 году развитие событий в колониях, риторически вопрошал, не будут ли американцы через несколько лет праздновать годовщину своей революции, как британцы — годовщину «Славной» 17. Прогноз был точен, причем Уилкс и дату указал правильно — 1775 год. Более того, американцы явно следовали выбранной модели: добившись независимости, приняли в 1789 году «Билль о правах», название которого напоминало об английском «Билле о правах» 1689 года. Однако сама идея борьбы за отделение от метрополии обусловливала неуместность ссылок на британский опыт. «Славная революция» привела к замене монарха в рамках страны. Значит, американцам, коль скоро законность их действий обосновывалась английской традицией, надлежало бороться за установление в пределах всей Великобритании власти того правительства, которое они объявили бы законным. Стремление к независимости противоречило модели. «Пока мы называем себя подданными Британии,— рассуждал Т. Пейн,— иностранные державы должны считать нас мятежниками» 18. Дабы избежать обвинений в мятеже, идеологи американской революции создают «Декларацию независимости», где доказывается, что североамериканские колонисты — не взбунтовавшиеся британцы, а совсем иная нация, чью свободу пытается отнять тиран 19. Т. Джефферсон — автор «Декларации независимости» — уходит от исторических аналогий, обосновывая необходимость борьбы с Британией исключительно учением о «естественных правах», учением, которое он считал общепризнанным, лишенным национальной специфики. Имя Локка при этом не упоминалось и много лет спустя один из соратников Джефферсона обвинил его в плагиате (буквально «копировании») локковских трактатов («copied from...»). Джефферсон с обвинением не согласился, сказав, что использовал труды не только Локка, но и других философов, в частности античных 20. Пожалуй, сочетание невольной ориентации на британский опыт и демонстративного отказа от соответствующих аналогий характерно для менталитета идеологов американской революции. Ученики, отрекаясь от учителей, не отрекались от учения. Весьма важно, что американцы видели в революции не просто борьбу нации за свои права, но переход к абсолютно новому, справедливо и рационально устроен16 Voltaire. Lettres philosophiques. Paris, 1964, p. 56. См.: Colbourne H. T. The Lamp of Experience: Whig History and Intellectual Origins of the American Revolution. New York, 1974, p. 188. Ср. высказывание Дж. Ч. Фокса, по мнению которого «американцы совершили не более того, чем англичане в борьбе с Яковом II» (Becker С. The Declaration of Independence: A Study in the History of Political Ideas. New York, 1945, p. 228). 18 Paine Th. The Complete Writings. V. 1. New York, 1945, p. 39. 19 Becker С Op. cit, p. 203. 20 Cm. Ibid., p. 25—26. 17 72 ному обществу 21. Именно это провозглашалось главной целью отделения от метрополии. Вот почему еще в 1765 году Дж. Адамс писал: «Я рассматриваю обустроение Америки как начало реализации грандиозного замысла (scheme) Божьего — просвещения и освобождения пребывающей в невежестве и рабстве части человечества» 22. Много позже он подчеркивал, что «истинной американской революцией» было «радикальное изменение в принципах, чувствах и страстях» 23. Пейн, узнав об официальном признании независимости североамериканских территорий, ликовал: «Славно и счастливо свершилась величайшая и полнейшая революция из всех, что когда-либо знал мир», та, «которая до скончания времен — честь века, ее свершившего, и которая более способствовала просвещению мира и распространению духа свободы и либерализма среди людей, чем любое предшествующее событие» 24. Это «чувство апогея», характерное для «отцов-основателей», Пейн выразил и в более парадоксальной форме: «Революции, что ранее имели место,— настаивал он,— не содержали в себе ничего поучительного для остального человечества. Они простирались лишь до смены личностей или методов управления, но не принципов, а потому, независимо от победы или поражения, они оставались событиями сиюминутными. То, что мы созерцаем ныне, вполне может быть названо контрреволюцией (counter-revolution)» 25. Джефферсон пошел еще дальше, попытавшись снять противопоставление революции бунту и тем самым отчасти «узаконив» бунт: «Я считаю,— писал он,— что происходящий время от времени небольшой бунт (little rebellion) — хорошее дело и так же необходим в политической жизни, как в мире физических явлений» 26. Личную печать Джефферсона украшал девиз: «Бунт против тиранов — долг перед Богом» 27. Парадоксализм Пейна и терминологический эпатаж Джефферсона — проявление менталитета, формировавшегося в период борьбы за независимость. Доминанта нового сознания — установка на будущее, надежным фундаментом которого считаются собственные «демократические» завоевания. Вот почему «бунт» отчасти утрачивает негативные коннотации, а «революция» — внутреннюю форму, буквальный смысл («обращение», «переворот»): оборот назад (пусть и к «исконным» свободам) уже не актуален, вперед — возможен лишь в направлении упадка, поскольку демократия «по-американски» признана апогеем. Перейдя к демонстративному отрицанию преемственной связи с традициями «Славной революций», американские лидеры не отказались от исторических аналогий как таковых. Предшественников они видели прежде всего в хрестоматийных римских героях — борцах с тиранией: Бруте, Катоне... Имена античных тираноборцев издавна использовались европейскими историками и писателями в самых различных контекстах, утратив, таким образом, национальную специфику, что вполне соответствовало универсалистским амбициям «отцов-основателей». В качестве частного проявления того же универсализма «Революционный Пантеон» пополнил и британец, но вполне закономерно выбрали не Оливера Кромвеля и не какого-либо иного знаменитого лидера «Великого бунта» или «Славной революции», а Олджернона Сиднея, который был известен главным образом тем, что Карл II Стюарт казнил его за оппозиционные высказывания в 1683 году. Видя в американской революции наиболее отчетливое проявление глобальной закономерности, универсальную модель, «отцы-основатели» предрекали аналогичные 21 См. Becker С. Op. cit, p. 134; Colbourne H. Т. Op. cit., p. 191—193; см. также: Arendt H. Op. cit., p. 179—214. 22 Adams J. The Works. V. 3. Boston, 1851, p. 452. 23 Ibid. V. 10, p. 282—283. 24 Paine Th. Op. cit, p. 232. 25 Ibid., p. 356. 26 Jefferson Th. A Letter to J. Madison (January 30, 1787). «The American Age of Reason». M., 1977, p. 122. 27 Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. М., 1990, с. 99. Ср.Александров Н., Одесский М. Пламенные революционеры: Томас Джефферсон и госпожа де Ламбаль. «Независимая газета», 11 июня 1992. 73 события и в других странах. Неслучайно Пейн, став свидетелем и участником Великой французской революции, акцентировал ориентацию французских лидеров на американскую схему. «Американские установления,— утверждал Пейн,— были для свободы тем, чем является грамматика для языка: они определяют части речи свободы и организуют их в предложение». В силу этого французские добровольцы, «офицеры и солдаты, которые отправились в Америку, оказались помещенными в школу Свободы и назубок выучили как практику, так и ее принципы» 28. Здесь Пейн указывает на обстоятельства, действительно сыгравшие немаловажную роль в формировании революционной идеологии. Иностранцы, сражавшиеся за американскую независимость (например француз М. Ж. Лафайет, поляк Т. Костюшко), обрели опыт, благодаря которому еще до начала революционных процессов в своих странах знали, как «делать революцию», и стремились к этому. Ничего подобного ранее не было. К примеру, вождь «Славной революции» принц Вильгельм обладал опытом отнюдь не революционным: ранее у себя на родине, в Голландии, он заслужил репутацию беспощадного искоренителя традиционных «народных вольностей». От существительного — к прилагательному Великая французская революция начиналась, так сказать, по схемам 1688 и 1775 годов — противостоянием короля и Генеральных Штатов: впервые за почти три столетия созванные Генеральные Штаты претендовали на полномочия законодательной власти. И современники конфликта мыслили уже в терминах англоамериканской «борьбы с тиранией», о чем свидетельствует, например, диалог Людовика XVI с герцогом Лианкуром, охотно цитируемый поколениями историков. Узнав о взятии Бастилии, король, как известно, произнес: «Это — бунт (revolte)». Придворный же возразил: «Нет, сир, это — революция (revolution)». В ответе Лианкура обычно видят галантный каламбур, эдакое противопоставление локальности и глобальности: недогадливый король подумал о бунте парижской черни (всего-навсего!), тогда как находчивый герцог разглядел начало новой эры. Но если учесть, что Ф. де Лианкур был известным либералом, а не просто придворным острословом, то ответ его вообще не сводим к шутке. Речь шла не столько о масштабах события, сколько о правовой оценке: «бунт» — покушение на законную власть, а «революция» — борьба с беззаконием за восстановление справедливости. Оппозиция, хорошо известная и королю, и герцогу. По той же схеме Генеральные Штаты, провозгласив себя, наконец, Учредительным Собранием и отменив сословные привилегии, постановили торжественно именовать Людовика XVI «восстановителем (restaurateur) французской свободы» 29. Таким образом, власть короля признавалась законной, коль скоро Людовик XVI признавал законными решения Учредительного Собрания. В противном случае он оставался «тираном» (а не «восстановителем» мифической свободы — новым Вильгельмом III) и борьбу с ним надлежало продолжать. Активно используя понятийную систему эпохи «Славной революции», французские лидеры, тем не менее, постоянно ссылались на американский опыт, пропагандировали его. Ключи — символ взятия Бастилии — были торжественно переданы Дж. Вашингтону; Учредительное Собрание, получив известие о смерти Б. Франклина, объявило трехдневный траур (предложение, внесенное О. Мирабо и поддержанное непримиримым его противником Ж. П. Маратом 30), а Пейн в 1792 году стал депутатом Конвента. Более того, по американскому образцу Учредительное Собрание приняло «Декларацию прав человека и гражданина», написанную М. Ж. Лафайетом (своего рода связующим звеном двух революций) с помощью 28 Р a i n e Th. Op. cit., p. 299—300. Buchez P., Roux P. Histoire parletnentaire de la Revolution Franсaise, ou Journal des assemblies nationales depuis 1789 jusq'en 1815. T. 2. Paris, 1834, p. 242. 30 См. Марат Ж. П. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 2. М., 1956, с. 146—148. 29 74 автора «Декларации независимости» Джефферсона, тогдашнего посла во Франции. Наконец, печально известный Комитет общественной безопасности (Comite de sureti giniralt) получил свое имя по аналогии с американскими Комитетами безопасности (Commitees of safety), которые колонисты создавали в начале войны за независимость, чтобы контролировать действия сторонников метрополии. В отличие от «Славной» и американской революций английский «Великий бунт» 1640—1650-х годов был для французских лидеров примером отрицательным. И это закономерно, поскольку аналогия вела к пугающим перспективам: положительный, так сказать, эффект — свержение Карла I и провозглашение республики — «перечеркивался» военной диктатурой Кромвеля, а затем и реставрацией монархии. «Великий бунт» стал в какой-то мере жупелом. Встревоженный нерешительностью и монархическими симпатиями большинства депутатов Учредительного Собрания Марат писал в сентябре 1789 года: «Если судить по современному положению о положении в будущем, то ход событий в точности соответствует тому, который при Карле II заставил англичан, утомленных собственными раздорами, отдаться, наконец, снова в руки деспота» 31. Месяц спустя, когда Лафайет, командовавший Национальной гвардией, счел необходимым без охраны явиться во дворец, который окружили тысячи взбудораженных парижан, он услышал реплику, брошенную кем-то из королевской свиты: «А вот и Кромвель!». Лафайет, отвергая намек на честолюбивые помыслы о диктатуре, сказал: «Кромвель не пришел бы один». Кстати, Людовик XVI в это время читал о Карле I 32. С «дерзким ханжой Кромвелем» Лафайета сравнивали не только монархисты, но и левые радикалы. В 1792 году Лафайет направил из действующей армии письмо парламентариям, где сформулировал ряд политических обвинений, на что один из депутатов ответил речью: «Когда Кромвель заговорил на подобном языке, свобода в Англии перестала существовать. Я не могу себе представить, что последователь Вашингтона способен подражать поведению лорда-протектора». Подобные сравнения были в ходу и по другую сторону Ла-Манша. К примеру, английский либерал Э. Бёрк, в свое время признавший американцев наследниками британских традиций свободомыслия, резко критиковал французских лидеров. «Радикалы-французы и британские их апологеты,— писал Бёрк,— безответственно утверждают, что события во Франции развиваются в соответствии со „славным" примером 1688 года, но на самом деле избран совсем иной образец — кровавый опыт „Великого бунта"» 33. Впрочем, если американцы, уходя от британских аналогий, все же ввели в «Революционный Пантеон» О. Сиднея, то и французы, открещивавшиеся от параллелей с «Великим бунтом», пополнили список героев-мучеников Дж. Гемпденом — одним из лидеров оппозиции Карлу I. Гемпден, кстати, приходился кузеном Кромвелю, чье имя по-прежнему было ненавистным. Как и Сидней. Гемпден прославился в основном благодаря героической кончине — погиб чуть ли не в первом сражении с королевскими войсками. Робеспьер даже поставил их рядом: «Я знаю,— патетически воскликнул он,— многих людей, которые, коль это понадобится, послужат свободе, наподобие Гемпдена и Сиднея» 34. Следуя американской модели, французские лидеры восприняли также идею исключительности революционного опыта, но теперь уже собственного. И поскольку французские левые радикалы изначально были гораздо активнее и влиятельнее американских 35 , то во Франции сама идеологема «революция» осмыслялась все более радикально. 31 Марат Ж. П. Указ. соч., т. 2, с. 66. См. К р о п о т к и н П. А. Великая французская революция 1789—1793. М., 1979, с. 119. В u r k e E. Reflections on the Revolution in Prance. New York — Toronto, 1959, p. 17. Р о б е с п ь е р М. Революционная законность и право. Статьи и речи. М., 1959, с. 165. 35 О принципиальном различии характера американской и французской революций см. Аrendt H. Op. dt., p. 144—178; Raynaud P. Revolution de Francaise et revolution Americaine. «Heritage de la Revolution Francaise». Paris, 1988, p. 35—55. 32 33 34 75 В 1793 году М. Ж. Кондорсе зафиксировал появление нового прилагательного — «революционный» 36. Будучи соотнесенным с названием, к примеру государственного учреждения, это прилагательное указывало: данное учреждение борется, точнее, продолжает борьбу за победу революции. Тем самым подчеркивалось, что революция — не событие, а непрерывной процесс. 'Эпитет «революционный» употреблялся и в значении «чрезвычайный», что наиболее отчетливо выразил декрет Конвента 10 октября 1793 года, установивший «временный революционный порядок управления». Согласно декрету, якобинскому правительству предоставлялись ничем не ограниченные полномочия, а действие якобинцами же принятой конституции приостанавливалось. Характерно, что якобинцы шли к власти именно под лозунгом принятия «справедливой» конституции, но, заполучив эту власть, сочли, что собственная конституция — помеха, поскольку «интересы революции» требуют применения чрезвычайных мер в течение пока еще неопределенного срока. «Временное правительство Франции,— гласит декрет,— будет революционным до заключения мира». Иначе говоря, правительство, объявив себя революционным, объявило себя несменяемым. Разумеется, переворот 9 термидора, приведший к власти противников робеспьеровской диктатуры, упразднил эти языковые новации: специальным декретом 12 июня 1795 года термидорианское правительство запретило употребление эпитета «революционный» по отношению к государственным учреждениям. Примечательно, что для термидорианцев, законодательно табуировавших определение «революционный», само понятие «революция» было все же сакральным. Свержение робеспьеровской диктатуры они, в свою очередь, не без гордости именовали революцией, а диктатуру — отклонением от правильного пути. Таким образом, при якобинской диктатуре сложилась модель революции, отрицающая ту, что существовала до 1793 года. Согласно первой модели, революцией называли итоговое событие, свержение незаконной власти. Согласно второй версии, революция — непрерывный процесс всеобъемлющей реорганизации общества, осуществляемый революционным правительством в чрезвычайных обстоятельствах. Если ранее декларировалось, что революция свершается во имя «естественных прав человека», то по второй модели реализация каждым членом социума своих прав откладывалась до преодоления чрезвычайных обстоятельств, мешающих победе революции. Соответственно, изменился и объективный смысл революции. По первой модели — это построение общества «бюрократического» типа, где все граждане равны перед законом, по второй — «тоталитарной» разновидности такого общества, где все граждане равно беззащитны перед законодательно утвержденным всевластием революционного правительства. Кстати, хотя термин «тоталитаризм» и появился лишь в XX веке, но уже современники якобинской диктатуры использовали применительно к революции определение «тотальная» — слово было выбрано не случайно!37. Французские события 1789—1793 годов кардинальным образом изменили отношение к самой идеологеме «революция». Якобинский опыт обусловил важнейший вопрос: всегда ли уничтожение сословных привилегий, без которого невозможно равенство граждан перед законом, оборачивается всеобщим равенством в беззащитности перед всесильным правительством, всегда ли за революцией по первой модели начинается революция по модели второй? Систематически учение о двух вариантах развития, предлагаемых революцией, изложил А. де Токвиль, анализировавший американский опыт в аспекте французского. Гибель «старого порядка», т. е. сословных привилегий, он считал неизбежностью, однако верил, что перерождение революции в диктатуру можно предотвратить. Для этого, с точки зрения Токвиля, следовало обеспечить соблю36 G r i e w a n k К. von. Op. cit., s. 235—239. Определение было дано немецким литератором Ф. Гентцем. См. G г i e w a n k K. von Op.cit., s. 235. 37 76 дение принципа «свободы» — экономические и политические гарантии права личности на выражение собственного мнения — пусть даже в ущерб принципу «равенства» 38. Формулируя выводы Токвиля применительно к истории идеологемы «революция», можно сказать, что закономерное падение «авторитарного» строя открывает перед обществом два пути — к «демократии» или к «тоталитаризму», и выбор зависит от конкретных обстоятельств. Однако «демократия» и «тоталитаризм» — две ипостаси «бюрократического» строя, а потому обе революционные модели, хотя и отрицают друг друга, но обозначаются одним словом. Соответственно, и на уровне ментальности социума «демократического», как и для «тоталитарной» ментальности, идеологема «революция» по-прежнему сакральна. Вот почему крушение коммунистических режимов Восточной Европы на рубеже 1980—1990-х годов даже ярые антикоммунисты именовали «бархатной революцией», а события августа 1991 года, положившие конец коммунистическому этапу в истории России,— «августовской революцией». 38 См. Т о к в и л ь А. де. О демократии в Америке. М., 1992, с. 495—510. Ср. Одесский М. П. «Свобода» и «Равенство» Алексиса де Токвиля. «Литературное обозрение», 1992, № 2,с. 68. М. Одесский, Д. Фельдман, 1994 77