Аузан Александр Александрович
advertisement
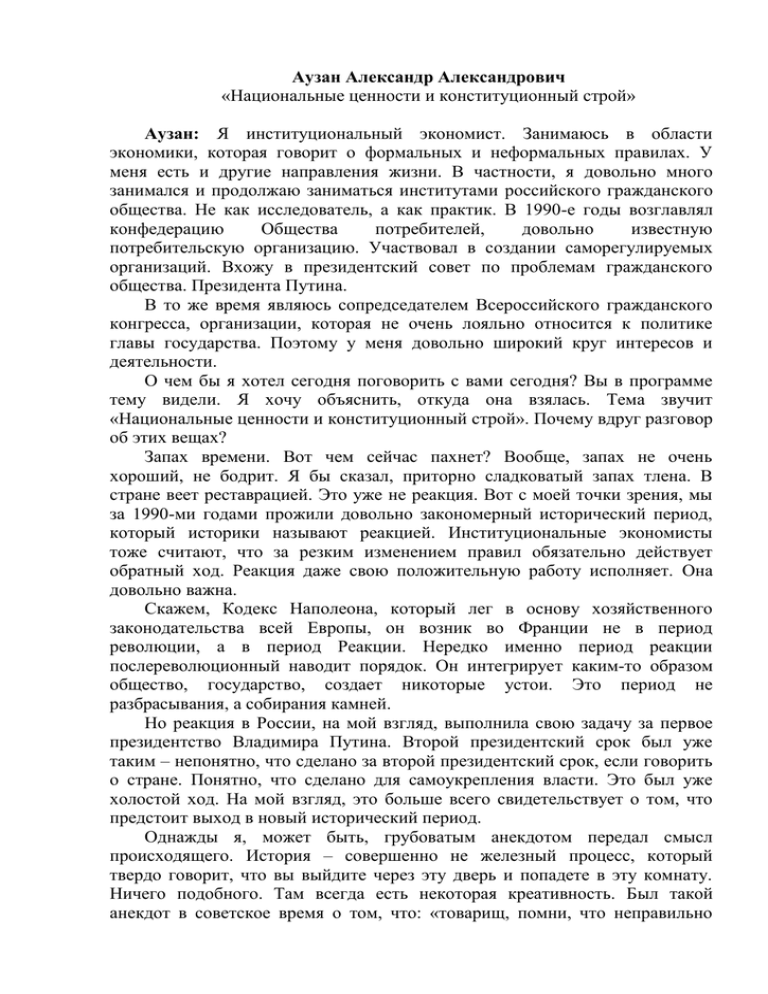
Аузан Александр Александрович «Национальные ценности и конституционный строй» Аузан: Я институциональный экономист. Занимаюсь в области экономики, которая говорит о формальных и неформальных правилах. У меня есть и другие направления жизни. В частности, я довольно много занимался и продолжаю заниматься институтами российского гражданского общества. Не как исследователь, а как практик. В 1990-е годы возглавлял конфедерацию Общества потребителей, довольно известную потребительскую организацию. Участвовал в создании саморегулируемых организаций. Вхожу в президентский совет по проблемам гражданского общества. Президента Путина. В то же время являюсь сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса, организации, которая не очень лояльно относится к политике главы государства. Поэтому у меня довольно широкий круг интересов и деятельности. О чем бы я хотел сегодня поговорить с вами сегодня? Вы в программе тему видели. Я хочу объяснить, откуда она взялась. Тема звучит «Национальные ценности и конституционный строй». Почему вдруг разговор об этих вещах? Запах времени. Вот чем сейчас пахнет? Вообще, запах не очень хороший, не бодрит. Я бы сказал, приторно сладковатый запах тлена. В стране веет реставрацией. Это уже не реакция. Вот с моей точки зрения, мы за 1990-ми годами прожили довольно закономерный исторический период, который историки называют реакцией. Институциональные экономисты тоже считают, что за резким изменением правил обязательно действует обратный ход. Реакция даже свою положительную работу исполняет. Она довольно важна. Скажем, Кодекс Наполеона, который лег в основу хозяйственного законодательства всей Европы, он возник во Франции не в период революции, а в период Реакции. Нередко именно период реакции послереволюционный наводит порядок. Он интегрирует каким-то образом общество, государство, создает никоторые устои. Это период не разбрасывания, а собирания камней. Но реакция в России, на мой взгляд, выполнила свою задачу за первое президентство Владимира Путина. Второй президентский срок был уже таким – непонятно, что сделано за второй президентский срок, если говорить о стране. Понятно, что сделано для самоукрепления власти. Это был уже холостой ход. На мой взгляд, это больше всего свидетельствует о том, что предстоит выход в новый исторический период. Однажды я, может быть, грубоватым анекдотом передал смысл происходящего. История – совершенно не железный процесс, который твердо говорит, что вы выйдите через эту дверь и попадете в эту комнату. Ничего подобного. Там всегда есть некоторая креативность. Был такой анекдот в советское время о том, что: «товарищ, помни, что неправильно произведенный опохмел ведет к длительному запою». Вот при неправильном выходе из периода реакции, который является достаточно закономерным, можно попасть совершенно не обязательно в исторический период реставрации, когда институты, устройство старых времен, прежних периодов явно не жизнеспособны. Такой восковой театр мадам Тюссо начинается вокруг. Потому что странные ведь ощущения. Для моего поколения, я бы сказал, противоречивые, потому что в этом есть и что-то ностальгическое. Смотришь съезд «Единой России». Бог ты мой! Какие знакомые фразы, лица, приемы и так далее. Веет просто чем-то до боли знакомым. Я не могу сказать, что всегда неприятным. Вот историческая ностальгия – сложное чувство. Вот мы во всем этом живем. И если говорить о том, какие нас ожидают чувства и переживания в ближайшие месяцы, то, думаю, нас ожидают довольно тяжелые размышления и переживания. Я, конечно, не политолог, но мне почему-то кажется, что сейчас уже можно комментировать, что произойдет 2 декабря. И не в цифрах, пропорциях. Понятно, что опять возникает такая, до боли знакомая, тема, о которой я много говорил 4 года назад. Вопрос о колее России. Вот, вроде бы, какая-то сила из истории, оттуда, сзади, начинает нас снова тянуть в привычную колею. И, вроде бы, это выглядит как некоторое давление наших традиционных, национальных ценностей. Под этим давлением шатается даже такая штука, как конституционный строй. У нас сейчас уже слабенькое и хрупкое здание Конституции. Когда люди выходят на площади и говорят: третий срок. Фактически, что они говорят? Да ну ее, эту Конституцию, все это не очень существенно. Господи, чего там Конституцию-то поменять. Вот, вроде бы, национальные ценности наезжают на конституционный строй. Хочу сказать, что наша Конституция, правда, исторически слабенькая. Не потому даже, что в ней написано. Я бы сказал, что она восьмимесячная родилась. Вот именно восьмимесячные хуже выживают. Я сам восьмимесячным родился. Иногда это происходит и на некоторых этапах даже неплохо себя чувствуешь. Почему я говорю, что она восьмимесячной родилась? Вы помните 1993 год. Фактически острые конфликты Верховного Совета и президента, предчувствие гражданской войны в октябре 1993 года, чрезвычайное положение. И вот вам – Конституция и референдум. Да, она недоношенная, она недоговоренная, она недочувствованная, она недоделанная. С одной стороны, вроде, веет чем-то историческим и кажется, что это, может, такие наши ценности. С другой стороны, все трепещущее здание российской Конституции, очень хрупкое и, похоже, что обреченное. Третий момент, который характеризует это все – страшная недоговороспособность всех со всеми. Вверху, внизу. Ну, казалось бы, в оппозиции. Да нет, не только в оппозиции. Вы смотрите, что прорывается в печати по поводу кремлевских групп. Статья Черкесова и так далее. Аресты генерала наркоконтроля Александра Бульбова, арест Старчека и так далее. Там, похоже, тоже договороспособность не лучше, чем у нас с вами. Вот идет общее российское недоговорение друг с другом. Вот об этих вещах я бы хотел поговорить более подробно. Как это все понимать? Остается ли страна в колее и нам нужно ждать долго предопределенности? Воздействуют ли именно таким путем национальные ценности? В чем реальная проблема конституционного строя? И что в этих условиях можно ожидать, но и делать? Ведь не хочется занимать положение только наблюдателя. Те, кто вчера были на публичной лекции Эмиля Абрамовича Паина, помнят, что он давал очень тщательный анализ литературы. Я не буду давать тщательный анализ литературы. Но на один источник, которого не было у Эмиля Паина, я сошлюсь. Должен сказать, что я долго не хотел читать этот источник. Я имею в виду доклад Владислава Юрьевича Суркова, сделанный им в июне в Академии наук, под названием «Особенности российской политической культуры. Взгляд из утопии». Меня убеждали, что обязательно это надо прочесть многие уважаемые мною люди из правительства Российской Федерации. Но я должен сказать, что прочел я его только в октябре. Это серьезная штука. Это вызов. О чем там Владислав Юрьевич? Ссылаясь на Ильина, на Бердяева, когото еще из замечательных русских философов, он говорит: признанные есть особенности русской культуры. Харизма – взгляд со стороны целого. Персонализм – у нас в России не институты, а человек – это институт. Идеализм – он удачно назвал это «дальнозоркостью». Мы вот не очень видим, что сейчас делается, но зато очень любим строить образ отдаленного будущего. И из этого он делает вполне конкретные выводы. Он говорит: А что вы хотите? Это определяет весь государственный строй. Харизма – это значит, что у нас всегда будет централизация власти. Требование русской культуры. Персонализм. Какие там судебные независимые институты? Персона. Фамилия известна. Идеализм. Да, давайте мы поговорим о том, как мы видим светлое будущее, и вот эта персона, опираясь на централизацию власти, будет инструментом движения пока к не очень понятному будущему. Вы знаете, я не хочу впрямую разбираться с тем пониманием российской культуры, которое выдвигает Владислав Юрьевич. Я ведь экономист. Я не культуролог. Ему, сидючи в Кремле, виднее, в чем особенности русской культуры. Наверное, имеет возможность с интеллектуальными светилами из руководства «Единой России» говорить о харизме, вслух читать Ильина. Я буду говорить как экономист. Все-таки я должен отвечать с той позиции, которой я владею, где я что-то знаю. Известна ли эта проблема, а по существу речь идет о проблеме национальных ценностей и конституционного строя, известна ли она в экономической теории? Да, она последние 30 лет довольно активно разрабатывается. Да больше, лет 45 тому назад Джеймс Макгилл Бьюкенен-младший (англ. James McGill Buchanan Jr., р. 3 октября 1919, Марфрисборо, шт.Теннесси) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1986 г.) «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений» работа об эффективности конституции. Он, кстати, лекцию об этом читал «Конституция экономической политики». То есть, экономисты стали исследовать, как они взаимодействуют конституционные правила с неформальными правилами. Другой нобелевский лауреат, Дуглас Сесил Норт (англ. Douglass Cecil North; род. 5 ноября 1920, Кембридж, шт. Массачусетс) — американский экономист. Лауреат Нобелевской премии 1993 г. «за возрождение исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять экономические и институциональные изменения». Он делал очень интересный сравнительный анализ: почему конституция в Латинской Америке, которая лучше североамериканской конституции? Когда-то была идея, что североамериканская конституция оптимальна, что она самая сбалансированная, хорошо прописанная, выстроенная. Нет, она не оптимальна. Латиноамериканские конституции лучше. А работают хуже. Вот дело в том, что на них воздействуют какие-то неформальные правила и обстоятельства. Я скажу пару слов про формальные и неформальные правила, а потом вернемся к вопросу про национальные ценности. Когда экономисты смотрят на законы или конституции, они, в отличие от юристов, конечно, все время помнят, что жизнь идет далеко не всегда по писаным правилам. Если вы думаете, что это относится только к России, ничего подобного. Есть классический пример, который очень любят цитировать. Был замечательный естествоиспытатель, ученый Александр Гумбольдт. Его вызвали на дуэль. У нас в России как принято? Ленский стихи писал в ночь перед дуэлью. А Гумбольдт все-таки рационалист, естествоиспытатель, он всю ночь писал эссе, обосновывающее, почему не надо ходить на дуэль. С правовой позиции, с исторической, с нравственной, с религиозной. Дописал эссе. Поставил точку. Пошел на дуэль и был убит. И поступил правильно. Почему? Неформальное правило, обычно, сильнее правила формального. Если сталкиваются неформальное и формальное правила, скорее всего, победит правило неформальное. У неформального правила очень гибкая система его поддержания. Формальное правило кто поддерживает? Всякие специально обученные люди – полиция, таможня, судебные приставы и так далее. А неформальное правило кто поддерживает? Каждый. Если говорить о санкциях. Не верно, что наказание за несоблюдение формального правила тяжелее, чем за несоблюдение неформального. Чего боялся Гумбольдт? Вот не пошел бы он на дуэль, что бы произошло? Позор. Изгой. Изгнание из общества. Вообще, та штука пострашнее одиночного заключения. Недаром же Сократ, имея возможность изгнания, пил яд. Ведь это частный выбор в античности, когда человеку говорили: либо ты изгой, либо ты сам себя убивай. Люди убивали себя, потому что это страшное наказание. Это крушение всего. Это крушение человеческих связей, человеческой целостности. Поэтому сила неформальных правил есть всюду. Она есть в Латинской Америке, в Северной Америке, в Бельгии, в Индонезии, в Китае, как и в России. По разному соотносится, конечно, и правила разные, но это есть. Можно ли говорить, что формальные правила для России не имеют никакого значения? Нет, нельзя. Я приведу один пример. Я буду несколько раз ссылаться на разработки, которыми мы сейчас очень активно занимаемся. Была большая волна в прессе в конце сентября – начале октября, сейчас будет новая волна по поводу стратегии для России. Мы выступили с подходом, альтернативным Министерству экономики. Это группа экономистов, которые себя называют «Группа Сигма». Там Леонид Григорьев, Евгений Гонтмахер, Виталий Тамбовцев, Андрей Шаститко, Евсей Гурвич и так далее. Там довольно много экономистов, известных в разных областях. Вот мы занимаемся сейчас своим подходом, как мы видим будущее России на ближайшие 20-25 лет, какие варианты движения существуют. Так вот, в ходе наших исследований, подготовительных работ, мы, когда просматривали путь, который Россия за последние 15 лет прошла, мы совместили два графика. График валового продукта и график насильственных смертей в России. И тут же обнаружилась вещь, по которой мы интуитивно понимали: вот 1998 год. Дефолт. Что такое дефолт было? Когда нам некоторые экономисты, очень уважаемые и любимые, некоторые из них в этом здании, в Академии народного хозяйства, говорили: «Ну, дефолт дал простор отечественной промышленности. Он стимулировал восстановительный рост, а затем рост национальной экономики». Девальвация инициировала такой рост. А дефолт, как сожжение правил, инициировал совершенно другое. И это видно на графике. Огромный взлет самоубийств. Причем, больше не в столицах, а в регионах. Почему? Сжигание формальных правил – это всегда сжигание расчетов и надежд на будущее. Потому что стабильность на чем держится? Вот на этих самых правилах. Причем, тогда-то сожгли не конституцию, а всего-навсего от 4 до 6 статей Гражданского кодекса России. И вот чем за это платит российское население. Я не про Францию и не про Чехию. Не верно, что здесь формальные правила никакой роли не играют. Неформальные правила имеют свое значение в других странах, а не только в России, а формальные правила имеют правила у нас, причем, вполне физически выразимое. Я мог бы говорить в деньгах, сколько мы сожгли, уничтожая правила. Но, по-моему, в человеческих жизнях эта цена гораздо серьезней. Мы, по существу, начинаем говорить про то. Когда мы говорим, что с Россией происходит, что давит на наши условия жизни, условия развития, мы говорим, что, может быть, давят некоторые неформальные нормы, правила, которые и называются национальными ценностями. Экономисты их называют над конституционными правилами. Потому что неформальные правила сильнее. Может быть, дело в том, что – ну, мало ли, что мы написали в конституциях и гражданских кодексах, – нас стаскивает в определенную колею вот этот набор ценностей. Я могу рассказать, как лично я понял, насколько это неожиданная тема – национальные ценности. Была большая международная экономическая конференция в Вашингтоне. Американский профессор делал доклад, смысл которого сводился к тому, что для выхода на процветание любой страны нужно обеспечить три условия. Личную свободу, права частной собственности и конкуренцию. Как и на любой конференции самое интересное происходит не в зале, а в кулуарах. Вообще, это все стоит проводить ради кулуаров. Я разговариваю с немецкими экономистами. Мы вместе смеемся над американцами, потому что понятно, что не такой набор. Немцы говорят: «Да, наверное. Личная свобода. Но вот есть же фактор организованности». Перехожу к англичанам. Мы с англичанами смеемся над американцами. Потом я рассказываю, что сказали немцы. Начинаем смеяться над немцами. Англичане начинают свою версию излагать: «Но фактор традиции должен быть». Я говорю: «Господа, вы все-таки имеете опыт мировой империи, над которой никогда не заходит солнце. Поэтому вы сами скажете, как китайский или индийский экономист назовет эти три условия». Они говорят: «Да, Александр, это-то мы скажем. Скажи, как русский экономист это обозначит». И тут я глубоко задумался. Это было 15 лет тому назад. Сейчас об этом я и буду говорить. Откуда эти вещи берутся? Откуда берутся национальные ценности? Вот два принципиальных взгляда. Традиционалисты говорят: национальные ценности – это продолжение исторических свойств этого народа, этой нации, этой общности, этого этноса. Модернисты говорят: ценности – это некоторые нормы идеологии, которые избирает эта нация. Вот нация избирает правильную идеологию, и она успешно развивается. Это не обязательно либеральная. Пожалуйста, были нации, которые избрали социалистическую идеологию, как более продуктивную, более перспективную в конце XIX – начале ХХ века, например. И говорили: вот мы это сделаем нашей ценностью. Поэтому вопрос не в том, либеральная или не либеральная. Просто это такой выбор. Я боюсь, что и тот, и другой подход не совсем верны. Вот берем две либеральные нации – французов и американцев. У них одинаковые разве ценности? Мы можем это проверять даже не по разговорам, а по текстам конституций. Есть в конституциях преамбулы. И в нашей Конституции есть преамбула. И вот там про это и пишется. Я вам скажу, что в американской конституции, скажем, три высочайшие ценности названы так: свобода, собственность и стремление к счастью. Во французской: свобода, равенство, братство. Вот две либеральные нации, прошедшие через либеральные революции, а набор-то разный. Почему разный? Идеология разная? Причем, это не просто декларация. Вот попался интеллигент, который сказал: «Ну-ка, запишу я стремление к счастью». Нет. Я могу привести пример, как это реально работает в американской жизни. Была такая история в XIX веке. Штат Калифорния 18 лет прожил без государственной власти. Там одновременно присоединили этот штат к Северной Америке в ходе войны с Мексиканским союзом. И открыли золото. Поэтому солдаты непрерывно разбегались и губернатор уходил мыть золото. Вот 18 лет не могли установить государственную власть. Но люди там жили, при том, что формально там не действовали законы конституции. Тем не менее, были правила, по которым они жили, были способы поддержания этих правил. Правила, прежде всего, касались того, как золото добывать. Так вот, даже устанавливали правила, что золото добывают вместе, так называемый долевой контракт, а потом делят, но если человек нашел самородок, то этот самородок разделу не подлежит. Почему? Человек имеет право на счастье. Он нашел самородок. Не отбирайте у него его везение. Поэтому эти вещи работают даже когда полицейский за ними не приглядывает. Кстати, могу сказать, как в российской конституции. Там сказано, что мы унаследовали от наших предков веру в добро и справедливость. Все остальное – мы, многонациональный российский народ, связанный общностью исторической судьбы, восстанавливая государственность, на веки сохранять основы этой государственности. Но про ценности там написано: «наследуя веру своих предков в добро и справедливость». А что, добро и справедливость – это то, что мы традиционно имели в нашей истории? Это когда, подскажите? Вера – да. А добро и справедливость? Ни то, ни другое никак не стыкуется. Если нация избирает идеологию, тогда у двух либеральных наций по идее должна быть одинаковая идеология. А она разная. Разный набор ценностей. Если мы говорим, что это исторически, так получается, что называют как раз то, чего в жизни не было. Ну не было у нас в российской жизни непрерывного торжества добра и справедливости. Давайте опять посмотрим на американцев. Вот, вроде бы, эффективно работающая конституция. Понятные национальные ценности. Можно ли сказать, что у американцев эти национальные ценности вытекают из исторических свойств этноса? Что они всегда так страстно любят свободу, собственность и уважают стремление к счастью. Когда я смотрю на то, что этносоциологи, этнологи называют этническими стереотипами поведения. Подчеркиваю: под этносом я понимаю не биологическую связь, а общность, которая живет в определенной географии, ландшафтах и из-за этого получает определенные устойчивые привычки. Можно ли сказать, что американцы такие все мягкие, либеральные? Ничего подобного. Посмотрите, как устроено американское общество. Оно жестко устроено. Оно грубо устроено. Посмотрите, как американцы ходят в поход против холестерина или курения. Да как их предки-квакеры ходили в поход против индейцев! С полной нетерпимостью. Просто терроризм не успели победить, а курильщиков уже сейчас там. И это, безусловно, враг человечества – курильщик. Вот этнический стереотип здесь, вроде бы, совершенно другой, абсолютно не либеральный. Даже мы понимаем, откуда он берется, как он брался от трудных условий освоения земель, жесткой конкуренции с применением динамита, с очень жесткой квакерской установкой религиозной, семейной. При этом надо признать. Я приводил пример со стремлением к счастью. Это реально. Это не то, что в конституции записано, американцы действительно это уважают. Да и со свободой это реально. Если американскому налогоплательщику доказать, что существует реальная угроза свободе, причем, где-то в мире, он согласен отдавать 200 млрд. долл. на бессмысленную войну в Ираке. Это ведь решение налогоплательщиков. Но его убеждают не тем, что, не геополитическими интересами. Ему говорят: «Налогоплательщик! Смотри, возникла глобальная угроза собственности и свободе» - и он это слышит. То есть, это тоже реально, так же, как этнический стереотип поведения. Дальше я высказываю предположение, которое основано на нескольких обстоятельствах. Одно из обстоятельств – полевые исследования социологические, которые проводятся – опросы различных людей. Другое обстоятельство такое. Один из авторов американской конституции был, безусловно, гением. Он не стал президентом, но зато про него много книжек написано. Это Бенджамин Франклин. Он дал замечательное определение демократии: «Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами». Фактически, он объяснил, откуда возникла эта связка. Ведь этнический стереотип поведения как раз создавал ситуацию, когда они просто перестреляли бы друг друга. И нужно уравновесить этот стереотип чем-то, нужно договориться о правилах поведения. Чтобы не действовало правило: кто первый выстрелит, тот и прав. Его надо заменить. В итоге получается, что ценностями становятся не те вещи, которые нам присущи от природы и истории, а то, чего нам не хватает. То, чего нет. То, что дефицитно. В этом смысле – да, можно, наверное, говорить про добро и справедливость, потому что, ну, нету этого в российской жизни. Поэтому я подозреваю, что национальные ценности – это не продолжение традиционных свойств этноса, а прямая их противоположность, некоторое компенсирующее, уравновешивающее. То, чего не хватает этой общности, этой нации для нормального исторического развития. Очень боюсь говорить о культуре, это к Владиславу Юрьевичу. Но культура-то, наверное, и решает эту фантастически сложную задачу. Культура – это производство смыслов. Теперь попробуйте произвести смыслы так, чтобы у вас в одной голове и во многих головах состыковались традиционные стереотипы этнического поведения и прямо противоположные национальные ценности. Вы «Ведомости» читаете? Там был проект Валерия Паничкина с интерпретацией русских народных сказок. По пятницам у него были публикации. Он пересказывал русскую народную сказку и интерпретировал ее. Причем, часто приходилось восстанавливать сказку, потому что Колобок, скажем, искажен до неузнаваемости. В детской версии, все-таки Паничкин прав, что дед и бабка его собирались съесть, а не облагодетельствовать. Так вот, это к вопросу о том, как культура работает на производство смыслов. Паничкин считает, что смысл сказки «Колобок» состоит в том (сравнивая с другими сказками), что есть достойная смерть, есть недостойная смерть. Но спастись от смерти в одиночку нельзя. Можно только коллективно. Вот только в «Ледяной избушке» зверюшки вместе собрались – коллективно можно спастись. Либо чудом, либо коллективным действием. Почему сказка, как один из подпочвенных элементов культуры, пропагандирует такие вещи? Потому что русский человек – коллективист? Нет. Что показывает вся этносоциология. Да вы более несговорчивого индивидуалиста, чем русский человек, не найдете. Какой он коллективист? Вы посмотрите, как ведут себя люди на дороге. Мне рассказали историю, как на Чистопрудном бульваре трамвай перегородил. Видите, очень «коллективистское» поведение. Просто мы такие «общинники», что невозможно. Мне сказали: «А как же, у нас люди в очереди так стоят, что друг к другу прижимаются». Я говорю: «Да они прижимаются, чтобы никто не пролез между ними». Вот это прижимание свидетельство того, что они не коллективисты страшные, что они друг другу не верят. Потому что на Западе очередь, действительно, по-другому выглядит. Там люди в метре друг от друга стоят, потому что запах, то, се, чтобы друг другу не мешать. Я там стою и нервничаю: «Как же? Вот сейчас сюда как войдет». Фактически получается, что культура, этнонациональная ценность может по-разному формулироваться. Можно ее называть соборностью, советским коллективизмом, договороспособностью. Это разные вещи, между прочим. Но в любом случае она компенсирует то, чего не хватает этому этносу в его реальной жизни, чего нет в народной жизни, а нужно для того, чтобы жить дальше. Я хочу немножко поговорить про то, что все-таки у нас есть в виде этнических стереотипов. И где база, на которую должны отвечать национальные ценности. Еще раз повторю, что не говорю об этносе как биологическом единстве. Обычно этнос понимают так: не важно, откуда эти люди взялись генетически, но они живут в определенной географии, в определенных ландшафтах и приобретают определенные привычки, которые закрепляются поколениями. Кстати, теперь возможны и генетические исследования. Там получаются очень забавные вещи, которые, правда, 150 лет назад были предсказаны. Я отвлекаюсь. Это не имеет отношения к тому, что я буду говорить дальше, но я все-таки скажу. Когда стали смотреть геном человека, то выяснилось следующее. Вообще, об этом 150 лет назад об этом говорил философ Ключевский, что такое русский национальный характер. Он говорил, что в нем четыре составляющие: славянская – самая слабая, нормандская – довольно слабая. И две довольно сильные. Это финская, о которой мы обычно забываем, и татарская, о которой мы помним. Он говорил, что если смотреть на типичных героев у Льва Толстого, то это финны по поведению. Кстати, генетический анализ показал, что, действительно, финно-угорский народ преобладает в геноме. Это понятно. Во-первых, мы находимся на территории, которая была населена финнами, и поэтому Москва, плотва, неретва и так далее. Вовторых, среднее Поволжье. Есть прекрасная работа Ключевского об освоении среднего Поволжья, как это происходило. Тем не менее, генетическое не существенно. Существенно, в каком ландшафте живут люди, взявшиеся из разных источников крови. Если определять специфику жизни в этом ландшафте, об этом довольно много было споров – специфика западная, восточная и так далее. Злее всех сказал человек, книгу которого каждый из нас очень ценит и любит. Я имею в виду автора «Маугли», Киплинга. Он же был певцом британского империализма. Он сказал: «Русские думают, что они самая восточная из западных наций. А между тем, они всего-навсего самая западная из восточных». Но что-то такое переходное в характере русского этноса обсуждалось много раз. Мне кажется, нынешние полевые этносоциологические исследования показывают, что очень важны, конечно, наши пространства. Они создали странный, переходный образ жизни, который этносоциолог из Российской академии наук Игорь Кузнецов называет «полукочевым». Мы не кочевой народ, но и не оседлый. Он ссылается на то, как Ключевский описывал, как возникла такая странная вещь, что люди, вроде бы, земледелием занимаются в основном, а не скотоводством. Но примерно каждые 7 лет они передвигаются куда-то. В итоге, сформировались очень интересные стереотипы поведения. Давайте на них посмотрим трезвым глазом. С одной стороны, трудно отрицать, что среди стереотипов нашего поведения инновационость есть. Такая некоторая изобретательность, создание новых схем и прочее. Посмотрите на судьбу наших соотечественников сейчас за рубежом. Они делают замечательную карьеру. Мы все время вывозим идеи и все время бесплатно, в смысле, для страны. Но ведь у этого есть и другая сторона. Зато мы не умеем соблюдать стандарты. Зато мы очень не технологичны. Потому что стандарт имеет смысл тогда, когда вы имеете дело с одним и тем же объектом. Он вырабатывается, когда ясно, что на этом поле вы работаете сто лет, и будете работать еще двести. Вот там стандарт очень эффективно работает. А если у вас объекты все время меняются, то – ну его, этот стандарт. И насколько мы в этом отношении не технологичны, этого нет в этническом стереотипе поведения, это видно на профессии. Я проиллюстрирую на врачах. Наши врачи, хирурги, например, замечательно умеют делать инновационные операции. Но они очень боятся введения норм страховой медицины, когда нужно будет действовать по стандарту. Он придумает совершенно неожиданную схему, как спасти этого человека, и, может быть, его спасет. А западный хирург не возьмется, скажет, что это безнадежный случай, потому что вот стандарты. Но соблюсти стандарт фантастически трудно. А потом, если его спасли, его же еще выходить надо. А уход требует соблюдения стандартов. Тут уже все. У нас спасают людей гораздо больше, чем выхаживают. Это понятно. Причем, врачи могут ответить тем же. Один врач мне сказал: «У нас же пациент творчески трактует рецепт. Он же говорит: это я буду принимать, а это не буду принимать. Это я буду принимать не до еды, а после, потому что мне так кажется более правильно». Это же правда. Понятно, как этнический стереотип создается. С одной стороны, какаято возможность, конкурентость. А с другой стороны мы задумываем, но не доделываем. Возьмем из этого полуоседлого образа жизни, скажем, аритмичность нашей жизни. В принципе, она шла из-за того, что тут вообще земледелием трудно заниматься, это зона рискованного земледелия. Поэтому мы летом немножко позанимались быстро-быстро, а зимой и нет. Смотрите, как это в стереотипах поведения проявляется. К авральной работе мы очень способны. Да, пожалуйста, аврал можем устроить. Что будет после аврала? Понятно: вот чуть-чуть не доделали и бросили – началась релаксация. Невозможно же все время в аврале. Вот такой стереотип. Следует ли из этого, что он является нашей ценностью? Нет, я бы не сказал. Вот как коллективность становится нашей ценностью, потому что мы все очень автономны, все очень индивидуалистичны. Таким же образом, я бы сказал, что и наоборот. Вообще, технику планирования создала, конечно, Германия. Но Германия не сделала из планирования национальную ценность. Национальную ценность из планирования сделала наша страна в ХХ веке. Почему? А потому что чем-то надо вот эту аритмичность уравновешивать. Потому что национальные ценности это всегда реакция на дефицит чего-то в этническом организме. Вот забавный вопрос, откуда «справедливость» берется. Покажите мне период российской истории, где она соблюдалась. Как только начинаем пальчиком ковырять, да нет же там этого. Давайте учтем, что есть такой стереотип, как игнорирование рисков. Выраженное русским словом «авось». Вот понятный стереотип этнического поведения. Можно говорить о том, как он сейчас проявляется. Во-первых, все живут не по закону. Это же риск. Во-вторых, поехать отдыхать в Турцию, которая собирается воевать с Ираком, - нет вопросов. Цунами в Таиланде – все заворачивают самолеты. Наши туристы говорят: «А что самолеты заворачивать? Цунами же прошло». Там трупами все усеяно, но мы летим отдыхать. То есть, игнорирование риска есть. Причем, понятно, что было и остается рисковым ведение хозяйства в наших ландшафтах. Но вследствие этого получается вот что. Риски никуда не деваются, поэтому кто-то выиграл, кто-то проиграл. Что такое справедливость? Система страховки. Чтобы не погибло общество. Значит, нужно, чтобы не проигнорировали наличие проигравших по тем или иным причинам. Они, может, не из-за себя проиграли, а из-за вечной мерзлоты или снегопада в мае. Поэтому эта ценность, наверное, реагирует на какой-то стереотип. Наверное, про это надо говорить, иначе вы подумаете, что я лицемер. Вспомним про злопыхателей, которые считают, что пьянство и воровство являются некоторыми стереотипами этнического поведения. Я про это чутьчуть скажу. Начнем с пьянства. Одна из первых книг по институциональной экономике была написана замечательным американским экономистом. Тогда в Европе даже не подозревали, что в Америке есть экономисты. Торстейн Бунде Веблен (англ. Thorstein Bunde Veblen; 30 июля 1857, Като, шт. Висконсин — 3 августа 1929, Менло-Парк, шт. Калифорния) — американский экономист, социолог, публицист, футуролог. Основоположник институционального направления в политической экономии, в 1898 году он выпустил книгу «Теория праздного класса: экономическое исследование институций» (англ. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions, 1899), которая потрясла всю Европу. Книга очень остроумная, я ее очень рекомендую прочитать. Он, в частности, открыл там явление демонстративного потребления, которое теперь называется «эффект Веблена». Вот галстук надо покупать за 2 тыс. долл., а не за тысячу, это называется «эффект Веблена ». Он открыл реальные вещи. Про пьянство. Веблен пришел к очень интересному выводу о том, что есть. Он демонстративное потребление как открыл? Есть статусная демонстрация. Вот нужно продемонстрировать статус. И разные группы делают это по-разному. Скажем, почему женщины среднего класса в театр надевают драгоценности? Если вдуматься, дурь. Почему в театр драгоценности? Веблен говорит: у них, как у аристократии, нет специальных раутов и балов, поэтому место общественной встречи – это театр, вот туда надевают драгоценности. Сельские жители статус демонстрируют как? У него все очень просто. Это дом. Вот дом есть способ демонстрации статуса. А теперь представьте себе людей, которые мигрируют все время. Веблен сказал, что есть две профессии рабочих – это строители и рабочие типографии, которые все время перемещались тогда. Строители и сейчас продолжают перемещаться. Они все время встречаются с новыми людьми. Как им продемонстрировать свой статус? Что они люди не бедные и щедрые? Застолье. Самый простой способ. Теперь вернулись к идее полукочевого характера нашего этноса. Понятно, как одно завязывается на другое. Понятно, чем уравновешивается. Вообще говоря, другим пониманием статуса. То есть, если мы гордимся чем- то другим, кроме того, что мы не бедные и щедрые, тогда происходит некоторое ограничение этого стереотипа поведения. Теперь про воровство. Опять очень легко говорить, потому что у американцев то же самое. У них было ровно то е самое в XVIII-XIX веках. Прекрасную работу про это написал Эрнандо де Сото - известнейший перуанский экономист, с 1989 года служил экономическим советником Президента Перу. Ныне президент Института свободы и демократии в Лиме, Перу. О том, как у них не уважалась собственность. У них был очень сложный, длинный процесс. Почему? А примерно та же ситуация. Ресурсов очень много. В условиях, когда много ресурсов, сделать из них уважаемую ценность очень сложно. То же самое касается в условиях нашего, я бы сказал, инновационного этноса, защищать права интеллектуальной собственности безнадежная задача. Потому что идеи у нас не редкий продукт. Человек говорит: «Буду я ему платить по патенту 17,5 лет! Я сам все на кухне, две такие штуки придумал». Не редкий фактор. Так если учесть, что у нас и земельные, и минеральные, и лесные, и рыбные, и какие угодно еще ресурсы тоже не редкий фактор, то возникает то, что экономисты называют «режимом свободного доступа». Собственность никак не устанавливается. То есть, люди этим пользуются не как общим, а как общедоступным. У американцев было то же самое. Я хочу привести пример с XIX веком. Есть там знаменитая история, которую разбирают экономисты, когда резко, в условиях огромного роста земельных угодий, выросли цены на землю в 40-х годах XIX века в США. Вроде, непонятно. Земель стало больше, а почему они стали дороже? Объясняется это вот чем. Тогда еще не укрепилась эта национальная ценность – уважение собственности. Тогда произошли два изобретения. Был изобретен «Кольт» и колючая проволока. А «Кольт» и колючая проволока означают, что можно защитить землю от мустангов, которые бегают, и от хмурых джентльменов, которые приходят за урожаем. Потому что «Кольт», как американцы говорят, «делить и уравнять». Он позволяет одному эффективно обороняться против шести. Значит, в этих условиях собственность защищалась вполне техничными средствами. Она ценностью еще не была. И у нас она пока не ценность. Только здесь сложнее с техническими средствами защиты. Поэтому у нас воровство, строго говоря, не осуждается, поскольку воровство может осуждаться исходя из некоторой национальной ценности. У нас эта ценность еще не сформирована. Чего удивляться. А условия традиционного поведения вот такие. Я вам больше скажу. У нас и казнокрадство не осуждается. Замечательный русский советский историк Евгений Викторович Тарле (18751955) приводит анекдот 80-х годов XIX века, когда в России был экономический бум. К высокому чиновнику приходят и говорят: «Ваше превосходительство, мы дадим вам три тысячи рублей, и об этом не будет знать ни одна живая душа». Что отвечает превосходительство? Он говорит: «Дайте пять тысяч и рассказывайте кому хотите». Потому что этого в ценностях нет. Это не исключено. Это не осуждено ценностями. Эта ценность не сформирована. Как же формируются ценности? Вот если такой перебор показывает, что, вроде бы, да, ценность не продолжает традиционные свойства населения, этноса, а противостоит. Откуда эта ценность появляется? Вопрос, конечно, непростой. Можно говорить о том, что исторически у нас те ценности, о которых мы говорим как об исторических ценностях, они не были ценностями национальными. У нас не было нации. Мы жили в условиях других общностей. Мы жили в условиях империй. Я читал публичную лекцию. Меня позвали в Узбекистан. Публичные лекции в Узбекистане, это, мои дорогие, вообще такое специфическое явление. Потому что читается она в хорошо охраняемом помещении, где сидят очень разные люди. От посла Соединенных Штатов на одном конце до заместителя Совета безопасности Республики Узбекистан в другом конце, потому что они не должны встречаться. Но вот там мы очень интересно поговорили, я бы сказал, с политической элитой Узбекистана. Они как раз говорили о том, что, конечно, имперские ценности были наднациональными, в основном. И мы понимаем, как это происходило, скажем, с православием, которое позволило Московскому царству превратиться в империю. Но если мы будем опять говорить об этих вещах, об исторических ценностях как о национальных. Как реально работают национальные ценности? Например, программа миграции. Не одни мы мучаемся с тем, что идут мигрантские потоки. Все пришли к выводу, что главное – как обеспечить социализацию этих людей, чтобы они приняли – что? – ценности. А теперь спрашивается: какие? Вот если мы всех китайцев на Дальнем Востоке окрестим в православие, это решает проблему? Нет. Вот то-то и оно. Вот эти исторические механизмы, боюсь, что не срабатывают. Более того, я убежден, что китайцы охотно покрестятся. Потому что конфуцианство совершенно в другой проекции лежит, совершенно не запрещает этого. Ну, православный, так православный. И в церковь будут ходить гораздо чаще. Регулярно. Они стандарты умеют соблюдать. К причастию будут ходить. Все будет отлично, в отличие от этих, которые считают себя православными. Понятно. Не решает это проблем. Откуда берется национальные ценности? Когда мы говорим о формировании ценности нации, а не империи, то это не то, что власть предложит считать – православие или коммунистическая идеология. Империя создавалась вокруг признания идеи. И не важно, ты таджик, молдаванин, украинец. Ты близок партии, ты принимаешь наши идеи – да, ты управляешь, ты имеешь доступ к определенным рычагам. Сейчас это не так. Сейчас должно сформироваться не как в империи, со стороны какой-то власти, которая это делает, а по горизонтали, между группами, которые живут здесь. Что это означает? Означает ли, что мы все должны находиться в национальной дискуссии по поводу того, что важнее – свобода или справедливость, планирование или добро? Я думаю, что такая дискуссия довольно быстро закончится, если мы ее начнем. Она не имеет никакого смысла. Разговор о национальных ценностях, на самом деле, идет на совершенно другом языке. Есть такая теория. Это сделал психолог, но выдали Нобелевскую премию по экономике, и экономисты страшно признательны этому человеку. Герберт Саймон. Он создал теорию ограниченной рациональности. Экономисты никак не могли этого понять: как же люди принимают решения? Явно человек для того, чтобы позавтракать, не делает так, как написано в учебниках экономики. Что он сначала изучает все цены, все товары, решает свою задачу. Он так не только не позавтракает. Как-то по-другому он себя ведет. Так вот, Герберт Саймон создал теорию ограниченной рациональности, объясняя, как люди реально принимают решения. У него есть очень живое объяснение, немножко фривольное. Как человек выбирает себе супруга? Рассмотрю 3 миллиарда существ противоположного пола и пошел анализировать? Нет. В чем дело? Он проводит несколько испытаний, устанавливает определенный уровень притязаний, и первый же претендент, который соответствует этому уровню, становится партнером, брак с которым заключается на небесах. Вот так работает ограниченная рациональность. Она вообще работает через некоторый шаблон, через некоторый образ. Так и разговор о ценностях, на самом деле, это не разговор про слова «свобода, добро, справедливость» и так далее. Это разговор про определенные образы, шаблоны. Я могу привести пример. На мой взгляд, реальный поиск национальных ценностей у нас может идти в двух процессах. Это в разговорах о нашей истории и в разговорах о долгосрочных целях развития страны. Начнем с истории. В августе в Перми был очень интересный форум образовательный, где кроме институтов гражданского общества, были церкви. Мы поговорили в треугольнике первый раз. Там была Русская Православная Церковь, староверы, муфтии и посланник любавичского раввина, представляющий евреев. Но основной разговор шел, конечно, с иерархами православной Церкви. Там был владыка, епископ Пермский и Соликамский. Был владыка из Екатеринбурга. И был замечательный публицист и полемист – профессор Андрей Кураев. Из разговоров с профессором Кураевым. Надо сказать, что неожиданно для меня он стал защищать формулу графа Уварова «православие, самодержавие, народность». Это для меня было неожиданно. Но с ним расправились пермские историки без вмешательства потусторонних московских сил. Профессор Кураев говорил о фильме Лунгина «Остров», который потряс страну. Причем, он из этого сделал вывод довольно интересный, не думаю, что его разделяли иерархи. Он сказал: «Он же не Бельгию, не Австралию потряс, такой обычный православный фильм. Он Россию потряс». Следует заметить, что Россия давно уже не православная страна. Но я немедленно поймал за язык и стал говорить о фильме, который сейчас делает Павел Лунгин. Вы знаете, Лунгин снимает фильм про митрополита Филиппа Колычева. Но называться фильм будет «Царь Иван». Что сказал Лунгин? Он сказал: «Ну, кто знает, кто такой митрополит Филипп Колычев? Ивана Грозного все знают. Поэтому пусть они придут на фильм про царя Ивана Грозного, а я им расскажу про митрополита Филиппа». Их было три друга с детства – Иван, Филипп и Андрей Курбский. Это три ближайших друга. Потом их пути удивительным образом разошлись. Один стал кровавым царем. Второй бежал в Литву, но продолжал состоять в переписке, то есть стал предателем, государственным изменником, но состоял в переписке до конца жизни с Иваном. А третий, Филипп, его умолил Иван стать митрополитом Русской Православной Церкви. И Филипп согласился это сделать на условии, что он может заступничать за жертв. Иван дал ему такое слово. А потом начался страшный конфликт. И кончилось тем, что Филиппа сослали в Соловки, которые, надо сказать, он очень поднял. Он оказался очень хорошим организатором. Тогда его там по приказу Ивана задушили подушкой. Вот такая история. Вот такого рода разговор о ценностях, на самом деле, идет. Он не может идти через слова. Он должен идти через исторические образы, через людей. Мы можем говорить о тех же ценностях религии через православие, самодержавие, народность – формулы какие-то. А можем говорить через человека, который считал, что. Заметьте, он представлял ту церковь, которая имела за собой историческую славу спасения народа во время татаромонгольского ига, когда государственность погибла. Это еще не был период, когда Церковь подчинилась государству. Как раз этот вопрос и решался: что будет? Будут ли нравственные авторитеты, которые ограничивают абсолютную власть. Опять Мамонов будет играть Ивана Грозного. Именно царя Ивана, потому что, по мнению Лунгина, он очень подходит к этому, поскольку он одновременно является человеком религиозным и истеричным, как и царь Иван. Но мне кажется, что один из путей реального диалога и выработки национальных ценностей – это разговор об исторических образцах. Второй путь – разговор о целях. Что я имею в виду? Я обещал говорить о том, что группа «Сигма» делает. Мы сейчас пытаемся спорить с тем, что предлагает Министерство экономики, наши друзья и коллеги из министерства. У нас очень хорошие отношения. Эльвира Набиулина была моей студенткой. Я у нее свидетелем на свадьбе был. Она вышла замуж за моего друга Славу Кузьминова, ректора Высшей школы экономики. То есть, мы друзья. Поэтому у нас замечательные личные отношения. Но у нас есть некоторые разногласия по поводу того, как видеть будущее. Она работала у нас на кафедре истории народного хозяйства, на экономическом факультете. Итак. В чем разногласия? Какая цель, чего мы хотим через 20 лет России? Понятно. Мы хотим ВВП упятерить. Да хоть удесятерить – не холодно, не жарко. Это постановка цели. А какие реальные постановки цели возможны? Мы пытаемся смотреть по разным вариантам. И мы предложили такую постановку. Какие вообще конкурентные возможности есть у страны? Где Россия выбивается из списка других стран, по тому, что у нее есть? Например, у нас вся таблица Менделеева. Вот такая проблема – очень мы богаты ресурсами. Это раз. С другой стороны, мы самая большая по территории страна мира. Это два. С третьей стороны. В этой хорошо минерализованной и широкой территории люди живут, и у этих людей есть некоторые свойства, есть некоторая характеристика человеческого капитала. Например, они очень способны. У них есть некоторые инновационные способности и еще что-то такое. Но дальше мы начинаем смотреть. А как же мы ставим цели? Один вариант, который сейчас все меньше употребляется, слава Богу. Великая энергетическая держава. Что это означает? Это означает, что мы делаем ставку на ресурсы, которые есть в стране. Должен сказать, что люди здесь, скорее, препятствие, чем конкурентное преимущество. Я хочу напомнить, что если мы себя позиционируем как основная страна по ресурсам, то у нас примерно 2/3 населения избыточного. Мы можем не переживать по поводу падения рождаемости. Для поддержания этого комплекса успешно трети населения вполне достаточно. Но это расчет на то, что главное, что у нас есть, - это ресурсы. Хочу сказать, что это тоже давняя традиция, такое понимание цели. Если вы вспомните, чем в донефтяную и догазовую эру Россия занималась – мед, пенька, лес, пушнина. Нельзя сказать, что там тоже ставка была на человеческую изобретательность. Второй вариант постановки цели. Вообще, военно-политическая держава. И это связано, прежде всего, с территорией, с ее политическим положением. Имея большую территорию, мы тем самым имеем разные азимуты – запад, восток, мост, юг, северный полюс и так далее. Но если мы ставим такую цель, то должны понимать, как разные ресурсы играют. Вот цель империи хорошо реализуется, когда вы имеете большую территорию и дешевое население. В войнах надо иметь дешевое население, чтобы его под танки класть. У нас больше нет дешевого населения. Я сейчас как экономист рассуждаю. Я не говорю: нравится – не нравится. Я говорю о ценности, на самом деле. О сравнительных ценах. Мы считаем, что возможен третий вариант. Может быть четвертый и пятый. Страна за 150 лет дважды превращалась в культурноинтеллектуального лидера в мире. Это в конце XIX века. Только не будем тешить себя иллюзиями. В XVIII веке мы не представляли никакого интереса для мира и в первой половине XIX века. Пушкин наш родной, любимый, но как культурное достижение он для нас серьезное достижение, а не для мира. Для мира российская культура начинается позже – с Достоевского и Толстого. Это факт. Так же как российская наука начинается не с Ломоносова. Им Лавуазье хватало. Ломоносов – наше внутреннее достояние. А вот без Менделеева уже никуда не денемся. Менделеев – это мировая наука. Поэтому мы в культуре и науке дважды в конце XIX века и в 1950-е годы прошлого века выходили на лидерские позиции. Это не означает, что мы сейчас на них можем выйти. Я, как экономист, утверждаю: мы не можем. В ближайшие 10 лет точно не можем. У нас человеческий капитал разрушен. Он в очень плохом состоянии. Мы уже не являемся самой читающей страной мира в метро, как говорил Жванецкий: «Самая читающая страна мира в метро». Уже все. Но, в принципе, такие цели могут ставиться. Разговор об этих целях, а не о ВВП: мы какой образ страны через 20 лет хотим видеть? Это, на самом деле, диалог о ценностях, который должен привести к какому-то результату. Я хочу вернуться к вопросу про конституционный механизм. И этим завершить, чтобы вы успели мне сказать, в чем я не прав. Диалог о ценностях, вообще говоря, предполагает работу определенных конституционных механизмов, как ни странно. Да, можно и нужно говорить об истории, о дальних целевых перспективах и так далее. Но вообще согласование разных групп интересов, для этого есть такой механизм, называется «парламент». Я хочу напомнить, что мы, кроме всего прочего, еще очень разнородный этнос. Не в том смысле, что у нас 86 регионов, а в том смысле, что у нас субэтносы есть, довольно отличные друг от друга. Я не говорю сейчас о народах Северного Кавказа или народах Поволжья. Я говорю о другом. Я в принципе не говорю о биологической стороне дела. Я говорю о ландшафтах и культурной стороне дела. У нас есть за Уралом Сибирь. Я хочу сказать, что там другие стереотипы поведения. Они несколько отличны от того, что здесь. У нас есть европейский Север, поморский. У нас есть Юг казачий и не казачий. И эти субэтносы, между прочим, в разговоре о ценностях должны участвовать. Как? Для разговора разных территорий между собой есть традиционный механизм – сенат. Верхняя палата. Если он работает. Хочу сказать, что есть и другие механизмы. Есть такая экзотическая идея. Я ее редко озвучиваю. Довольно важно, где находится столица. У нас столица находится неправильно. Скажу почему. Американцы, у которых политической столицей была Филадельфия, перенесли столицу в Вашингтон. А американский этнос тоже сложный. Там два субэтноса были тогда – северный и южный, янки и дикси. И город встал ровно на границе, на линии дикси. Это граница между Севером и Югом. Бразилия. Новая столица Бразилии где стоит? На границе субэтноса европейского происхождения, иберийского, португальского, и Амазонией, индийского. А у нас где столица стоит? Неправильно она стоит. И не в Петербург ее надо переносить, если мы, конечно, не собираемся. Если мы собираемся интегрироваться в Евросоюз и составить некоторую новую европейскую супер нацию, тогда можно и в Петербург. А так я бы сказал, куда-то на границу субэтносов, ближе к Уралу. Заявки могут рассматриваться. Вот по таком взгляду, если я не ошибаюсь принципиально, получается, что не национальные ценности втягивают нас на традиционную колею, а отсутствие национальных ценностей. Знаете, как закрашенная афиша. Там со старых объявлений отдельные слова видны: «православие, самодержавие, народность», «советский коллективизм». Это уже все закрашено, загрунтовано, а ничего не написано еще. Именно потому, что эти ценности не работают, то работает другой механизм. Что же нас реально утягивает? Есть понимание того, что существует проблема становления конституционной демократии, которая относится ко всем странам. Мы говорили про американскую конституцию. Замечательная американская конституция тогда сводилась к одной фразе. Вот все, что написано, нужно было еще одну фразу дописать. «И все это относится к белым джентльменам, владеющим имуществом». Это была конституция 1% населения тогда. Мы то же самое видим в происхождении всех других конституционных демократий. Все источники конституционной демократии прошли через фазу так называемой цензовой демократии. То есть, когда – либо по имуществу, либо по образовательному, либо по тому и другому признаку люди лишались избирательных прав или получали их. Почему так? Потом они вышли на всеобщее избирательное право. Почему так? Мы к демократии относимся, я бы сказал, романтически. Вот к рынку – нет, а к демократии романтически. К рынку, заметьте, у нас были романтические иллюзии в начале 1990-х годов, что он все решит. Потом поняли: все не решит. Ну, вроде, такая полезная машинка, что-то может. Вот для разнообразия продуктами может обеспечить. А счастливым сделать не может. А с демократией не так. Мы к демократии сначала отнеслись романтически, потом разочаровались и продолжаем оставаться в разочарованном состоянии. Хотя, это некоторый механизм, которые кое-чего может, а многое не может. Но этим механизмом пользоваться сложно. Он дорогой в использовании механизм. ОН сложный, он требует времени. И времени не на то, чтобы сходить проголосовать, а на то, чтобы хотя бы запомнить, что вам обещали четыре года назад. Вы знаете в Москве главная проблема избирательной кампании, интрига в чем? Александр Лебедев, который за «Справедливую Россию» пытался возглавить список, опубликовал книжку «Лице-мэр». И не увидите вы ее. Миллионный тираж вышел. Очень простая книжка. Он ничего от себя не написал. Он написал, какие были обязательства у мэра Лужкова и «Единой России» в 2003 году. Все. Больше ничего. Миллионный тираж. И все. Четвертое, пятое транспортное кольцо. Все, больше ничего не надо. Но никто же не помнит. Это же работать надо, чтобы помнить такие вещи. Поэтому демократия – это работа. Образование в этом смысле, я б сказал, повышает производительность такой работы. А имущество создает серьезные стимулы, потому что если ты не занимаешься этой работой, то твое имущество может оказаться под угрозой. Вот эти факторы работали и работают. Должен заметить, что именно поэтому, сошлюсь на коллег из этого здания, они рассчитывают на что. Да, сейчас нет спроса на демократию, потому что маленький средний класс. Средний класс будет расти, и спрос на демократию будет расти. Средний класс у нас уже рос. А в 1998 году что с ним произошло? Так вот я утверждаю, что опять произойдет такое. Не в виде дефолта. Если у вас средний класс растет, а влияние его не растет, то на повороте истории им обязательно пожертвуют. Он очень подходящий класс для того, чтобы им жертвовать, потому что у него имущество есть, а влияния нет. То что нужно! И не по злобе, не потому, что ему будущее принадлежит. Нет. Но вот будет очередной кризисный поворот, и решение будет такое, что, может, кто и уцелеет, но не средний класс. Где решение этого вопроса? В июле здесь был замечательный человек – Эрнандо де Сото. В прошлый раз он приезжал и 4 часа разговаривал с президентом Путиным, вместо полутора, намеченных президентом для разговора с великим экономистом. В этот раз почему-то не было разговора. Поэтому мне удалось поговорить с Эрнандо. Мы семинар провели с ним. Мы его раскрутили. Он замечательный. Вот бывают люди. У него очень хорошие книги, но он лучше своих книг. Обычно приезжают эти гуру и рассказывают то, что у них в книжке написано. А мы его завели. Он стал рассказывать то, что в книжке не написано. Он сказал. Про Россию говорить не буду. Буду говорить про Латинскую Америку. За 180 лет мы 5 раз в странах Латинской Америки выходили к рынку капитала и демократии, и 5 раз откатывались обратно. Сейчас опять откатываемся. А почему? Потому что, если рынок и капитал продуктивны для 3% населения, это опрокинется. Это не может жить. Ну, хотя бы для 40%. Будем реалистами, мы не говорим про 100%. Но хотя бы ля 40% эти системы должны быть эффективны. А как это сделать? Он стал разбираться, как это сделали Европа и Северная Америка. Они весь XIX век занимались тем, что создавали тонкие настройки институтов по выработке законов. И не в парламенте, а вокруг парламента. С какими группами идут консультации, как он готовится. Правила создания правил. Вообще, в конституции всего основы – это структура государства и правила создания правил. Если мы не сможем ни через политические механизмы, потому что партийно-политические механизмы нам придется делать все с самого начала. Считайте, что у нас их нет. А через неполитические, гражданские механизмы обеспечить давление и создание правил – правил создания правил. Чтобы закон не обрушивался на нашу голову как стихийное бедствие. Если мы решим эту задачу, тогда через ловушку демократии пройдем, тогда конституционный строй укрепится. Тогда будут доделаны национальные ценности. Если мы этого не сделаем – извините. Причем, это два параллельных процесса – национальные ценности и эта работа. Потому что самый печальный мой вывод из общения с людьми из политической оппозиции – системной, несистемной, парламентской, не парламентской – жуткая недоговороспособность. Вот сидят умные люди, яркие, способные, нужные – и несовместимые. Потому что для них договоренность – позор, слабость. Пока у нас договороспособность не станет национальной ценностью, мы будем жить, как живем. Я думаю, первая национальная ценность, которая у нас должна возникнуть, это ценность договороспособности. Я могу сказать, среди кого она должна возникнуть. Она не может возникнуть среди временщиков и скорохватов. Если человек хочет все и сейчас, то договориться с ним невозможно. Вот встречаются два человека, которые хотят все и сейчас друг от друга. Мимо. Какая договоренность? Договороспособность может развиться среди людей, которые думают по-разному, из разных интересов, из разного воспитания, разных взглядов. Они думают о нашей стране, что в ней будет через 10 лет. Хотя бы через 10, но лучше через 20. Вот среди этих людей договороспособность может стать национальной ценностью. Спасибо. Вопрос: В вашем выступлении промелькнула фраза, что православие позволило Московскому царству стать империей. Хотелось бы подробнее об этом. Почему именно православие? А протестантизм, например, позволил Британии стать империей? Ответ: Я говорил про Московское царство. Хочу напомнить, в чем был смысл того поворота, который произвели московские князья в XIV – начала XV века. До этого фактически войти в элиту княжества можно было, только будучи местным, относясь к здешней аристократии. А православие, которое является некоторой объединяющей ценностью, позволило татарским мурзам войти в состав московской элиты. А какие проблемы? Он крестился, и уж не важно, что он татарский мурза. Посмотрите, какие боярские фамилии появились тогда. Годуновы, например. Они кто? И Кара-Mурза. Позволили таким фамилиям входить. Литовским фамилиям. Это сняло границу интеграции в элиту и, соответственно, поставило подругому вопрос об объединении земель. До этого Москва подминает под себя Тверь и что? И тверские внизу, московские вверху. Нет, так нельзя. Нужно, чтобы Москва и Тверь, объединяясь, тверяки получили определенные возможности. Принцип был сменен. Дело не в том, что ты тверской или московский. Ты же православный и служишь Московскому царству – единому Московскому царству. Все нормально. Я не имел в виду, что только православие позволяет создавать империи. Конечно, разные религии позволяют создавать империи. Но переход к религиозному признаку позволяет снять границу земельную и национальную. Поэтому и способствует формированию империи. Вопрос: Ростов-на-Дону. Вы назвали ценность договариваться. Как бы вы ответили на вопрос, который прозвучал на конференции 10-15-летней давности о трех ценностях? Одну вы назвали. Назовите еще две, если возможно. Второй вопрос. Будет ли в России выработана национальная ценность по борьбе с коррупцией? Был Гумбольдт, который не мог не пойти на дуэль, а сейчас у нас есть чиновники, которые не могут не взять, и люди, которые не могут не дать. Будет ли это преодолено? Маленькое замечание. Вы говорили о военизированном государстве и употребили слова «нужно дешевое население, которое можно класть под танки». Вы понятие «ценности» заменили понятием «цена». Это оговорка, игра слов или что-то другое? Ответ: Я много раз об этом думал. Для меня довольно, если справедливость действительно окажется одной из таких ценностей. Вопрос ведь в нашем понимании справедливости. Я довольно много над этим размышлял. Мне кажется, что договороспособность, справедливость. Не знаю, что еще. Причем, не утверждаю, что этих ценностей должно быть три. Может, их будет пять. Если говорить о коррупции. Я не люблю такой постановки вопроса – «о коррупции». Объясню, почему. Есть две ложные постановки проблемы. Это бюрократизм и коррупция. Как только говорят, что нужно бороться с бюрократией и коррупцией, я сразу прихожу в ужас. Потому что от борьбы с бюрократией точно вырастет бюрократический аппарат. Догадайтесь, что от борьбы с коррупцией произойдет. И кто ее возглавит. И коррупция, и бюрократия – это не означает, что их нет. Это означает, что это проявление многих других проблем и болезней, которые надо решать отдельно и разными средствами. Вот вы болеете, и поэтому у вас высокая температура. Ну, можно шарахнуть аспирина и сбить температуру – вот это коррупция. Ее можно сбить. Но она потом опять поднимется, потому что причина ее в другом – надо болезнь лечить. Если вы институциональные болезни лечите, то у вас, соответственно, становится меньше бюрократии, меньше коррупции. Если говорить о ценностях. Я пока не очень понимаю, как это сформулировать. Мы сейчас завершаем одно исследование. 20 декабря будем его презентовать в МГУ. Оно касается легитимизации собственности. Вот на каких условиях российское население согласно признавать собственность, что эта правильная, справедливая, а эта – нет. Мы еще не обработали большой полевой опрос, поэтому я пока не буду об этом говорить. Кстати, проблема коррупции нигде не решается так, что ее больше нет, и не будет никогда. Это понятно. Это просто снижение уровня коррупции принципиальное. Так же, как проблема мафии. Мафия в США сейчас контролирует 3-4% национального экономического оборота. Это считается приемлемым. Были времена, когда она 20-25% контролировала, это было страшно. То же самое с коррупцией. В США реально неприкосновенность частной собственности стала ценностью, которая боролась с коррупцией. Я не уверен, что в России это решится так. Думаю, что здесь другой набор этнические стереотипов, это будет по-другому звучать. Например, что мы выяснили. Мы исходили из того, что люди не признают крупную частную собственность или не признают частную собственность, которая на приватизации. Похоже, что это не подтверждается. Но зато они могут не признавать довольно мелкую собственность, которая перекрыла им возможность доступа к привычным объектам. Вот клуб, в который они ходили в детстве, а там открыли казино, и теперь туда ходить нельзя. У них это вызывает раздражение, поскольку перекрыт доступ и сними не согласовано. Может, они бы и согласились, если бы их спросили. Вот такое положение вызывает отношение к собственности как «неприемлемо». Теперь про цены и ценности. Когда я говорил о «дешевом населении», я говорил о так называемых относительных ценах. Вообще, хочу сказать, чем хорошо экономисту говорить о ценностях. На экономическом языке редкость и ценность – это одно и то же. Для меня естественно было прийти к идее, что национальные ценности – это то, чего нам не хватает, это то, что у нас встречается редко, а не то, что на каждом шагу. Почему? Ценность – это редкость. Относительные цены – это означает, что у меня лежит три вида ресурсов, например, и я не говорю, сколько это стоит в евро, рублях или долларах, а говорю: этот энергоресурс дешевле, мне его легче использовать. У нас есть изобретатели, которые придумывают хорошее оружие. Но до тех пор, пока у нас есть дешевый солдат, воевать будут не хорошим оружием, а дешевым солдатом. Вот это относительные цены. Это не ценности. Это принятие управленческих решений исходя из того, что я «Катюшу» поберегу, это замечательная штука, но у меня она одна, зато у меня два полка пехоты здесь стоит. Поэтому останавливать этих я буду людьми, а не ракетами. Это понятно? Но вы, конечно, правы, что на принятие такого рода решений ценности будут влиять. Если мы утвердили, например, ценность человеческой жизни, у вас уже не может быть дешевого населения. Все. Тогда придется воевать «Катюшами». Вопрос: Пермь. У меня есть соображения по поводу того, что вы сказали. Получается два варианта исхода из этих рассуждений, которые вы ведете. Либо вы исходите из того, что эти ценности уже сформулированы в народе или где-то призрачно присутствуют, и вы их идентифицируете, оттуда выделяете, описываете, в каком-то виде декларируете: «Вы же это цените?». Народ говорит: «Да, мы это ценим». Получается, что ваша работа заключается в том, чтобы организовать процесс. То есть, четко сформулировать. Все согласятся, поймут, что так есть, и дальше процесс пойдет. Второй вариант. Эти ценности, как некое теоретическое заключение, генерируете и получится продукт научно-культурный новый. Тогда опять получится, что это что-то спущенное сверху, из середины, но явно не снизу. Какой же результат? Ответ: На мой взгляд, здесь работают оба подхода. Попробую пояснить, как и почему. Возьмем справедливость. Вообще, социология показывает, что похоже, что справедливость может претендовать на национальную ценность. Но как только мы начинаем разбираться, что мы понимаем под справедливостью – оба! Я про это специальную работу сделал. Она висит на polit.ru. Она книжкой выходила «Критерии справедливости» о том, почему разные группы, исходя из каких, мы можем предсказать, у каких групп какие будут понимания справедливости. Но дальше возникает проблема. Я утверждал, что единой модели справедливости не существует не потому, что люди плохи, а потому что они разные. Они разные, поэтому не может быть идеальной модели справедливости. Она может быть только результатом компромисса. Ценность справедливости – ценность для всех, потому что мы выросли в этой среде, в этой культуре и так далее. Но дальше начинаются социальные процессы. Для того, чтобы состыковать представления разных групп, здесь нужна работа и самих групп. Они должны взгляд на справедливость высказывать. И работа исследователя. Люди ведь просто могут не видеть каких-то вариантов стыковки своих интересов и ценностей, которые исследователь видит. Дело исследователя – не придумать ценность, а показать, какие есть варианты. Из того, что, похоже, теперь признано всеми исследователями, что мы по этническим стереотипам страшные индивидуалисты. Но из этого следует, что разные противовесы могут быть. Соборность – противовес? Да. Советский коллективизм? Конечно. А может быть третий и четвертый вариант. И они будут по-разному потом работать и сказываться. Сколько этих вариантов есть, чтобы они вошли в обсуждение – это, все-таки, должны говорить те люди, которые такими исследованиями занимаются. Думаю, предсказать довольно сложно, потому что формирование национальных ценностей – это реальный исторический процесс. И может вообще такое произойти, что мы не сможем сформировать нацию. Тогда перспективы существования государства под названием Российская Федерация очень печальны. Независимо от политического режима. Потому что национальное государство сильно существованием нации в основе этого государства. А нации у нас пока нет. Это здание на песке. Нация же определяется ценностями и совместной гордостью за историческое прошлое, как говорил Огюст Ренан. В другом месте он сказал «совместным заблуждением по поводу славного исторического прошлого». Вопрос: Омск. В какой степени, в том числе либерально мыслящими людьми, осознан факт в российской истории как крепостное право? В свое время Чехов призвал «выдавить из себя раба по капле» и был услышан людьми. Мне кажется, что этот строй по сути рабовладельческий, он был закреплен в советские времена. Эти истории с лагерями, когда тысячи людей бесплатно трудились и не имели никакой собственности. Вот рудименты этого рабовладельческого строя сохраняются по сю пору. В том числе служба в армии, «пирамида» на красной площади и много всего. Половина людей не хочет осознавать это свое прошлое и как-то его перерабатывать. Не стоит ли делать акцент на этом, в том числе? История ведь не такая долгая. Ответ: Я согласен с вами. Исторически мы попали в определенную колею, когда сформировались два (подчеркиваю) специальных российских института. Это крепостничество и самодержавие. Они в паре живут. Они друг друга поддерживают. И они, так или иначе, проявляются до сих пор. По советским временам я бы взял пример даже не лагеря, а колхозы. Вообще, там много. А законодательство о труде, которое не позволяло переход с места на место? Крепостнические институты очень живучие. Они и сейчас живут. Посмотрите, как используется рабочая сила незаконных мигрантов. Он без документа – никуда. Он же крепостной по существу. Я согласен с вами, что это страшно живучие институты. Они очень сильно определяют ситуацию, в которой мы находимся. Мы про самодержавие часто вспоминаем, а про крепостничество редко. Хотя, они находятся в паре. Хочу сказать. Кто регулярно нам про это дело напоминает? Наши украинские братья. Если вы будете разговаривать с украинцами, а мне довелось с ними разговаривать на конференции в Варшаве, это вообще песня. Поляки внимательно смотрели, как украинские мыслители атакуют российских. Они говорят: «Извините, вы же, в отличие от нас, рабская нация. Вы же 500 лет жили в этих условиях. У нас этого не было, а у вас это было. У вас это и до сих пор есть». Вот кто нам не позволяет забыть. Но мы, конечно, нашлись и сказали: «Где это у вас не было? Это у вас на правом берегу не было, а на левом было. Вам напомнить, что у вас было на правом берегу у польских магнатов? Или вы спросите польских коллег, как там все происходило?» За словом в карман мы не полезли, но реальная проблема, конечно, есть. Когда начинаешь сравнивать разные территории России. Почему я говорю об особом этносе? Сибиряки правда не знали этих вещей. Исторически это очень важно. И юг России не знал. И север. А вот плотная территория, где находится наша замечательная столица, она вся, целиком, корнями в крепостнически-самодержавном прошлом. Тут всюду, куда ни плюнь, памятник либо крепостничеству, либо самодержавию. Журналист: Оно ведь распространялось. Ответ: Что значит «распространилось»? Оно не очень-то и исчезало. 1861 год – год освобождения крестьянства. Но было временное обязанное состояние до 1881 года, а в некоторых районах страны – до 1905 года. Там перерывчик был совсем небольшой. Это почти насквозь проходит через нашу историю. Сейчас этого, конечно, меньше. Но я согласен, что вооруженные силы сейчас – это типичное крепостническое хозяйство. Почему полковник отказывается идти учиться в Академию Генерального штаба? А на нем вся система личных связей этого хозяйства. Он эту рабочую силу предоставляет ремзаводу, еще чего-то, еще чего-то. Все на личных связях. Он ушел – рухнуло хозяйство. Как в любом крепостническом хозяйстве, они закреплены лично за ним. И он имеет личные отношения с контрагентами. Это мы анализировали с людьми из кремлевской администрации, в чем проблема реформирования армии, связанная с ее экономическим устройством. Вопрос: Барнаул. Вы говорили о такой нашей национальной особенности, как доминирование неформальных правил. Например, нарушение закона и прочее. Ваше отношение к этой особенности – хорошо это или плохо, искоренимо или нет? И нужно ли это искоренять? Ответ: Во-первых, доминирование неформальных правил над формальными – это не национальная особенность россиян. Неформальные правила всюду сильнее формальных. Обычно, сильнее формальных. Если вы посмотрите на то, как работает конституция Германии, вы тоже обнаружите, что там одни статьи работают хорошо, другие плохо. Когда вы начнете разбираться – почему? – вы выясните, что национальные ценности, которые и есть в данном случае выражение неформальных правил, давящих на конституцию в ту или другую сторону, это определяет. Это общее правило. Особенность России не в том, что здесь неформальные правила сильны. А в том, что здесь есть конфликт формальных и неформальных правил. Причем, исторически. Один и тот же факт. Людям сообщают, что сбежал с каторги преступник. Что делают американцы в XIX веке? Они, не дожидаясь появления специальных людей, берут винчестеры и идут ловить. Что у нас? Выставляют еду, чтобы несчастный, который бежал с каторги, поел. «Он же случайно туда попал. На него «машина» эта наехала. Его пожалеть надо. Вот чтобы он воды попил, хлеба и дошел, чтобы в дом не заходил» - откуда такое? От опыта отношения с государством, которое все время здесь давило. А там создавалось как агентство для того, чтобы на мои налоги мне что-то сделали. Поэтому я от этого агентства буду требовать, и относиться буду по-другому. Здесь заложен очень длинный конфликт формальных и неформальных правил. Если говорить о странах, которые считаются процветающими странами формальных правил. В прошлом месяце в Англии был конкурс или исследование по поводу наиболее абсурдных законов, которые там действуют. Три закона было. Первый. Закон, запрещающий умирать во время заседания парламента. Продолжает действовать. Второй. Закон, приравнивающий к государственной измене приклеивание марки с изображением короля или королевы вверх ногами. Третий. Запрещение в Ливерпуле ходить топ-лесс. Вот три таких закона. Если вы думаете, что у них тишь да гладь, то там тоже такого наворотили в создании формальных правил! Специфика не в этом. Специфика в другом. Либо война формальных и неформальных правил, либо они друг друга поддерживают. Я могу привести пример, как у нас формальные и неформальные правила друг друга могут поддерживать. Вы приходите в супермаркет. Торгуетесь вы по поводу цен? Нет. Почему? В законах сказано: свобода договора. Это частное предприятие, почему вы не торгуетесь? Реплика: Там сидят продавцы, которые не являются хозяевами товара. Ответ: Так вот они там потому и сидят. Правильно. Это знаменитая история. Я могу сказать, когда это началось. Это началось в 1854 году в Париже. Там впервые возник магазин фиксированных цен. Это позволило не самому владельцу продавать. А, главное, до этого только женщины ходили в магазины, они были профессионалами покупок в Европе. А теперь можно было присылать детей и мужчин. Это революция! Это так и называется «Вторая потребительская революция» - универсальные магазины в середине XIX века. Почему? Неформальные и формальные правила здесь сотрудничают. Исключение торга – это неформальное правило. Формально, как в законах, вы можете торговаться в супермаркете так же, как на рынке. Но вы на это пошли, вы ужесточили формальное правило, потому что это удобно. Поторговаться пойдешь в другое место, а здесь ребенок вам чего-нибудь купит и принесет.