стенограмма - Институт Синергийной Антропологии
advertisement
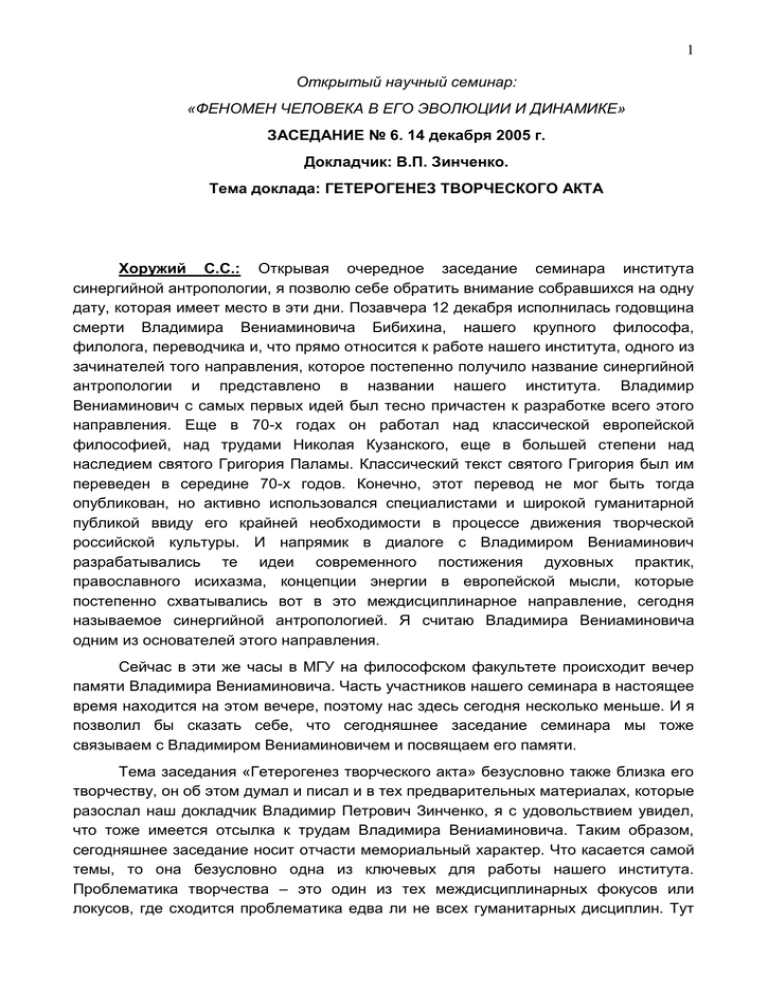
1 Открытый научный семинар: «ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ЭВОЛЮЦИИ И ДИНАМИКЕ» ЗАСЕДАНИЕ № 6. 14 декабря 2005 г. Докладчик: В.П. Зинченко. Тема доклада: ГЕТЕРОГЕНЕЗ ТВОРЧЕСКОГО АКТА Хоружий С.С.: Открывая очередное заседание семинара института синергийной антропологии, я позволю себе обратить внимание собравшихся на одну дату, которая имеет место в эти дни. Позавчера 12 декабря исполнилась годовщина смерти Владимира Вениаминовича Бибихина, нашего крупного философа, филолога, переводчика и, что прямо относится к работе нашего института, одного из зачинателей того направления, которое постепенно получило название синергийной антропологии и представлено в названии нашего института. Владимир Вениаминович с самых первых идей был тесно причастен к разработке всего этого направления. Еще в 70-х годах он работал над классической европейской философией, над трудами Николая Кузанского, еще в большей степени над наследием святого Григория Паламы. Классический текст святого Григория был им переведен в середине 70-х годов. Конечно, этот перевод не мог быть тогда опубликован, но активно использовался специалистами и широкой гуманитарной публикой ввиду его крайней необходимости в процессе движения творческой российской культуры. И напрямик в диалоге с Владимиром Вениаминович разрабатывались те идеи современного постижения духовных практик, православного исихазма, концепции энергии в европейской мысли, которые постепенно схватывались вот в это междисциплинарное направление, сегодня называемое синергийной антропологией. Я считаю Владимира Вениаминовича одним из основателей этого направления. Сейчас в эти же часы в МГУ на философском факультете происходит вечер памяти Владимира Вениаминовича. Часть участников нашего семинара в настоящее время находится на этом вечере, поэтому нас здесь сегодня несколько меньше. И я позволил бы сказать себе, что сегодняшнее заседание семинара мы тоже связываем с Владимиром Вениаминовичем и посвящаем его памяти. Тема заседания «Гетерогенез творческого акта» безусловно также близка его творчеству, он об этом думал и писал и в тех предварительных материалах, которые разослал наш докладчик Владимир Петрович Зинченко, я с удовольствием увидел, что тоже имеется отсылка к трудам Владимира Вениаминовича. Таким образом, сегодняшнее заседание носит отчасти мемориальный характер. Что касается самой темы, то она безусловно одна из ключевых для работы нашего института. Проблематика творчества – это один из тех междисциплинарных фокусов или локусов, где сходится проблематика едва ли не всех гуманитарных дисциплин. Тут 2 безусловно и философия, и психология, и культурфилософия, и проблема Востока и Запада, где творчество понимается абсолютно по-разному. Одним словом, нашей междисциплинарности вся эта проблематика и близка и просто необходима. С разработками Владимира Петровича, который давно и основательно в этой тематике, я тоже с великой для себя пользой знакомился. Предоставляю слово Владимиру Петровичу. Зинченко В.П.: Спасибо. У психологов свой язык. Здесь психологов, как я понимаю, не так много, поэтому позволю себе вспомнить Ивана Соломоновича Бериташвили, – был такой выдающийся физиолог, ученик Ивана Петровича Павлова, довольно быстро автономизировавшийся от своего учителя, академик советской Академии наук. Выступая на общем собрании Академии наук, он начал таким образом: «Поскольку я выступаю на общем собрании Академии наук, я постараюсь быть немножко популярным». Я буду вынужден, хотя бы минимально, использовать профессиональный психологический жаргон. А жаргон синергийной антропологии мне не очень известен, так что как-то буду выходить из этого положения. Хоружий С.С.: Он у нас, слава Богу, еще пока и не сложился. Зинченко В.П.: Ну, слава Богу! В синергийной антропологии присутствует слово «энергия» и «син» –- сочетание, соединение энергий. Правильно я понимаю? Хоружий С.С.: Абсолютно правильно. Зинченко В.П.: И с этой точки зрения, может быть синергийная физиология, – там термин «синергия» используется очень широко, может быть и синергийная психология. Об этом я поговорю немного позже подробнее. Может быть синергийная социология, и она есть потому, что апофеоз соединения энергий – это толпа, это бунт бессмысленный и беспощадный. С этой точки зрения, рассеянная энергия, никак не собирающая наших двусмысленных демократов и либералов – это наверное благо по сравнению с толпой. И для психологии понятие «энергия» не является совсем уж чужим. Я имею в виду особый род психологии. Зачинателями его были не психологи. К сожалению, нет проектора, а я принес такие чудные фотографии, но – в другой раз. Зачинателями были выдающиеся физиологи XX столетия – Алексей Алексеевич Ухтомский и Николай Александрович Бернштейн. Александр Романович Лурия, наш психолог, нейропсихолог, назвал в свое время направление Бернштейна «психологической физиологией». Не надо путать это с классической психофизиологией, которая пришла из XIX столетия. И эта психологическая физиология является, на мой взгляд, синергийной. Из синергийной физиологии тоже полезно извлечь один поучительный урок. Синергия синергии рознь. Она не всегда благо. У младенцев имеется, например, хватательный рефлекс. Пока он не разрушится, не трансформируется, невозможно построить никакое другое ручное умение или новую синергию (правда, в более зрелом возрасте хватательный рефлекс может восстановиться и, кажется, в этом случае он не разрушим). 3 Обратимся к А.А. Ухтомскому, учение которого о доминанте, в том числе и о доминанте души, далеко выходит за границы физиологии и, на мой взгляд, имеет прямое отношение к синергийной антропологии и к теме моего сообщения. Ухтомский получил образование в Троице-Сергиевской лавре, там стал кандидатом богословия, долго сомневался в выборе дальнейшего пути и решил посвятить себя все-таки науке, а не Церкви. До конца своих дней он оставался старообрядцем, и ему чужда была пышная торжественность и мишура. Он колебался между монашеством и наукой, и его очень интересовало монашество и как предмет научного исследования. И возник у него дерзкий замысел, который он сформулировал так: «познание анатомии и физиологии человеческого духа». Заметьте, это был великий физиолог, не понятый, между прочим, как следует до настоящего времени. Его интересовала анатомия не тела, а духа. Самое поразительное, что он показал путь, по которому можно двигаться к этой цели. Он говорил, что есть органы морфологические, физиологические, — печень, сердце, мозги, руки, ноги и т.д., но есть еще и органы функциональные. А это то, что строится на базе наших анатомических органов, это все наши моторные навыки. Функциональным органом он называл психологическое воспоминание, образ мира. В конце концов и знания наши – это тоже наши органы. Иное дело, как мы ими пользуемся. Мысль – это тоже наш орган. И он дал определение органа, в высшей степени примечательное. Орган – это всякое соединение сил, способных осуществить определенное достижение. А значит это и есть соединение энергий. Предмет заботы покойного Владимира Вениаминовича [Бибихина] о том, что прежде всего должно быть движение или энергия, я оставляю в стороне. Но явно, что основная черта живого существа – это активность. Эта активность может рассеиваться в космосе, а может как-то фокусироваться. И вот сочетание сил, способных осуществить определенное достижение – это и есть функциональный орган индивида. Иногда он говорил о «функциональном органе мозга», говорил об этом в физиологических терминах. Важное свойство органов – то, что это органы – виртуальные. Вы, глядя на меня, не знаете, какими навыками я обладаю, какие есть у меня образы, знаю ли я географию нашей страны, Москвы, Праги, Лондона и т.д., могу ли я ориентироваться где-то, решать те или иные задачи и т.д. Они видны лишь в исполнении и существуют у каждого из нас виртуально, если, конечно, существуют. Я ничего не сказал нового по сравнению с тем, что веками известно в психологии. Психологи говорят о внешнем и внутреннем. Мы ведь знаем, что внешность человека обманчива, а внутреннее – таинственно, загадочно. И между прочим на этой разнице, на этой дельте внутреннего и внешнего спекулируют (в хорошем смысле слова) все гуманитарные науки. Если бы этой разницы не было, не нужна была бы никакая психология. Вообще не нужны были бы гуманитарные науки. Это основная проблематика. Дальше обсуждается вопрос о том, откуда берется это внутреннее, как о нем можно судить. Прорывается ли это внутреннее во внешнее, можно ли это внутреннее вскрыть? Чего только в этой проблематике нет!. Странным образом гуманитарная наука, пойдя за Гегелем вместе со всей компанией не до конца похороненных классиков, не замечала понятий, 4 предложенных в свое время Гумбольдтом. А Гумбольдт, начиная свою работу как литературный критик, анализируя «Германа и Доротею», писал, что есть разные писатели и поэты. Одни обращают большее внимание и проявляют большее мастерство в описании внешнего, а другие в описании внутреннего. И в анализе «Германа и Доротеи» он впервые употребил понятия внешней формы и внутренней формы. Потом из литературоведческой области он перенес это на анализ языка, стал говорить о внутренней форме языка, и вот эти его идеи дошли до России. Владимир Вениаминович [Бибихин] очень детально проанализировал взгляды Потебни, посвященные внутренней форме языка. На днях мне Мусхелишвили [Николай Львович] дал его еще неопубликованное эссе, где он добрался и до внутренней формы слова Густава Густавовича Шпета, а Шпет – это особая фигура, он ведь не только гуссерлианец, но у него есть особая книга, которая называется «Внутренняя форма слова: вариации на тему Гумбольдта». О внутренней форме слова он более понятно писал в «Эстетических фрагментах». Он показал невероятную сложность и динамичность внутренней формы слова и ее богатство. Звуковой рисунок – это внешняя форма, и если воспользоваться поэтическим образом, за поверхностью каждого слова скрывается бездонная мгла. Вы за поверхностью слова можете найти смыслы, значения, образы и действия. Это уже потом, где-то в пятидесятые годы в лингвистике появилось целое направление, рассматривающее слово, как перформатив, как исполнение. Если я попрошу у Сергея Сергеевича десятку на метро, то это же не информация, а действие. Богатство внутреннего и скрытого, требует от нас способности проникновения в эту «бездонную мглу», о которой говорил Заболоцкий. Гумбольдт дал энергийную характеристику слова. Слово энергийно, но энергийно и всякое действие. Вот представьте себе, младенец месячного возраста смотрит на человеческое лицо, и при этом регистрируется траектория движений его глаз. Он смотрит на лицо, как парикмахер или визажист. По волосам, по ушам, по подбородку скользит его взгляд. В двухмесячном возрасте большинство зрительных фиксаций младенца сконцентрированы на глазах и на губах. Его привлекает не эстетика, он ведь смотрит не в глаза, а в душу, и смотрит на губы, от которых исходит ласка. Вот это рассеянное движение сконцентрировалось и собралось. Это и есть сочетание сил, он добивается вашего ответного душевного внимания. Это формируется в течение месяца и будет у вас у всех до седых волос. «Улыбку уст, движенье глаз ловить влюбленными глазами…». Ловите? Пушкин все знал! А наши утилитарные простые и сложные действия, действия гимнастические и танцевальные оказываются текстом. Пойти в театр Кабуки на восемь часов для меня невыносимо, потому что эта символика мне незнакома. Наш балет – другое дело. И мы читаем. За этой биомеханикой таится такая же бездонная мгла и внутренняя форма, у которой есть свои смыслы и значения. Во внутренней форме действия есть речь, есть слово. Если бы не было в действии внутренней формы слова, мы бы не могли дать словесную инструкцию. Вы читаете мои движения и действия. Гегель сказал, что истинное бытие человека – это человеческое действие. 5 Только в нем индивидуальность действительна. Не в мнении, не в слове, - мало ли что я могу наговорить и вы тоже, но по делам же мы судим. В этом же проблема всей тестологии. Мало протестировать, надо годы тренировать, чтобы научить интерпретировать тесты. Не так уж много у нас способов самовыражения. Мы можем выразить себя в слове, можем выразить себя в действии, можем выразить себя в образе. И образ тоже имеет внутреннюю форму, причем в образе действия представлены действие и слово. Я вам сейчас запрещаю думать о голой обезьяне. Появилось же она у многих перед глазами, у женщин во всяком случае. Это у мужчин с воображением дела обстоят неважно. Значит внутренней формой образа может выступать слово. Действие энергийно по определению, слово энергийно по Гумбольдту или, если хотите, по Н. Гумилеву. Солнце останавливают словом, словом разрушают города, словом можно вылечить, можно убить человека. Это вещи известные. Образ тоже энергиен, в нем аристотелевская эйдетическая энергия. Давно в психологии существует то, что называлось моторными теориями восприятия. Пифагор говорил, что глаз ощупывает предметы, как слепой их ощупывает палкой, т.е. есть какая-то форма активности, названная перцептивными действиями: движения глаз, движения рук, ощупывающих предмет. Между прочим для того, чтобы научиться скольконибудь прилично различать высоту звука, нужно голосом подравнивать и имитировать эту высоту, т.е. даже вещи, связанные с музыкальным слухом, имеют свою собственную моторику. Среди русских полно людей высотно-глухих, вроде меня, а среди вьетнамцев высотно-глухих не бывает потому, что там высота звука является смыслоразличительным признаком, и там высотно-глухой вообще не может понимать речь, обращенную к нему. За образом есть смыслы, значения, своя моторика, которая привела к его формированию. И между прочим, когда говорят об эйдетической энергии, это не просто метафора, потому что наши образы как сжатая пружина, они заряжены. И они норовят развернуться в действие, и его порой очень сложно удержать. Известный анекдот: муж жалуется жене о том, что ему приятель хотел дать по физиономии. Жена спрашивает его, откуда он знает, а он отвечает ей, что если бы не хотел, то не дал бы. Слово, образ, действие, эти три вещи имеют свою отчетливую внешнюю форму. Только у образа форма может быть менее отчетливой, если он не визуализирован. [Иосиф] Бродский говорил о «бахроме внутренних форм». Представьте себе, от слова идут две внутренние формы: действие и образ. За действием скрыты образ и слово. За словом — образ и действие. Это и есть бахрома внутренних форм. Не напоминает ли это вам сор, из которого, «не ведая стыда, растут стихи»? Или северянинских горничных, из которых он делает королев? Или мандельштамовская «тяжесть недобрая», из которой он тоже что-то высокое создает. Дешифрирование внутренних форм – это проблема. Мы же все разные и за словом, образом, действием видим свое, в меру своей испорченности, воспитанности и т.д. Это наше глубоко индивидуальное восприятие. Вот такая имеется сложность и это все есть некоторые энергийные образования. Наши образы обладают свойством открытости, пока они не 6 закостенели. И слово может закостенеть, и символ может оказаться выпотрошенным, но это в принципе живые формы, они оживляют друг друга. Смысл присутствует в каждой из этих внутренних форм, и я думаю, что смысл – это такая штука, которая объединяет «бахрому внутренних форм». Будем считать это некоторым фоном и некоторой сложностью, заключающейся в том, что и слово, и образ, и действие нам никто в готовом виде не дает. Все это является нашим собственным порождением. Замечательность человеческого развития заключается в том, что по сути он становится сам только тем, что он порождает. Вопрос: Смысл – это внутреннее или внешнее? Зинченко В.П.: Я думаю, что смысл все пронизывает. Я напомню три метафоры смысла. Первая метафора принадлежит Максу Веберу. Он сказал, что человек – «это животное, находящееся в паутине смыслов, которую он сам же и сплел». Можно добавить: «из своего собственного бытия», потому что смысл наш укоренен в бытии. Ухтомский дал замечательное определение жизни: не «способ существования белковых тел», а «требование от бытия смысла и красоты». Вот вам и «паутина смыслов», и, не дай Бог, эта паутина спадает. Тут нет Ф.Е. Василюка, это его епархия. Или – в петлю, или, по Василюку, – работа–переживание. Есть вторая метафора Г.Г. Шпета: «кровеносная система смыслов». Я думаю, что «бахрома внутренних форм» пронизана этой кровеносной системой смыслов, потому что не смотря на то, что это разные формы, у них есть шанс объединиться. Третья метафора – Андрея Белого. Во внутренних формах имеются капли смысла и вдруг акт озарения – «радуга смысла». Вернусь к тому, что называется актом творчества. Есть очень пессимистическая точка зрения отца Павла Флоренского, который сказал, что не только творчество, а вообще деятельность не познаваема рационально. Между прочим, он ставит под вопрос деятельностную теорию психологии и лингвистики и т.д., потому что деятельность – это нарушение закона тождества потому, что к тому, что есть прибавляется то, чего нет, прибавляется нечто новое. Поэтому для рационализма творчество недоступно. Он говорил, что творчество доступно только для духовного анализа, но это уже его проблемы. Есть то, что называется актами до актов. Мы так замечательно устроены с вами, что не в состоянии войти в одну и ту же воду, дважды повторить одно движение. Мы не в состоянии дважды повторить одно и то же слово. Спектрографический анализ покажет, что каждое произнесение уникально, т.е. мы вообще гениально созданы. Мы созданы таким образом, чтобы все делать как в первый раз. Это же интереснее, чем ходить по кругу, как собака без полушарий. Тем не менее мы часто так себя ведем из-за штампов и т.д. Вот эта уникальность каждого движения вообще ставит вопрос о том, что такое творчество. Будем его принимать, как культурную форму, как создание некоего нового продукта, которого не существовало до этого акта творчества. Макс Вертгаймер на основании бесед с Эйнштейном в книге «Продуктивное мышление» представил создание теории относительности как драму в десяти актах. И есть всегда кульминационный момент, который называют озарением. Я его 7 проиллюстрирую на таком полукомическом примере. Физиолог и шахматист Виктор Борисович Малкин провел с гроссмейстером Толушем такой эксперимент: показал ему через проектор на короткое время довольно сложную шахматную позицию с установкой – запомнить какие фигуры стояли на каких местах. Позиция мелькнула на экране и Толуш говорит ему: «Витя, не морочь мне голову. Я конечно не помню какая позиция, но могу твердо тебе сказать, что позиция белых была слабее». Привезли Туполева из кутузки на аэродром к сделанному без него самолету, – Сталин велел ему показать. А он говорит, что самолет не полетит. Его спрашивают, почему, а он отвечает: «Это считать надо». Ему шарашку сделали, он выручил Королева, стал делать свои самолеты. Бывают и мгновенные оценки людей, особенно у женщин. Везде есть этот невероятный миг. Пастернак говорил, что такой миг затмил бы и вечность. Лирики говорят: «мгновение откровения». Как они происходят? Здесь я вновь обращаюсь к Гумбольдту, который говорил о плавильном тигле. Витгенштейн без упоминания Гумбольдта тоже пишет в письме Расселу о тигле, причем совершенно потрясающе. Я говорил вам по поводу ералаша, хаоса внутренних форм, бахромы внутренних форм, а он пишет, что у него логика вся в тигле расплавилась и на выходе появилась другая логика. Этой плавке подлежат и логические внутренние формы. Тут есть одна сложность: легче всего сказать, что это бахрома, хаос и т.д., но я хочу обратить ваше внимание на то, что внутренние формы всё-таки – формы, т.е. являются оформленными. В тигле они расплавляются, но это расплавляется нечто релевантное тому, чем человек занят, не вполне случайное, хотя случайность может играть огромную роль. Классический пример – наш самолетостроитель Уточкин. Его мучила проблема, каким образом повысить надежность мотора. И он идет за человеком, который несет чемодан в руке и видит, как этот человек ставит чемодан, обходит его и берет его в другую руку. И тут он понял, что надо поставить два мотора. Легко и просто, но это кажется нам простым уже постфактум. Это какой-то плодотворный хаос, и до него надо еще дожить. Мы же говорим, что случай награждает достойного, но скольким людям яблоко на голову падало? А Ньютон-то был один. Обращаюсь к действию. Аристотель назвал жизнь чистым действием. Я вам приводил уже слова Гегеля, что действие — это истинное бытие человека. Здесь я бы хотел, чтобы вы прониклись мыслью о сложности живого человеческого движения и действия. Оно действительно как бы концентрирует и соединяет в себе очень многое. Есть его пространственно-временные характеристики и они удивительны потому, что как наш глаз не улавливает отдельные кадры кинофильма, точно так же мы не улавливаем всей сложности человеческого действия. Наш глаз не только замечательный прибор для восприятия мира, он еще и великий иллюзионист. Мы не видим дискретности наших собственных движений и движений, которые осуществляют другие люди. А наше живое человеческое движение имеет квантово-волновой характер. Если вам его развернуть и показать, вы поразитесь. Положительное ускорение, отрицательное, пауза и опять всё заново, это все меняется по нескольку раз в секунду, что совершенно недоступно для человеческого 8 глаза. Т.е. наше движение замечательно тем, что оно способно различать себя в моментах, и об этом говорит гегелевская формула. В «Феноменологии духа» Гегель пишет: «Дух не есть нечто абстрактно простое, а дух есть система движений, различающая себя в моментах». Если бы наше движение не различало себя в моментах, то мы бы разогнались и не смогли остановиться перед пропастью или свернуть. Мы бы вообще не могли управлять своими движениями и действиями в критических ситуациях. Поэтому отсюда происходят волны, кванты, произвольность. Но и дух – это система движения, различающая себя в моментах. Естествоиспытатель Чарльз Шеррингтон, великий человек, говорил, что на завершающих участках действия имеется место элементам памяти и предвидения. Об этом наглядно-действенном мышлении я могу прочитать отдельную лекцию. Великий физиолог локализует память и предвидение не в мозге, а в действии. Бернштейн говорит о том, что движение реактивно, оно эволюционирует, о чем мы и сами догадываемся потому, что когда-то ходить не умели, а потом научились. Движение инволюционирует, - я знаю, что не побегу так, как мог в молодости, даже если есть за кем. Но мало этого, движение чувствительно к ситуации, к возможностям собственного исполнения. Черчилль говорил большевикам в семнадцатом году, что только сумасшедший может надеяться, что перепрыгнет пропасть в два прыжка. Движение гетерогенно, благодаря чему оно нас учит. Логика действия переходит в логику слова, а потом в логику мысли. Движение оказывается умным не потому, что им руководит посторонний ему интеллект. Общее заключение из сказанного состоит в том, что живое движение в такой же степени телесно, в какой и духовно. Оно, как минимум, — посредник между телом и духом (душой). К приведенным выше аргументам нужно добавить еще один, принадлежащий А. Шопенгауэру. Он отождествлял движение тела и волю: «Воление и действие различны только в рефлексии; в действительности они составляют одно. Каждый истинный акт воли сразу и напосредственно есть являющийся акт тела». Н.А. Бернштейн, восхитившись сложностью движения, говорит, что движение – это живое существо. Как и полагается живому существу, оно развивается, т.е. создает новообразования, формирует (творит) недостающие ему органы, что оказывается возможным благодаря его гетерогенности. Живое движение в зачаточной, а действие — в значительно более развитой форме содержит в себе элементы познания, чувства и воли. С.Л. Рубинштейн в свое время назвал его исходной клеточкой, в которой заключены все элементы психологии. Другими словами, оно содержит в себе творческий потенциал саморазвития и развития, превращения в иное, например, в образ, порождающий новое действие. Образ и действие вступают в реципрокные (если угодно — в синергийные) отношения. Их смысл состоит в чередовании композиции и декомпозиции (если угодно — в конструкции и деконструкции, — по Ж. Деррида). Мы построили образ мира, и этот образ может нас удовлетворять какое-то ограниченное время, и в конце концов мы начинаем осуществлять декомпозицию этого образа. И на основании нашего поведения (действия) и размышлений мы делаем композицию нового. Это 9 естественно. Поразительно то, что подобное происходит ежесекундно. Представьте себе, что мне надо взять бутылку воды и налить воду в стакан, а мое зрительное восприятие обладает свойствами константности и эта константность очень важна для оценки ситуации, для принятия решения. Вот, сидят передо мной Сергей Сергеевич Хоружий и Олег Игоревич Генисаретский. На моей сетчатке в соответствии с законами оптики Сергей Сергеевич занимает существенно большее место, чем Олег Игоревич, но тем не менее я Олега Игоревича вовсе не воспринимаю как лилипута. Я вношу как бы поправку, но когда я осуществляю реальное действие, то должен ориентироваться не на константный образ, а на реальный образ. В этом случае осуществляется декомпозиция константного образа в интересах выполняемого действия. Последнее участвует в создании образа измененной ситуации и т.д. В таких ситуациях образ и действие вообще трудно различимы. Энергия действия переходит в энергию образа, а энергия образа — в энергию действия. В конце концов образ действия становится единым энергийным образованием. Он напоминает энергийное интенциональное артикуляционное чувство, наблюдаемое при порождении речевого высказывания, о котором писал В. Гумбольдт. И, пожалуй, самое главное и самое трудное. Можно ли более предметно представить переплавляющиеся в тигле внутренние формы образа, слова и действия. На первый взгляд это есть умножение сущностей без нужды, так как их внутренние формы представляют собой все те же образ, слово и действие, пусть и орошаемые кровеносной системой смысла. Моя гипотеза состоит в том, что образ, слово и действие представлены во внутренних формах в виде соответствующих моторных программ актуализации. Экспериментальная психология, в том числе и та ее часть, которая присвоила себе звание когнитивной, полны фактами, свидетельствующими о том, что возможно оперирование невербализованными моторными программами, ответственными за порождение речи. Они находятся даже «глубже», чем частично доступная самонаблюдению внутренняя речь. Возможно и недоступное самонаблюдению оперирование и манипулирование образами. Изложение этих данных потребовало бы специального доклада (и не одного). Я же ограничусь указательным жестом на то, что подвергается переплавке в котле «cogito». Дальше можно обсуждать, а еще лучше — исследовать, являются ли эти программы, так сказать, модально специфическими или они интегрируются и на время переплавки становятся амодальными, а затем вновь приобретают модальные черты. Так или иначе но это «смешение языков», бахрома внутренних форм, представленных моторными программами, их переплавка и последующая кристализация, динамика смысла — все это обозначается термином «гетерогенез». Эта «внутренняя работа» — вызов исследователям, поскольку она не оставляет «видимых следов» (Н.Н. Волков). Стоит обратить внимание, что «на выходе» подобной работы, например, у композитора, художника, поэта мы имеем чистейшие внешние формы и на них нет следов их производства. «Сор» есть там, где плохое произведение, где есть следы выделки этого произведения, которое мы называем 10 топорной работой. Но чистейшие внутренние формы – тоже проблема. Читайте «Мудрость Пушкина» Гершензона и другие его произведения. Он говорит, что внешняя форма может стать блестящей ледяной глыбой и она может оказаться настолько привлекательной, что не впустит нас внутрь созданного произведения. А наша задача заключается как раз в том, чтобы войти внутрь произведения. Нам же хочется интерпретировать улыбку Джоконды, и эти интерпретации продолжаются и будут продолжаться и дальше. Не все же имеют смелость Флоренского отвернуться от нее и сказать, что это «улыбка блудницы». Наше проникновение в эти формы – это тяжелейшая работа по самосозиданию и самопостроению своих собственных внутренних форм. Это один из важнейших актов творчества, - самосозидание своих внутренних форм. Конечно, не каждый этим занят, диплодоков встречаем, одноклеточных встречаем, все это есть, но наряду с этим есть одна замечательная вещь – это саморазвитие внутри нас. Это то, что Карл Юнг назвал «автономный душевный комплекс». Как будто есть какая-то заноза, которая созревает без нас. Но когда она появляется, то овладевает нами и с требовательностью рвется наружу. Этот «автономный душевный комплекс» вообще все остальное вытесняет, а человек превращается по сути в орган этого душевного комплекса. Это конечно тайна. Все что я говорил, – это попытка не столько разгадать эту тайну, сколько как-то к этой тайне прикоснуться, сделать ее более осязаемой и дать какое-то пространство для разговора об этом. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вопрос: Вы упоминаете имя Канта. Таинственность внутренней формы у него связывает чувственность и мысль. А у Вас это вынесено в деятельность. У Канта в деятельность вынесено нечто иное. Внутренняя форма, насколько я знаю по Гумбольдту, энергийна. Очень жаль, что Вы не сказали, какое слово имеет энергийную выраженность. Есть ведь написанное слово, а есть и звучащее. Гумбольдт как раз это различает. Как Ваша тема будет выглядеть через призму деятельности, образа и слова? Зинченко В.П.: Я немного об этом сказал. Движение, по определению, энергийно. Это рвущаяся вовне активность. Какой то спортсмен отважился повторить все движения трехлетнего ребенка и он уже через сорок минут трупом лежал. Это невозможно. И движение является источником наших образов. Я очень сильно сомневаюсь насчет того, что чувства у нас бессмысленны, а мысли бесчувственны. Это происходит по мере развития, - интеллектуализация наших чувств и наоборот. Если движение энергийно, то и сам образ энергийен. Я не очень знаю и понимаю гумбольдтовское различение написанного и звучащего слова. Я говорю о воспринимаемом слове. Написанное слово тоже имеет свою энергию. Все зависит от того, кто написал и кому написал. В расплавленном смысл сохраняется. Внутренние формы трансформируются, а если они закостеневшие, то из них ведь ничего не получится. Внешние и внутренние формы разные, но важно, что они есть. Вопрос: Я тогда поясню свой вопрос. Насколько энергийна молитва для 11 неверующего человека? Зинченко В.П.: Никак она не энергийна, она может производить эстетическое впечатление. Если ему вдруг повезет и поможет как-то, то тогда она станет для него фактом. Вопрос: У Владимира Вениаминовича [Бибихина] вышла статья, которая называется «Энергия». И он там констатирует такой страшный факт, что энергия от человечества уходит. Есть две традиции, трактующие смысл. Одна говорит, что смысл обретается самим человеком, а другая говорит, что он вливается в человека. Это античная традиция и новоевропейская, утверждающая, что идеи созидаются по мере познавательного движения человека. Что Вы можете сказать о творческом акте в этом контексте? Зинченко В.П.: Вы меня подбиваете сейчас на какой-то новый рассказ. Есть замечательное пространство между. Есть у нас тело, есть дух, как они соединены? Я Вам уже от Гегеля привет передал. Они соединены живым движением потому, что с помощью живого движения происходит одушевление тела и с помощью живого движения происходит некоторое «оплотнение» души. За время жизни душа приобретает смертные черты, – привет Вам от Бродского. Движение является источником духовности и источником энергии для слова и для образа. Это уже вторичные формы. А Бибихину, к сожалению, надо поверить. От такого человечества энергия должна сбежать, не стоит оно того. Хотя возможен новый прилив. Тенякова О.: Психолог Гарднер утверждал, что ни в психологии и науке о мозге, ни в какой-либо иной области мы не сможем найти ответа на извечные тайны сознания и свободной воли. Понять мистические состояния сознания невозможно, самому не побывав в них. Разделяете ли Вы это мнение? Зинченко В.П.: Мне как-то не довелось побывать в мистических состояниях. Я вам аккуратно сказал, что я не пытаюсь разгадать тайну, я пытаюсь только к ней прикоснуться. Дело в том, что несмотря на то, что энергия от человека уходит, он будет развиваться, а наука будет следовать за ним. А тот, кто идет за кем-то, остается позади. И человек будет приносить все новые и новые сюрпризы науке. Но искать надо там, где потеряли, очень много усилий тратится на то, чтобы найти творчество в мозгах. Вот это по-моему напрасно. Тенякова О.: В 1993 году в журнале «Вопросы философии» Вы опубликовали статью «Кризис или катастрофа», посвященную кризису современной отечественной психологии. Хотелось бы узнать, изменилось ли с того времени состояние современной отечественной психологии? Зинченко В.П.: Давайте будем считать болезнью роста то безобразие, которое происходит в психологической науке сегодня. Двадцать лет назад в Москве было четыре отделения факультета психологии, а сейчас больше сотни. Я старый человек, но я не могу насчитать двадцать профессоров, которым я бы мог доверить 12 чтение курса общей психологии. В конце советских времен в обществе было пять тысяч психологов, а сегодня мне говорят, что психологов двести пятьдесят тысяч. Такой рост не может происходить безболезненно. Поживем, увидим. Только берегитесь пожалуйста психологов-консультантов. Нет у нас психоаналитиков. Психотерапевтов – раз, два и обчелся. Пока справляйтесь своими силами. Тенякова О: А в мировой психологии нет таких кризисных явлений? Зинченко В.П.: А там все постепенно и там никакой катастрофы нет. Там это лечение дорого стоит, но оно эффективно и у психоаналитиков, и у психотерапевтов. Хотя там жулья тоже полно. Закон больших чисел действует. Рупова Р.: Скажите пожалуйста, Владимир Петрович, как Вы видите соотношение науки и метафоры? Наука сплошь и рядом прибегает к метафоре, но является ли это лишь средством для выяснения истины или она должна со временем переплавляться в какие-то другие формы более строгого дискурса? Или она должна быть элементом дискурса? Зинченко В.П.: Я думаю, что она должна переплавляться в какие-то новые формы. Метафора живого движения была высказана Берштейном где-то в конце двадцатых, начале тридцатых годов. Сегодня это уже перестало быть метафорой, уже есть целый ряд моделей. Курс лекций можно читать о структуре предметного действия, произвольного действия, живого движения. Все это как-то ложится на механизмы, и есть теория Бернштейна об уровнях построения движения. Это уже не метафора, а без метафоры никуда. Мандельштам сказал: «земля гудит метафорой». Выготский сказал, что большинство понятий психологии – суть метафоры, и они необходимы. Это сюжет Владимира Львовича Рабиновича: тележка перевозит смысл от одной штуки к другой и это замечательно. И тогда что-то открывается и даже возникает радуга смыслов. Это вообще-то не психологическая, а науковедческая и методологическая проблема. Есть такая толстая книга, посвященная метафоре, - ее названия я не помню, но там есть статья, которая называется «Живая метафора». Есть «дохлые» навязшие на зубах метафоры, есть неэстетичные метафоры, которыми все-таки иногда приходится пользоваться, потому что нет лучше. Я не считаю это зазорным, – воспользоваться метафорой тогда, когда не могу чего-то объяснить в понятиях, чтобы у человека хоть какое-то представление возникло. Кнорре Е.Б.: Владимир Петрович, Вы начали с описания творческой ситуации Ухтомского, но не дошли до слова «доминанта», которое напрашивается здесь. Учение о доминанте сугубо синергийное и в связи с этим, можно ли считать автономные душевные комплексы Юнга некоей психологической доминантой? Зинченко В.П.: Евгений Борисович, большое Вам спасибо за вопрос потому, что я действительно забыл упомянуть об этом – тем более, что как раз в двадцать седьмом году были упреки в адрес Алексея Алексеевича [Ухтомского] по поводу того, что его теория доминанты является цельнотянутой у исихазма. Это сказал ктото из заушательских критиков. Как раз у Сергея Сергеевича [Хоружего] я узнал, что у 13 Григория Паламы была доминанта, и Ухтомский как бы замаскировался, потому что он говорил после двадцать седьмого года, что у Авенариуса, ленинского «любимца», есть термин «доминанта», но он использует его в совсем другом смысле. Т.е. он делал указательный жест в другую сторону от религии, в сторону философии. А по сути доминанта есть временное сочетание сил, способных осуществить определенное достижение. А функциональный орган и есть доминанта, я просто не употребил это слово. Великая книга «Доминанта души» тоже была им написана, и доминанта души – это есть наверное юнговский комплекс, хотя Ухтомский едва ли о нем знал. Панов А.: Владимир Петрович, у меня вопрос чисто практический. Вы говорили о творчестве и связывали с ним некую загадку, а тем не менее, многие люди совершенно уверенно говорят о создании в недалеком будущем искусственного творческого интеллекта, о моделировании творческих способностей человека в каких-то искусственных системах. Хотелось бы узнать, что Вы думаете о такого рода мечтах. Зинченко В.П.: Есть же Альтшуллер, который брался сформировать у вас творческие способности. Недавно к нам в университет Дубна приехала дама, которая за сто баксов предложила сформировать планетарное мышление у всех желающих. Вы помните, был замечательный фильм «Искушение святого Йоргена», где играли Ильинский и Кторов. Ильинский играл больного, которого святой Йорген (Кторов) излечивает. Ильинский подзадержался с тем, чтобы костыли отбросить во время исцеления, и Кторов ему говорит: «Исцеляйся, дубина!». И у меня есть такое ощущение, что стимуляторы творчества точно так же относятся к тем, кого стимулируют. Творчество к человеку может только само прийти, потому что из чужих рецептов не получится. Вспомните великого Столярского, педагога великих музыкантов-исполнителей. Он знал, кого можно учить, у кого есть перспектива, а у кого нет. Те, у кого она была, он запирал в чулан и линейкой лупил, выжимал из них соки. Мы не можем сказать, чем творческое произведение отличается от ремесленного. Когда у Карла Брюллова спросили чем, он сказал: «чуть-чуть». Рутину мы можем сформировать, но в остальном… Наивный Георгий Щедровицкий думал можно сформировать мышление с заранее заданными свойствами, но и этого не получается. Какие-то умственные действия сформировать можно, но не мышление. Да и кому дано знать, какие свойства мышления понадобятся тому или иному человеку. Я думаю, что кесарю – кесарево, а Богу оставить Богово. Я очень осторожно отношусь к проблеме формирования. Надо, чтобы человеку еще захотелось что-то создать. Дубко Г.: У меня вопрос из театральной сферы в силу моей профессиональной деятельности. Я бы хотел понять, почему в теме о творчестве не прозвучали такие общеизвестные вещи, как определения того, что есть искусство, что было в работах Петра Михайловича Ершова. Мне кажется, что было бы уместно на этом семинаре рассмотреть и систему Станиславского, изучающую жизнь 14 человеческого духа и образ действия. Хотелось бы уточнить, интересно ли это для Вас, и какова Ваша точка зрения на это с позиции практического образного мышления и действия? Зинченко В.П.: Это необъятная тема, по ней есть огромный материал. У Михаила Чехова Вы можете найти в его двухтомнике полный аналог душевного комплекса, который есть у Юнга, этот зародыш, идея, которая разворачивается по каким-то своим законам. Я нарочито узко сформулировал тему – «Гетерогенез…». А актерское, исполнительское бывает разное, там ведь бывает и просто биомеханика с некоторой скудной формой. А есть богатейшая внутренняя форма, скажем, у Михаила Казакова. Он не может выразить словами внутреннюю форму, скажем, поэзии Бродского, и он привлекает для этого еще и Бутмана, чтобы ее расцветить музыкой. Кое-что я об этом знаю, а главное, что отношусь к этому с огромным пиететом. Монтаж – это ведь тоже нарочитая вещь, столкновение двух образов, рождающая новый смысл. На этом же многое и в театре построено, – на порождении нового смысла. Макеев Ю.К.: Человеческое сознание работает не с самой вещью, а с представлениями о ней, с образом. Не кажется ли Вам, что образ вещи является своего рода энергийным резонатором, в котором эта вещь энергийно отвечает. Т.е. это своего рода синергия энергии вещной и энергии эйдетической. Зинченко В.П.: Вы же по сути дела повторили то, что говорил Василий Васильевич Кандинский в «О духовном искусстве». Это книжка, написанная в двенадцатом году, дошла до нас только в конце 80-х годов. Вот его слова: Подлинное произведение искусства возникает таинственным образом из души художника. Отделившись от него, оно начинает вести самостоятельную жизнь. И дальше оно становится субъектом, оно становится личностью, живет и участвует в создании духовной атмосферы. В этом смысле оно конечно энергийно. Л.С. Выготский не мог знать этой работы, потому что она была опубликована в Германии. В его психологической теории и во всей психологии искусства ясно выражено, что мир человеческих эмоций существует до и независимо от каждого отдельного человека потому, что искусство сотворило нам невероятную палитру человеческих эмоций. А это уже наше дело, повернемся мы к ним или не повернемся. Эта палитра конечно избыточна для каждого отдельного человека, но она недостаточна для человечества в целом. Поэтому искусство неистребимо. Конечно в этом смысле искусство – это живая психология чувств. Искусство дает нам шанс, между прочим, чтобы сказать, что психология – объективная наука. Макеев Ю.К.: Эту идею мне навеяла лингвофилософия. Все-таки, возвращаясь к вопросу об откровениях, не кажется ли Вам, что это спонтанный переход на совершенно иные нелинейные многомерные логики, который выражается в замене современного дискурсивно-семиотического типа мышления, традиционного для нашей науки, на образно-символический? Зинченко В.П.: Если мы с Вами говорим, что живое человеческое движение является источником и непременным участником творческой активности, то это 15 живое человеческое движение требует совершенно новой логики, оно описывается топологическими категориями. Олексенко А.И.: Владимир Петрович, в том, что Вы говорили, есть некоторые вещи, которые меня смутили. Вы с самого начала задали противопоставление «внешнее – внутреннее», внутри плавится тигель, вырабатывается чистейшая форма, происходит кристаллизация. И как-то так получается, что эти кристаллические формы «выпиливают» своего создателя, а дальше требуют от вас некоего гигантского объема души и постижения. Но тут меня вот что смущает. Как сказал в разговоре со мной Павел Васильевич Флоренский, будучи географом, кристалл – это форма, которая обладает минимумом энергии, т.е. чистейшая форма мертва. И поэтому, исходя из интонации Вашего доклада, мне кажется, что гораздо действеннее было бы представить эту модель несколько иначе. И как в этой «чистейшей» форме тигель продолжает плавиться? Т.е. грубо говоря, сор присутствует в стихах. И вот это самое главное и самое замечательное. Зинченко В.П.: Я сделал одну оговорку, припомнив ледяную глыбу Гершензона, которая как бы скрыла форму, и она вас туда не пропускает, отталкивает. Но когда вы смотрите на настоящее произведение искусства, оно же живо, оно колеблется. Я не знаю как Вы, а мне, например, очень трудно отстроиться от любимого поэта и просто начать знакомиться с другой поэзией. И это тоже требует труда. Вавилов М.К.: У меня вопрос будет формулироваться несколько долго, поэтому наберитесь пожалуйста терпения, вопрос серьезный. Сергей Сергеевич Хоружий употребил великолепный термин «динамис». Я занимаюсь проблемами влияния виртуальных технологий на душу человека. По Нилу Мироточивому Афонскому, этот динамис, эта динамика проявляется так: «по грехам человеческим стихии напрягутся, и день будет бежать как час, а час будет бежать как минута». Современная психологическая предметная актуализация усиливается. При этом количество фактов, адекватных пониманию, падает, а число гипотез о творчестве растет. Так что, по-вашему, происходит со временем? Ведь Вы говорите о движении в творчестве, но оно немыслимо без времени, и время меняется внутри или вовне человека? Ведь рассматривать движение без времени, по-моему, недостойно исследования. Зинченко В.П.: Ну, насчет недостойности исследования, я отношусь без сочувствия к нравственным оценкам исследователя. «И дольше века длился день»; «Мгновенье длится этот миг, но он и вечность бы затмил», – написал Пастернак. Я говорил о мгновении откровения. Есть то, что называется «час души». И Марина Ивановна Цветаева обращается к ребенку: «Это час души, час ножа. Не пропусти сей час. И час сей бьет, и час сей благ…». И как без времени? И как судьба без времени? Бродский дал гениальное определение судьбы: «и географии примесь к времени есть судьба…». Время – это действующее лицо, с ним как минимум надо вежливо обращаться. Вспомните Алису в стране чудес. В своих исследованиях мы идем вслед за Бернштейном, который получил 16 высший комплимент от Ухтомского. Бернштейн разработал микроскопию времени и сравнил ее с достижениями Левенгука. Мы на этой микроскопии времени, на хронотопе строим все свои исследования. И мы видим, как это время уплотняется, как оно растягивается. И есть проблема, как оно останавливается. Эти остановки времени ведь описаны и дают нам шанс на спасение в критических ситуациях. Вавилов М.К.: Но, исходя из Вашего исследовательского и академического опыта, Вы можете сказать, происходит ли что-то со временем? Зинченко В.П.: Если с ним что-то и происходит, то это ниже порога различения психолога. Мы не можем этого различить и в этом смысле мы нормальные люди. А вот астрономы и физики придумали байку, которая на самом деле позаимствована ими из поэзии. Это байка о том, что время и пространство были независимы, но произошло какое-то сближение пространства и времени, образовался световой конус, материя вселенной и т.д. А Андрей Белый, находясь на световом конусе, мог видеть прошлое и будущее и накаркал: «Мир рвался в опытах Кюри атомной лопнувшей бомбой». Между прочим, это было сказано в двенадцатом году. Вот Вам время… А Хлебников сказал: «Плыл я на «Курске» судьбе поперек». Они что-то знали неведомое нам. Островерх О:: Правильно ли я Вас понял, что человек не может воспринять ничего такого, чего внутри у него бы уже не было? Вот он плетет паутину своего бытия, творит. И как возможно здесь восприятие откровения? Природа откровения божественна или это порождение человеческого духа или души? Зинченко В.П.: Я отошлю Вас к Льву Николаевичу Толстому. Придете домой, возьмите «Анну Каренину» и посмотрите, как все там у них сладилось, и вот-вот Китти должна разрешиться от бремени. И вдруг Левина посетило откровение. Он не мог выразить его словами, но он почувствовал его в какое-то мгновение, что он изменился весь. И даже когда она родила, он думает, рассказать ли ей? Боится, не сумеет. Для того, чтобы воспринять что-то, надо обладать тем, что психологи называют перцептивной, ментальной, аффективной, словом, душевной готовностью. Это проблема яйца и курицы. Когда у грузина спросили, что раньше, яйцо или курица, он пожал плечами и сказал, что раньше в Тбилиси было все, и яйца, и куры, и даже колбаса. Лещенко Е: У меня вопрос о гендерно-геронтологических проблемах творчества. Есть ли в этом поле то, о чем мы говорили на наших предыдущих семинарах? Я имею в виду разного рода духовные практики? Зинченко В.П.: Что касается геронтологии, то любви все возрасты покорны. Другое дело, что от восьмидесятилетнего человека не дождешься, чтобы он стал чемпионом мира по бегу или по шахматам. И математики нам рассказывают, что гдето к тридцати годам наступает конец. Но ни Павлов, ни Ухтомский ведь не были похожи на умственно отсталых членов политбюро. Так что, если жизнь была творческой, то наверное она и будет продолжаться. 17 Мы можем только восхищаться женщинами – Складовской Кюри, или иногда пронизывать, например, глядя на бывшую комсомолку, возглавляющую Петербург. Это какая-то другая размерность. Что касается духовных практик, то я думаю, что они никогда не были никому противопоказаны. Тут основной принцип очень четко сформулировал Игнатий Лойола: надо научиться различать Дух Божественный от духа сатанинского. Это непросто между прочим, он нас соблазняет прелестями, а мы готовы поддаться. Ему очень часто и трудиться особенно не приходится. Надо начинать не с духовных практик, начинать надо с восстановления русского языка и с восстановления в правах слова «духовность». Я даже словарь целый составил. Дух с плюсом и дух с минусом, это же уму не постижимо, что было в русском языке: и духовный взор, и духовный глаз, и духовное лоно, и духовное материнство, и духовная мастерская, и духовная преисподняя, и духовная вселенная. Куда это все делось? Когда меня экономисты уговорили, как последнего идиота, заняться проблемой доверия, я просканировал наши советские словари и только в одном словаре нашел слово «доверие», в словаре по этике. И там было сказано, что доверие нужно в проклятом капиталистическом обществе, где царит практика обмана. И ни в одном другом словаре этого слова не было, как не было и слова «милосердие». Вот восстановим духовность в языке, она и в жизни появится. Что касается практик, то это личное дело человека: Хоружий С.С.: Хорошо. По-моему это прозвучало как некий завет или пожелание, но еще один финальный вопрос. Пашутин Л.: У Гумбольдта, как вы помните, энергия одна не дается, она дается вместе с эргоном и нет творческой энергии без предначертания, без предуготовленного результата. Не только энергия и динамика творчески активны, но активна также и устойчивость, постоянство, традиция. И эргон не менее творчески активен и насыщен, чем собственно динамика и изменение. Мне кажется, что в Вашем последнем замечании это и прозвучало. Зинченко В.П.: В нобелевской речи Бродский сказал великую вещь. Ведь в нашем обыденном сознании язык – это наш орган, но ведь справедливо и обратное. Если бы не было Пушкина, русский язык был бы другой. Может лучше, может хуже, но –другой. И Бродский говорил, что поэт – орган языка. Сюда же идут размышления Мандельштама в «Разговоре о Данте» о поэтической материи, которая живет по своим законам. Пашутин Л.: Да, и о троице языка: языке, речи и речевой деятельности. Зинченко В.П.: Тут еще не всегда понятно, язык ли мой – функциональный орган, или это я – функциональный орган языка. Убийство психолога не является антропологической катастрофой, другие появятся. А убийство поэта – это антропологическая катастрофа, как объясняет Бродский, потому что язык будет другим. Дело заключается в том, что орудия становятся нашими функциональными органами, как и мы органами орудий. Замечательный разговор М. Ростроповича с 18 журналистом как-то произошел: «Есть два моих портрета. Один Сальвадора Дали, а другой немецкого художника Гликмана. Так у Гликмана все в порядке, там я и виолончель, а у Сальвадора Дали я есть, а виолончель нарисована красным размытым пятном у меня на животе». Журналист спрашивает: «А не обидно ей так раствориться?», а Ростропович отвечает: «Обидно конечно, но пусть потерпит». При игре на виолончели мастерство и душа Ростроповича соединяются с мастерством и душами ее создателя Страдивари, реставратора Дюпора и других выдающихся мастеров, владевших инструментом до Ростроповича. Такая синергия отличается от удовольствия палача, убивающего свою жертву из нагана Дзержинского. Так что традиция традиции рознь. Хоружий С.С.: Заключительная фраза Владимира Петровича вновь прозвучала вполне пригодной для того, чтобы стать именно заключительной фразой, оставляемой нам для глубинного восприятия. Я, закрывая семинар, позволю себе сказать несколько слов о некоторых свойствах общего подхода, который был выбран Владимиром Петровичем. По поводу этого подхода я, как философ, испытываю беспокоящие переживания. За основными понятиями, о которых здесь шла речь, традиционно уже существует не то чтобы «бахрома», а достаточно плотная философская сеть конструкций. И категория смысла, и категория творчества находятся в этих философских оковах классической традиции. И без них очень трудно свободно и раскованно начать разговор об этих понятиях. Но Владимир Петрович избрал именно эту свободную стилистику. Категория смысла употреблялась им не в привычном классическом философском русле, которое прежде всего платонизировано, прежде всего статично. Разговор и о смысле, и о творчестве велся не в философской постановке, а трудно сказать в какой – в гумбольтианской с определенным сдвигом дискурса к энергитизированному рассмотрению, к динамичному. И поскольку цельного дискурса нет, мы его живым образом строили, то и разговор был не силлогистический, а деятельностно-дескриптивный. И смыслы, и творчество представали перед нами дескриптивно, как описания некоторых активностей, выделенных некоторыми свойствами. Разговор об этих свойствах был, но он заведомо не дошел до того, чтобы эти свойства образовали некую систему критериев. Здесь и сам Владимир Петрович скажет, и я с ним соглашусь, что здесь мы такой жесткой системы критериев не установим и, может быть, это и хорошо. Но разговор все же должен ориентироваться в этом направлении. Понимая, что системы мы не возведем, продвигаться в этом направлении возрастания параметра систематичности все же было бы желательно. Зинченко В.П.: Как говорил Мамардашвили, там где система, там смерть. Хоружий С.С.: Разумеется. А там где нет ни малейшего элемента систематичности, там неплодотворный хаос. Зинченко В.П.: Тоже правильно, хотя я говорил о хаосе плодотворном, о хаосе, который сотворен самим же человеком из своего и из находящегося в оковах классической традиции опыта это не чуждый мне, а забытый узнаваемый хаос, 19 которому почему-то хочется придать, если и не хорошую, то свою форму. Может быть это еще и не творчество, а всего лишь работа понимания, являющаяся его предпосылкой. А то, что мое сообщение вызвало у невозмутимого философа беспокоящие переживания, я считаю своей заслугой. Хоружий С.С.: Говорилось, что одним из ключевых свойств творческого акта является озарение. Довольно ярко был охарактеризован этот момент. Но сразу встает вопрос, является ли наличие этого элемента необходимым элементом творческого акта? Или оно иногда бывает, а иногда не бывает? Зинченко В.П.: Этот вопрос не может получить полностью достоверного ответа потому, что нам досталось огромное количество продуктов творчества без всяких намеков на его процесс, поэтому мы можем ориентироваться только на письменные следы. Мы можем ориентироваться на Пуанкаре, на исследователей вроде Карла Дункера, А. Кастлера. Существует огромное количество примеров наличия озарения, но очень много и примеров, когда это как минимум не зафиксировано. Психология такая наука, в которой результаты есть, но психологи оказались без сапог. Я не могу припомнить никого из психологов, кто бы сказал: «О! Осенило!» и описал бы свой собственный акт озарения. Хоружий С.С.: Очень хорошо. Это исчерпывающий ответ чистого эмпирика. У нас есть набор свидетельств. По поводу одних есть свидетельства о данном свойстве, по поводу других свидетельства о таких свойствах нет. Вопрос закрыт. Но философы, вообще-то, не все эмпирики, и эмпиризм не единственный и не самый почтенный метод философствования. Если мы, кроме такого эмпирического подхода, никак иначе взглянуть на предметы не можем, то меня, опять как философа, посещают беспокоящие переживания. Зинченко В.П.: Во всех психологических описаниях творческого акта, начиная от Пуанкаре, Кастлера, Вертгаймера, Якова Пономарева, Вениамина Пушкина, фаза озарения присутствует. Вопрос: Простите, Владимир Петрович, тогда позвольте привести пример из Мандельштама, которого Вы очень любите. Он говорил, что сначала появлялся ритм, а потом он начинал подбирать слова. Где здесь акт озарения? Зинченко В.П.: А может быть мотив, на который он начинал пропевать стихотворение, уже был таким актом. Быть может, раньше губ уже явился шепот. Шепот раньше губ – это уже акт озарения, это открытие невербального внутреннего слова. Хоружий С.С.: Безусловно описание, которое нам оставил Мандельштам – это на Вашу мельницу. Здесь все необходимое можно найти. Вопрос немного другой. За вычетом вот этого перебора бесконечной цепи эмпирических свидетельств, которые представляют собой, разумеется, дурную бесконечность, можем ли мы просто поставить вопрос: если не момент инсайта, какое-нибудь другое свойство может ли утверждаться как необходимое в творческом акте как таковом? Или Ваш ответ опять сведется к предложению посмотреть на какие-то 20 примеры? Зинченко В.П.: Я Вам по сути до Вашего последнего вопроса уже ответил. Я сказал, что в любом психологическом описании процесса творчества момент инсайта присутствует. Хоружий С.С.: Понимаю. Вопрос у меня был методологический и уже не по поводу инсайта. Сочтете ли Вы возможным, и какой процедурой приписать некоторое свойство, предикат, атрибут творческому акту как таковому? Не эмпирическим путем, а иным, дедуктивным, феноменологическим, который не эмпирический, а гуссерлевский, каким-то другим способом Вы можете сказать, какое свойство присуще творческому акту? Это вопрос о построении концепта. Зинченко В.П.: Уж если Э. Гуссерлю и его последователям не удалось дедуктивным, феноменологическим путем вывести свойства творческого акта, было странно психологу идти следом за ними. Продолжу выводы эмпирика. Я Вам сказал, что любой жизненный акт, поскольку он неповторим, то он может быть идентифицирован с актом творческим. Творческий акт, как акт культурный, а не просто жизненный – это следующий шаг. Меня что-то отвлекло, но я собирался показать, что природный и культурный акт сплетены, а наука рассматривает и то, и другое отдельно. Любящая мама знает, что где-то к месячному – двухмесячному возрасту младенец порождает двенадцать и более видов плача. Она не стоит над ним, не ревет белугой, не учит его, и тем не менее она знает, когда он мокрый, когда ему скучно, когда он хочет есть. Я папа и у меня не хватает материнского воображения, чтобы сказать, чего еще надо. Младенец тянется ручкой к предмету, он еще хватать не может, но есть интенция к схватыванию. Если рядом находится приличный взрослый, то он или предмет к ручке подвинет или ручку к предмету, а младенец не будь дурак, делает свое движение знаком для нас «помоги!». Культура же все превращает в знак. Там где нет знака, там нет и культуры, ибо она тогда перестает быть транслируемой. Значит младенец является агентом порождения культуры. И именно потому, что он сам рождает знак как культурное средство, именно поэтому он и может потом овладевать культурой, потому что он воспринимает ее не как чужую, а как свою собственную. Читайте о порождении слов у Чуковского: «Мама, пошли в хлебочную». Если есть булочная, почему нет хлебочной? Он порождает и язык сам. Он учит родной язык не так, как мы учим иностранный, как чужой, а он сразу овладевает им как своим. С самого начала мы имеем дело с культурным творчеством, начиная с первых дней от рождения. П.А. Флоренский имел основания заключить, что гений — это сохранение детства на всю жизнь, а талант — сохранение юности. Может быть синкретизм детского мышления и юношеский задор оплодотворяют системное мышление взрослого человека? Хоружий С.С.: Спасибо. Ваш ответ был точным указанием определенного измерения того аспекта, который в понятии и концепте творческого акта как такового необходим. Это культурное измерение. И я очень интересуюсь, могут ли вот такие же обогащения концепта происходить еще? Я думаю, что здесь должна проводиться дальнейшая работа. Т.е. сам подход очень обещающий, но… 21 Зинченко В.П.: Дело заключается в том, что в младенчестве рождается даже субъект творчества. Эта идея, идущая от Анны Фрейд через Мелани Клайн, Э. Эриксона к Д. Винникоту. Это же фантастическая история. Психоаналитики всю жизнь занимаются анализом сновидений и это развивает их воображение. Оно у них намного богаче, чем у психологов. И есть вот такая байка: у любящей мамы младенец на каждый «чих» получает «здрасте!», и у него возникает иллюзия всесилия. Не мама его родила, а он маму родил, он создал удобный ему мир. Он демиург, создатель маленького Эдема. У мамы еще возникнут проблемы, как его из этого рая вывести. Он действительно с самого рождения начинает строить свой мир. Это трудно верифицировать. Если там что-то не так, он построит маленький ад, а потом сделает его, но уже для вас, большим. В этом смысле сразу начинается культурная жизнь, нет биологического периода существования у младенца. Хоружий С.С.: Замечательно. Владимир Петрович в заключении нам продемонстрировал, что он в докладе далеко еще не все нам сказал, что сказать мог бы. И я надеюсь, что мы еще продолжим тематику творчества. А на этом поблагодарим Владимира Петровича. Зинченко В.П.: Спасибо вам за терпение.