Алеша Попович и Тугарин
advertisement
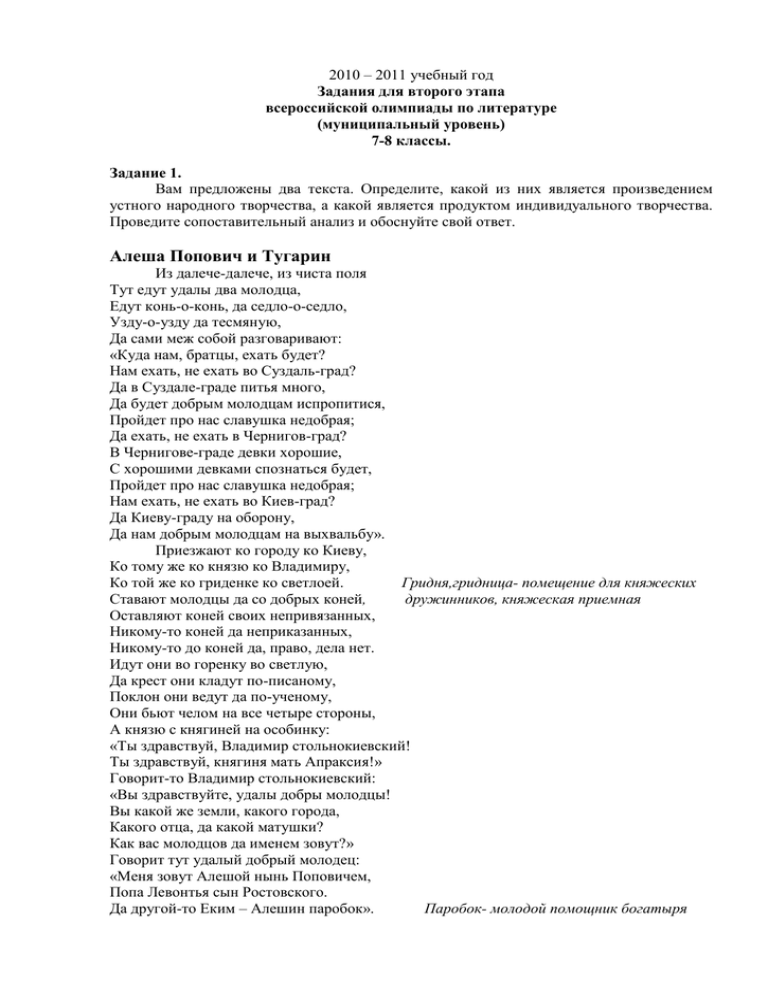
2010 – 2011 учебный год Задания для второго этапа всероссийской олимпиады по литературе (муниципальный уровень) 7-8 классы. Задание 1. Вам предложены два текста. Определите, какой из них является произведением устного народного творчества, а какой является продуктом индивидуального творчества. Проведите сопоставительный анализ и обоснуйте свой ответ. Алеша Попович и Тугарин Из далече-далече, из чиста поля Тут едут удалы два молодца, Едут конь-о-конь, да седло-о-седло, Узду-о-узду да тесмяную, Да сами меж собой разговаривают: «Куда нам, братцы, ехать будет? Нам ехать, не ехать во Суздаль-град? Да в Суздале-граде питья много, Да будет добрым молодцам испропитися, Пройдет про нас славушка недобрая; Да ехать, не ехать в Чернигов-град? В Чернигове-граде девки хорошие, С хорошими девками спознаться будет, Пройдет про нас славушка недобрая; Нам ехать, не ехать во Киев-град? Да Киеву-граду на оборону, Да нам добрым молодцам на выхвальбу». Приезжают ко городу ко Киеву, Ко тому же ко князю ко Владимиру, Ко той же ко гриденке ко светлоей. Гридня,гридница- помещение для княжеских Ставают молодцы да со добрых коней, дружинников, княжеская приемная Оставляют коней своих непривязанных, Никому-то коней да неприказанных, Никому-то до коней да, право, дела нет. Идут они во горенку во светлую, Да крест они кладут по-писаному, Поклон они ведут да по-ученому, Они бьют челом на все четыре стороны, А князю с княгиней на особинку: «Ты здравствуй, Владимир стольнокиевский! Ты здравствуй, княгиня мать Апраксия!» Говорит-то Владимир стольнокиевский: «Вы здравствуйте, удалы добры молодцы! Вы какой же земли, какого города, Какого отца, да какой матушки? Как вас молодцов да именем зовут?» Говорит тут удалый добрый молодец: «Меня зовут Алешой нынь Поповичем, Попа Левонтья сын Ростовского. Да другой-то Еким – Алешин паробок». Паробок- молодой помощник богатыря Говорит тут Владимир стольнокиевский: «Давно про тебя весточка прохаживала, Случилося Алешу в очи видети; Да перво тебе место – подле меня, Друго тебе место – супротив меня, Третье тебе место – куда сам ты хошь». Говорит-то Алешенька Попович-то: «Не сяду я в место подле тебя, Не сяду я в место супротив тебя, Да сяду я в место куда сам хочу – Да сяду на печку на муравленку, Под красно хорошо под трубно окно». Немножко поры да миновалося, Да на пяту гридня отпиралася, Да лезет-то чудо поганое, Собака Тугарин был Змеевич-от. Да богу собака не молится, Князю со княгиней не кланяется, Князьям да боярам челом не бьет. Вышина у собаки ведь трех сажон, Ширина у собаки ведь двух охват, Промеж глаз его да калена стрела, Промеж ушей его да пядь бумажная. Садился собака он за дубов стол, По праву руку князя он Владимира, По леву руку княгини он Апраксии. Алеша на запечье не утерпел: «Ты ой еси, Владимир стольнокиевский! Али ты с княгиней не в любви живешь? Промеж вами чудо сидит поганое, Собака Тугарин-то Змеевич-от». Принесли на стол лебедь белую. Вынимал собака свой булатен нож, Поддел-то собака он лебедь белую, Он кинул собака ее себе в гортань, Со щеки-то на щеку переметывает, Лебяжье костьё да вон выплёвывает. Алеша на запечье не утерпел: «У моего у света у батюшка, У попа у Левонтья Ростовского Была стара собачища дворовая, По подстолью собака волочилася, Лебяжею костью подавилася, Собаке Тугарину не минуть того, Лежать ему во далече в чистом поле». Принесли на стол да пирог столовой, Вынимал собака свой булатен нож, Поддел-то пирог да на булатен нож, Он кинул, собака, себе в гортань. Алешка на запечье не утерпел: «У моего у света у батюшка, У попа у Левонтья Ростовского Муравленый – облицованный глазурью Была стара коровища дворовая, По двору-то корова волочилася, Дробиной корова подавилася, Собаке Тугарину не минуть того,Лежать ему во далече, в чистом поле». Говорит собака нынь Тугарин-от: «Да что у тя на запечье за смерд сидит, Что за смерд сидит, да за засельщина?» Говорит-то Владимир стольнокиевский: «То не смерд сидит, да не засельщина, Сидит русский могучий да богатырь, А по имени Алешенька Попович-от». Вынимал собака свой булатен нож, Да кинул собака нож на запечье, Да кинул в Алешеньку Поповича. У Алеши Екимушка подхватчив был, Подхватил он ножичек за черешок: У ножа были припои нынь серебряны, По весу-то припои были двадцать пуд. Да сами они да похваляются: «Здесь у нас дело заезжее, А хлеба у нас здесь завозные, На вине-то пропьем, хоть на калаче проедим». Пошел-то собака из застолья вон, Да сам говорил таковы речи: «Ты будь-ка, Алеша, со мной на поле». Говорит-то Алеша Попович-от: «Да я с тобой, с собакой, хоть теперь готов!» Говорит-то Екимушка да паробок: «Ты ой еси, Алешенька названый брат! Да сам ли пойдешь, али меня пошлешь?» Говорит-то Алеша нынь Попович-от: «Да сам я пойду, да не тебя пошлю». Пошел-то Алеша пеш дорогою […], В руку взял шалыгу подорожную Шалыга – род кистеня, посох с загнутым Да этой шалыгой подпирается. к руке концом. Он смотрел собаку во чистом поле,Летает собака по поднебесью, Да крылья у коня нонче бумажные. А втапоры Алеша сын Попович-от, Втапоры – в ту пору Он молится Спасу-вседержителю, Чудной мати божьей Богородице: «Уж ты ой еси, Спас да вседержитель наш! Чудная есть мать да Богородица! Пошли, господь, с неба крупна дождя, Подмочи, господь, крыльё бумажноё, Опусти, господь, Тугарина на сыру землю». Алешина мольба богу доходна была, Послал господь с неба крупна дождя, Подмочилось у Тугарина крыльё бумажноё, Опустил господь собаку на сыру землю. Да едет Тугарин по чисту полю, Кричит он, зычит да во всю голову: Да хошь ли, Алеша, я конем стопчу? Да хошь ли, Алеша, я копьем сколю? Да хошь ли, Алеша, я живком сглотну? На то-де Алешенька ведь верток был,Подвернулся под гриву лошадиную. Да смотрит собака по чисту полю: «Да где же Алеша стоптан лежит?» Да втапоры Алешенька Попович-от Выскакивал из-под гривы лошадиноей, Он машет шалыгой подорожною По Тугариновой да по буйной голове. Покатилась голова с плеч, как пуговица, Свалилось трупьё да на сыру землю. Да втапоры Алеша сын Попович-от Имаёт Тугаринова добра коня, Левой-то рукой да он коня дёржит, Правой-то рукой да он трупьё сечет. Рассек-то трупьё да по мелку частью: Разметал-то трупьё да по чисту полю, Поддел-то Тугаринову буйну голову, Поддел-то Алеша на востро копье, Повез-то ко князю ко Владимиру. Привез-то ко гриденке ко светлоей, Да сам говорил да таковы речи: «Ты ой еси, Владимир стольнокиевский! Буде нет у тя нынь пивна котла, Да вот те Тугаринова буйна голова; Буде нет у тя дак пивных больших чаш, Дак вот те Тугариновы ясны очи; Буде нет у тя да больших блюдищев, Дак вот те Тугариновы больши ушища» Змей Тугарин Былина 1 Над светлым Днепром, средь могучих бояр, Близ стольного Киева-града, Пирует Владимир, с ним молод и стар, И слышен далеко звон кованых чар – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 2 И молвит Владимир: «Что ж нету певцов? Без них мне и пир не отрада!» И вот незнакомый из дальних рядов Певец выступает на княжеский зов – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 3 Глаза словно щели, растянутый рот, Лицо на лицо не похоже, И выдались скулы углами вперед, И ахнул от ужаса русский народ: «Ой рожа, ой страшная рожа!» 4 И начал он петь на неведомый лад: «Владычество смелым награда! Ты, княже, могуч и казною богат, И помнит ладьи твои дальний Царьград – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 5 Но род твой не вечно судьбою храним, Настанет тяжелое время, Обнимут твой Киев и пламя и дым, И внуки твои будут внукам моим Держать золоченое стремя!» 6 И вспыхнул Владимир при слове таком, В очах загорелась досада, Но вдруг засмеялся, и хохот кругом В рядах прокатился, как по небу гром, Ой ладо, ой ладушки-ладо! 7 Смеется Владимир, и с ним сыновья, Смеется, потупясь, княгиня, Смеются бояре, смеются князья, Удалый Попович, и старый Илья, И смелый Никитич Добрыня. 8 Певец продолжает: «Смешна моя весть. И вашему уху обидна? Кто мог бы из вас оскорбление снесть! Бесценное русским сокровище честь, Их клятва: «Да будет мне стыдно!» 9 На вече народном вершится их суд, Обиды смывает с них поле – Но дни, погодите, иные придут, И честь, государи, заменит вам кнут, А вече – каганская воля!» 10 «Стой! – молвит Илья.- Твой хоть голос и чист, Да песня твоя не пригожа! Был вор Соловей, как и ты, голосист, Да я пятерней приглушил его свист – С тобой не случилось бы то же!» 11 Певец продолжает: «И время придет: Уступит наш хан христианам, И снова подымется русский народ, И землю единый из вас соберет, Но сам же над ней станет ханом. 12 И в тереме будет сидеть он своем, Каганская - ханская Подобен кумиру средь храма, И будет он спины вам бить батожьем, А вы ему стукать да стукать челом – Ой срама, ой горького срама!» 13 «Стой! – молвит Попович. – Хоть дюжий твой рост, Но слушай, поганая рожа: Зашла раз корова к отцу на погост, Махнул я ее через крышу за хвост – Тебе не было бы того же!» 14 Но тот продолжает, осклабивши пасть: «Обычай вы наш переймете, На честь вы поруху научитесь класть, Поруху …класть – разрушать, портить И вот, наглотавшись татарщины всласть, Вы Русью ее назовете! 15 И с честной поссоритесь вы стариной, И, предкам великим на сором, Не слушая голоса крови родной, Вы скажете: «Станем к варягам спиной, Лицом повернемся к обдорам!» к обдорам – на восток 16 «Стой! – молвит, поднявшись, Добрыня.- Не смей Пророчить такого нам горя! Тебя я узнал из негодных речей: Ты старый Тугарин, поганый тот змей, Приплывший от Черного моря! 17 На крыльях бумажных, ночною порой, Ты часто вкруг Киева-града Летал и шипел, но тебя не впервой Попотчую я каленою стрелой – Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 18 И начал Добрыня натягивать лук, И вот, на потеху народу, Струны богатырской послышавши звук, Во змея певец перекинулся вдруг И с шипом бросается в воду. 19 «Тьфу, гадина! – молвил Владимир и нос Зажал от несносного смрада, Чего уж он в скаредной песне не нес, Но, благо, удрал от Добрынюшки, пес, Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 20 А змей, по Днепру расстилаясь, плывет, И, смехом преследуя гада, По нем улюлюкает русский народ: «Чай, песни теперь уже нам не споет – Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 21 Смеется Владимир: «Вишь, выдумал нам Каким угрожать он позором! Чтоб мы от Тугарина приняли срам! Чтоб спины подставили мы батогам! Чтоб мы повернули к обдорам! 22 Нет, шутишь! Живет наша русская Русь, Татарской нам Руси не надо! Солгал он, солгал, перелетный он гусь, За честь нашей родины я не боюсь – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 23 А если б над нею беда и стряслась, Потомки беду перемогут! Бывает, - примолвил свет-солнышко-князь, − Неволя заставит пройти через грязь, Купаться в ней – свиньи лишь могут! 24 Подайте ж мне чару большую мою, Ту чару, добытую в сече, Добытую с ханом хозарским в бою, − За русский обычай до дна ее пью, За древнее русское вече! 25 За вольный, за честный славянский народ, За колокол пью Новаграда, И, если он даже и в прах упадет, Пусть звон его в сердце потомков живет – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 26 Я пью за варягов, за дедов лихих, Кем русская сила подъята, Кем славен наш Киев, кем грек приутих, За синее море, которое их, Шумя, принесло от заката!» 27 И выпил Владимир, и разом кругом, Как плеск лебединого стада, Как летом из тучи ударивший гром, Народ отвечает: «За князя мы пьем – Ой ладо, ой ладушки-ладо! 28 Да правит по-русски он русский народ, А хана нам даром не надо! И если настанет година невзгод, Мы верим, что Русь их победно пройдет – Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 29 Пирует Владимир со светлым лицом, В груди богатырской отрада, Он верит: победно мы горе пройдем, И весело слышать ему над Днепром: «Ой ладо, ой ладушки-ладо!» 30 Пирует с Владимиром сила бояр, Пируют посадники града, Пирует весь Киев, и молод и стар, И слышен далёко звон кованых чар – Ой ладо, ой ладушки-ладо! Задание 2 Напишите статью «Былина» для литературоведческого словаря. Укажите в статье имена русских художников, композиторов, создавших произведения по мотивам русского героического эпоса. Задание 3 Разработайте и представьте свою версию диалога Змея Тугарина и Алеши Поповича. 2010 – 2011 учебный год Задания для второго этапа всероссийской олимпиады по литературе (муниципальный уровень) 9 класс Задание 1. Представьте, что в типографии рассыпался набор и надо восстановить текст стихотворения, расставив недостающие слова. Определите размер стихотворения. Арсений Тарковский К СТИХАМ Стихи мои, птенцы, наследники, Душеприказчики, истцы, Молчальники и ……… Смиренники и ………. Я сам без роду и без ………. И чудом вырос из-под ……. Едва меня лопата …………. Швырнула на гончарный …….. Мне вытянули горло ……… И выкруглили душу ………. И обозначили ………….. Цветы и листья на ……….. И я раздвинул жар …………. И в печь пошел, как ………… И принял в ней закал свой …….. И как пророк ……….. Скупой, охряной, …………… Я долго был землей, …………. Упали мне на грудь …………. Из клювов птиц, из глаз …….. длинное, Даниил, рук, нечаянно, собеседники, березовый, травы, круг, былинные, спине, неприкаянной, гордецы, времени, а вы, племени, мне, заговорил, розовый Задание 2 Проанализируйте рассказ Алексея Ремизова «Белое знамя» АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ Белое знамя Чувствовал я такую убитость, на край света ушел бы… Трудно живется. И знаешь, коли пришла беда – Бог посетил, да уж так подойдет, страшно: не надо и Бога самого, и пусть лучше безо всякого Бога, только бы хоть как-нибудь, хоть мелко, ну, хоть свиньей пожить, только бы покой достать. Знаешь, навалит на тебя, принимай, все бери и неси – пришла беда, Бог посетил! − терпеливо и кротко неси, все это знаешь, тысячу раз переслушал и передумал, ладно, хорошо это все, после хорошо, когда вынесешь, а пока, хоть на край света… До края света далеко, – до Парижа доехал. А помню, как впервые попал я в Париж, ну, как домой, так мне все было близко, и все, как свое, московское. И я все ходил и смотрел: позанимаюсь, как дома, посижу, погнусь у стола, и смотреть – всякую диковинку хотел высмотреть. А диковинки там со всей земли собраны, есть посмотреть чего! Да и так, если и нет ничего, там себе придумают: последний твой сарай палэ у них называется, дворец по-нашему, палац, и самый грязнеющий постоялый двор за отель идет, − гостиница! И есть, на Бульварах видел, туфельки из перьев самой маленькой птички райской, из перышков ее тоненьких сшиты, в окне стоят, семьдесят пять тысяч франков цена, тысяч тридцать по-нашему! Прочитал молитву Богородичну, на сто дней, по-ихнему, отпущение грехов себе получил, лазил и не раз на собор к колоколам, чудищ смотрел,* − и у нас такие на Спасской башне стоят, только попригляднее. А под Иаковой башней тоже чудища, те зеленые, как и во дворике в Клюни, − без доброго слова мимо пройти невозможно: понятливо так глядят, понятливые. И когда все, кажется, пересмотрел и перетрогал, просто по улицам стал ходить, камни топтал. В камне своя чана есть, душа: проживет камень много веков и если за эти сотни лет кругом него жизнь кипит, получает камень чану свою, и оттого ему ничего не делается, ни сжечь, ни извести его нельзя. И вот когда ходишь по улицам и топчешь эти камни, а камни там ценные, − ведь нигде на земле не прошло так близко и недавно так столько нашего кровного и всего! − эта чана, эта душа, скрытая в них, и в тебе зарождается. В мае было, а в мае там всякий вечер всенощную служат в честь Божьей Матери, и всякий вечер ходил я в их церковь. Как заслышишь колокол, так у нас в Новгороде, да и во Пскове на вече сзывали вечевой наш колокол, и так где-то в сердце и вздрогнет, и чаю не допьешь, вылетишь из отеля, − всякий вечер Божьи органы слушал. И помню, когда уезжал, все прощался, расставаться не хотелось, мимо Клюни ехал, шапку снял: «Прощайте, звери каменные, камни мои ценные!» − и собору поклон положил: там, у колоколов на кровле, чудища все осанну орали каменным своим гласом и один, такой носатый, бестия, успел-таки зайчатину клыком прихватить, сам подкрикивал. Все то же и теперь, и в этот раз, так же огоньки на Сене-реке горят и знакомо все, вышел я на улицу – и не наша улица, не наши дома, не наши названия, а словно в Таганке, так знакомо все до последнего камушка. По этой Таганке иду, а что-то жутко, тревога растет, − это от убитости моей все стало таким, враждебно все – иду, руки стиснуты и зорко вглядываюсь, Господи, как проклятый, иду! − и одни эфиопы, в Париже страсть эфиопов сколько, учиться приезжают, одни они, черные, мурины, чем-то близким кажутся, может быть, цветом своим отверженные от нас, чувствуют они проклятость свою, и оттого смотрят так, так жалобно и ласково. Знай язык ихний, заговорил бы… А жил один эфиоп в нашем отеле, а в отеле при входе полочка такая есть: ключи от комнат вешают, и письма полученные хозяйка выставляет под твой номер, − не утерпел я, думаю, узнаю хоть фамилию эфиопскую, и посмотрел, Ку-ку оказалось, такая фамилия Ку-ку ихняя. И этот самый Ку-ку первый стал со мной раскланиваться, − почуял, знать! Идешь по улице стиснутый весь, тревога растет, шум, гам, стук стоит, кричат, выкрикивают и все слышится: «Раки живые! Раки живые!» − будто наш разносчик кричит, и тревога еще больше и уж не смотришь, одно только и смотришь, как бы под автомобиль не попасть, музыка играет в кафе, прежде, бывало, услышишь и всегда зайдешь, кафе-о-ле, кофию спросишь, дадут тебе большущую рюмку – в рюмках, не в чашках подают – и сидишь, пьешь, слушаешь и легко, а теперь и калачом не заманишь, дальше, куда-то все дальше, пройдешь мимо Клюни, мимо садика со зверями каменными, которые звери так понятливо смотрят, поздороваешься со зверями и дальше – да куда же? − на край света! Поздно я приехал, май кончался – последние майские дни. Только что прошел Праздник Господен и по вечерам за всенощной выносили Дарохранительницу и крестным ходом обходили с ней церковь, по церкви: впереди девочки, фатою покрытые, с белоснежным знаменем – на знамени вышита шелками Божия Матерь, за ними народ со свечами, мужчины одни, − свечи большие, как наши рублевые, а за народом балдахин несут и под балдахином идут священники, главный в обеих руках Дарохранительницу несет, перед балдахином мальчики с красными фонариками на высоких шестах. Услышал я звон у св. Сюльпиция, так и толкнуло меня, вечевой звон, всякий вечер когда-то я слушал его, вечевой наш звон, да скорее по знакомой улице, по Таганке нашей – и с закрытыми глазами дорогу найду! Крестный ход вышел, играли в Божьи органы, шли со свечами – свечей было много, словно у нас на двенадцать евангелий, на Спасные страсти. Я так и стал и смотрел, во все глаза смотрел, и тут-то и увидел, над согнутыми спинами, над головами, над дорогими свечами, какое белое, снегово-белое, плыло белое знамя Богородицы. И я увидел, как старые бабушки, старушки в черном – им не полагается в крестном ходу со свечкой идти, − жались они в проходе и все внучат счастливых своих, девочек, покрытых фатой, уряжали и прихорашивали – передавали им это знамя белое, которое и сами носили когда-то в свои счастливые годы, и плакали, за внучат просили Матерь Божию, за детей, за тех, кто идет на смену им, за весь свой великий народ. Впереди меня стояли две барышни, так не очень казисто одеты, шляпки, поди, по франку, сначала-то я и не заметил, а тут увидел: и так они молились – сама держится за спинку стула и все ниже голову наклоняет и долго-долго так стоит, нагнувшись, прижмется лбом к спинке, и брови сдвинуты крепко. И о чем это они так молились? и к знамени белому поворачивали голову и смотрели так, провожая белое знамя, чего они просили? или тужили о чем? Трудно живется… Божия Матерь – белое знамя – Она и тут, Она у всех, Она Матерь Божия, Ее они просили помочь: трудно живется, тревожно, − утром проснешься и подумать страшно, что-то ждет тебя, − неверные дни и часы, и минуты неверные. Дома что-нибудь случилось, болен ли кто, или свое, личное свое горе, неудача ли, беда ли настигла – пришла беда, Бог посетил! − да, да, так это, верно, а вынести-то трудно, помощи они просят, сил уж видно нет, посмотрят на знамя и опять опустят голову и в спинку стула уткнутся, да долго-долго так, словно и не дышат, нет, дышат, по спине видно – мурашки по спине бегают, видно. Погасили свечи, поставил священник Дарохранительницу на престол, унесли белое знамя, стал народ расходиться – все бабушки в черном, старые старушки, и я пошел за ними и как-то, точно в первый раз, − раньше-то, тогда-то я все диковинки смотрел, а тут людей увидел живых, и уже шел прямо, не таясь, не сжимаясь. Трудно живется… Какой-то старик у Люксембургского сада еле слышно, от старости у него и всякий голос пропал, сипло выговаривал, а сам, поди, думал, что выкрикивает, названия газеты – Биржовки нашей, и тут же кричали, словно их резали: − Биржевая! Биржевая! − кричали на всю улицу. И старика никто не слышал. Старик едва на ногах стоит, и куда он пойдет? − не покупают у него, и газет у него штуки три, куда ему деваться, на ночь глядя, ведь скоро ночь! Трудно живется… Нет, не проклятый, как свой, ходил я по улицам, я снова обошел все знакомые улицы, сызнова прошел Париж и там, у самых нарядных и богатых домов, где со всей земли собраны были диковинки, и в отдаленных кварталах у бедноты и нищеты, и проголоди всякой, и там, и там, столько попалось беды и такой тревоги, и такой измученности и тесноты, я взобрался на холм к Святому Сердцу **– на версты тесно жались дома, и глиняные горшки на трубах торчали, как обрубки молебно простертых рук. И я вспомнил, как те две барышни, те у св. Сюльпиция, провожали Белое знамя, и как похожи были лица их на эти дома, тесно прижатые друг к другу с обрубками молебно простертых рук. 1913 г. Примечания: *…лазил и не раз на собор к колоколам, чудищ смотрел… - подразумевается знаменитый Собор Парижской Богоматери и установленные на нем скульптуры химер. ** … взобрался на холм к Святому Сердцу… - имеется в виду знаменитая базилика СакреКер, сооруженная на вершине холма Montmartre в память о жертвах франко-прусской войны 1870-1871 гг. 2010 – 2011 учебный год Задания для второго этапа всероссийской олимпиады по литературе (муниципальный уровень) 10 класс Задание 1. Представьте, что в типографии рассыпался набор и надо восстановить текст стихотворения, расставив недостающие слова. Определите размер стихотворения. Представьте схему рифмовки. Арсений Тарковский ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ ………………………….. 3 Я век себе по росту подбирал. Мы шли на юг, держали пыль над степью; Бурьян чадил; кузнечик ……….. Подковы трогал усом, и ………… И гибелью грозил мне, как …………. Судьбу свою к седлу я ……………… Я и сейчас в грядущих …………….. Как мальчик, привстаю на …………. Мне моего бессмертия …………… Чтоб кровь моя из века в век………… За верный угол ровного …………… Я жизнью заплатил бы …………. Когда б ее летучая ………. Меня, как нить, по свету не …………. монах, текла, довольно, пророчил, временах, своевольно, игла, стременах, баловал, вела, приторочил, тепла. Задание 2. Проанализируйте рассказ Алексея Ремизова «Сестра усердная». Сестра усердная I Всякий день по утрам, когда вы проезжаете на трамвае по Суворовскому, вам встречаются колесницы с белым серебряным балдахином и с электрическими фонарями, а за колесницей кучка провожатых и две-три кареты. То же самое вы встретите и на загородном и на 17-й линии. Все это покойники настоящие, именные: кого на Охту, кого на Волково, кого на Смоленское домой несут, и уж наверно на их могилах поставят памятник. Но попадаются вам и другие, и таких тоже немало: едет возница, на дрогах – желтый дощатый гроб; возница едет быстрее, чем тянутся те с электрическими фонарями, и а гробом никого не видно. Мне всякий раз хочется остановить возницу, − такой в картузе с усами серый, − приоткрыть крышку, заглянуть в гроб: да кого же, кого это везут, как кладь, был же, несчастный, именинник, и хоть одна душа, хоть раз в году, кто-нибудь приходил же к нему в гости на именины, пили чай, или и в жизни так было – ни души! Заглянуть среди бела дня на людях, − где там заглянешь! − не полагается и не позволят. Но я и так дознался, и я расскажу вам про одного такого человека. _______________________ Вам случалось встречать сереньких и незаметных, постоянно хлопочущих барышень, каких-нибудь служащих в конторах и кассах, учительниц городских и домашних, вам случалось заговаривать с ними так, не по делу, – вспомните, вас не поражала одна странность, а может, и вызывала улыбку, − неожиданная мечта их о самых невообразимых путешествиях: непременно ехать куда-нибудь за тридевять земель – в Африку, в Австралию, в Индию. Татьяна Спиридоновна Светлакова, учительница городской школы, мечтала о Индии. Почему о Индии? Потому ли, что Индия – чудесная, одно слово – Индия? Сама Татьяна Спиридоновна ничего не могла ответить и лишь одно – ехать ей в Индию, вот и все. И однажды после экзаменов, распустив ребятишек, она взяла и поехала. И благополучно добралась до Ташкента и дальше до какой-то конечной станции, - путь сухопутный представлялся ей и самым прямым, а главное, самым дешевым, − но тем и кончилось путешествие: с караваном, отправлявшимся в горы, как ни просила, ее не взяли, да и денег у нее, по правде сказать, не было, какая уж Индия! Об этом путешествии своем индийском стыдливо, − Татьяна Спиридоновна всегда чего-то немного стыдилась, − рассказывала она со всякими и печальными, и веселыми подробностями: и как на конечной станции у порога в Индию, желая добыть себе денег на обратный путь, предлагала она уроки, в которых, к горю ее, не оказалось нуждающихся, − будь портнихой, умей сшить платье по-питерскому, другое бы дело! − и как сарты, что ли, там в чалмах страшные, любопытства ради, за руки ее трогали, и как, наконец, дал ей денег начальник станции, добрый человек, и в четвертом классе, – прощай, Индия! − поехала она домой. Кроме мечты о Индии, вроде как осуществленной, − говорили же и не в шутку, что Татьяна Спиридоновна в Индию ездила, да и сама она с этим потихоньку свыклась, − была у нее и другая, столь же заветная мечта и совсем несбыточная, мечта о Швейцарии, которую представляла себе Татьяна Спиридоновна чуть что не самим раем земным, где не только сама природа – реки медвяные, берега кисельные, горы сахарные, а и люди – не наши и не здешние, свои – настоящие люди и жить там – все равно, что в рай попасть! И однажды, в начале лета, прослышав о экскурсии в Швейцарию медичек, Татьяна Спиридоновна собрала свои вещи – старенький чемоданишко, с которым обыкновенно перебиралась из комнаты в комнату, – и, недолго думая, поехала на вокзал, и там благополучно в вагон влезла и на полку чемоданишко этот свой поместила, но тем дело и кончилось: заметили незнакомую, поднялся крик и, как ни просила, − одно место свободным оказалось! − не пустили, выпроводили вон. Один был такой случай, и не выгорело, так в Швейцарию и не попала. Татьяна Спиридоновна ездила в Индию… мечтала о Швейцарии, а уж по России где-где не бывала: побывала она и на холере, и на чуме, и на тифе, и на голоде, и еще на какой-то там напасти нишей, без которой лето не в лето и год не в год: и так, кочуя от беды к беде, по Волге проехала, пробралась на Кавказ. И если не суждено ей было туманный Мон-Блан увидеть, она увидела пустынный, весь такой белый Эльбрус. А вы знаете, что это значит, после холеры, чумы, тифа и голода, после тех напастей наших, без которых лето не в лето и год не в год, в горячий солнечный день вдруг ясно увидеть белый Эльбрус. По себе скажу, есть в мире Божьем такое… цветы такие полевые, горы такие белые неподступные, недостижимые, слово и звезды, звуки, как звезды, и наши желания, и наши дела, от которых, будь два камня – на груди и за плечами, а на одну минуту станет тихо, и в тишине этой и самое ожесточенное сердце благословит мир Божий, и жизнь земную. Об этом путешествии своем кавказском стыдливо – Татьяна Спиридоновна всегда чего-то немного стыдилась, – рассказывала она со всякими подробностями: и как ее по дороге чеченцы, что ли, там черные с кинжалами сладким виноградом угощали, и как она Эльбрус увидела. И оттого ли, что Эльбрус такой недоступный и суровый, пустынный, а она такая маленькая и незаметная и уж какая там суровая, белый Эльбрус повторялся в ее рассказах, как припев, как «Господи, помилуй». Мечтая о путешествиях самых невообразимых и недоступных, Татьяна Спиридоновна мечтала, как она сделается доктором. После дневных занятий в школе бегала она по всяким лекциям и одно время поступила в Психоневрологический институт и с год вечерами занималась там науками, сдала часть анатомии, но тут ее вычеркнули. Ну, откуда же заплатить ей за лекции? − ее и вычеркнули. Так она в своей комнатенке, где-то на Преображенской, осталась, да с нею тетка ее, старуха хворая. Татьяна Спиридоновна ездила в Индию, на Эльбрус лазала… много чего видела, да и простуды всякие – и прострел и ревматизм и еще что-то донимающее – не отпускали: в кофточке-то летней в слякоть нашу и по морозцу попробуй побегай! − а так ничего, все такая же. И откуда только у ней силы брались? Везде поспеет и все устроит. И уж если надо чего, как крот, подземными ходами пройдет, а добьется, – будешь доволен. Татьяна Спиридоновна птичьего молока достать могла. II Вам случалось встречать в театрах и концертах среди нарядной публики таких каких-то переходящих с места на место, таких чего-то встревоженных, пугливо озирающихся, то толкущихся в проходах и у входа, то сидящих в самых первых рядах и с необыкновенной готовностью уступающих вам место, если даже место и не ваше, а вы только по ошибке собрались усесться, наперед знаю, вы ничего дурного не подумали об этих людях, это – зайцы. Эти зайцы бывают двух родов: платные, которых без билета пускает капельдинер, получая себе мзду заячью, и бесплатные, которым удается перехватить у какого-нибудь незнакомого счастливца, уже вошедшего, входной билет, − вещь головоломная! Татьяна Спиридоновна поникала в театры и концерты зайцем и притом бесплатным, да и как иначе могла она попасть, ну, на Шаляпина, или посмотреть и послушать, чего все мы добиваемся лишь за большие деньги! Жизнь ее была какая… а, ведь, ей тоже хотелось того праздничного чувства, какое бывает в театрах и концертах. Товарка Татьяны Спиридоновны, учительница Грачева, признавала, как сама она выражалась, свободную любовь: сойтись и так без особого чувства, лишь развлечения ради, ей ничего не стоило. Что же? − сегодня знаком, а завтра прощай! − так проходила жизнь, и, пожалуй, не надо и театра. Коридорная горничная Аннушка в комнатах на Невском, где жила одно время Татьяна Спиридоновна, скромная и услужливая, не могла и представить себе, как бы она так жила без кавалера, а сменялись они у нее чуть что не всякий праздник. И у Грачевой и у Аннушки такая жизнь проходила и легко и просто: себе в развлечение, другим не в помеху. Жизнь, ведь, их тоже была какая… Другое дело Татьяна Спиридоновна: и те, кто ее знал, и сама она о таком и подумать не могла, и не потому, чтобы уродом была, нет, дело не в этом, Татьяна Спиридоновна совсем была другая, у ней душа была другая, и так, развлечения ради, с ее-то думой, так она ничего не могла делать. И еще скажу, я скажу вам самую тайную тайну ее и единственную: Татьяна Спиридоновна была влюблена и влюбилась она на всю жизнь. А никакого сочувствия ей не было. Она про это знала. И надеяться ей не на что было. У него была своя жизнь. Случалось, что годами она его не видела, но всякое утро, когда бежала она в школу и вечерами на лекции, к сердцу ее приливало то чувство – знаете, это похоже, как в пасмурный летний день, когда вся душа раскрывается – и сердце ее раскрывалось: ведь, только бы встретить! А самое большее удовольствие было для нее, когда говорили о нем. Оттого ли, что она так любила покорно и кротко – безнадежно, или такой уж зародился человек, на свете – все мы по-разному непохожие приходим на землю – душа ее была раскрыта к той беде нашей первородной, мимо которой проходят столько глаз, ничего не видя. Когда случалось большое горе, я видел, как она приходила в тот дом, к тому человеку, у которого было горе, она не спрашивала – не всегда надо спрашивать, она сидела около молча, потом начинала плакать и от ее слез молчаливых становилось легче. Есть такие, которым в горе не надо слов или надо бы слово, но о котором кто знает! − и вот молчание и слезы достигали того незнаемого верного слова. Посидит, поплачет… смотришь, тот уж и заговорил, а заговорил, это уж с полгоря, скоро, даст Бог, и улыбнется. Этим своим молчанием своего раскрытого сердца и слезами своими терпеливыми много она рассеивала горя. Но сама-то, с сердцем несогретым, в своей беде, в чем находила она себе утешение? Татьяна Спиридоновна в Бога не веровала. В детстве считалась она богомольной, ее никто не заставлял, это так у нее самой выходило: все, бывало, молится. И вот один пустой случай перевернул все. Как-то в школе задала ей учительница переписать тетрадку, а тетрадь была грязнущая. Другие уроки она все выучила, и только к тетрадке не притронулась, - что-то помешало ей, время и прошло, не успеть уж. На ночь положила она тетрадку под подушку и долго Богу молилась, просила о тетрадке, просила − верила: встанет поутру, чистая будет тетрадка. И легла и спокойно заснула, а наутро чуть глаза раскрыла и первым делом под подушку, а там тетрадка: как положила,− грязнущая. Никому об этом она не сказала, только стали замечать, не такая уж она богомольная, как раньше: другой раз без молитвы спать ляжет и обедню прогуляет, а тут лето купалась, крест потеряла, да так без креста и осталась. − Татьяна Спиридоновна, неужели вы не веруете в Бога? Стыдливо, как всегда чего-то немного стыдясь, Татьяна Спиридоновна качала головою. Она все исполняла, что ей полагалось: она водила ребятишек ко всенощной и к обедне, на Рождестве устраивала елку и, как ребятишки, радовалась елке − Рождеству; на Великом посту говела и причащалась и, как ребятишки, чего-то боялась, когда за батюшкой повторяла − «Верую, Господи и исповедую» − и уж тоненько, совсем подетскому, словно и вправду была сущим разбойником, выговаривала − «но яко разбойника прими мя!» − и, причастившись, на Страстях стояла со свечкой, похорошевшая от огонька, с замеревшим сердцем, как ребятишки, ждала в Пасхальную ночь, когда, обойдя вокруг церкви, запоют, «Христос воскресе». − Так во что же вы веруете, Татьяна Спиридоновна? Стараясь что-то сказать, что так не скажешь, Татьяна Спиридоновна улыбалась, потом глаза ее будто останавливались, и было похоже, как в поле цветы цветут, не скажут и не попросят, цветут, красуют Божий мир, или звезды, когда их много, тихо звенящих в ночи, живые, как слезы. III Вы помните, как в начале войны все наши городские барышни записались в сестры милосердия и на краткий час у всех была одна добрая мысль и одно желание. Записалась в сестры и учительница Грачева и недолго ждала, счастливо попала в первый отправлявшийся отряд с цветами и шоколадом. Татьяны Спиридоновны не было в Петербурге. Из каких-то индийских путешествий возвращалась она по загроможденным мобилизацией дорогам, с какого-то пожара, который, как первая грозная весть, жег то лето Россию. А когда вернулась, в Общинах все было занято, и для простых всякий прием кончился. Оставалось Попечительство. И всю осень вместо лекций вечерами бегала Татьяна Спиридоновна по всяким углам и каморкам, где безголовая тянула беднота и разорение свою осиротелую жизнь, − у кого был муж, у кого был отец, у кого был брат, у кого был сын на войне. Много ей было хлопот и все-таки умудрилась, поступила еще на какие-то краткие курсы и для практики ночи дежурила в Обуховской больнице. И одна была мысль, ехать ей, как товарка ее Грачева счастливая, на самую войну. Кончив курсы, она обегала всякие Союзы, от которых зависела отправка сестер милосердия, приставала чуть ли не ко всякому уполномоченному, доходила до самых главных генералов, просила и молила, и везде ей отказывали: не было у нее никакой руки и бумаги от Общины не было, а докторское свидетельство было сомнительно. Самое большее сводилось к обещаниям, ее записывали в кандидатки, сулили известить, но тем дело и кончалось. А и вправду, как такую пустишь − и в чем душа и такое сердце… Так и не добилась. И тут, как это часто бывает, люди и самые благожелательные, не подумали… они были с несомненностью уверены, что самое страшное на войне пушки, удушливые газы и кровь, и думали, что такое сердце порочное не выдержит этого страха, а главное крови, а не додумались, хоть об этом и говорилось тысячу раз, что есть больший страх, чем все эти пушки, удушливые газы и даже сама кровь, и этот страх страшный − та неправда, по которой живут люди, та ложь, которая стравляет людей друг с другом, тот обман, который опустошает живые души и, главное, та бессовестность, про которую не знают ни звери, ни птицы, ни цветы, ни звезды и которую не вынесет такое сердце… порочное. Татьяна Спиридоновна поступила в лазарет волонтеркой. Днем в школе, после обеда в лазарете − так день за днем. Думала, вот увидят как она все делает, убедятся в ее пригодности и на войну пустят, − эта война сменила у нее и Индию и Швейцарию. Татьяна Спиридоновна не притворялась − она никогда не притворялась, − она и в лазарете была той же самой, какой все мы ее знали, и раненые ее полюбили, свою сестру усердную. Это так они ее и называли сестрой усердной. Она говорила с ними, как с людьми, которых постигло несчастье, как там на голоде, чуме, тифе, холере и на других напастях наших, без которых лето не в лето и год не в год, она называла их по имени, обращалась с ними и строго и ласково, как в школе с ребятами. И ей верили и исповедовались ей, ее чистому сердцу, каялись ей в тех грехах своих, совершенных там, где, по слову простого народа русского, нет совести и Бога нет. По весне померла тетка-старуха. Похоронила ее Татьяна Спиридоновна, на сырой могилке крест поставила, упокоила старую, измытарившуюся в жизни, в хвори старуху. А на похоронах сама простудилась. Все перемогала − и в школу, и в лазарет ходила: и ребят жалко оставить, и там без нее плохо будет, привыкнули к ней. Но, видно свой черед не переступишь, а, ведь, раньше-то как хворала, и ничего, а тут свалилась и больше не поднялась. И вот она, безбожная и бескрестная, проснулась однажды в то-светном дне, душа человеческая, сестра усердная, чтобы и там, где нет печали и нет воздыхания, быть среди страждущих и мечтать о чуде, о рае, о правде. И неужто душа ее во тьму сокроется и сердце ее погаснет? Или и бескрестная, с истинным Христом в сердце, там расцветет она сердцем, как цветы полевые, как звезды небесные, радовать необрадованных и утешать безутешных. 1915 г. 2010 – 2011 год Задания для второго этапа всероссийской олимпиады по литературе (муниципальный уровень) 11 класс Задание 1. Представьте, что в типографии рассыпался набор и надо восстановить текст стихотворения, расставив недостающие слова. Определите размер стихотворения. Представьте схему рифмовки. Арсений Тарковский ОЛИВЫ Дорога ведет под обрыв, Где стала трава на колени И призраки диких …….. На камни рога ………… Застыли, как стадо ……. Мне странно, что я еще ….. Средь стольких могил и ……. Я сторож вечерних ………. И серой листвы надо ……… Осеннее небо мой ……….. Не помню я собственных ………. И слез твоих поздних не ……….. Давно у меня за …………. В камнях затерялся твой……….. /…/ оленей, мною, снов, видений, положив, стою, часов, жив, зов, спиною, олив, кров. Задание 2. Проанализируйте рассказ Бориса Зайцева «Священник Кронид». Борис Зайцев СВЯЩЕННИК КРОНИД О. Кронид, крепкий, шестидесятилетний человек, идет в церковь. Много лет он живет уж тут, мужики его уважают и зовут Кроном; а он исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет за собой приход. Служить вечерню после сна днем не очень легко. Кроме того, Великий пост – время трудное; в церкви Бог знает сколько народу; много рваного мужичья, худых баб, исповедей; часто отрыгивают редькой и постным маслом, – а потом идут все грехи. Какие у них грехи? Все одно и то же бабье мямленье, поклоны, а мужики все ругались в году, пили водку. Старый Крон и не жалуется, он человек рабочий, честный; тридцать лет попом, имеет камилавку, служит быстро и просто, как научила деревня. Не один он действует тут; за его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров; все они трудились здесь. Крон помнит деда Петра; тот видел еще французов; а Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служит теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал "поповку", где теперь причт и жены мироносицы. Много старых, морщинистых стариков пеpeмepло на Кроновом веку, – с некоторыми из них он ребенком играл в лапту, – и всех он просто и хорошо хоронил, на кладбище за селом. Иногда вспоминает он их дедов, тех, с кем жил его отец и дед, и еще много других, кого не знает, но которые были тогда, и неизвестными ушли отсюда – все в одно место, туда же, на кладбище, где и о. Петр, Никодим и другие. У самого Крона пять сыновей, – семинаристы, все здоровые, хорошие дубы. Крон, думая о них, мечтает, где они будут жить, плодиться, служить; как бы им преподать свою мудрость, – жизнь трудна, какой приход, какой причт? Выйдут ли в своих, будут ли твердыми попами? Только трудно их доставлять домой на Пасху: дорог нету, вода, грязь, в низком месте лошадь тонет чуть не по уши. Придется самому ехать, туда еще кой-как можно, крутобрюхие лошаденки дотащат, но в городе отец Кронид уже задумывается; все теплей и теплей, большая вода должна шуметь теперь по логам. А пятеро двуногих ждут, им тоже хочется домой, поржать на весенней свободе; дома пекут куличи, ждет мамаша, приволье, церковь. Тогда Крон берет верховых. Седел нет, конечно. Стелют попонки, тяжело наваливаются на лошадей – едут. Впереди отец Кронид, сзади дети. Хорошо, что не в санях: сейчас же за городом, в пяти верстах, надо вплавь; лошади вытягивают вперед морды, как плывущие крысы; Крон подбирает рясу, попята гогочут сзади и тоже плывут. Крон важен – все-таки шестая неделя, духовный человек верхом – как бы не вышло смешно. Но знакомые мужики в деревнях кланяются, как всегда, только ребятишки бегут сзади и визжат. Дома просторное поповское житье, плодоносная матушка, весна и шум; могущественно вздуваются куличи; пруд целиком взломан и нагроможден рыхлым льдом; но тепло идет, и выпуклые взгорья горячо мокнут в свете. Большая суетня у матушки; много бегают по кладовым с маслами и всякими значительными снадобьями для булочного дела. Семинарам все свое тут; а Крон в это время работает уже в церкви; ему теперь много надо молиться и хлопотать; то читать Евангелие, то опять причащать и исповедовать. Дни идут в служении; а ночи темны на Страстной – только гудят вечные потоки да в небе пылают звезды на черном бархате. По дороге домой из церкви нехитро и оступиться в лужу, но идти приятно: сзади дети, пятеро начинающих басков; в церкви они помогали, хорошо пели и давали ноту силы службе. Есть на кого опереться, когда станет тяжко от годов. "Молодая армия", – думает Крон, а дома уж торжественно, матушка всесильная одолела все заботы, пасхи, рaскpaсилa яйца в победные цвета и спокойна: хотя б и Страшный Суд. Но и воскресенье близко; весна далеко ушла за это время, все уже серо, парно; время погожее, заутреня должна быть хорошей и благодатной. Все дьячки, старосты, дьякона готовятся: это их день, верхняя точка жизни. И всюду по деревням идут сборы: топят бани, где поглуше, моются прямо в печках, залезая в узкое жерло, как черви; с мужицких тел, жестких, в едком соку, смывают многомесячную грязь; вытаскивают чистые рубахи, даже белые, с красной ластовицей под мышкой, важно расчесывают волосы, поливают маслом, подстригают затылки; поплевав, скоблят шею обломком косы. В глухих углах бабы напяливают на головы рогатые кички, в ушах у них утиные пушки. Громaднeйшee всемужицкое тело копошится по стране, тащит пасхи в церковь, ждет яркого и особенного дня. В очень черной ночи церковь видна далеко; слишком светлы окна. Рано, задолго до торжественного часа, все полно, и Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, как могучие трубы, а звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В минуту, когда двери растворяются, и выступает из церкви ход, кажется, что светлая волна опоясывает во мраке церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь. Теперь у всех в руках свечи; капает, и пот стекает по мужицким лицам; временами через плечи идет из рук в руки вперед свечечка; перед иконами блестят целые пуки. К часу, двум, люди устают. Христа встретили, попели, постояли со свечками, но страшно жарко, а обедня длинна. Когда-то святить пасхи? Два часа, народ устал. Вот в толпе с кружкой седенький человек, "благочестивейший", с дрожащими руками и ястребиным носом; за благочестивейшим просто парень с тарелочкой, и идет сбор; мужики жертвуют, считают свои копейки и дают от сердца, но серьезно; соображают, берут сдачу. Солнце ближе подходит к востоку, в церкви народу меньше; много молодежи в ограде на лавочках; детишки смелей снуют между взрослых, кой-кто у печки примостился даже спать; толкутся, блеск и фейepвepк гаснет, а земля встречает своего Бога в силе и свете. Только благочестивейший без умолку звенит денежками у прилавка: выдает свечки и двигает вырезанными ноздрями. Часа в четыре разбредутся. Этот день для Крона труден: спать уж почти некогда, в девять надо выезжать за данью. Запрягают поповскую тележку; рядом с Кроном краснощекий юнец, в сюртуке, с огромными руками. Там, на месте действия, он будет раздувать батюшке ладан, петь и конфузиться помещиков. О. Кронид прочно сидит в тележке; солнце греет; над пашней струение, плавь, земля тает в свете. Юноша жмется к батюшкину боку – ему в профиль видны крепкие Кроновы брови и ласковая под солнцем борода. В усадьбе Крона почитают за основательность, за ум; в столовых, со свечкой перед образом, он из года в год поет, молится, дает целовать крест и ловким движением заправляет волосы после молебна; затем разговляется. Юноша – на краю стула и стыдится своих рук. Один год говорят о Толстом, другой – о войне, о разных случаях в уезде: кто где умер, кто как хозяйничает. Выпивают, но Крон неуязвим; юноша часто поправляет белый галстучек и проглатывает победоносно, страшно пеpeкaтывaя кадыком. Потом Крон уезжает и так же работает у всех помещиков, мудро беседует и временами поглядывает на юношу: не пеpeгpужeн ли? В это время деревни выглядят моложе, на взгорьях под теплым солнцем катают яйца из желобков, пестрыми группами. Девки сплошь в красном; на желто-зеленом откосе они кольцом вокруг качелей; на веревках, под тягу сильного ветра, кумачные пятна высоко взлетают кверху. Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние посевы, но нельзя, праздник. Праздник целую неделю, и в это время грешно и немыслимо не напиваться, не лежать под заборами. С полдня до вечера девки голосят песни, из села в село катят подводы – гости, а время уходит; и сам Крон недоволен. По очереди на Пасху деревни "подымают иконы". Это значит, впереди Крон с дьяконом, а сзади несут хоругви; идут веселой гурьбой по дороге, поют "Христос Воскресе"; теплый ветер хорошо дует сбоку, хоругвеносцы храбро потеют, а дома все ждут. И назад, когда Крон уедет на лошади, иконы и знамена несут полем, напрямки. В начинающемся вечеру бредут по жнивью, путаясь и голося во всю силу. Лица красны, золото горит на иконах при светлом весеннем ветре, и древки смутно ходят в воздухе. Это уж время тихой и пылающей весны. Уже ели цветут; на угрюмом дереве появились бледно-зеленые цветочки; странно находить эти мелкие живодышащие существа в черной хвое. В местах, где сыро и припapивaeт, в сереньких осинничках, водятся фиалки; слабый приторный запах идет волной, а они стоят, – нежные, обратив к югу и солнцу фиаловые головки, как милые феи; но скоро гибнут, если сорвать. Вечерами в темноте тянут из дальних мест кулички на озера; они летят один за другим на минутном расстоянии, и тихо стонут, чтобы не потеряться. Солнце греет, стада вышли в поле. Целый день они бродят, щиплют мелкую травку теплыми губами; коровы колыхают боками и высовывают по временам добрый язык; крошечные ребята под бледно-лазоревым небом тащат из деревни пастухам полудновать, а назад бредут по жнивью задумчиво и бесхитростно; поднимают палки, навязывая на них тряпочки-хоругви, – поют что-то свое, потом ловят в ручье гольчиков; над ними же струится светлый весенний ток; анютины глазки распускаются по оврагу. Деревни бледнее и тише, солома на крыше голубоватее, и бревна в избах будто дышат. В день Егория Крону работа: за деревней, в поле, бывает молебен – благословение гуляющему скоту. В коровах есть задушевность, лошади покойны и важны как добрые работники, только жеребятки ветрообразны: легко, на длинных тоненьких своих ножках передуваются они с места на место. Стоят молчаливые бабы; Пасха прошла уже, время серьезное и нужное, красных нарядов нету; лица больше в морщинках, со светлыми голубыми глазами, и зубы стерты наполовину, ровно, как у лошадей. Они сердечно знают своих скотов, смотрят на них, думают о чем-то, пока Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и отпускает на мирный отгул. Солнце встает все раньше и очень хорошо греет землю; радостная весна. Сам Крон, владелец ста десятин, доволен и не жалуется; сверху гремело уже раз, при глубочайшем тепле и могущественных тучах; блистало, трахало благодатно и раскатисто, а перед ударом белая молния осеняла траву. – Экая сила, – говорил о. Кронид и крестился. Потом все уносилось, точно чья-то забава на небе, но на полях овес всходил веселее, и внизу по лугам трава тучнела. Земля становилась парной гущей, ползла под ногой. Но на другой день опять выходило на небо солнце, сразу все сохло и произрастало в глубине. После обеда, перед сном, Крон выходил на скамеечку у пруда. Большой пруд, перед нежилой усадьбой на той стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, а в пруду горизонтально дремали карпы, такие же старые, как он сам; временами мягкие плотички подходили к самому верху, высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль, или надует? И правда, дома ждали всякие клиенты, а вечером надо хоронить девочку у Петра Константинова. Последнее время много ребят поумирало, "все живот". Маленькие гробики легко и быстро тащат на кладбище, на горе, в дальний угол; здесь много детских холмиков: среди них трава, а рядом канава с полынью. Очень далеко видно отсюда; славная страна лежит вокруг, как золотое блюдо; Крон неторопливо воскуряет ладан, смотрит вдаль; в мерном полете кадильница сначала подымается над горизонтом в небо, потом уходит вниз. С четырех сторон идет несильный ветер, дымок бледно и покорно стелется, сизеет. Сзади плачет баба; красный юноша подпевает. Скоро опускают гробик – и конец. Крон проходит могилами: деревянные кресты местами набок, заросли травой; деревьев на кладбище нет, вольный воздух от земли до неба. Между крестами спокойно ходит ветер, иногда ласточка садится отдохнуть. Крон останавливается у отца и крестится; здесь вырезано даже имя; сейчас, при опускающемся милом солнце, на памятнике горит свет; высоко в небе реют стрижи, ударяя полетом к речке в лугах. Близко Троица, а там, через неделю – ярмарка. Веселая Троица выпадает в светлый день. Пыльно по дороге, и солнце наверху горит, а небо радостно-сине, как было давно, в детстве. Шумящие, дорогие березки стоят в церкви; тайная любовь зреет в молодежи. Во всех избах под образами деревца; когда они начинают сохнуть, особенный запах появляется в скудном человечьем жилье; ветерок через окошко шевелит ветки, а из ребячьих времен вспоминаются сердитые клещуки, что расползались с праздничных кустов. В лесу, в диких местах, девки завивают венки – связывают березки верхушками; получается свод; а они загадывают, скоро ли завянет. Детишки ищут в сырых низинах пеструю траву кукушку; она растет печальная и странная, непонятным цветком; маленькие девочки выкапывают ее, одевают в платьице и хоронят, как нежившую куколку. Липы и дубы стоят кругом в молчании. Уже много травы отросло на лугах, и скоту веселее ходить по пару. Низкий старик Карпыч загорает под солнцем; длиннейший кнут ползет за ним змеей, лицо его коричнево, а волосы снегообразны. Странно видеть это серебро на крутом пастушьем теле; ветер слабо шевелит его локоны, когда он без шапки; на темени розовеет апостольский кружок. Едет ли он полудновать домой на лошади, верхом, в зипуне, стоит ли часами около стада, коренастый, как хороший боровик, – всегда светлы и полны полевого ветра его глазки; иногда они слезятся; но слеза только омывает их. На ярмарку съезжается деревня со всех концов. За Кроновым селом, на выгоне, разбивают палатки; кишат телеги, оглобли торчат кверху; стоит пыль и бурленье, пахнет дегтем, визжат поросята, и издали мужицкий праздник похож на лагерь гуннов. Теплые коровы дышат, жуют и печально смотрят влажными глазами: трудно жить впроголодь, надо уступать. Кровавые прасолы* валяются в траве за ярмаркой, у дорог, чтоб пеpeхвaтывaть скотину и скупать до торга. Часа в два-три выходит посмотреть и Крон; на ярмарке бродят уже три жиденьких иерея из округи; жалобнее всех один; косы сзади у него еще не отросли, грудь узка, ряса путается; рядом мощная матушка в мантильке и шляпе с цветами. Ветер треплет красные цветы. Батюшка потеет и покупает жене гребенку. А Крон умными грудными звуками беседует у бакалея, здоровается с урядником. Бедная «сельская полиция» – в пыли и ссохлась от старости, она ежеминутно пребывает в разъездах, трясется на казацком седле и дрожках из волости в волость, загорает, а на ярмарках лущит подсолнухи и уныло беседует с помещиками из либералов. У бакалея Крон выпивает даже чаю, держа блюдечко в крепких волосатых руках; он ищет пакли для школы; но, пока идут разговоры и торгуют подсолнухами, вдруг сбоку налетает гроза. Могучий дождь душит землю и радостно соединяется с ней, быстро мокнут люди, набрасывают на себя рогожи, прячутся под телеги; с лошадей льет; живой пар идет от них. В черных тучах наверху обнажается огненная змея, слепящий удар рaзpывaeт воздух; издалека, с почерневшей земли исходит сладкий запах; трава слабеет под грозой, млеет. Крон скрылся у бакалея и посмеивается на дождь; наверху над ним парусина быстро промокла, но он не беспокоится и без шляпы выставляет под дождь голову. Через полчаса тучи уже нет; облака, грудами в золотистом свете, курятся и текут. Алмазные капли прорезывают сверху вниз воздух, и божественная радуга висит на небе. Крон в солнечных лучах идет домой и подбирает рясу. Дома, у забора, жемчужно-белый жасмин цветет рaстpeпaнными шапками, и к отцу Крониду плывет душный запах. Вечер блистает. Из-под кухни выскочил галопом кофейный пес Каштан. Он бежит увальнем, тело его огромно и мягко; он тепел в движениях, голова его медвежья, с кругленькими желтыми глазами; весь он как добрый резвящийся черт. Крон гладит его по голове и проходит в дом. На другой день, перед вечером, небо прозрачно. Утихли ветры, и в облаках любовь и благозвучие. Крон выходит к реке; рыба плещет; заливной луг сочен и девствен; уже цветут звоночники, цветы покоса. Крон предощущает сено и сладкие запахи. Безмятежные кулички бегут по отмелям. В лознике, который пахнет так же, как и когда Крону было девять лет, на песочке возятся ребята. Старший учит их плавать. Худенькие тела весело трепещут в лучах, пищат и боятся глубины, а потом сразу появляются на берегу розовые рубашки, будто вместо голых тел выросли светлые цветы. Крон медленно подымается на гору за рекой и бредет тропинкою среди молодых ржей; ему надо в Дмитрово, здесь близко прямиком. Пройдя ржи, он останавливается у луговины пара: довольно жарко еще идти, он хочет отдохнуть. Снимает шляпу; полуседые волосы свешиваются вниз. Как старый пастырь, он глядит вниз на село и думает о чем-то. Вдруг слышит сзади слабый шорох. На краю зеленейшего клевера стоит зайчик; он выбежал веселым галопцем на теплую зарю и, увидев Крона, замер. Вот он поднялся на задние лапки, двигает ушами, и усы его беспокойно ходят. Все серое слабенькое тельце подрагивает и полно святого любопытства. Крон молчит и улыбается. Зайчик прыгает и медленными скачками, не боясь, пробегает в десяти шагах; высоко подбрасывает задом на фоне бледно-прозрачного неба. Батюшка все улыбается и встает. Он медленно идет по тропинке паром и овсами далее и через несколько минут снова оборачивается назад. Но зайчишки уже нет, и только село в низине дымится и лежит в вечернем свете. На заре, возвращаясь домой, отец Кронид слышит первого пеpeпeлa. Он мягко трещит и прeдвeщaeт знойный июнь и ночи сухороса. Притыкино 1905 г. Примечания. *…прасолы - здесь: скупщик скота для продажи его на мясо.
