почему современная теория литературы
advertisement
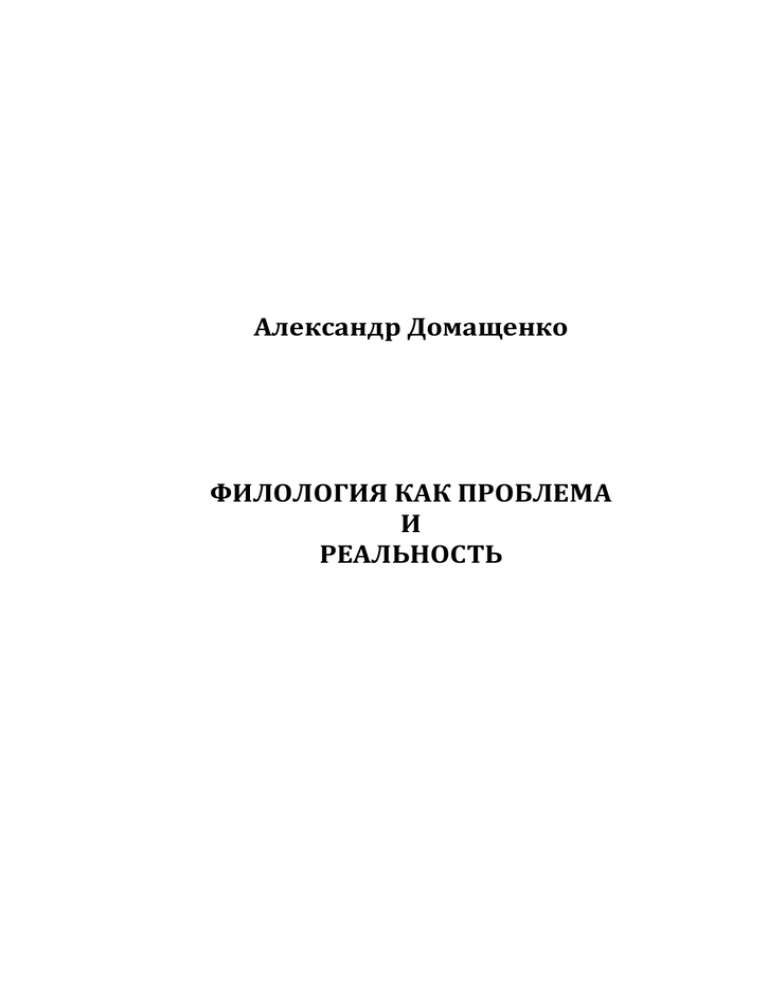
Александр Домащенко ФИЛОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА И РЕАЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ Институт филологии и социальных коммуникаций Бердянского государственного педагогического университета Донецкий национальный университет А.В. Домащенко ФИЛОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА И РЕАЛЬНОСТЬ Учебное пособие Донецк – 2011 УДК 801.73 ББК Ш40*000.91 Д 66 Друкується за рішенням вченої ради Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Протокол № 8 від 30.03.2011 р. Друкується за рішенням вченої ради Донецького національного університету Протокол № 3 від 25.03.2011 р. В.А. Зарва О.О. Корабльов Рецензенти: доктор філол. наук, професор. доктор філол. наук, професор. Домащенко О.В. Філологія як проблема та реальність: навчальний посібник / О.В. Домащенко. – Донецьк: БДПУ; ДонНУ, 2011. – 175 с. ISBN 978-966-639-455-5 Навчальний посібник з курсу “Тенденції розвитку сучасної теорії літератури”. Присвячений розмежуванню теорії літератури і філології, з’ясуванню сутності філології та, у зв’язку з цим, виявленню основних тенденцій подальшого розвитку сучасної теорії літератури. Рекомендований магістрантам і аспірантам філологічних факультетів університетів. УДК 801.73 ББК Ш40*000.91 ISBN 978-966-639-455-5 © Домащенко О.В., 2011 ОТ АВТОРА Название курса, пособием к которому является эта книга, – “Тенденции развития современной теории литературы”. Название говорит о тенденциях, то есть о том, что в настоящее время существует как та или иная возможность, при этом все они проявились с разной степенью отчетливости и ни одна из них не является очевидной для всех. Есть ли объяснение тому, что в книге, которая должна целиком сосредоточиться на теоретико-литературных проблемах, так много внимания уделено филологии, которую автор последовательно противопоставляет современной академической теории литературы? По-видимому, объяснение может быть только одно: “чистой” теории литературы, целиком изолированной от смежных областей мышления и предметного знания просто не существует. Об этом говорил в свое время М.М. Бахтин, подчеркивая, что “узкое спецификаторство чуждо лучшим традициям нашей науки”1. Когда формалисты в своем противостоянии эстетически ориентированной теории литературы XIX века решительно сблизили поэтику с лингвистикой, не только их оппоненты, но и они сами не до конца понимали, что из этого может получиться, а многое из того, что получилось, в самом начале не просматривалось даже в виде тенденций. Угроза растворения поэтики в лингвистике не остановила адептов грамматического литературоведения, при этом были достигнуты определенные результаты в изучении текста художественного произведения, значимость которых я здесь оценивать не буду. Но при любой оценке очевидным является тот факт, что преступлением против науки было бы не позволить этим тенденциям реализоваться. Филология, обращенная к имени с его фундаментально-онтологической смысловой полнотой, конечно, теорией литературы не является в силу предметной направленности последней и прочих отличий, о которых я писал в монографии “Об интерпретации и толковании” (2007) и пишу в настоящей книге. Тем не менее, учреждаясь на границе с фундаментальной онтологией, теория литературы не может не измениться: стать иной по сравнению с теми, которые учреждаются на границе с эстетикой (эйдосный дискурс), лингвистикой (грамматический) или нравственной философией (персоналистский). Филология не дискурсивна. Теория, которая испытывает ее воздействие, не дискурсивна, но протодискурсивна (от πρῶτον – прежде всего, сначала), поскольку конституируется не на границе, имманентной области представляющего мышления, а на границе мышления представляющего и вопрошающего. Вот почему у этой теории появляется возможность оставаться над схваткой – в отличие, например, от грамматического дискурса, представители которого вели войну на два См.: Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции “Нового мира” // Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – С.329. 1 фронта: и против теории образа А.А. Потебни, и против бахтинского персонализма; при этом они были искренне убеждены, что от исхода этой борьбы зависело будущее их научного направления. Протодискурсивная теория очень хорошо знает, что борьба, а тем более война, в той области, где должна править онтологическая приобщенность к целокупному смыслу имени, – вовсе не путь к истине, но нечто целиком противоположное этому пути. Но в то же время она знает и другое: игнорирование границ, имманентных всей теоретико-литературной области, исключает какую бы то ни было осмысленность разговора о поэтическом искусстве. Теория литературы – вся из границ. Дискурсивное слово не довлеет себе. Протодискурсивная теория, напротив, исходит из довлеющего себе слова (имени). Всеобщая убежденность научного сообщества, что во всех случаях актуальным оказывается исключительно не довлеющее себе слово, – свидетельство беспочвенности нашего мышления. В пределах этой беспочвенности новоевропейское мышление пытается обнаружить онтологию: там, где ее никогда не было. Прояснение сущности протодискурсивной теории – одна из основных задач предлагаемой книги. О том, что она не придумана автором на досуге ради самовыражения и не составлена наспех из случайно оказавшегося под рукой разнородного материала, а вызвана причинами сущностного характера, свидетельствуют, к примеру, хоровые песни Пиндара: ни эстетический, ни дискурсивный подход к ним не будет адекватным. Утверждаясь в пространстве поэзии, протодискурсивная теория обращена исключительно к вопросам поэтической онтологии: смысл этих вопросов по-настоящему открывается лишь ей. Одновременно проясняются основоположения теоретико-литературной мысли. О том насколько это важно для любой науки, говорит А.Н. Уайтхед: “Если наука не хочет деградировать, превратившись в нагромождение ad hoc гипотез, ей следует стать более философичной и заняться строгой критикой своих собственных оснований”2. Теория литературы, безусловно, должна стать более философичной, тогда как в случае протодискурсивной теории сама философия впервые осознает свою вторичность по отношению к филологии. Т.С. Элиот, чья глубина понимания поэтического творчества не раз еще удивит вдумчивого читателя, приводит пример, который позволяет кое-что уяснить в соотношении филологии и теории литературы. Прослеживая воздействие поэзии, пишет Элиот, “мы уподобляемся человеку, наблюдающему за полетом птицы или аэроплана; если он начал наблюдать, когда птица или аэроплан летели едва ли не у него над головой, и уже не отрывал от них глаз, он продолжает их видеть и после того, как они улетели очень далеко, но когда человек показывает эту точку в небе другим, те не в Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии / А.Н. Уайтхед. – М.: Прогресс, 1990. – С.73. Пер. И.Т. Касавина и др. 2 состоянии ее найти”3. Тот, кто знает, что исток эстетически (наглядно) явленного единства – в единящей сущности лада, и в самом эстетическом единстве увидит больше, нежели тот, кто об этом даже не подозревает. И все же что мы ответим на неизбежный вопрос “Как это работает?” Никак, если под работой понимать достижение прагматически сформулированной цели. И в то же время только это и работает, если мы не будем забывать об изначальной и единственной цели университета – быть школой мышления. Даже если мы вынуждены будем предположить худшее и заранее решим, что фундаментально-онтологическая сущность филологии останется недоступной для нынешних студентов, все же и в этом случае филология свою задачу выполнит, по крайней мере, напомнив, что в границах методически выверенной, поставленной на поток субъект-объектной установки мысль не только не заканчивается, но даже еще не начинается. Тем не менее, уже сейчас можно указать на некоторые достижения теории, которая знает, что за пределами представляющего мышления – не пустота, но, напротив, та недоступная ему смысловая полнота, которая саму представляющую мысль делает возможной. Только этой теории впервые после Платона открылась сущностная противоположность ποιητικὴ τέχνη и ποίησις. Только в ее пределах появилась возможность понять лад как ключевое для поэтической онтологии имя. Только для нее впервые открылась возможность, выйдя за пределы τέχνη, помыслить трагическую эпоху во всей ее полноте, при этом предложенное понимание в корне отличается от того, которое находим у Ф. Ницше. Только выйдя за пределы ποιητικὴ τέχνη, можно помыслить исток ποιητικὴ τέχνη, который заключен, конечно, не в ней самой. Это далеко не полный перечень вопросов, осмыслению которых посвящена книга. Тем, кто считает все эти вопросы малосущественными, нужно напрячь зрение и постараться увидеть летящую в небе птицу. Для этого, очевидно, характер самого видения должен измениться. Речь в книге идет не просто о тенденциях, но таких, которые вызваны тектоническими сдвигами в теории литературы. Тектонические сдвиги в теории литературы неизбежны, противиться им – дело бесполезное. Еще раз: смысл названия курса в том, чтобы говорить о тенденциях. Если бы эти тенденции были уже реализованы, то есть очевидны для всех, пришлось бы писать другую книгу. Бердянск, Донецк 19 марта 2011 Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе / Т.С. Элиот. – Киев: AirLand, 1997. – С.189. Пер. А.М. Зверева. 3 ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ УТРАЧЕННЫХ СЛОВ Предварил еси его благословениемъ благостыннымъ Пс. 20: 4 Общеизвестным является довольно печальный факт, что не только рядовые читатели, но и многие филологи не смогут объяснить, в каком смысле употреблено слово “мир” в названии произведения Л.Н. Толстого. Ответ на вопрос, кто виновен в этом, вроде бы лежит под рукой: виновны те не слишком озабоченные судьбами русской культуры реформаторы, которые более 90 лет назад – еще при Временном правительстве – решили упростить орфографию русского языка. Закономерно, что в результате этой реформы язык в значительной степени лишился сакральных корней, питающих его живую жизнь. Оскудел язык – оскудела душа. В самом деле, лозунг “Миру – мир” еще можно в пределах этой орфографии понять, но как понять слова Иисуса Христа, обращенные к ученикам: “Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир” (Иоан. 16: 33)? Возможностями языка определяются возможности понимания. Упрощенный до последней степени язык оказывается неспособным вместить многократно превосходящий его сакральный смысл. Смысл сказанного Иисусом Христом сразу станет ближе, если мы воспользуемся старой, более соответствующей духу русского языка, орфографией: “Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне миръ (εἰρήνην). В міре (κόσμῳ) будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил міръ (κόσμον)”. От того, что мы имеем в виду, когда произносим слово “мир”, зависит наше понимание целого. Но реформаторы, о которых было сказано выше, – персонажи лишь пятого акта разыгравшейся трагедии, сама же трагедия началась намного раньше. Одним из ее участников является и автор романа-эпопеи “Война и мир”, который, как выясняется, несмотря на старую орфографию, тоже путался в словах миръ и міръ, представляющих собой имена совершенно разного порядка: миром целое обусловлено, тогда как міръ еще только должен стать целым. Поэтому вопрос об орфографии, при всей своей очевидной важности, оказывается вторичным по отношению к другому, более существенному вопросу: об именах, об их онтологической природе. - Міром Господу помолимся! – читает слова молитвы в романе Л.Н. Толстого дьякон (т.III, ч.I). Арх. Иоанн (Шаховской) поясняет: “Смысл молитвы этой… не понят Толстым. Не “міром” Церковь молится, а миром – в мире. И вся ектенья эта называется “мирной”. Это значит, что даже в “православный” период приобщенность Л.Н. Толстого к сакральному смыслу имен не была глубокой, чем объясняются его ошибки в изображении “внешнего хода богослужения”4 и, в конечном счете, – его последующее отпадение от Церкви. Сказанным, однако, вина с тех, кто принял активнейшее участие в кульминации русской трагедии в ХХ веке, не снимается. Вполне предсказуемо реформаторы не ограничились только орфографией. Под гласным или негласным запретом оказались слова – из тех, что не укладывались в рамки отныне обязательных для страны идеологических схем, с помощью которых начинали ковать новое сознание. Слова же – мы это опять понемногу начинаем понимать – вовсе не этикетки на предметах, а неисчерпаемые материки смыслов. Отвергались самые светоносные слова, в результате умолкали самые высокие регистры народной души, зовущие к духовному возрастанию. То, что лишено возможности возрастать, неминуемо разлагается и умирает. Язык – это последняя онтологическая опора и последнее условие существования народа. Последнее – оно же первое. Самое страшное преступление то, которое совершается против языка. Результаты такого преступления избыть труднее всего, а между тем без этого невозможно решить все другие проблемы, которые по отношению к той, первой, – вторичны. Впрочем, были и такие слова, которые, номинально оставаясь, полностью теряли свой высокий сакральный смысл, превращаясь в свою противоположность и даже в карикатуру на самих себя. Так, за долгие годы несвободы, которые исключительно по Архиепископ Иоанн (Шаховской). К истории русской интеллигенции / Архиепископ Иоанн (Шаховской). – М.: Лепта-Пресс, 2003. – С.141-142. – (Испытание мудростью. Вып.9). 4 недоразумению были названы Советской5 властью, мы не только привыкли, но свыклись с выражением “материальные блага”; казалось, что иными они и быть не могут. Не многие понимали, что приучить к такому пониманию слова “благо” – все равно что совершить вивисекцию мысли. Словарь С.И. Ожегова (1973 г.) подает такие значения этого слова: “1. Добро, благополучие (высок.). 2. То, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности”. При этом такие производные слова, как благовест, благоволение, благовоние (в значении “ароматическое вещество”), благовоспитанный, благодать (в значении “ниспосланная свыше сила”), благоденствие, благодетель, благожелатель, благой, благолепие, благонамеренный, благонравный, благорасположение, благорастворение, благословить (в значении “воздать благодарность кому – чемунибудь”), благостный, благоусмотрение, благочестие, благочинный, объявлялись устаревшими. К перечисленным нужно добавить те, которые в этот словарь вообще не вошли, поскольку, видимо, предполагалось, что они уже не просто устаревшие, но мертвые: благобоязненный, благобытие, благовозвещать, благовосхвалить (восхвалить по достоинству, а не подхалимничать), благоверие, благоверный (исповедующий истинную веру, а не в навязанном этому слову современном комическом значении), благовещение, благоглаголивый, благогласие, благодавец, благодерзать (ободряться на добрые подвиги), благожительствовать (жить благочестиво), благозаконие, благозвание (заслуженная добрыми делами слава), благолюбие, благомощный, благоплодный, благопотребный, благоприступный, благопутствовать, благосердие, благостыня, благоумиленный, благоумие, благоусердствовать, благохвальный, благоцветный, благочадие, благочтение. Что же вместе с этими прекрасными словами устаревало и умирало? Что вместе с ними, казалось, Совет – это ведь одно из сакральных имен: “Велика совета ангел – вестник великого совета (Исаия 9: 6). Здесь разумеется предвечный совет Св. Троицы, в котором от вечности было определено спасти род человеческий от окончательной гибели… Прежде вестниками этого таинственного совета людям были пророки, но они сообщали эту тайну… прикровенно; в последнее же время эта тайна возвещена чрез Сына Божия…” (Г. Дьяченко, прот. Полный церковно-славянский словарь / Прот. Г. Дьяченко. – М.: Отчий дом, 2005. – С.630). 5 навсегда покинуло нас? Разумеется, не благополучие, связанное с материальными потребностями, но то, без чего сами материальные потребности не имеют никакого смысла. Все эти и подобные им имена – кровеносные токи, пронизывающие священносимволическим смыслом наш язык. Без них он хиреет, становится анемичным, очень быстро превращаясь в простой инструмент, пригодный лишь для передачи самой элементарной информации. Словари – беспристрастные и неподкупные свидетели свершившегося. Ключ к сакральному смыслу, присутствующему в приведенном выше именослове, мы обретаем в значении слова “благобоязненный” – боящийся Бога. То, что “благо” указывает на Бога и именно в этом указывании обретает свой подлинный смысл, совсем не случайно. Наше “благо” через церковно-славянский язык связано с греческим словом «τὸ ἀγαθόν», которое является одним из имен Бога. Именно с этого слова начинает толкование Божественных имен сщмч. Дионисий Ареопагит, обращаясь также и к другим именам: Свет, Красота, Любовь, Экстаз, Рвение, Сущий, Жизнь, Премудрость, Ум, Слово, Истина, Вера, Сила, Справедливость, Спасение, Избавление, Великий, Малый, Тот же, Другой, Подобный, Неподобный, Покой, Движение, Равенство, Вседержитель, Ветхий денми, Святая святых, Царь царей, Господин господ, Бог богов, Совершенный, Единый. Среди этих имен есть и слово ‘Миръ’, но нет и не могло быть слова ‘міръ’. Весь процесс именования Бога Дионисий Ареопагит называет благоименованием (ἀγαθωνυμίαν), вовсе не имея в виду, что у этого имени есть какие-то преимущества перед другими, но давая понять, как они соотносятся между собой, поскольку столь же уместно было бы сказать: светоименование, мироименование и т.д. Имена Бога соотносятся не так, что есть Миръ и к нему прилагается Благо как его характеристика или, наоборот, есть Благо, атрибутом которого является Миръ. Тогда как? Ответ на этот вопрос нельзя дать в границах рассудочного, рационального или интуитивного понимания, то есть в границах привычных для новоевропейского человека способов мышления. Поскольку, однако, связанный с ренессансной парадигмой период европейской истории в ХХ веке завершился, постольку вопрос об ином мышлении, в котором выявит свою сущность наступающая новая эпоха, вновь становится актуальным. Весь ХХ век – это конвульсии того, что осталось от Ренессанса: предел. К ответу на поставленный выше вопрос мы приблизимся лишь тогда, когда наше понимание станет целокупным. Целокупное – значит приобщенное к Целому, к его смыслу. Вопрос о Целом связан с вопросом об Имени, именах. Если мы хотим не оставаться во “тьме кромешной”, но приобщиться к Целому, мы должны не просто пользоваться языком (“пользуется” им и улица и как: с клеймом отверженности), но укорениться в нем, потому что эта укорененность благотворна. Чем глубже будет наша укорененность в языке, тем больше нашему становящемуся целокупным пониманию будет приоткрываться таинственный путеводный свет сакральных имен. Одновременно мы сможем приблизиться к пониманию того, что такое подлинная филология. Онтологическая укорененность в родном языке позволяет уразуметь онтологическую природу других языков, стало быть, учит уважать право другого человека на такую укорененность – в его родном языке. Право на онтологическую укорененность в родном языке – свято, всякое посягательство на него – святотатство. Разговоры о том, что когда-нибудь будет один общий язык – от лукавого. Эти разговоры также шовинистичны, поскольку на самом деле имеют в виду, что когда-нибудь у человечества останется только один наполненный онтологическим смыслом язык, чем подразумевается, что только один этот избранный язык по-настоящему полноценен. Такой сценарий, конечно, столь же кошмарен, сколь утопичен, поскольку все без исключения живые языки не только инструментальны, но в первую очередь – онтологичны: они хранят связь с тем имплицитным языком, который живет в глубине сакрального имени, и являются разными способами его артикуляции. Эту их онтологическую сущность ничто, даже поголовное уничтожение всего народа, упразднить не может. Имплицитный язык – единственно возможный общий язык для человечества, однако он, являясь источником жизни для разнообразных живых языков, никогда их не заменит, поскольку он, будучи несказанным, не может быть одновременно инструментальным. Родной язык для каждого человека – необходимая пуповина, которая связывает его с онтологическим смыслом общего для всего человечества имплицитного языка. Онтологическая приобщенность к родному языку – важнейшее условие подлинного духовного рождения. Лишь при этом условии мы можем сказать: “Филология есть”, – когда ‘есть’ – не просто связка, но реальность присутствия. ФИЛОЛОГИЯ КАК ПРОБЛЕМА Ах, и я был строптивым, а теперь онемел и оглох, и куда мне идти, я не знаю, и безмолвствует Бог. О.Г. Чухонцев Что такое филология? Странный вопрос. Разве мы уже в курсах “Введение в литературоведение” и “Введение в языкознание” не объясняем, что это общее название для литературоведения и лингвистики? Утвердившись в этой своей однозначности, ставшее понятием слово “филология” никакого другого значения не имеет и не может иметь. Эту однозначность можно только конкретизировать, углублять, но ни в коем случае не дополнять какими-то противоположными или просто другими значениями. Требовать его переосмысления – все равно, что пытаться найти другое определение для катета или, к примеру, для гипотенузы: затея никому не нужная и безнадежная. Впрочем, даже вопрос о катете и гипотенузе вовсе не так элементарен. Мы помним, как по-своему талантливый филолог дед Щукарь успешно возвращал к живой жизни разные ученые слова: с любым словом это всегда может произойти. Однозначное слово – принадлежность гербария. Мы переоцениваем свои силы, когда полагаем, что способны раз и навсегда превращать слова в засохший листик или цветок. Они, пожалуй, посмеиваются над нами, делая вид, что их окончательный удел отныне – быть приколотыми булавкой к бумаге. В любом слове всегда явно или подспудно присутствует избыток, и даже преизбыток жизни, который противится такой операции. Не дело мысли – сдувать пыль со страниц гербария. Если язык – онтологическая основа мысли, то понятийность – это, конечно, склероз языка. Источник же исцеления – в самом языке. Тем более сказанное относится к слову “филология”. Проблемы обнаруживаются, как только мы предпринимаем попытку конкретизировать приведенное выше слишком уж общее его понимание. Эти проблемы, впрочем, не всегда замечают. “Филология, – пишет С.С. Аверинцев, – содружество гуманитарных дисциплин – языкознания, литературоведения, текстологии, источниковедения, палеографии и др., изучающих духовную культуру человека через языковой и стилистический анализ письменных текстов. Текст во всей совокупности своих внутренних аспектов и внешних связей – исходная реальность филологии. Сосредоточившись на тексте, создавая к нему служебный “комментарий” (наиболее древняя форма и классический прототип филологического труда), филология под этим углом зрения вбирает в свой кругозор всю широту и глубину человеческого бытия, прежде всего бытия духовного. Таким образом, внутренняя структура филологии двуполярна: на одном полюсе – скромнейшая служба “при тексте”, не допускающая отхода от его конкретности, на другом – универсальность, пределы которой невозможно очертить заранее”6. Николай Кузанский, которого А.Ф. Лосев считает крупнейшим мыслителем “не только эпохи Ренессанса, но и вообще всей новой и новейшей европейской философии”7, говорит: “…Умом (mens) является то, от чего возникает граница и мера (mensura) всех вещей”8. Определение – это проведение границы. Что определяется, о-граничивается в приведенном фрагменте из энциклопедической статьи С.С. Аверинцева? Полагая сердцевинной сущностью филологии ориентацию на текст, ученый на самом деле дает определение текстологии, палеографии и лингвистической поэтике, которые именно с текстом по-разному напрямую связаны. Можно возразить: С.С. Аверинцев, очерчивая смысловое пространство филологии, указывает на два конституирующих его полюса. Полюс в данном случае – это точка пересечения некой смысловой сферы осью, вокруг которой эта сфера движется. Сфера Аверинцев С.С. Филология / С.С. Аверинцев // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С.544. 7 Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1998. – С.294 8 Николай Кузанский. Сочинения: в 2 т. – Т.1 / Николай Кузанский. – М.: Мысль, 1979. – С.388. Пер. А.Ф. Лосева. 6 пересекается осью в двух противоположных точках, которые являются границами оси и остаются неподвижными. Если так, то в определении С.С. Аверинцева полюс, ограничивающий филологию, конечно, один – все тот же эмпирический текст, отчетливый, как колышек, вбитый обушком в землю. Другой растворяется в туманной бесконечности. Почему? Потому что в определении допущена логическая ошибка: граница, проведенная тем или иным определением, не может и не должна быть наполовину эмпирической, наполовину – онтологической. В таких случаях одна из половин непременно исчезает. Исчезает та, которая для ученого de facto является менее существенной. Поэтому заявленное двоецентрие у С.С. Аверинцева становится единоцентрием: колышек на наших глазах превращается в Полярную звезду (одно из значений лат. polus), вокруг которой движется филология. Филология, утверждает С.С. Аверинцев, “вбирает в свой кругозор всю широту и глубину человеческого бытия, прежде всего бытия духовного”. Почему это не философия? Почему это не религия? Уточнение, что филология связана с текстом, ничего не дает: Людвиг Витгенштейн, анализирующий предложение как законченный текст, остается философом. Он же пишет в параграфе 99 “Философских исследований”: “Неопределенный смысл, по сути, вообще (здесь и далее в цитатах курсив авторов. – А.Д.) не был бы смыслом. Так же как нечеткая граница, собственно говоря, вовсе не граница”9. “Итог философии (заметь: не филологии! – А.Д.), – говорится в другом параграфе того же труда, – обнаружение тех или иных явных несуразиц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий”10. От себя, несколько забегая вперед, замечу: пока теория литературы в свою очередь не набьет шишек о границы единственно актуального для нее инструментального языка, она не сможет пробудиться от Витгенштейн Л. Философские работы / Л. Витгенштейн. – М.: Гнозис, 1994. – Ч.1. – С.125. Пер. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. 10 Там же. – С.129. 9 “догматического сна”, поэтому не только не сможет приблизиться к подлинной филологии, но даже осознать потребность в таком приближении. Когда С.С. Аверинцев говорит, что филология ограничена языковым анализом письменных текстов как ее исходной реальностью, он, по сути, утверждает, что филология должна ограничиться языком в его функциональной данности, поскольку лишь таким образом понятый язык может быть предметом анализа. Язык в его более существенном онтологическом проявлении не анализируется, но истолковывается. Это разграничение в кругозор советской теории литературы, конечно, не входило. Поэтому один из авторитетных участников дискуссии о филологии, проведенной в 1979 году журналом “Литературное обозрение”, утверждает: “…Филология начинается не с доверия, а с недоверия к слову”. И еще: “Филология началась с изучения мертвых языков”11. Первое утверждение восходит к суждению М.М. Бахтина: “Научно точная, так сказать, паспортизация текстов и критика текстов – явления более поздние (это – целый переворот в гуманитарном мышлении, рождение недоверия). Первоначально вера, требующая только понимания – истолкования”12. М.М. Бахтин, как видим, пишет совсем о другом, и в наше время мало кому захочется всерьез настаивать на тождестве филологии и, к примеру, “паспортизации текстов”. То, что прямой смысл слова “филология” последовательно М.Л. Гаспаровым игнорируется, совсем не случайно: так советское литературоведение поступало всегда. Филология начинается с любви, а любовь никогда не начинается с недоверия. Филологическое понимание оказывается достижимым постольку, поскольку любовью осуществляется непредубежденное приобщение к понимаемому, мое пребывание в нем. Чем полнее приобщение, тем глубже понимание. Филология – это ни в коем случае не комиссар Мегрэ. При этом согласимся, что недоверие является добродетелью лингвиста и, с оговорками, литературоведа. Гаспаров М.Л. Филология как нравственность / М.Л. Гаспаров // Литературное обозрение. – 1979. – №10. – С.27. 12 Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.5 / М.М. Бахтин. – М.: Русские словари, 1997. – С.306-307. 11 Без оговорок сказанное справедливо по отношению к литературоведческой грамматике, озабоченной изучением и анализом литературных текстов. Можно ли то же самое утверждать относительно персоналистского дискурса? “Вера наша состоит “не в препретельных (т.е. убедительных, от препрети – переспорить. – А.Д.) земныя премудрости словах, но в явлении силы и духа”13. Прилагательное ‘препретельный’ этимологически свзано с существительным ‘прение’ (’αντιλογία), которое значит: “противоречие; словесное изложение своих прав пред судьею; несогласие в словах”14. О филологии можно было бы сказать теми же словами: ее сущность состоит не в проникнутых недоверием “препретельных земныя премудрости словах, но в явлении” целокупного смысла целокупного имени. Поскольку в сказанном о прении одновременно раскрывается сущность теоретико-литературного персонализма, постольку, недоверие к слову оказывается свойственным и ему – в какой степени, об этом нет возможности сейчас говорить. Однако сразу отметим: тот, кто исходит из недоверия к слову, сущностно принадлежит антилогии, а не филологии. И только эйдосному дискурсу недоверие к слову вполне чуждо, поскольку он обращен к воплощенной в слове и наглядно явленной представляющему мышлению жизненной данности, которой дела нет до нашего возможного недоверия. Необходимым условием понимания этой жизненной данности является предварительное принятие ее такой, какова она есть. Что касается второго утверждения М.Л. Гаспарова, то оно и фактически неверно. Если исходить из общепринятого мнения, что началом современной филологии была эллинистическая грамматика, то греческий язык для нее никаким мертвым языком, разумеется, не был. Тем более утверждение М.Л. Гаспарова неправомерно, если начало филологии усматривать не в грамматике, а в стихии живой речи, что было самоочевидной данностью и для такого последовательного представителя устной философской культуры, как Сократ, и для такого закоренелого скептика, каковым был Секст Эмпирик. Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни // О цели христианской жизни / сост. Александр Стрижев. – М.: Паломникъ, 2001. – С.56. 14 Г. Дьяченко, прот. Ук. словарь. – С.521. 13 – Нашел ведь, как заставить любителя речей выполнить твое требование!15 – говорит, обращаясь к Федру, но имея в виду себя, Сократ. Словам “любителя речей” в греческом подлиннике соответствует «ἀνδρὶ φιλολόγῳ». То, что обозначено этими словами, считает Сократ, более точно определяет его сущность, нежели его принадлежность к философам. Спустя полтысячелетия из позднего эллинизма Сократу откликается Секст Эмпирик: “И опять-таки, имея в виду своих собеседников в серьезном разговоре, мы будем отбрасывать простонародное речение и следовать обычаю более городскому и велеречивому (φιλόλογος)”16. После этих двух высказываний, охватывающих большой период греческой античности, весьма уместно было бы еще раз задуматься над тем, с чего берет начало филология. Мертвое и филологическое не только не подразумевают друг друга, но тотально друг другу противостоят: по ту сторону Стикса филологии делать нечего. В отличие от ученых второй половины ХХ столетия Г.В.Ф. Гегель, чуткий к опасности, грозящей филологии смертью, писал 29 апреля 1817 г. Людвигу Дёдерлейну: “Филология теперь так запуталась в паутине учености и трудоемкой и неживой старательности, так прочно засела в приемах и внешних средствах и их измысливании, что для несчастного, попавшего в ее тенета, суть дела все больше ускользает из виду; наука эта вскоре дойдет до той ступени ценности, на которой стоит и такая благородная дисциплина, как геральдика”17. Сроднившись с геральдикой, филология перестанет быть самой собой, оставив после себя лишь пустое имя. Впрочем, именно это и произошло. Пустое же вольно наполнять каким угодно смыслом, а потом уверенно говорить об этой процедуре как о факте, который бессмысленно отрицать. Возвратимся к энциклопедической статье С.С. Аверинцева. Определение филологии, данное С.С. Аверинцевым, показательно тем, что определения филологии в нем нет: результат, Платон. Собр. сочинений: в 4 т. – Т.2 / Платон. – М.: Мысль, 1993. – С.145, 236е. Пер. А.Н. Егунова. 16 Секст Эмпирик. Сочинения: в 2 т. – Т.2 / Секст Эмпирик. – М.: Мысль, 1976. – С.101. Пер. А.Ф. Лосева. 17 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2 т. – Т.2 / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1973. – С.365. Пер. А.В. Михайлова. 15 вполне противоположный намерениям ученого. Почему это произошло? Достижением является уже то, что мы пришли к этому вопросу. Ответ попробуем найти в аналогии. Может ли лингвист определить язык? Любой лингвист, отрицательно ответивший на этот вопрос, в тот же момент перестает быть лингвистом. На самом деле он определяет, конечно, не язык, а те – в онтологическом отношении малосущественные – стороны языка, которые можно опредметить. Четкие однородные границы очерчивают ту область, в которой утверждается и развивается наука лингвистика. Может ли “филолог” определить филологию? Любой “филолог”, положительно ответивший на этот вопрос, тем самым доказывает, что он не филолог. Филология связана с той областью языка, которая не может быть опредмечена, поэтому она (филология) не может быть определена. Любая попытка ее определения будет на самом деле определением чего-то другого, в чем мы имели возможность убедиться на примере С.С. Аверинцева. Филология не имеет внешних границ, определяемых специфическим предметом исследования, но она имеет имманентные границы, определяемые состоянием мысли: способностью вопрошания, обращенного к тому, что является ее (мысли) онтологической основой. В случае филологии такой основой является поэтическое стихослагание, поэтическая речь. Сказанное – краеугольный камень филологии, который стал камнем преткновения для всех, кто пытался и пытается интерпретировать филологию в границах представляющего мышления. Тем не менее, не будем забывать, что актуализацией вопроса о “филологичности” лингвистики и литературоведения в конце 70-х гг. в упомянутой выше дискуссии мы обязаны В.В. Федорову: “Обе эти науки традиционно считаются “филологическими”, но в чем заключается их “филологичность” – никто не знает толком”18. Постановка вопроса в той сфере, где призвана править мысль, тем более такого вопроса, который проблематизирует Федоров В.В. Оправдание филологии / В.В. Федоров. – Донецк: НордПресс, 2005. – С.3. 18 основоположения той или иной науки, значит не меньше, чем успешное разрешение этого вопроса. В.В. Федоров видит то, что не замечает С.С. Аверинцев: филологичность лингвистики и литературоведения не данность, а проблема. При этом, подобно С.С. Аверинцеву, он полагает, что филологичность в них наличествует, только ее нужно надлежащим образом осмыслить. Согласно В.В. Федорову, это произойдет, когда филологи смогут уяснить, что предметом филологии является автор, а не литературное произведение или текст. Несмотря на то, что мысль В.В. Федорова не выходит за пределы представляющего понимания, такую филологию он называет “новой”, утверждая при этом, что ее история начинается с ранних работ М.М. Бахтина.19 Новизна аспекта исследования приводит не к рождению новой филологии, а только к появлению новой теоретико-литературной установки. Но даже и в этом отношении можно ли говорить о принципиальной новизне того, что предлагает В.В. Федоров? Родословная актуальной для В.В. Федорова филологии начинается, конечно, не с М.М. Бахтина. Ошибка в хронологии у В.В. Федорова вызвана общим для всех нас недостатком: недооценкой одного удивительного в истории эстетики и теории литературы периода, имплицитная смысловая полнота которого оказала решающее воздействие на все наиболее значимые направления сегодняшнего теоретического литературоведения. Я, разумеется, имею в виду немецкую эстетику и теорию литературы первой трети XIX века (то же касается и лингвистики, но об этом должен вести речь другой человек). Примеров плодотворного воздействия этого периода так много, что их не исчерпать не только в небольшой книге, но и в самой обширной монографии. Приведу лишь один. Важным моментом, равно актуальным для Ф. Шеллинга, Ф. Шлегеля и других романтиков, “было эстетически схваченное понятие целого. Как мир, по воззрению Шеллинга, есть художественное произведение, так и всякий продукт человеческого духа должен пониматься в качестве такового. Понятие же целого получает свое содержание в ходе известного логического процесса, проецируемого философией тождества на все явления”, в том 19 См.: там же. – С.8-9. числе, разумеется, и на поэтическое творчество. Сущность этого процесса, согласно В. Дильтею, удачно выразил Фридрих Аст: “Начало образования – единство, само образование – множество (противоположность элементов), полнота образования, или образованное – взаимопроникновение единства и множества, т.е. всеединство”20. Идея философии тождества, как ее сформулировал Фр. Аст, – почти родная всем, кто в последние сорок лет учился на филологическом факультете Донецкого университета, хотя имя Фр. Аста все они, за редким исключением, узнают из этой книги впервые. При этом чистота, ясность, отчетливость границ целого как эстетической данности – применительно к литературному произведению – была в Донецком университете, разумеется, утрачена. Отдавая должное названному периоду в истории развития немецкой философской и теоретико-литературной мысли, не стоит, однако, и преувеличивать его значение. Идея, популяризация которой на протяжении десятилетий осуществлялась в Донецком университете и которую так удачно задолго до этого сформулировал Фр. Аст, коренится в онтологии сщмч. Дионисия Ареопагита: “Подобным образом и Благость все к себе обращает и есть Начало собирания (ἀρχισυναγωγός) всех рассеянных, как начальная и единящая Божественность, к Которой всё стремится как к Началу, Связи и Завершению”21. Именно этой фундаментально-онтологической целокупности противостоит персонализм, возводя рассеяние в принцип. Филология, которую имеет в виду В.В. Федоров, ближайшим образом коренится в известном призыве Ф. Шлейермахера “понимать автора лучше, чем тот понимал сам себя”. Этот призыв конкретизируется таким образом: “…Толкователь, постоянно следуя за движением мысли автора, неизбежно выведет на уровень сознания многое, что до того, возможно, осталось неосознанным… Триумф упорной воссоздающей конструкции в Дильтей В. Собр. сочинений: в 6 т. – Т.4: Герменевтика и теория литературы / В. Дильтей. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – С.88. Пер. В.В. Бибихина. 21 Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии / Дионисий Ареопагит. – СПб.: Глаголъ, 1994. – С.100. – (Основания православной культуры). 20 том, чтобы вторгаться и в темные глубины бессознательных представлений писателя, воспроизводить его языковую сферу там, где он сам ее не осознал, прояснить его мыслительные ходы, когда их стремительность помешала им самим дойти до его сознания. И здесь тоже схватывание внутренней формы, подчинение всех деталей целому служит средством постижения тончайших оттенков”22. Средоточием же целого, его концентрированным центром – при таком подходе – является автор. В приведенном осмыслении В. Дильтеем идей Ф. Шлейермахера содержится многое из того, о чем пишет В.В. Федоров (“наивность, онтологическая непосредственность” автора; филолог как “автор в его рефлексии на свое бытие” и т.д.23). При этом никто, разумеется, не утверждает, что М.М. Бахтин, а позднее В.В. Федоров просто повторяют идеи Ф. Шлейермахера. О том, что именно во второй половине 1820-х годов формируется устойчивый интерес к проблеме автора, сохранившийся до наших дней, свидетельствует и другой факт. Эта проблема привлекла пристальное внимание литераторов, сотрудничавших в известной парижской газете “Глоб”. Из этого круга литераторов вышел знаменитый Ш.-О. Сент-Бёв, создатель биографического метода в литературоведении. Согласно ему, утверждает Г.К. Косиков, “не формальной, а подлинной, решающей субстанцией литературного (и шире – культурного) творчества является конкретная, индивидуальная личность самого творца”24. Внутреннее сродство этих двух направлений (теоретиколитературного персонализма и биографического метода), их принадлежность к одной традиции не должны быть упущены из виду: “Связать генетическим родством творца и его творение, увидеть в последнем объективированное инобытие авторского “я”,… – таков пафос литературно-критического метода…”25 – кого? О ком вы подумали? Вы ошиблись, речь идет о Ш.-О. Сент-Бёве. Там же. – С.142-143. См. также: Шлейермахер Ф. Герменевтика / Ф. Шлейермахер. – СПб.: Европейский Дом, 2004. – С.64. 23 Федоров В.В. Ук. книга. – С.12. 24 Косиков Г.К. Зарубежное литературоведение и теоретические проблемы науки о литературе / Г.К. Косиков // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. – М.: МГУ, 1987. – С.11. 25 Там же. 22 Вообще к любому принципиальному положению персонализма можно подобрать параллель у самого Сент-Бёва либо у его ученика и продолжателя Андре Моруа. Всем, кто хотя бы немного знаком с работами М.М. Бахтина, известно, насколько значима в его теории автора идея о “единственности и незаместимости моего места в мире”26. На свой лад о том же пишет Ш.-О. Сент-Бёв, полемизируя с И. Тэном: “…Лишь одна душа во всем XVII столетии была способна сотворить “Принцессу Клевскую”; иначе их появилось бы множество. Да и вообще, может существовать только одна душа, одна особенная форма человеческого духа, которой дано создать тот или иной шедевр”27. В свою очередь известное положение теоретиколитературного персонализма, гласящее, что автор воображается в своих персонажей, перекликается и с методологически важным для биографического метода признанием Г. Флобера (“Госпожа Бовари – это я”), и с характерным выводом А. Моруа относительно Бальзака: изображая Вотрена, он “весь как бы проникается… воинственным человеконенавистничеством. В эти минуты он словно становится Вотреном”28. Еще раньше, впрочем, о той же особенности поэтического искусства писал Джон Китс: “Садится солнце – и я преображаюсь, вспрыгнет воробей на подоконник – и я тут же, вселившись в него, принимаюсь склевывать зерна”29. Конечно, в отношении теоретической глубины перед нами явления совершенно разного порядка, что объясняется, в частности, наивной установкой представителей биографического метода не отделять человека от писателя. По этому поводу уже М. Пруст высказался достаточно определенно: “…Книга является продуктом Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1 / М.М. Бахтин. – М.: Русские словари, Языки славянской культуры, 2003. – С.104. 27 Сент-Бёв Ш.-О. Из работ разных лет / Ш.-О. Сент-Бёв // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. – С.49. Пер. В.П. Большакова, Г.К. Косикова. Многочисленные прекрасные образцы характерологии Ш.О. Сент-Бёва см. в кн.: Сент-Бёв Ш.-О. Литературные портреты. Критические очерки / Ш.-О. Сент-Бёв. – М.: Худож. литература, 1970; (напр., с.488-489, 494-498). 28 Моруа А. Литературные портреты / А. Моруа. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – С.175. Пер. Я. Лесюка. 29 Китс Д. Из переписки / Д. Китс // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: МГУ, 1980. – С.350. Пер. С.Э. Таска. 26 иного “я”, нежели то, которое проявляется в наших привычках, в обществе, в наших пороках”30. В работе “<К философии поступка>” М.М. Бахтин пишет: “То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может”31. К 20-м годам прошлого столетия эта мысль была уже простой тривиальностью, давно уже – достоянием беллетристики, что, впрочем, с не меньшим основанием следует отнести и к Ш.О. Сент-Бёву. Контекст, в котором должно быть осуществлено осмысление теоретико-литературного персонализма ХХ века, необходимо значительно расширить. Утверждение автора-творца в качестве конститутивного момента поэтического творчества было подготовлено разрушительной по отношению к христианской традиции деятельностью французских просветителей. При этом в числе первых необходимо упомянуть самого многостороннего, блистательного и остроумного из французов – я, разумеется, имею в виду Дени Дидро, несмотря на сказанное им устами Жака и как бы имеющее в виду все последующие “портреты” французского литературоведения: “…Но довольно портретов, сударь; я смертельно ненавижу портреты. <…> Они всегда так непохожи, что, если случайно встретишь оригинал, его никогда не узнаешь”32. За 140 лет до М.М. Бахтина и за 80 – до аналогичного высказывания Ш.-О. Сент-Бёва именно он сказал о рассуждении Руссо на тему, предложенную Дижонской академией: “Руссо сделал то, что и должен был сделать, потому что он – Руссо. Я же на его месте не сделал бы ничего или сделал бы нечто совершенно иное, потому что я – это я”33. Но и Дидро – не первооткрыватель этой идеи. Если справедливо, что вся новоевропейская культура – вплоть до ХХ века – это эксплицирование имплицитной полноты ренессансной культуры, мы нисколько не удивимся тому факту, что основная идея философии поступка М.М. Бахтина уже содержится в четырех строчках 121 сонета У. Шекспира, самого “возрожденческого” его сонета: Я – это я, а вы грехи мои Цит. по: Косиков Г.К. Ук. статья. – С.13. Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.39. 32 Дидро Д. Сочинения: в 2 т. – Т.2 / Д. Дидро. – М.: Мысль, 1991. – С.319. Пер. Г.И. Ярхо. 33 Там же. – С.350.Пер. К.А. Киспоева. 30 31 По своему равняете примеру. Но, может быть, я прям, а у судьи Неправого в руках кривая мера… (Пер. С.Я. Маршака). “No, I am that I am…” – сказано у Шекспира. Я есть тот, кто я есть, следовательно, только из этого единственного “есть” я и могу быть понят. Готовые шаблоны и меры сами должны пройти проверку на соответствие тому, что они призваны оценить. В беллетристике к началу ХХ века эта мысль не только оскудела, но выродилась до неузнаваемости. Владимир Санин с нескрываемой скукой (кто ж этого не понимает?) заимствованным голосом Ф. Ницше говорит Юрию Сварожичу: “Если бы возможно было миросозерцание как законченная теория, то мысль человеческая вовсе остановилась бы… Но этого нет: каждый миг жизни дает свое новое слово… и это слово надо услышать и понять, не ставя себе заранее меры и предела”34. “I may be straight”, – говорится в сонете Шекспира. “Я, может быть, прям”, но также: “я, может быть, честен (искренен, верен)”. Все это, согласно Шекспиру, является необходимым условием права человека на “самостоянье”, тогда как для выхватившего из Ф. Ницше отдельные мысли Санина никаких таких условий не требуется: миг жизни a priori оправдан, каким бы он ни был: шаблонов и мер не существует вообще. Тем самым обозначен предел, к которому стремится утративший онтологическое миропонимание новоевропейский индивид: Геракловы столпы европейской истории. Мысль М.М. Бахтина типологически предшествует тому, что мы находим в романе М.П. Арцыбашева, при этом в понимании Бахтиным этой проблемы сохраняется утраченная биографическим методом глубина. Там, где Ш.-О. Сент-Бёв лишь повторяет то, что воспринималось когда-то как откровение, М.М. Бахтин не ставит точку, но продолжает: “Единственность наличного бытия – нудительно обязательна. Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а Арцыбашев М.П. У последней черты. Санин: Романы / М.П. Арцыбашев. – М.: Ассоциация “Книга. Просвещение. Милосердие”, 2000. – С.595. Слово, которое является ключевым для понимания глубинной сущности подлинного Ренессанса. 34 единственным образом признается и утверждается”35. Приведенное концентрированное выражение сущности бахтинской философской антропологии, конечно, находится за пределами актуального для Ш.-О. Сент-Бёва языка. Связанный с немецкой герменевтикой, теоретиколитературный персонализм ХХ века представляет собой ее модификацию, причем такую, в которой сохраняется трансцендентальная онтологическая перспектива, в отличие от утратившей таковую, ориентированной на здравый смысл, его вкусы и интересы биографической школы. Биографический метод – это популярный, рассчитанный на широкую читающую публику вариант теоретико-литературного персонализма. Тем не менее, манкировать Ш.-О. Сент-Бёвом, а тем более обижаться на сопоставление с ним никому не следует. Напомню, что книга “Lettres а la Princesse par C.-A. Sainte-Beuve...”, вышедшая в 1873 г., была последней, которую читал Ф.И. Тютчев: факт, сам по себе говорящий о многом.36 Одна из важнейших особенностей теоретико-литературного персонализма, для которой, впрочем, тоже можно легко найти параллель в работах, принадлежащих биографической школе, – это стремление всю онтологическую проблематику втиснуть в границы персоналистской парадигмы, так что и Бог, и Слово, которое было “в начале”, предстают в перспективе от автора-творца (узловой для персоналистов категории) и начинают действовать по его законам, поскольку “все возможное бытие и весь возможный смысл располагаются вокруг человека как центра и единственной ценности; все – и здесь эстетическое видение не знает границ – должно быть соотнесено с человеком, стать человеческим”37. Что персоналистская установка не знает здесь границ, становится универсальной (как универсальна она для В.В. Федорова в его понимании филологии), подтверждает выступление М.М. Бахтина 1 ноября 1925 г.: “Не квалифицированное сознание есть субъект Откровения, не единое сознание, а все сознания в единичности их; Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.39. См.: Федор Иванович Тютчев: в 2 кн. – Кн.2. – М.: Наука, 1989. – С.646. – (Лит. наследство; т.97). 37 Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.56. 35 36 персональность Бога и персональность всех верующих есть конститутивный признак религии…”38 Совокупность сознаний в их единичности никаким субъектом Откровения, конечно, не является, но разве что какого-нибудь собрания по поводу Откровения. Здесь вспоминается один разговор А.Ф. Лосева с отцом Павлом Флоренским: “Я, например, помню, когда открылась так называемая “живая церковь”, я с ним встретился в Посаде и спрашиваю: как вы относитесь к этому явлению? Он раздраженно обрезал: “Да вот только не хватает, чтобы мы с вами устанавливали тут всякие точки зрения”39. Закономерным в контексте приведенного выше рассуждения М.М. Бахтина является следующий его вывод: “Молчаливой предпосылкой ритуализма жизни является вовсе не смирение, а гордость. Нужно смириться до персональной участности и ответственности”40. Поскольку речь идет о ритуализме вообще, а не об официозном псевдоритуализме, мы сразу же вспоминаем, что М.М. Бахтин сущностно связан не только с европейским персонализмом, но и с культурой русского серебряного века, для которого как раз характерно было пародирование ритуала, “перемена знака при тождестве тем”41. Как нужно было страдать в условиях тотального идеологического диктата, чтобы прийти к выводу, что во мне есть избыток, который даже Бог вместить не может. О том, с каким смысловым контекстом связано это индивидуалистическое выпячивание своего ‘я’, говорит апостол: “Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон” (Рим. 2: 14). Не нужно обольщаться. За пределами новозаветного Благовествования нет и не может быть никакой более совершенной духовности (будь то персонализм или, к примеру, феноменология). За этими пределами либо язычество, либо неоязычество, которое отличается от первого тем, что сознательно отреклось от Истины, тогда как первое к ней просто еще не приобщалось. Там же. – С.342. Лосев А.Ф. Вспоминая Флоренского… / А.Ф. Лосев // Литературная учеба. – 1988. – №2. – С.178. 40 Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.48. 41 О Блоке // Литературная учеба. – 1990. – Кн.6. – С.94. 38 39 М.М. Бахтина извиняют 1929 и последующие годы страданий (главным образом, конечно, нравственных – об их степени мы даже догадываться не можем), тогда как мы, в наше время бездумно повторяя те же мысли, просто богохульствуем. Приведенные выше суждения М.М. Бахтина никакого отношения к православной традиции не имеют, поскольку генетически связаны с безблагодатным “индивидуалистическим протестантизмом”42 позднего Ренессанса, следовательно целиком – и сущностно, и хронологически – остаются в границах парадигмы, актуальной для новоевропейского мышления. При этом бахтинский персонализм уходит далеко не только от установки классического Ренессанса на гармонию человека и Бога, но даже от просветительского деизма. Марсилио Фичино, которого А.Ф. Лосев склонен считать живым олицетворением всего лучшего, что было в Ренессансе 43, в 1462 году пишет Леонардо ди Тоне: “…Поскольку все вещи причастны благу, так как их начало, конец и центр – Бог, высшее Благо, оказывается, что движение, порождаемое любовью, охватывает все сущее”44. М.М. Бахтин, как мы помним, говорит о совсем другом центре. Понимание им Бога как всего лишь одного из субъектов Откровения остается где-то посредине между Дидро – автором “Философских мыслей” с их исповеданием веры и утверждаемом ими “бытии всемудрого Существа”45, дарующего человеку разум, следовательно, источника подлинного бытия и для человека46, и Дидро – автором пародийной “Молитвы”, уверенном, Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – С.54. “…Если говорить кратко об эстетике Высокого Ренессанса, можно просто указать на Платоновскую академию и на Марсилио Фичино и этим ограничиться” (Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – С.386). Заметь: отнюдь не на растиражированного современной массовой культурой Леонардо да Винчи. 44 Фичино М. Письмо Марсилио Фичино к Леонардо ди Тоне / М. Фичино // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М.: МГУ, 1985. – С.215. Пер. О.Ф. Кудрявцева. 45 Дидро Д. Сочинения: в 2 т. – Т.1. – С.168. Пер. Б.С. Румера. 46 “…Один только разум создает верующих” (там же, с.185), – поскольку для Дидро только в разуме и разумом осуществляется онтологическая связь человека и Бога. 42 43 что состояние человеческой нравственности нисколько не зависит от какого бы то ни было божественного влияния47. Итак, может ли одна из модификаций одного из теоретиколитературных направлений, зародившегося без малого двести лет тому назад, и не выходящая в целом за пределы новоевропейской опредмечивающей установки, претендовать на статус “новой” филологии? “В чем заключается “филологичность” лингвистики и литературоведения?” – спрашивал В.В. Федоров в 1979 году. Даже к такой очень осторожной постановке проблемы советское литературоведение того времени не было готово (см. упомянутую дискуссию). Между тем за 105 лет до В.В. Федорова в ситуации более обнадеживающей для филологии, еще не скованной идеологическими рамками, Ф. Ницше ставит проблему гораздо более фундаментально: “Думают, что подходит конец филологии – а я думаю, что она еще не начиналась”48. Это значит: прежде чем искать “филологичность” в лингвистике и литературоведении, нужно для начала спросить, являются ли они по своей сути “филологичными”. В самом деле, почему мы уверены, что лингвистике и литературоведению a priori свойственна “филологичность”? Только потому, что это “факт”, т.е. то, что засвидетельствовано современными учебниками? Но мы-то знаем, что факты бывают разного рода, их можно принимать или не принимать, поскольку они вовсе не обязательно – бытие, с которым не спорят. К тому же и в учебниках не всегда так писали. Ф.И. Буслаев в своей замечательной книге о преподавании родного языка (1844 г.) вслед за Я. Гриммом решительно разграничивает филологию и лингвистику49, и нужно еще доказать, что он менее глубоко понимал проблему, нежели тот или другой ученый второй половины ХХ века. Создается впечатление, что лингвистика застолбила территорию, а теперь не уступает ее, ссылаясь на прецедент. То же, впрочем, хотя это и менее очевидно, касается литературоведения. См.: там же. – С.377-378. Ницше Ф. Мы филологи // Философия в трагическую эпоху / Ф. Ницше. – М.: REFL-book, 1994. – С.275. 49 См.: Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка / Ф.И. Буслаев. – М.: Просвещение, 1992. – С.28 – 29, 73 – 79. 47 48 Филология, забывшая, что она филология и отождествившая себя с лингвистикой и литературоведением, напоминает путника, о котором говорится в приведенном в качестве эпиграфа отрывке из стихотворения О.Г. Чухонцева. Согласно Я. Гримму и Ф.И. Буслаеву филологическим является только такое изучение языка, когда язык понимают как средство к изучению литературы.50 Из этого можно сделать вывод, что и теория словесности для Ф.И. Буслаева по определению является филологией. В таком понимании филологии, конечно, больше смысла, нежели в том, как трактуют ее в настоящее время. И все же даже спустя тридцать лет после выхода книги Ф.И. Буслаева, когда теория словесности достигла новых вершин в своем развитии, Ф. Ницше категорически отрицает ее филологический статус. Почему? Вот вопрос, который теория словесности никогда себе не задавала. Но что такое новая филология? Вопрос подразумевает, что будет дана характеристика этого нового состояния уже сугубо филологической мысли, а именно такой, которая исходит из факта своей любовной приобщенности к смыслу логоса в противоположность исследовательскому зуду классифицирующеконстатирующей теории литературы. Таким образом, вопрос подразумевает, что фундаментально-онтологическая сущность филологии будет осмыслена в границах этого второго подхода, озабоченного обобщением и упорядочиванием добытых знаний. Однако традиционный теоретико-литературный подход как раз ничего не знает и не может знать о том состоянии мысли, которое присуще филологии как таковой, поэтому неизбежно будет См.: там же. – С.28. Любовь – конститутивный момент филологии, то есть действенный момент филологического понимания, а не то, что можно спокойно вынести за скобки, приступая к “исследованию”. Изначальная фундаментальная онтология, осмысленная М. Хайдеггером, и тео-онтология, к примеру, сочинений сщмч. Дионисия Ареопагита при всем своем различии все же имеют и нечто общее: в частности, конститутивным моментом обеих не является человеческое субъективированное сознание в любом его проявлении. С этой точки зрения, мысль М.М. Бахтина, конечно, не онтологична. Различие же заключается в понимании Божественного начала и, соответственно, того, каким должен быть человек, чтобы стать сопричастником лада как со-присутствия Бога (богов) и людей. 50 характеризовать только самого себя и то, чем обусловлено его своеобразие, то есть свой предмет: опять текст в его лингвистической определенности, опять произведение в его эстетической завершенности, опять ситуацию диалога, уходящего в бесконечность. При этом понимание поэзии исключительно как мимесиса останется незыблемым, как бы ни стремилась дискредитировать это недоступное ее пониманию слово та же лингвистическая поэтика. Разговор о новой филологии не является новой филологией, но остается в границах традиционных подходов к поэтическому слову. Филология в ее подлинной сути есть эксплицирование поэтического смысла, отклик стихослагающей мысли на поэтическое стихослагание: его эхо. Поэтому вместо невозможного разговора о филологии следовало бы предложить попытку истолковывающе-филологического приобщения к поэтическому сказыванию. Такие попытки были предприняты мною в третьем разделе недавно вышедшей книги51 при истолковании онтологии поэтического творчества, поэтических родов, поэзии Ф.И. Тютчева. Задача, стало быть, заключается не в том, чтобы вести разговоры о филологии, но в том, чтобы приобщиться к ней как к реальности. Это может произойти лишь тогда, когда доступными для нас окажутся различия между - недоверием к слову лингвиста и литературоведа и доверием к нему филолога; - интересом к мертвым языкам и любовью к живому слову; - функциональным языком и языком в его онтологическом проявлении; - однозначным или стремящимся к однозначности понятием и именем с его неисчерпаемой смысловой глубиной; - миметическим во-ображением и онтологическим приобщением; - представляющей и вопрошающей мыслью; - интерпретацией и толкованием; - установленной правильностью и дарующей бытие Истиной. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании / А.В. Домащенко. – Донецк: ДонНУ, 2007. 51 Пока все эти различия не только не осмыслены, но даже не поставлены как проблемы, филология “не начнется”. ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛОЛОГИЕЙ? В своих границах он один из великих критиков, и велик он отчасти потому, что их придерживается. Т.С. Элиот Теория литературы, основоположения которой не стали предметом рефлектирующего духа, “не достигает ни различения (Unterscheidung) внутри себя, ни ясности знания себя самой”, поэтому “остается лишенной сознания ночью (bewußtlose Nacht)”52. Тот, кто настаивает на “единстве” теории литературы, de facto исходит из убеждения, что “лишенная сознания ночь” является ее основополагающим признаком. Единый понятийный язык сохраняется не только в пределах разных направлений одной какой-либо естественной науки, но и в пределах разных естественных наук, тем не менее, мы не затрудняемся с их различением. В пределах же разных теоретико-литературных дискурсов изменяется не только предмет исследования, но сам понятийный язык становится принципиально другим: достаточно сравнить понимание внутренней формы слова представителями эйдосного и персоналистского дискурсов53. То же можно сказать и об очень многих других понятиях. Так где оснований для разграничения больше? Когда мы поднимаем такой сущностный вопрос, как соотношение современной теории литературы и филологии, мы должны каждый раз уточнять, в пределах какого теоретиколитературного дискурса ведем разговор. То же самое нужно делать, когда мы говорим о стиле, метафоре и т.д. Вопрос о реальности филологии, следовательно, о ее сущности связан с вопросом о сущности поэзии. Если сущность поэзии пытаются усмотреть в тексте, в литературном произведении Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Сочинения. – Т.IV / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Изд-во соц.-эконом. лит., 1959. – С.363. Пер. Г. Шпета. 53 См.: Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.100-101. 52 или в романной разноголосице как инобытии автора-творца, никакой потребности в филологии, которая отличалась бы от сложившейся к настоящему времени академической теории литературы, нет и быть не может. Но это значит, что сущность поэзии продолжают понимать как то, что подлежит рассудочному анализу, либо как то, что открывается наглядному представлению, или, в-третьих, рациональному познанию, которое последовательно противопоставляет себя всякому “свободному мыслительству”54. Между тем ни один из этих подходов к поэзии не догадывается, что сущность ее есть тайна, поэтому и помыслить ее как тайну не может. Почему не догадывается? Потому что в пределах каждого из этих подходов мысль – предметна, тайна же – никогда не предмет ни эмпирического анализа, ни чувственного созерцания, ни рационального абстрагирования. Для эмпирического анализа, доверяющего лишь здравому смыслу, тайна – всего лишь недоразумение, порожденное суеверием. Чувственное созерцание воспринимает тайну как чудо, которое может стать путеводной нитью к тайне, но может и закрывать путь к ней, если стремится подменить ее собою, поскольку само по себе чудо – не тайна, но только ее отблеск. Не существует тайны и для оптимистически-ограниченного рационального мышления. Оно уверено, что не знает лишь то, что пока еще не познано, область же пока еще не познанного неуклонно сужается благодаря триумфальному шествию наук. Убежденность, что за пределами рационального мышления сразу же начинается “свободное мыслительство” и что соотносятся они по принципу “tertium non datur”, порождена слишком упрощенным представлением о человеческой мысли и ее возможностях. “Свободное мыслительство” остается в пределах той же парадигмы, что и дисциплинированный рационализм; это его alter ego, его движущая сила, не позволяющая ему закоснеть в механическом повторении одних и тех же мертвых формул, т.е. “не погибнуть перед истиной” (Ф. Ницше), разумеется, той “истиной”, которая доступна его представляющему пониманию. Сущность филологии есть тайна, поскольку тайной остается сущность логоса: этой тайной изначально обусловлена сущность Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него // Сюжеты русской литературы / С.Г. Бочаров. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С.489. 54 филологии. Филологом, следовательно, является тот, чье мышление исходит из этой тайны и эту тайну разгадывает. Такое мышление никогда не бывает произвольным, поскольку исходит не из интенций субъективированного сознания, весьма изменчивого, но из нашей способности духовно возрастать в тайне и ответственно ее вопрошать. Только такое мышление, а не “свободное мыслительство”, является действительной альтернативой рационализму. Из всего сказанного следуют три вывода. 1. Реальность литературоведческой грамматики не является реальностью филологии. Анатомируя слово, ты труп рассекаешь бездушный, Жизнь и красу не задев скальпелем грубым своим. Ф. Шиллер, И.В. Гёте В истолковании стихотворения Ф. Гёльдерлина “Возвращение на родину / Сородичам” М. Хайдеггер пишет: “Doch ein Geheimnis wissen wir niemals dadurch, daß wir es entschleiern und zergliedern, sondern einzig so, daß wir das Geheimnis als das Geheimnis hüten”55. “Все же мы никогда не познаем тайну, снимая с нее покров и расчленяя (анализируя) ее, но только сохраняя (оберегая) тайну как тайну”. Расчленять, т.е. анализировать, можно только мертвое. Таким мертвым объектом, приготовленным для расчленения, является текст, понятый как самодостаточное целое. Убежденность, что филология началась с изучения мертвых языков56, ошибочна. С изучения мертвых языков началась литературоведческая грамматика, но даже и в таком виде это суждение верно лишь отчасти. Литературоведческая грамматика и живые языки успешно делает мертвыми и только после этой предварительной процедуры начинает их изучать. Так поступил бы какой-нибудь египтолог, который, вооружившись методами своей науки и не выходя за их пределы, стал бы изучать современную живую культуру. Современная живая культура без всякого изучения нам понятнее, чем египетская – самому крупному ученому после многолетних исследований. Но разве этому непосредственному пониманию сразу же, как только оно выходит за пределы здравого смысла, не Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / М. Хайдеггер. – СПб.: Академический проект, 2003. – С.44. 56 См.: Гаспаров М.Л. Филология как нравственность / М.Л. Гаспаров. – Литературное обозрение. – 1979. – №10. – С.27. 55 открывается его удручающая малость? Живое потому и неисчерпаемо, что никогда не ограничивается сиюминутной текущей действительностью, но вбирает в себя все, что присуще было человечеству с самого начала и осталось живым вплоть до нашего времени. Смысловая полнота и глубина живого никогда не может быть охвачена никаким представляющим мышлением (будь то рационализм или “свободное мыслительство”); оно также не может быть предметом анализа. То или иное действительное понимание живого – рефлекс самой жизни, а не проявление внежизненной интеллектуальной способности. Соприродным познается соприродное: живым живое, внежизненным внежизненное. К тайне причастно только живое. Хотя представители литературоведческой грамматики по инерции порой употребляют словосочетание “органическое целое”, но смысл его им, конечно, уже недоступен. Это словосочетание уместно лишь тогда, когда речь идет не о тексте, но о произведении. Произведение – это выведение в наглядном представлении живого образа живой реальности, в котором преодолевается характерная для непритязательной повседневности разъединенность видимости и сущности. Вот почему давно уже ставшее привычным словосочетание “текст художественный”57 – contradictio in adjecto. Текст в образе не нуждается, следовательно, и не может непосредственно рассматриваться как художественный. Он может быть только текстом художественного произведения. Понимание текста как самодостаточной данности всегда подразумевает принципиально неэстетический подход к нему. Этот словесный гротеск (“текст художественный”) не режет слух только в пределах литературоведческой грамматики – именно потому, что она, будучи доэстетической по своей сути, не знает и не может знать, что такое художественность. “Лингвистика, – пишет М.М. Бахтин, – имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто лингвистического анализа не вытекает”58. Взгляд на литературу сквозь текст, конечно, не может привести нас ни к пониманию ее художественности, ни к См., напр.: Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – С.260-262. 58 Бахтин М.М. 1961 год. Заметки // Собр. сочинений: в 7 т. – Т.5 / М.М. Бахтин. – М.: Русские словари, 1997. – С.334. 57 приобщению к ее онтологической сущности, о чем, непроизвольно проговариваясь, свидетельствует автор упомянутой словарной статьи: “Художественная литература не объясняет и не анализирует мир, а создает эстетическую реальность из небытия”59. Приведенное суждение не только по отношению к произведению, но даже по отношению к любому тексту, не обязательно “художественному”, несправедливо, поскольку любой текст не из небытия возникает, но из присутствующих в языке и хранимых в нем тысячелетиями живых смыслов. Впрочем, чтобы так помыслить текст, необходимо эти смыслы понять как онтологическую (то есть именно бытийную) данность, а не как то, что “существует только в авторском воображении”. А если эти смыслы не порождаются впервые из ничего в авторском воображении, а “опредмечиваются писателем в тексте”60, тогда, стало быть, не из небытия же они приходят? Бытие – это слово, которое явно не входит в тезаурус литературоведческой грамматики, для нее это слово – иностранное, и что с ним делать, она по большому счету не знает. Никто не спорит, что именно такой эмпирической реальности, которая открывается нашему внутреннему созерцанию при чтении того или иного романа, действительно, нигде, кроме как в этом романе, нет, но кто сказал, что этой эмпирической реальностью с ее героями и событийными рядами исчерпывается все бытие, поэтому, дескать, и возникнуть она может только из небытия? В этом признании за человеком возможности из небытия творить бытие вполне очевидно просматривается выродившееся, упрощенное до последней степени человекобожество новоевропейской культуры. В конце июня 2004 года на теоретическом семинаре в Донецком университете прозвучали обращенные ко мне слова об опасности поглощения человека бытием. До этого семинара, кажется, никем не ставилось под сомнение, что поглощает небытие, тогда как бытие, напротив, дает жизненную силу. На самом деле боязнь бытия возникает лишь в том случае, когда бытие и небытие поменялись местами. Эта подспудная или даже ясно артикулированная тяга представителей литературоведческой 59 60 Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. – С.260. Там же. грамматики к мертвому, к небытию, этот их безотчетный страх перед бытием наводят на размышления. Тире и дефис не различаются в рукописном тексте. Но стоит отправить текст в набор, как их различие становится актуальным. Вот на каком микроскопическом уровне обретают значимость внутритекстовые отношения. Попытки в этот микроскопизм втиснуть художественность, диалог, онтологию – это и есть проявление “мыслительства” в самом рассудочном и “точном” направлении современной теории литературы. Осознание каким бы то ни было теоретиком литературы границ актуального для него дискурса само по себе является свидетельством его незаурядности. А ведь можно всю жизнь писать о романе, диалоге и целостности, цитировать Гегеля и Бахтина и при этом по сути своей оставаться представителем литературоведческой грамматики: проблема самоидентификации, блуждания на пути к самому себе, очень часто – самом долгом и трудном пути. “Γράμμα ’αποκτέννει”, – говорит апостол (2 К 3: 6). “Буква убивает”. Вот почему вопрос о сущности поэзии и, соответственно, о сущности филологии ни при каких условиях не может быть помыслен в границах литературоведческой грамматики. Тогда, возможно, этот вопрос может быть поставлен и решен в границах эйдосного дискурса, обращенного к живому и наполненного живым смыслом, а не рассудочными дефинициями? 2. Реальность эйдосной теории литературы не является реальностью филологии. Гамлет – он жив или мертв? Конечно, он умер. И все же Жив до сих пор… Как тут быть? Ну-ка, филолог, ответь. В статье М. Хайдеггера “Гёльдерлин и сущность поэзии” сказано: “So scheint das Wesen der Dichtung im eigenen Schein ihrer Außenseite zu schwanken und steht doch fest. Ist sie ja doch selbst im Wesen Stiftung – das heißt: feste Gründung”61. “Таким образом, сущность поэзии, как она проявляется в отчужденной видимости ее собственной внешней стороны, кажется зыбкой и все же она остается непоколебимой”. Внешней стороной поэзии для Хайдеггера является то, что в границах эйдосного теоретико-литературного дискурса понимают как внутреннюю форму поэтического произведения – его эстетическую, явленную наглядному представлению данность. 61 Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. – С.88. Именно в ней Гегель усматривал сущность поэзии: “То, что в изобразительных искусствах составляет чувственно видимую форму, выраженную камнем и красками, что в музыке является одухотворенной гармонией и мелодией, а именно внешний вид, в котором художественно проявляется содержание, для поэтического выражения может быть дано, как само представление – нам вновь приходится к нему вернуться. Итак, сила поэтического творчества заключается в том, что поэзия формирует себе внутреннее содержание, не переходя в область действительных внешних форм и развития мелодии и тем самым превращает внешнюю объективность прочих искусств во внутреннюю – дух раскрывает ее для представления в том виде, в каком она дана в духе и должна в нем остаться”62. Поэзия для Гегеля – явленность идеи в чувственном представлении; никакого другого ее определения у него нет, поскольку он мыслит ее сугубо эстетически. При этом следует, наконец, обратить внимание, что в отличие от изобразительных искусств и музыки, в которых внешний вид, доступный физическому зрению и слуху, является тем, в чем непосредственно “художественно проявляется содержание”, в поэзии внешний вид такой непосредственно-эстетической значимости лишен. Вот почему наши рассуждения, к примеру, о звукообразе или “эстетике стиховых форм”, с точки зрения самой эстетики, являются полной нелепостью, обнаруживающей лишь нашу неспособность постичь смысл именно эстетического разделения разных видов искусства. Когда мы в повторении тех или иных слогов в стихотворении пытаемся усмотреть непосредственное проявление поэтического смысла, мы обретаем не путеводную нить, но оказываемся, напротив, в лабиринте, из которого прямого выхода к поэтическому смыслу нет. Нет по той простой причине, что слово в его лингвистической данности – это не живописная краска и не музыкальный звук: художественно содержание в нем непосредственным образом не проявляется, следовательно, не проявляется никак, поскольку, согласно эстетическим основоположениям, в поэтическом произведении содержание может проявиться только художественно. Художественно Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3 // Сочинения. – Т.14 / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Изд-во соц. – эконом. лит., 1958. – С.194. Пер. П.С. Попова. 62 содержание поэтического произведения, утверждает Гегель, проявляется только в чувственном представлении, для которого слово в его лингвистической данности является лишь средством. Таким образом, пресекаются всякие претензии литературоведческой грамматики на ее приобщенность к проблематике эстетического или, тем более, онтологического порядка. Это значит, что определенное соотношение “устойчивых” и “неустойчивых” гласных в стихотворении Ф.И. Тютчева “О чем ты воешь, ветр ночной?..” или повторение слогов “на” и “ми” в его же стихотворении “День и ночь” указывают только на самих себя, то есть на соотношение “устойчивых” и “неустойчивых” звуков и на повторение названных слогов – никакой другой научной мудрости в такого рода установленных фактах нет. Приписывание им эстетического или онтологического смысла – это пример астрологии в теории литературы. Значит, литературоведческая грамматика в принципе не научна? Ее научность ограничена самим фактом наличия “устойчивых” и “неустойчивых” звуков и на этом заканчивается. Астрология начинается, когда пытаются раздвинуть границы такого рода установленных фактов в область эстетики или онтологии. То, что здесь определено как астрология, М.М Бахтин в своем осмыслении грамматического литературоведения называет контрабандой. Не в закоулки тех или иных звуковых сочетаний, а на “Прямую улицу” (Деян. 9: 11) нужно пойти, чтобы прозрели глаза и смогли увидеть явленную непосредственно сущность поэзии. Является ли эстетический подход к поэзии такой Прямой улицей, на которой нам, подобно Тарсянину Савлу, ставшему Павлом, откроется то, что недоступно физическому зрению? Да, если мы не будем различать ποιητικὴ τέχνη и ποίησις. Но правомерно ли не замечать этого различия? С гегелевским пониманием поэзии вступает в противоречие приведенное выше суждение М. Хайдеггера. Именно в наглядном представлении, в чувственном явлении, согласно М. Хайдеггеру, сущность поэзии зыблется, как солнечные блики на поверхности воды, не обретая устойчивости, поскольку чувственное представление, будучи – для эйдосного дискурса – внутренней формой произведения, остается при этом все же лишь внешней стороной, “das befremdlich Bild”63, в котором непосредственно, вопреки мнению Гегеля, сущность поэзии не проявляется. В свою очередь теоретико-литературный персонализм, исходя из собственных основоположений, не просто вторит М. Хайдеггеру, но идет гораздо дальше, радикально отвергая подлинную приобщенность художественного образа к живой жизни. “В чем умерщвляющая сила художественного образа?” – спрашивает, как о чем-то само собой разумеющемся, М.М. Бахтин и отвечает: “…Обойти предмет со стороны будущего, показать его в его исчерпанности и этим лишить его открытого будущего, дать его во всех его границах, и внутренних и внешних, без всякого выхода для него из этой ограниченности, – вот он весь здесь и больше его нигде нет; если он весь здесь и до конца, то он мертв и его можно поглотить, он изъемлется из незавершенной жизни и становится предметом возможного потребления; он перестает быть самостоятельным участником события жизни, идущим рядом дальше, он сказал уже свое последнее слово, в нем не оставлено внутреннего открытого ядра, внутренней бесконечности. Ему отказано в свободе, акт познания хочет окружить его со всех сторон, отрезать его от незавершенности, следовательно, от свободы, от временного и от смыслового будущего, от его нерешенности и от его внутренней правды. То же делает и художественный образ, он не воскрешает и не увековечивает его для него самого (но для себя). <…> …Ему предписывают извне, кем он должен быть, его лишают права на свободное самоопределение, его определяют и останавливают этим определением”64. Художественный образ, которому отказано в приобщенности к живой жизни, конечно, не может претендовать на непосредственное выявление искомой сущности поэзии (при этом мы пока оставляем в стороне вопрос о правомерности этой критики). Тогда, может быть, сущность поэзии непосредственно открывается персоналистскому дискурсу, который редуцирует отчуждающий образ до воплощенной в нем ситуации общения, понимаемого как диалог? Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. – С.226. Бахтин М.М. <Риторика, в меру своей лживости…> // Собр. сочинений: в 7 т. – Т.5 / М.М. Бахтин. – С.65. 63 64 3. Реальность персоналистской теории литературы не является реальностью филологии. Я пообщаться люблю – с тобою, мой друг закадычный, А вот вступать в ДИАЛОГ – Боже, меня упаси. В предисловии к книге “Разъяснения к поэзии Гёльдерлина” М. Хайдеггер пытается наметить возможные подходы к ней: “Die Erläuterungen gehören in das Gespräch eines Denkens mit einem Dichten, dessen geschichtliche Einzigkeit niemals literarhistorisch bewiesen, in die jedoch durch das denkende Gespräch gewiesen werden kann”65. В переводе Г.Б. Ноткина этот фрагмент звучит так: “Разъяснения относятся к диалогу мышления и поэтического творчества; историческая исключительность того и другого никак не может быть историко-литературно доказана, тем не менее на нее может быть указано в мыслящем диалоге”66. Доверившись переводу, мы можем утверждать, что здесь, в этом суждении, онтологически фундированная филология М. Хайдеггера еще раз встречается с теоретико-литературным персонализмом М.М. Бахтина, согласно которому именно в диалоге как раз и открывается непосредственным образом сущность поэзии, что в свою очередь не может не означать, что в нем же, то есть в диалоге, заключена искомая сущность филологии: “Понимание целого высказывания всегда диалогично”67. Не будем забывать, что целое высказывание для М.М. Бахтина – это в том числе любое поэтическое произведение. ‘Диалог’ является важнейшим словом бахтинского персонализма, так что даже и согласие для него хоть и важнейшая, но все же только “диалогическая категория”68. Диалог, таким образом, оказывается родовым именем для всех видов общения. А если это так, то никаких других взаимоотношений, кроме как диалогических, между поэзией и филологией не может быть в принципе. Филология, стало быть, – это способность помыслить поэзию диалогически? Даже если бы поэзия, как, например, теоретико-литературный персонализм, была явлением сугубо новоевропейским, мы и тогда вряд ли согласились бы с таким выводом. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. – С.6. Там же. – С.7. 67 Бахтин М.М. 1961 год. Заметки // Собр. сочинений: в 7 т. – Т.5 / М.М. Бахтин. – С.336. 68 Бахтин М.М. Достоевский. 1961 г. // Там же. – С.364. 65 66 В эписодии втором трагедии Еврипида “Алкеста” Адмет в пространных сетованиях по поводу неизбежной смерти жены, согласившейся умереть вместо него, в частности, говорит: εἰ δ’ Ὀρφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν, ὥστ’ ἢ κόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν ὕμνοισι κηλήσαντά σ’ ἐξ Ἅιδου λαβεῖν κατῆλθον ἄν...69 Если бы Орфея дар слова и песенный лад были мне присущи, так чтобы дочь ли Деметры или ее супруга, гимнами очаровав, тебя из Аида возвратить… Адмет мечтает с помощью гимнов очаровать (κηλέω) владык подземного царства. Это именно та способность, благодаря которой Орфей укрощал (κηλέω) зверей. Нелепо было бы предположить, что Орфей действовал на хищных зверей силою и убедительностью своего полемического искусства. Никаких диа-логических аргументов у Орфея (как и у Адмета) в его противостоянии Персефоне или ее супругу, конечно, нет. Но песня Орфея, поскольку она не аргумент в дискуссии, и не предполагает такой ответной диалогической реакции со стороны владык подземного царства. Песня, напротив, упраздняя саму возможность такой реакции, именно потому достигает цели. Песня учреждает такое состояние мира, когда возвращение Эвридики (или Алкесты) становится необходимостью, с которой должен считаться и которой должен подчиниться супруг Персефоны. Обратим внимание, что Адмет, будучи персонажем трагедии, а значит, представителем трагической эпохи, в такой способности песни нисколько не сомневается. Песня Орфея учреждает лад: гармонию со-присутствия богов и людей, в котором происходит не взаиморастворение божественного и человеческого, но “их – богов и людей – возвращение в собственную сущность”70. Это значит, что только в пределах лада как со-присутствия божественного и человеческого боги могут стать вполне богами, проявляясь в полном соответствии со своей сущностью, и, соответственно, люди – вполне людьми. Такое со-присутствие – явленная полнота бытия: самопроявление Evripides. Alcestis // Evripides. – Leipzig: BSB Verlagsgesellschaft, 1980. – P.16. 70 Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина. – С.221. 69 B.G. Teubner божественности божественного и человечности человеческого в их взаимосвязи. В этом отношении Геракл – полная противоположность Орфею. Явившись к Адмету, он пирует, нисколько не замечая царящей в доме скорби, так что даже слуга не удержался от осуждающего слова: …А этот просто Нас загонял… Ну, кончился обед – Берет он кубок ёмкий: чистым даром Земли его он наполняет черной И пьет, пока огонь вина по жилам Не побежал. Зеленой веткой мирта Тогда чело он увенчал хмельное И начал петь. То был какой-то лай…71 В подлиннике сказано гораздо резче: то была не песня, похожая на лай, но именно лай, в котором ничего не было похожего на песню: ...στέφει δε` κρᾶτα μυρσίνης κλάδοις ἄμους’ ὑλακτῶν...72 …венчает голову ветвями мирта, грубо (нестройно, негармонично) лая… Ἄ-μουσος ὑλαγμός – это буквально: ‘чуждый Музам лай’. Трудно предположить, что этот лай может при случае очаровать Персефону или ее супруга. Поэтому Геракл, будучи олицетворением трагической эпохи – такого времени, когда утрата песенного лада становится свидетельством утраты лада онтологического, рассчитывает на другие свои способности. Эти способности, на которые делает ставку Геракл, будучи артикулированными, ясно указывают, что равновесие соприсутствия божественного и человеческого уже разрушено, что неминуемо приводит к обоюдному искажению и божественного, и человеческого. Искажение, в частности, проявляется в том, что человек перестает подчиняться императиву человеческого, который был одним из важнейших зиждительных начал в пределах божественно-человеческого лада: μὴ μάτευε Ζεὺς γενέσθαι... θνατὰ θνατοῖσι πρέπει.73 Еврипид. Алкеста // Трагедии. – Т.1 / Еврипид. – М.: Искусство, 1980. – С.42. Пер. И. Анненского. 72 Evripides. Alcestis. – P.29. 71 Не домогайся стать Зевсом… Смертное смертным сообразно. Человек, дерзко вторгаясь в сферу божественного, титанически противостоит божественной мощи и мудрости, будучи вполне убежден в своей способности превозмочь их, при этом трагический персонаж почему-то одновременно совмещает в себе вполне комические черты. В самом деле, на что рассчитывает Геракл? Я в ризе черной демона, царя Над мертвыми, выслеживать отправлюсь, Его настичь надеюсь у могил… Я пряну из засады, обовью Руками Смерть. И нет руки на свете, Чтоб вырвала могучую, пока Мне не вернет жены…74 Неумение петь Геракл компенсирует хвастовством, которое особенно отчетливо ощущается на фоне высокого песенного строя предшествующей эпохи. Если же охота на Танатоса (как будто он заяц, а не исполнитель неумолимого рока) “не сладится”, Геракл, чья мудрость ни в коем случае не уступает гармонии его пения, предусмотрел другую возможность – и мы недооценили бы его, если бы усомнились в его способности сделать это: Я опущусь в подземное жилье, В тот мрачный дом царя глубин и Коры… Я умолю, уговорю богов; И мне дадут Алкесту…75 Мы видим, что Геракл рассчитывает вступить в диалог с властителями подземного царства и в ходе диалога найти такие аргументы, которые неминуемо должны привести его к успеху. Охота, конечно, “не сладится”, поскольку лад – не то, что устанавливается суверенной и дерзкой волей человека, какой бы физической мощью он ни обладал. Лад также никогда не результат полемической виртуозности того или иного участника диалога. Pindari carmina cum fragmentis. – P. I / Pindarus. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980. – P.175, 176; 14, 16. 74 Еврипид. Алкеста. – С.45. 75 Там же. – С.46. 73 Тем не менее, Геракл возвращает Алкесту мужу. Почему? Значит ли это, что все наши рассуждения оказались ошибочными? Нисколько. Трагическая эпоха в истории Греции представляет собой начало великой европейской эпохи, которая продлилась до наших дней. Это начало можно определить как καταστροφή, то есть как переход от закономерностей, выявляемых в песенном ладе, к закономерностям, которыми, в частности, определяется миметический жанр – трагедия. То, что титанически-трагический Геракл одновременно смешон, свидетельствует о происходящей в трагедии беллетризации онтологического события. Полубоги были изначально живыми олицетворениями лада как взаимопросветляющего со-присутствия божественного и человеческого. καταστροφή самым отчетливым образом проявляется в том, что именно полубог Геракл утратил способность хранить и зримо являть это со-присутствие, неизбежное следствие чего – утрата ощущения меры как божественного, так и человеческого. Поэтому божественное в его божественном существе, которое раскрывается лишь в соприкосновении с человеческим, для него уже сокрыто, и он самонадеянно может утверждать, что не существует такой силы, которая превозмогла бы его физическую мощь. Но и человеческое в его человеческом существе, которое раскрывается лишь в соприкосновении с божественным, для Геракла в той же степени закрыто, поэтому он не способен проникнуть в причину скорби, царящей в доме Адмета, пока слуга Адмета диалогически не объяснил ему ее. Диалог – это та область, которой очерчены умственные возможности Геракла, следовательно, его способность понимания. Одновременно мы убедились, что диалог генетически связан с трагической эпохой как временем утраты песенного лада; вот почему сущность поэзии, которая, конечно, выходит за пределы миметического искусства, непосредственно ему открыться не может. Поэзия по своей сути есть концентрированная явленность бытия (жизни, Истины), а с бытием не спорят, то есть не вступают в диалогические отношения. Поэзия не аргумент, а данность, к которой необходимо приобщиться так, чтобы наше сознание стало проявлением заключенного в ней смысла. Диалогические же отношения возникают не между поэзией и тем, кто ее воспринимает, а между теми, кто ее воспринимает и к тому же находится на разных ступенях приобщения к ней как к данности. Эти диалогические отношения часто остаются лишь фактами биографии дискутирующих. Возражая аббату Бремону, Т.С. Элиот со свойственной ему иронией говорит о попытках понять поэзию как “передачу сообщения”: “Мое первое опасение связано с утверждением, что “чем больше какой-либо поэт является поэтом, тем больше его мучает потребность передать кому-нибудь свое переживание”. Такое откровенное заявление легко принять на веру без обсуждения; однако вопрос этот не так прост, как кажется. Я бы сказал, что поэта мучает, прежде всего, потребность писать стихи…”76 “Передача сообщения, “коммуникация”, не объясняет поэзию”77, – делает вывод Т.С. Элиот, с которым нам остается лишь согласиться. Можно сказать иначе, но по существу то же самое: произведение, понятое как высказывание, то есть как реплика уходящего в бесконечность диалога, поэзию не объясняет. Но почему и М. Хайдеггер, и М.М. Бахтин, говоря о поэтическом творчестве, вспоминают о диалоге? Что касается М.М. Бахтина, ответ таится в принципиально не эстетическом его подходе к поэзии. В работе, получившей условное название “<К философии поступка>” и содержащей принципиальные для М.М. Бахтина положения его нравственной философии, говорится: “Акт нашей деятельности, нашего переживания, как двуликий Янус, глядит в разные стороны: в объективное единство культурной области и в неповторимую единственность переживаемой жизни, но нет единого и единственного плана, где оба лика взаимно себя определяли бы по отношению к одному единственному единству. Этим единственным единством и может быть только единственное событие свершаемого бытия, все теоретическое и эстетическое должно быть определено – как момент его, конечно, уже не в теоретических и эстетических терминах”78. Комментарий Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. – С.133-134. Пер. А.Л. Фельдберга. 77 Там же. – С.134. 78 Бахтин М.М. <К философии поступка> // Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1 / М.М. Бахтин. – С.8. 76 С.С. Аверинцева, относящийся к этому суждению79, может быть дополнен указанием на контекст, проясняющий содержание мысли М.М. Бахтина. Этот подразумеваемый контекст, с которым диалогически должно быть соотнесено приведенное суждение, – статья Г. Риккерта “О системе ценностей” (опубликована на немецком и русском языках в 1914 г.80). В статье одного из наиболее значимых для М.М. Бахтина немецких философов говорится, что наше отношение к благам, являющимся носителями ценностей, может быть либо созерцательным (логическая и эстетическая области, в пределах которых блага являются вещами и представляют собой предметы созерцания), либо действенным (область этическая, в пределах которой блага – это лица). “...Объединение логических и эстетических ценностей и отделение их от этических…, – полагает Г. Риккерт, – делает возможной их сверхисторическую, на все времена значимую классификацию…”81 Как раз в пределах этой сверхисторической классификации и движется мысль М.М. Бахтина. При этом он осуществляет резкую смену акцентов, когда эстетическую проблематику решительно переносит в этическую сферу “действенности”, совершая тем самым радикальную этизацию эстетической области. О том, что означенная этизация является сознательным актом, свидетельствует указание М.М. Бахтина, что в ее результате все эстетическое должно быть помыслено не в эстетических терминах. Начать нужно с того, что важнейшее слово М.М. Бахтина – ‘диалог’ – это не эстетическая категория. Непосредственно здесь перед нами, конечно, нравственная философия и лишь опосредовано – эстетика. Теоретико-литературная концепция М.М. Бахтина вырастает из этого основополагающего для нее факта. Не случайно поэтому основным предметом теоретиколитературного изучения для него стал роман – самый подозрительный в эстетическом отношении жанр. Мы возвратились, таким образом, к вопросу о границах эстетического – главному источнику путаницы в современной теории литературы. См.: там же. – С.441-443. См.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. – М.: Республика, 1998. – С.401. – (Мыслители ХХ века). 81 Там же. – С.373. 79 80 Ф. Ницше в работе “Мы филологи” утверждает, что “древность доступна только для немногих”, поэтому “не мешало бы учредить на этот предмет полицию нравов, как не мешало бы учредить таковую для ограждения от плохих пианистов, которые играют Бетховена”82. В наше время весьма полезным для теории литературы было бы запрещение даже упоминать эстетические проблемы всем, кто не проштудировал основательно “Эстетику” Г.В.Ф. Гегеля и не вник в ее содержание настолько, чтобы не искажать ее в своих интерпретациях. Почему литературоведческая грамматика доэстетична? В том, что этот вопрос вплоть до нашего времени остается не проясненным, частично виноват А.А. Потебня, обнаруживший в слове и, соответственно, в произведении две формы – внешнюю и внутреннюю. На самом деле форма в любом произведении искусства может быть только одна, поскольку это понятие – применительно к искусству – всегда подразумевает эстетически значимую оформленность. Если мы выделяем две формы, значит, неизбежно получаем в результате два произведения в одном. Почему бы из этого не сделать вывода, что из двух форм мы можем выбирать какую-то одну? Так и поступила литературоведческая грамматика, не устоявшая к тому же перед соблазном эту внешнюю “форму” осмыслить “эстетически”. Еще раз: в одном произведении может быть только одна форма. В музыке и живописи она имеет внешний характер, в поэзии – в сфере наглядного представления – внутренний. То, что А.А. Потебня назвал внешней формой поэтического произведения, – это внешнее средство для осуществления эстетически значимой формы. Вот почему любая модификация литературоведческой грамматики, неизбежно остающаяся на уровне этого внешнего средства и пытающаяся его осмыслить в духе структурализма, постструктурализма или семиотики, остается доэстетичной. Почему персонализм постэстетичен? Потому что он не игнорирует эстетически значимую внутреннюю форму произведения, но переосмысляет ее: на ее место он ставит авторатворца, своей активностью осуществляющего “эстетические (поэтические) законы”. Таким образом, проблематика переносится из эстетической сферы в действенную область, а сама деятельность 82 Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. – С. 319. автора, только по названию остающаяся эстетической, оказывается способом самопроявления названной области, приобретая при этом не непосредственно онтологический (что невозможно, когда на субстанциальность претендует тотальная субъективированность), а нравственно-этический характер. Вот почему поэтическое никогда не может стать здесь непосредственным предметом осмысления. Нравственная философия всегда была для М.М. Бахтина высказанным или потаенным главным предметом его размышлений, по отношению к которому все эстетическое и теоретико-литературное оставалось только вторичным. Факт этой вторичности, опосредованности эстетического (поэтического) как важнейший принцип рассматриваемого дискурса подтверждает современный его представитель: “…Только будучи социологическим, психологическим, экономическим и проч., литературоведческий анализ будет поэтическим. “Непосредственно” поэтическим он быть не может; опосредованное проявление поэтичности мира необходимо приводит к опосредованным способам ее анализа”83. В этом рассуждении роман заслонил собой всю мировую литературу. Впрочем, роману многое прощается, поскольку он всегда был в некотором смысле – parvenu, поэтому, например, в период классицизма, когда ценились хорошие манеры, а поэтическое (эстетическое) понимали как поэтическое (эстетическое), а не как то, что опосредовано экономическим анализом, на него посматривали искоса. Прежде, чем делать вывод о всякого рода неизбежных социологических или экономических опосредованиях при подходе к поэтическому, следовало бы опровергнуть все, что Г.В.Ф. Гегель говорит о “непосредственном поэтическом бытии”84, которое, именно потому, что оно “непосредственное”, ни в каких опосредованиях не нуждается. В отличие от романа, “первоначальная поэзия представления не распадается… на крайности обыденного сознания, облекающего для себя все в форму непосредственной и вместе с тем случайной единичности”85, Федоров В.В. О природе поэтической реальности / В.В. Федоров. – М.: Сов. писатель, 1984. – С.17. 84 Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3 // Сочинения. – Т.14 / Г.В.Ф. Гегель. – С.233. 85 Там же. – С.194. 83 поэтому при ее рассмотрении нет необходимости прибегать к социологическому, психологическому или экономическому анализу. Сказанное остается значимым для лирики, драматических, традиционных эпических жанров и в последующее время. Их можно, конечно, изучать социологически, но этот анализ так и останется социологическим, ни в коем случае не обретая статус непременного этапа на пути к пониманию собственно поэтической их природы. Но даже и в том случае, когда наш анализ направлен напрямую на поэтическое искусство, представленное в виде текста, произведения или высказывания, он никогда поэтическим, разумеется, не станет. Г. Риккерт пишет: “Пусть нам не возражают, что эстетическое суждение утверждает сопринадлежность формы и содержания. Суждения всегда теоретичны. “Эстетических суждений”, строго говоря, нет. То, что называется этим термином, есть в сущности теоретическое суждение об эстетической ценности”86. Та же логика остается в силе и при разговоре о возможности поэтического суждения или, тем более, анализа: такого суждения или такого анализа, “строго говоря”, не может быть. Рассуждения о возможности поэтического анализа свидетельствуют о том, что способность различения поэтического и непоэтического, эстетического и неэстетического утрачена, хотя именно об эстетической деятельности вроде бы идет речь. Критичное отношение М.М. Бахтина к эстетике объясняется тем, что она “монична” в отличие от “плюралистической” (Г. Риккерт) действенной сферы. От этого плюрализма уже рукой подать до полифонии. Осмысленный изнутри этой действенной сферы художественный образ, конечно, умерщвляет, но этим доказано только то, что художественное выведено за пределы эстетической области и, следовательно, искажено. Говорить о том, что художественный образ умерщвляет, поскольку оказывается вне бесконечного диалога, каковым в существе своем, согласно М.М. Бахтину, является жизнь, значит этически и к тому же исключительно персоналистски мыслить эстетическое. Совсем иное говорит сщмч. Дионисий Ареопагит: “…Можно и не разногласящие небесным образы восстановить даже из 86 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С.376. недостойнейших частей вещества, поскольку и оно, от истинной Красоты обретя существование, во всем своем вещественном устройстве отзвуки некие умной благосообразности имеет, поэтому возможным оказывается благодаря им возведение к 87 невещественным первообразам…” Если в образе присутствует отражение истинной Красоты – источника жизни вечной – значит, умерщвляет отнюдь не он, а тот, кто приписывает ему такое действие. Но если художественный образ исключен из диалога, значит ли это, что он одновременно исключен из всех видов общения? Если диалог – родовое имя для какого бы то ни было общения, мы обязаны на этот вопрос ответить положительно. Тем не менее, вполне очевидна абсурдность этого положительного ответа. “Гамлет” У. Шекспира, будучи художественной данностью, не умерщвляет воплощенное в нем содержание, но снова и снова на протяжении столетий порождает ситуацию общения, при этом ни в каком диалоге, предполагающем спор с ним, он, конечно, не нуждается. Родовым именем для всех видов общения диалог стал в Новое время, а именно в то собственно Новое время, когда “бытие как субстанция и субстанциальность” развернулось “до субъекта в его абсолютной субъектности”88. Этот переход привел, в конечном счете, к завершению онтологической мысли в истории западной метафизики: Тщась бытие распознать, бытием свою жизнь называешь? Нет уж, приятель, уволь: не обижай бытие. Концентрированным выражением сущности этого времени, когда онтологический контекст мысли был утрачен, является нравственная философия М.М. Бахтина. Что касается М. Хайдеггера, якобы также озабоченного диалогом, который ведет мышление с поэтическим творчеством, то нас ввел в заблуждение неточный, искажающий мысль немецкого философа перевод. Das Gespräch – это, конечно, не диалог, поскольку указывает на то состояние бытия, когда не абсолютная субъектность определяла его характер. Ключ к этому слову мы Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.24-26. Хайдеггер М. Тождество и различие / М. Хайдеггер. – М.: Гнозис, 1997. – С.34. Пер. А. Денежкина. 87 88 находим в переводе В.В. Бибихиным начала восьмой строфы гимна Ф. Гёльдерлина “Праздник мира”: Многое с утра, с тех пор как Беседой (ein Gespräch) стали мы и слушаем друг друга, Постиг уж человек; но (мы) почти и песня.89 Беседа – συμφωνία голосов беседующих, переходящая в песню, тогда как диалог – целиком противоположная песне διαφωνία (разнозвучие, разногласие), поэтому он ни в коем случае не может быть признан раз и навсегда данным родовым именем для всех видов общения, равно как и тем видом общения, в котором непосредственным образом выявляется сущность поэзии. Там, где бытие обладает возможностью проявиться в песенном ладе, там за дело берется Орфей, а не Геракл. Пора подвести итоги наших размышлений. Литературоведческая грамматика может сказать о сущности поэзии ровно столько, сколько могут сказать глиняные черепки о канувшей в небытие доисторической культуре. Никто ведь не говорит, что это – ничего. Эйдосная теория литературы может сказать о сущности поэзии ровно столько, сколько может сказать ποιητικη` τέχνη о ποίησις. В ποιητικὴ τέχνη, зыблясь, отраженным светом высвечивает существо ποίησις. Персоналистская теория литературы может сказать о сущности поэзии ровно столько, сколько может сказать о ней “действенная область” (Г. Риккерт). В этой области этики отраженным светом высвечивает сущность ποιητικη` τέχνη, в которой еще нужно усмотреть присутствие утаивающего указания на существо ποίησις. В свою очередь сущность ποιητικὴ τέχνη непосредственно заключена не в слове текста в его лингвистической, доэстетической данности, также и не в столкновении высказываний (“социальных диалектов”), раскрывающих идеологический, мировоззренческий контекст действенной сферы, но в образе: не убивающем жизнь, но иносказательно являющем ее смысл. Смысл этот, конечно, бесконечен, как бесконечен смысл тютчевского стихотворения “Silentium!” или шекспировского “Гамлета”. Не только ποίησις, но и Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – С.272. – (Мыслители ХХ века). 89 ποιητικὴ τέχνη посмеётся над каждым, кто станет уверять, что он “стукнулся о дно”, “поставил мертвую точку”. В отличие от названных направлений современной академической теории литературы филология – это способ самопроявления сущности ποίησις, а не разговор о специфике ее модификаций, вещь ли имеется в виду, представленная в виде текста, данное ли эстетическому созерцанию произведение или диалогическая ситуация общения, когда поэзия умаляется до высказывания. Филология говорит о сущности поэзии непосредственно, а не опосредовано. ИМЯ И ТЕКСТ Хотя этот логос [для всех] общий, толпа живет так, как будто имеет свое собственное разумение. Гераклит …Нужно иметь хоть в зачатке “Во Имя”, которое бы освещало путь и питало творчество. А.А. Блок Мы ведем разговор о трех теоретико-литературных дискурсах. Их количество не случайно, но обусловлено взаимодействием познавательной, этической и эстетической сфер в границах поэтического искусства. Каждая из этих сфер оказывается определяющей для одного из дискурсов: познавательная для литературоведческой грамматики, этическая (бахтинская “нравственная философия”) для персоналистского дискурса, эстетическая – для эйдосного. При этом Истина как целокупное имя, то есть такое, которое не может стать принадлежностью того или иного дискурса, в литературоведческой грамматике становится правильностью, тогда как в эйдосном дискурсе Она высвечивает отраженным светом в красоте образа, а в персоналистском ее Целокупность трансформируется в совокупность различных точек зрения на нее, когда доминирующим оказывается этический момент в Ее понимании. Сказанное справедливо также по отношению к Добру и Красоте при условии, что мы обладаем способностью различать целокупное имя и понятие. Прежде чем опрометчиво, просто из желания подискутировать, утверждать, что рассмотренная в предыдущей главе классификация не охватывает все разнообразие современной теории литературы, поскольку, дескать, игнорирует наличие других дискурсов (например, семиотики или постструктурализма), необходимо объяснить, на каком фундаменте, выходящем за пределы упомянутого триединства познавательной, этической и эстетической сфер, они формируются? Другими словами, каким компонентом, не учтенным двух с половиной тысячелетней историей человеческой мысли, мы можем дополнить это триединство? Поскольку очевидна бессмысленность такого предприятия, постольку очевидной становится праздность разговоров о четвертом или пятом теоретико-литературном дискурсе. Разнообразные теоретико-литературные школы, которые действительно возникают или просто заявляют о своем возникновении, а потом бесследно, как круги на воде, исчезают, представляют собой модификации одного из упомянутых дискурсов либо их эклектическое смешение, порой приобретающее самые причудливые формы. Убедиться в этом мы сможем на примере постструктурализма – самого заметного нового явления в теории литературы второй половины ХХ века. На постструктуралистскую проблематику указывает уже название настоящей главы, имеющее в виду установку постструктурализма на тотально текстовый характер реальности, с которой имеет дело человек. Текст, таким образом, становится не только первичной эмпирической, но единственной онтологической данностью, поскольку, как было во всеуслышание заявлено, нет Протодискурсивная теория, которая конституируется на границе с фундаментальной онтологией (филологией), этого триединства, конечно, не разрушает – именно по причине своей протодискурсивности. Здесь же, кстати, отмечу, что понятие “метадискурсивная теория литературы” – всего лишь синоним эклектики: в ситуации, когда законом развития теории литературы становится разделение, остаются две возможности: либо подчиниться этому закону и идти по пути все большей и большей дифференциации, либо возвратиться к протодискурсивной мысли, которая не есть то, что преодолено, но то, что утрачено. Не будем забывать, что только Имя может удержать нас от распада, и Оно не складывается из частей разделенного мира. ничего, кроме текста. Эта текстовая реальность последовательно и бескомпромиссно противопоставлялась логоцентризму традиционной европейской культуры. Насколько правомерна такая установка? В противостоянии Логоса и текста обнаруживается противостояние двух истоков европейской культуры – греческого, доминирующего на востоке Европы, и латинского, господствующего на западе. Если “мышление идет по тем бороздам, которые оно прокладывает в языке” (М. Хайдеггер), то понятно, что и борозды, и, соответственно, опыт мышления в пределах разных языков будут разными. Впрочем, мыслитель порой проходит такими путями, по которым даже в пределах его родного языка лишь немногие могут ступать. Что остается от этих путей, если их попытаться перевести на другой язык? Судьба Запада решающим образом была предопределена тем, что его мысль непосредственно прорастает не в почве (греческое мышление), а в ее трактовке другим языком (латинским). Когда постструктуралисты противопоставили греческому слову λόγος латинское textus, они на самом деле не открыли новых путей в мышлении, а просто лишний раз напомнили, с чего начиналось мышление Запада и чем изначально была обусловлена его беспочвенность.90 Одновременно они наглядно и ясно продемонстрировали, что в наше время мы имеем дело не просто с завершением онтологической мысли Запада, но с завершением ее завершения, выходом из которого может быть только сущностное ее преображение. Λόγος, будучи речью, разговором, беседой, до тех пор хранит свою онтологическую сущность, пока остается развертыванием имплицитной полноты сакрального имени. Имя же в первоначальном понимании – ни в коем случае не средство для разного рода мыслительных операций, но изначальная сопряженность слова и мышления, когда ничто ни для чего не является средством, но есть единственно возможный способ самораскрытия присутствия в его незамутненной полноте. См.: Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М.: Гнозис, 1993. – С.57. 90 Не случайно именно с ὄνομα этимологически связан глагол γιγνώσκω (познавать, узнавать, полагать, думать: мыслить), экспрессивная основа которого, грамматически выраженная удвоением91, указывает на необычный для нас, но бывший когда-то единственно возможным манический характер изначального целокупного имени-знания. Названная целокупность – ключ к пониманию природы вопрошающего мышления. До тех пор, пока логос эту свою именную руководящую основу сохраняет, он остается живой явленностью присутствия, не превращаясь в понятие. Textus, будучи ‘сплетением’, ‘структурой’, ‘связью’, ‘связным изложением’, – оказывается отдаленным отголоском греческого логоса, но без его онтологической связи с ὄνομα, именем, следовательно, без онтологической почвы, в которой укоренено изначальное маническое именное мышление. Попытка понять текст как конечную реальность не просто далека, но вполне противоположна подлинной онтологии, что, впрочем, и не удивительно для “людей из бумажки” (Ф.М. Достоевский), каковыми были все постструктуралисты. Их онтология на поверку оказалась бумажной, в чем с трогательной непосредственностью, сам того не замечая, признается Р. Барт, характеризуя порождение текста – дискурс: “...Создавая персонажи, он делает это не затем, чтобы они играли между собой для нас, а затем, чтобы играть с ними, чтобы добиться от них сообщничества, обеспечивающего непрерывный кодовый обмен: персонажи – это всего лишь особые типы дискурса, а дискурс, со своей стороны, – это персонаж, подобный всем прочим”92. Любой текст, как бы мы его ни мыслили, всегда вторичен по отношению к имени. В имени, а также в развернутом из имени логосе единственный источник живой жизни. Постструктуралисты об этом забыли, поэтому у них бумажный человек на бумажном коне с бумажным копьем выезжает на битву. При этом оружие может быть вполне настоящим: оно онтологически бумажное, как танки в Москве в 1991 году. Таковым же было и все то, что происходило в Париже в 1968 году. См.: Шантрен П. Историческая морфология греческого языка / П. Шантрен. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С.189. 92 Барт Р. S/Z / Р. Барт. – М.: Ad Marginem, 1994. – С.199. Пер. Г.К. Косикова и В.П. Мурат. 91 Нужно было очень не уважать всех нас, чтобы попытаться нас уверить, что нет ничего, кроме текста. На самом деле все, конечно, наоборот: нет ничего, кроме логоса, когда он укоренен в имени. Если же на место и вместо имени и логоса выдвигается текст, это обман, попытка смысл заменить “полым” сознанием, смысловой пустотой. Смысл в произведении, если он в нем наличествует, всегда от имени, например, от имени ‘Брайдсхед’. Обладавший удивительным для ХХ века языковым даром Ивлин Во устами Чарльза Райдера напомнил нам, что действительно “есть”, а что может и “не быть”, несмотря на всю свою навязчивую эмпирическую очевидность: “Еще не дойдя до двери, я спросил помощника: “Как называется это место?” Он ответил мне, и тотчас словно кто-то выключил радио, и голос, оравший в мои уши беспрестанно, бессмысленно день за днем, вдруг прервался; наступила великая тишина, сначала пустая, но постепенно, по мере того как мое потрясенное сознание возвращалось ко мне, наполнявшаяся множеством мелодичных, безыскусных, давно забытых звуков, ибо он произнес имя, которое было мне хорошо знакомо, волшебное имя такой древней силы, что, как только оно прозвучало, фантомы всех этих последних призрачных лет один за другим обратились в бегство”93. “Как только оно прозвучало” – это приблизительный перевод. У Ивлина Во несколько другое: “at its mere sound”. Mere значит ‘простой’, ‘явный’, ‘сущий’, но поскольку речь идет о древней силе имени, должен быть учтен его первоначальный смысл: ‘чистый’. Sound значит ‘звук’, но также ‘содержание’, то есть смысл услышанного, прозвучавшего. Речь, таким образом, идет о чистом смысле имени, и подлинной реальностью, в конечном счете, обладает лишь то, что приобщено к этому смыслу, тогда как все остальное обречено раствориться в пустоте. Такой изначальной силой может обладать любое имя: не только города, но даже, как видим, загородного дома. И другой пример из романа о знакомом всем по опыту экзаменационных сессий вталкивании в голову разнообразной несъедобной текстовой мякины: “В конце семестра я сдал мои первые экзамены; это нужно было сделать, если я хотел остаться в Waugh E. Brideshead revisited / E. Waugh. – London: Everyman’s Library, 1993. – P.14. 93 Оксфорде, и я их сдал после того, как в течение недели не разрешал Себастьяну посещать меня и допоздна просиживал с ледяным черным кофе и черным сухим печеньем, вбивая в голову тексты, которыми так долго пренебрегал. Я не помню теперь из них ни слова, но другие, более древние знания, которые я тогда приобрел, останутся со мной в том или ином виде до моего последнего часа”94. Тексты – именно потому, что они вне онтологического смысла, – представляют собой все то, что “насыпают” в голову, как в “мешок” (свт. Феофан Затворник), без малейшего намека на духовное возрастание. Через голову всех напластований европейской культуры Ивлин Во возвращается к тому изначальному пониманию имени, которое делает невозможной какую бы то ни было альтернативу имени (логоса) и текста. Никакого постструктурализма не было бы, если бы постструктуралисты были более талантливыми читателями. Наша мысль становится онтологически значимой, когда она является способом самопроявления бытия, как, например, изначальное маническое имя-знание (ὄνομα-γνωσις). Там, где первичной онтологической данностью объявляют текст, бытие может быть только иллюзорным. В имени, если мы действительно приобщены к его сакральному смыслу, реальность раскрывается как присутствие, которое никогда не метафизично, но манично, или, если из древнегреческого контекста перейти в контекст христианский, безумно, глупо (μορός), с точки зрения обыденного сознания: “Никто не обольщай самого себя; если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб стать мудрым” (1 Кор. 3: 18). Эта якобы “безумная” реальность, конечно, более реальна, нежели та единственная, которая доступна обыденному сознанию и по отношению к которой все иное объявляется метафизическим. Причина рождения метафизики, с “логоцентризмом” которой так отчаянно боролись бумажные солдаты, не в логосе, но в том, что было утрачено знание (γιγνώσκω) изначальной природы логоса как имени (ὄνομα). Отвергая логос, постструктуралисты отрезали 94 Ibid. – P.38. для себя единственную возможность действительного преодоления метафизики. По тексту, считают постструктуралисты, можно бродить направо и налево, кроить его на глазок, разбивая на “лексии”, с особым упоением отрицать в нем наличие каких-либо организующих центров, чтобы вернее “ускользнуть” от того или иного целостного смысла, как будто он – угроза, а не взыскуемый дар. Сами постструктуралисты постоянно подчеркивали свою связь с философией Ф. Ницше. Их “вожделения” и “желания” как важнейший, если не единственный, императив поведения – анемичная форма ницшеанской воли к власти, с тем существенным отличием, что их “вожделения” порождены не стремлением к власти, а паническим страхом перед ней. Философствование молотом становится философией ускользаний от молота, каковым напуганному воображению представляются все идеологии, но в первую очередь те, что связаны с логоцентризмом, то есть с христианской традицией. То, что этот страх имеет патологический или, может быть, абсентовый характер, вполне прояснится, если мы не будем забывать, что он культивировался в обществе, которое уже во времена О. де Бальзака, согласно его авторитетному мнению, лишено было “всяких твердых верований”95. Ускользать и только – это, конечно, поведение не “сверхчеловека”, а гомункула или “недоноска” из стихотворения Е.А. Боратынского. Как видим, гомункул – это то, чем de facto завершилась в постструктурализме история ницшеанского сверхчеловека. Там, где нет воли к живому смыслу, там начинается воля к смерти как определяющая характеристика “бумажного” бытия: будучи людьми весьма простодушными, постструктуралисты сами рассказали о его природе. Его основные особенности таковы: 1. изначальность буквы (γράμμα), которая, как мы знаем, “убивает”; 2. энтропия рассеянных, абсолютно не упорядоченных смыслов как конечная реальность; 3. расщепленность сознания, которое, все больше расщепляясь, стремится к “бумажному” бытию как своему пределу. 95 Цит. по: Барт Р. S/Z. – С.244. В постструктурализме до самой последней степени исчерпывает себя парадигма, начало которой – в разложении в позднеренессансный период цельной ренессансной личности. “Человечество изо всех сил стремится обрести свой центр”, – говорил когда-то Ф. Шлегель, биографически и исторически приобщенный к последним проблескам онтологической мысли Запада. Современный европейский человек, в лице постструктуралистов отказавшийся от этого стремления, тем самым признал свое поражение, стало быть, окончательно признал, что его существование на основе самоконституции Ego онтологически ущербно. Почему безутешно плачет ребенок, когда уходит из дому мама? Из-за пустого каприза? Нет, но потому, что с ее уходом разрушается Целое, следовательно, его существование лишается онтологической почвы, а значит и смысла. Смыслом наполнено только Целое, в данном случае – со-присутствие ребенка и мамы. Эти слезы ребенка – первый опыт приобщения к трагическому мироощущению, когда рушится Целое, и можно быть уверенным, что его переживания при этом намного глубже и сущностнее, нежели наши переживания в театре при восприятии даже самой удачной постановки шекспировской трагедии. Вот почему ничем иным, как извращением реальной сути дела, является следующее рассуждение Р. Барта: “…Смысл – это воплощенная сила, стремящаяся подчинить себе другие силы, другие смыслы и другие языки. Сила смысла зависит от степени его систематизированности: самым сильным является тот смысл, который, путем систематизации, оказывается способным охватить наибольшее число элементов, создать впечатление, будто он покрывает весь мыслимый мир: именно так обстоит дело с большими идеологическими системами, которые борются друг с другом, обмениваясь смысловыми ударами. Моделью такой борьбы остается все та же “сцена”, которая есть не что иное, как нескончаемая сшибка двух различных кодов, сообщающихся между собой лишь за счет соприкосновения, взаимной подгонки краев (это – обмен репликами, стихомифия)”96. Утверждение, что конечной моделью нашего существования является трагическая стихомифия, равносильно убеждению, что 96 Там же. – С.173-174. наше существование вне Целого и есть наше нормальное состояние. Такого рода взгляды могут высказывать только очень наивные или, напротив, лукавые люди. Впрочем, оба эти качества в том или другом постструктуралисте вполне могут соединяться. Эти люди или не понимают, или, напротив, с дьявольской отчетливостью осознают, какой “тьмой кромешной” при такой ее трактовке неизбежно становится человеческая жизнь. Впрочем, не подтвердил ли трагический ХХ век окончательно и бесповоротно их правоту? Конечно, нет, поскольку ХХ век – это урок, а не итог. Рассуждение Р. Барта о смысле – это рассуждение человека с дубинкой или того, кто прячется (ускользает) от человека с дубинкой, вполне разделяя при этом его понимание смысла. Поскольку нет в этих писаниях живой жизни, постольку нет в них и хлеба насущного, но есть рожки, которыми с лихвой накормил постструктуралистов их le maître d’école Ж.П. Сартр: “Святость мне внушала отвращение… <…>…Гротескно-уродливые статуэтки (королей. – А.Д.) мне надоели: я был санкюлотом и цареубийцей…”97. Или другое: “На мой взгляд, наиболее существенен здесь, пожалуй, вопрос об искренности. В девять лет я был мал для нее, после целиком оставил позади”98. Особенно красноречиво в русском переводе это снисходительное ‘пожалуй’ (plutôt). Кажется, Ж.П. Сартр искренен только тогда, когда циничен. Совсем иначе и, конечно, гораздо более глубоко говорит о той же проблеме Г.-Г. Гадамер. Когда мы пытаемся постичь смысл, утверждает немецкий мыслитель, мы “стремимся допустить, признать правоту (по самой сути дела) того, что говорит другой человек. Ведь если мы хотим понять, мы пытаемся еще более усилить аргументы собеседника”. Сказанное вовсе “не означает, что, если мы кого-то слушаем или приступаем к чтению книги, мы должны отбросить любые предварительные мнения о содержании Ср. у ближайшего предшественника постструктуралистов: “Я попался в западню, моя склонность к добродетели была сопряжена с нежной любовью к дьяволу” (Sartre J.-P. Les Mots / J.-P. Sartre. – Paris: Editions Gallimard, 1964. – P.190). Слова, слова, слова… На какое позерство не пойдешь ради доходящей до пароксизма жажды ангажемента. Известно, на кого она производит такое действие. На того, кто был для Сартра предметом нежной любви. 97 Sartre J.-P. Les Mots. – P.108, 109. 98 Ibid. – P.172. того, что услышим и прочитаем, должны забыть все свои мнения. Напротив, требуется открытость мнению другого, содержанию книги, а это уже значит, что чужие мнения полагаются в известное отношение к совокупности собственных мнений. <…> …Тот, кто пропускает мимо ушей то, что в действительности говорит другой, в конце концов не сможет подчиниться и своему собственному многообразию смыслового ожидания”99. В каком понимании смысла открывается перспектива, а в каком вполне определенно, почти слогом милицейского протокола, артикулирован тупик? Впрочем, в идеях постструктуралистов есть один плодотворный момент, хотя он, как и все остальное, в их трактовке вывернут наизнанку, изменившись при этом до неузнаваемости. Речь идет об онтологической природе языка, который, вопреки мнению постструктуралистов, будучи онтологичным, разумеется, никогда не может быть редуцирован до текста или дискурса. Состоянием языка определяется характер поэтического творчества любой исторической эпохи. Это отношение такого рода, что его с помощью лоскутных понятий постструктуралистов, конечно, не выразить. В тот период, когда расцвета достигает творчество Софокла, его трагедии были поэзией, тогда как песни Пиндара, будь они написаны в это же время, остались бы всего лишь литературой. Почему? Потому что трагическими, а не маническими в это время становятся отношения человека с языком в силу утраты человеком способности непосредственно онтологически осуществляться в языке. Для этого понадобились опосредованные формы миметического искусства, чем и был с неизбежностью предопределен расцвет трагедии. Поэзия становится “произведением”, а не поэтическим сказыванием, как было раньше. Прямое слово истины-несокрытости (ἀλήθεια) становится иносказанием (μετα-φορά), а бытие как присутствие, явленное торжеством в состязании (δράμημα) и закрепленное в поэзии (ποίησις), инобытием в δραμα, миметическом искусстве, ποιητικὴ τέχνη. Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – С.73, 76. – (История эстетики в памятниках и документах). Пер. А.В. Михайлова. 99 По той же причине трагическая лирика А.А. Блока в трагическую эпоху России в большей степени становится поэзией, нежели высокоталантливое литературное творчество акмеистов, ориентированное на классические поэтические формы прошлого. Постструктурализм родился в начале второй половины минувшего столетия и пропел: Мне только два дня, Назвали меня Уродливым именем… На третий день он умер: эфемерное пост- никогда долго не живет и никогда ничего не начинает. Постструктурализм закончился несколько десятилетий назад. Никто этого не заметил. Здесь и там публикуемые постструктуралистские статьи и книги – письма из прошлого, затерявшиеся во времени. Эти письма, если в них по-настоящему вдуматься, не могут не производить жуткого впечатления. Вот почему постструктурализм не является четвертым дискурсом, но только модификацией литературоведческой грамматики, осуществившей обреченную на неудачу попытку приобщиться к онтологическому смыслу. Экскурс I. Εἶδος, γράμμα, persona Прежде, чем переходить к разговору о филологии как реальности, необходимо сказать несколько слов об актуальном для каждого теоретико-литературного дискурса онтологическом контексте. Этот контекст может приоткрыться, если мы предпримем попытку помыслить ключевые для упомянутых дискурсов понятия (εἶδος, γράμμα, persona) как имена. Одновременно мы сможем разобраться, в самом ли деле исток каждого из дискурсов заключен в эллинистической грамматике. Говоря об онтологии, мы не должны выходить за пределы того смысла, который заключен в имени. В 8 Олимпийской песне Пиндара, посвященной победителю в борьбе среди мальчиков Алкимедонту Эгинскому, сказано: “Был же Это, конечно, не имя, а понятие, но в любом случае жаловаться не на что: название вполне соответствует сущности. он, если смотреть, – прекрасен и делом эйдос не посрамил…”100 Онтологически, то есть изначально, эйдос – ни в коем случае не предмет эстетического любования. Эйдосно – значит совершенно. Совершенно все, что принадлежит ладу. Все, что принадлежит ладу, – бытийно. И, напротив, все, что оказывается за пределами лада, – и не бытийно, и не эйдосно. “Быть прекрасным”, следовательно, заключает в себе здесь онтологический, а не эстетический смысл: существовать по законам лада и хранить его эйдос неповрежденным. Этот первоначальный онтологический смысл имени ‘эйдос’ и является подлинным истоком эйдосного, ориентированного уже на сугубо эстетическую проблематику теоретико-литературного дискурса, тогда как эллинистическая грамматика для него – не более чем перевалочная станция. Не так прост вопрос об онтологическом истоке грамматического дискурса. γράμμα – это буква, которая “убивает”, однако это не только буква, но также – все начерченное, в том числе: изображение, образ, рисунок. Онтологический смысл, связанный с этим словом, еще более прояснится, если мы не упустим из виду, что γραμμή – это линия, проведенная в начале и конце конского ристалища – именно того состязания, которое было призвано восстановить либо возвести лад. Об этой черте – рубеже агона, наградой за победу в котором является дочь Антея, поет в 9 Пифийской песне Пиндар: Так и ливиец Выбрал жениха по невесте: Он поставил ее во всем уборе ее Целью у предельной черты (γραμμᾷ), Он сказал, что уведет ее тот, Кто первым домчится коснуться ее одежд…101 Очевидно, γράμμα – это имя, которое имеет важнейшее значение для адекватного разграничения живописи и поэзии. В живописи, в которой “все начерченное” – это художественно значимая форма, имеющая внешний характер, сохраняется связь с онтологическим смыслом имени, тогда как в поэзии, в которой “все начерченное” – только средство для художественно значимого Pindari carmina cum fragmentis. – P.I.– P.32, 19. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты / Пиндар. Вакхилид. – М.: Наука, 1980. – С.107. – Пер. М.Л. Гаспарова. 100 101 представления, эта связь уже утрачена. Вот почему в γραμματικὴ τέχνη онтологический смысл затемнен техническим умением, которое выходит на первый план. Радикальным переосмыслением имени γράμμα в эллинистической грамматике объясняется ее ключевая роль для соответствующего этому имени современного теоретико-литературного дискурса. Неожиданно для современных последователей и эпигонов М.М. Бахтина оказывается, что именно персонализму в наибольшей степени свойственна онтологическая беспочвенность, о чем, впрочем, свидетельствует, еще до всякого рассмотрения, само латинское, а не греческое, как в предыдущих случаях, имя. Persona изначально – это маска, личина (преимущественно театральная), театральная роль, житейская роль. Persona, таким образом, – это нечто, что выдает себя за то, чем не является. На этом уклонении от изначального онтологического смысла, на этом искажении его целиком утверждается теоретико-литературный персонализм. Только в пределах тотальной персоналистской установки формируется представление, что жизнь в целом – это театральная сцена, на которой каждый живущий разыгрывает свою роль, понимание же ее – с широчайшей амплитудой интерпретаций: от фарса до высокой трагедии – постоянно менялось в зависимости от преобладающего духа того или иного исторического периода. Таким образом, теоретико-литературный персонализм не связан генетически с эллинистической грамматикой, но целиком принадлежит новоевропейскому времени, когда persona (маска, то есть то, что скрывает подлинную сущность) в итальянском, французском и других языках стала мыслиться как индивид с его незаместимостью и прочими атрибутами, так что даже триипостасность Бога – и здесь беспочвенность западного мышления проявляется вполне – начинают понимать как производную от латинской маски: “Dio è uno in tre persóne”. Сравни с латинским hypostasis – сущность, ипостась. Что персонализм к эллинистической грамматике непосредственного отношения не имеет, представляется очевидным, однако столь же очевидно, что сущность его не первородно явлена новоевропейским временем, но является искажением, а если быть точнее: переворачиванием с ног на голову того, что этому времени предшествовало. Вот почему нужно быть готовым к тому, что в пределах целокупного смысла соотношение лица и маски было противоположным тому, что мы наблюдаем в новоевропейское время. В книге VIII своего “Описания Эллады” Павсаний пишет: “Около святилища Деметры Элевсинской (в аркадском городе Фенее. – А.Д.) находится так называемая Петрома (“творение из камня”), это два огромных камня, приложенных один к другому. Каждый второй год те, кто совершает мистерии, называемые ими Большими, открывая эти камни, вынимают оттуда письмена, касающиеся совершения этих мистерий, громко прочитывают их в присутствии посвященных и той же ночью вновь кладут их обратно. Я знаю, что многие из фенеатов в очень важных случаях даже клянутся этой Петромой. На ней находится круглая покрышка, а в ней хранится маска Деметры Кидарии (со священной повязкой). Надев на себя эту маску во время так называемых Больших мистерий, жрец поражает подземных <демонов, ударяя в землю> жезлом”102. Маска, которую надевал жрец, совершая священный обряд, – это, конечно, не личина, скрывающая лицо, но, напротив, то, что возвращает лицо к его сущности. Лицо по-гречески: πρόσωπον, маска – προσωπεῖον. Суффикс -ειον придает имени значение места (nomina loci). Так, Μουσεῖον (музей) – место обитания Муз. Точно так же и προσωπειον следует понимать не в привычном для нас смысле, что это нечто утаивающее, скрывающее лицо, но как то, из чего сами лица суть лица, а не нечто иное. Только тогда, когда персонализм будет помыслен из προσωπεῖον, мы приблизимся к пониманию подлинной его сущности. Связь с этим онтологическим смыслом еще сохраняется в трагедиях Эсхила и Софокла, поскольку они, уже перейдя в область τέχνη, хотя и не восстанавливают лад, как Пиндар, но подражают ладу как со-присутствию богов и людей. Маски теряют свой онтологический смысл, как только в трагедии Еврипида “Алкеста” область τέχνη была осознана и утверждена как самодостаточная данность. Все, что, казалось бы, целиком принадлежит новоевропейскому времени, является искажением или переворачиванием того, что принадлежало когда-то целокупному Павсаний. Описание Эллады: в 2 т. – Т.2 // Павсаний. – М.: Ладомир, 2002. – С.99-100. Пер. С.П. Кондратьева. 102 смыслу. Из этой целокупности мы и должны мыслить все новоевропейское время с τέχνη и теоретико-литературными дискурсами как его характерными проявлениями. Имена говорят. Они продолжают говорить и тогда, когда в эпоху тотального господства τέχνη к ним никто уже не прислушивается. ИСТОК ФИЛОЛОГИИ Господь знает умствования (διαλογισμους) мудрецов, что они суетны. 1 Кор. 3: 20; Псал. 93: 11 В наше время получила распространение идея о диалогическом характере филологического мышления. Порождена эта идея прямо высказанным или подразумеваемым отождествлением теоретико-литературного персонализма и филологии. В противоположность этой точке зрения я полагаю, что филологическое мышление, если таковое существует, ни в коем случае не диалогично. Данная глава представляет собой попытку разъяснить высказанное положение. В ней, правда, речь пойдет не столько о филологии, сколько о ее сакральном истоке. Сущность, однако, определяется именно истоком. В самом начале сочинения “О божественных именах”, во втором его абзаце, Дионисий Ареопагит говорит: “Совершенно ведь не подобает сметь сказать или подумать что-либо о сверхсущественной и сокровенной Божественности помимо того, что Боговидно явлено нам священными Речениями. Ведь неведение ее превышающей слово, ум и сущность сверхсущественности должны посвящать ей те, кто устремляется к горнему – насколько сияние Богоначальных Речений открывает себя, и кто ради высших осияний облекает свое стремление к Божественному целомудрием (σωφροσύνη) и благочестием (ὁσιότης)”103. Σωφροσύνη образовано от двух слов: σῶς – целый, здравый, неповрежденный, не тронутый; φρήν – дух, душа, сердце, ум. Одновременно φρήν – это то место в груди, где все человеческие способности, связанные с духовным, разумным, чувственным Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – С.13. Пер. Г.М. Прохорова. 103 отношением к миру, пребывают вместе. Это даже не их единство, но единая всеобъемлющая способность понимания, цельное ведение, присущее цельному человеку: пребывание в Мире, учреждающем “целый міръ”. В результате σωφροσύνη предстает как целокупное понимание, т.е. такая сопряженность инстинкта, интуиции, разума, рассудка, чувства, воли, в которой одно от другого отделить невозможно. Это их изначальная сопринадлежность друг другу. Ὁσιότης (святость, благочестие, набожность, благоговение, совестливость) образовано от ὁσία – божественное или священное право, священный обряд. Целокупное разумение, таким образом, будучи неотрывным от благочестия, оказывается возможным, когда оно не в силу каких-то имманентных – сугубо гносеологических или прагматических – причин, но благоговейно, влекомое горним в пределах культа вступает в сферу действия божественного права. Целокупное разумение не учреждает законы, но стремится приблизиться к Источнику и Причине законов, учреждающих міръ; оно не констатирует, а вопрошает. Когда М. Хайдеггер высказал одну из глубочайших идей ХХ века: “…Вопрошание есть благочестие мысли”104, – он афористично выразил нечто весьма близкое Дионисию Ареопагиту, при этом онтологически определяющая культовая основа вопрошания у него, конечно, исчезает. Вопрошающее мышление – целокупно. Целокупное понимание присуще лишь тем, кто стоит “в одном духе” (Фил. 1: 27). Тогда и разум, и чувства духовно преображаются, становятся единым целым, оставляя позади, в отпавшем міре, свою разъединенность: “Ум, достигший духовного разума, непременно облечен в духовное чувство. В нас ли оно, или не в нас, но мы должны непрестанно о нем заботиться и искать его в себе, ибо когда оно явится, тогда внешние чувства всячески перестанут обольстительно действовать на душу; и зная это, некто из премудрых сказал: и Божественное чувство обрящеши (Прем. 2: 5)”105. Утрата благоговения в мышлении – первое свидетельство утраты способности к целокупному пониманию: мышление Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие / М. Хайдеггер. – С.238. Иоанн Лествичник, преп. Лествица / Преп. Иоанн Лествичник. – М.: Издво Сретенского монастыря, 2002. – С.180-181. 104 105 становится расщепленным. Расщепленному мышлению недоступна мирность міра, то есть то, из чего міръ становится целым, из чего он может наполниться смыслом. Расщепленное мышление может усматривать смысл только в какой-то части расщепленного им же міра: каждая наука отвоевывает для себя какую-то его часть. Смысл же целого от него ускользает, так что в конце концов оно не могло не прийти к констатации абсурдности міра. Так расщепленное мышление новоевропейского человека вынесло приговор самому себе. Между тем міръ потому и целый, что сразу кажет себя целиком: все, что ему присуще, – не часть целого, но всегда тождественно целому; все его имена – не названия каких-то его специфических особенностей, но сливаются в одном Имени, поэтому по-разному говорят одно и то же. “Целый міръ” вне эстетического восприятия, поскольку он – не предмет представления, но всегда – живое средоточие жизни, которой целиком и безраздельно принадлежит человек. Принадлежит, пока благочестиво вопрошает. Как только он обнаруживает претензию созерцать, устанавливать свою точку зрения на міръ и настаивать на ее самоценной значимости, он сразу же и неизбежно оказывается вне целого. О том, чего стоит это суетливое выпячивание своей индивидуальности, сказал арх. Иоанн (Шаховской): “Истреби мои слова, Господи, которые Ты не сделал – и не сделаешь – Своими”106. Сакральный смысл имен – путеводная нить к целому. При этом не следует легкомысленно утверждать, что міръ, о котором идет речь, будучи целым, одновременно оказывается подетски наивным: если в нем имплицитно заключено все, то, разумеется, в нем имплицитно заключены – как возможность – и все более поздние достижения человеческого мышления. Вопрос в другом: там, где разделение стало всеобщим принципом, так что и “целый міръ” в самом себе разделился, и целый человек распался, способна ли утратившая цельность мысль возвыситься до той полноты, которая была присуща ей в пределах “целого міра”? Ведь никто не станет отрицать, что как только не стало “целого міра”, не Архиепископ Иоанн (Шаховской). К истории русской интеллигенции. – С.527. 106 стало и мудрости, а мудрость как раз и есть изначальная цельность и полнота. Вспомним: “Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне миръ (εἰρήνην). В міре (κόσμῳ) будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил міръ (κόσμον)”. О чем говорит Иисус Христос? Он говорит, что міръ становится целым, когда он проникнут миром: только тогда он становится живым, наполняется одухотворяющим и исцеляющим его смыслом. Приобщение к нему становится возможным, когда целокупным пониманием постигается смысл целокупного имени. Такое имя всегда священно: “Всякое ономатологическое явление древности было иеронимией”107. Поэтому имя было онтологически более безусловным, нежели человек, его носивший: только наложением имени осуществлялось “приобретение духовной сущности” человеком, то есть его духовное рождение, что значит: приобщение к религиозной жизни. Будучи по существу своему событием сакральным, “тезоименитство (наложение имени)” означало не что иное, как “вступление человека в соответствующий культ. Имя есть знак культа, и вместе с тем – условие культового общения”108. Близкое по смыслу рассуждение находим в другой работе П.А. Флоренского: “По имени и житие” – стереотипная формула житий; по имени – житие, а не имя по житию. Имя оценивается Церковью, а за нею – и всем православным народом, как тип, как духовная конкретная норма личностного бытия, как идея, а святой – как наилучший ее выразитель, свое эмпирическое существование соделавший прозрачным так, что чрез него нам светит благороднейший свет данного имени. И все-таки имя – онтологически первое, а носитель его, хотя бы и святой, – второе; самому Господу, еще не зачавшемуся на земле, было предуготовано от вечности имя, принесенное Ангелом. Тем более – люди”109. Поскольку в имени заключена мистическая сущность человека, постольку его переход из одного культа в другой, Флоренский П.А. Священное переименование. Изменение имен как внешний знак перемен в религиозном сознании / П.А. Флоренский. – М.: Изд-во храма св. мц. Татианы, 2006. – С.245. 108 Там же. – С.244. 109 Флоренский П.А. Имена // Имена: Сочинения / П.А. Флоренский. – М.: Эксмо, 2006. – С.454. – (Антология мысли). 107 означавший изменение бытийного статуса человека, не мог не сопровождаться изменением его имени. Когда человек переходит из одного культа в другой, он мистически умирает в пределах первого и мистически рождается, в новом качестве возвращается к бытию в пределах второго. Сам же переход, нахождение некоторое время “между” – это безымянная “пустота абсолютного одиночества”, “гроб”110, смерть. Где нет имени, нет и бытия. Если Истина раскрывается, бытийно проявляется для человека только в священном имени и в Культе, когда все являемое – “φως ’εστιν” (свет есть; Еф. 5: 13), то за пределами Культа – в сфере “между” – “тьма кромешная, кроме, т.е. вне Бога, расположенная. Но в Боге – все бытие, вся полнота реальности, а простирающееся вне Бога – это адская тьма, есть ничто, небытие”111. Тот, кто утверждает, что существует некое, к тому же онтологически первичное, “бытие-между”, в пределах которого будто бы возможно общение с Божественным (т.е. общение вне сакрального имени, в безымянной пустоте), еще не приближался к пониманию онтологии, бытия, Божественного. Впрочем, современные диалогисты именно убеждены, что Истина – это то, чем они способны владеть, поэтому и общение с Божественным трактуют, как диалог. Такой подход, разумеется, исключает всякую осмысленность разговора о Божественном. Диалог (διάλογος) есть переход (δια-βάλλω) смысла из одной смысловой целости в другую. Как мы знаем, такой переход никогда не бывает простым механическим перенесением готового смысла: он умирает в пределах одной целости и рождается в другой – в соответствии с ее законами. В безымянном “между” (διά), в котором исчезает путеводная нить сакрального имени, нет бытия и нет смысла, но возможны их имитации, неизбежно искажающие сущность первого и второго (διαβολή – ложь, клевета, но также – ненависть). Как видим, “между” – это на самом деле небытие, в пределах которого прерывается связь человека с Богом, поэтому оно не может быть не только онтологически первичным, но каким бы то ни было местом встречи человека и Бога. Возводить в такой высокий онтологический статус “небытие-между” – значит ставить 110 111 Флоренский П.А. Священное переименование. – С.194, 329. Флоренский П.А. Имена. – С.423. его на место Культа, что является не просто профанацией Культа, но прямым кощунством. “Небытие-между” – это “держава смерти”, владеющий же ею – διάβολος (Евр. 2: 14). Вот почему именно в этом “между” сосредоточены все опасности. Нас не обольщают, говорит о. Павел Флоренский, ни “трезвый день, когда он держит в своей власти нашу душу”, ни, тем более, “духовность, ангельский мир, когда душа стала к нему лицом к лицу. Но между ними, у предела здешнего, сосредоточены соблазны и обольщения: это те призраки, которые изображены в описании заколдованного леса Тассо. Если кто обладает духовной стойкостью и будет идти сквозь них, не устрашаясь и не склоняясь на их соблазны, они окажутся бессильными над душою тенями чувственного мира, сонными его вожделениями, по реальности своей ничтожными. Но… стоит только оглянуться на эти призраки, как они, от души оглянувшегося получив себе приток реальности, делаются сильны и, присосавшись к душе, тем более воплощаются, чем более слабнет притянувшая их к себе душа; и тогда трудно, очень трудно, почти невозможно без особого вмешательства посторонней духовной силы вырваться из этих стигийских болот и топей, простирающихся у выходов из мира. Эта ловушка на языке аскетов носит название духовной прелести и всегда признавалась самым тяжким из состояний, в которое может попасть человек”112. Степень самообольщения тех, кто остался “между”, всегда соразмерна их πονηρίᾳ (R 1: 29; т.е. лукавству, злобе, зависти) к тем, кто прошел сквозь. При этом следует помнить, что пройти сквозь – не однократное жизненное событие, но испытание длиною в жизнь. Никакая высота не исключает возможного падения в бездну онтологического разлома “между”. Единственно возможное место встречи человека и Бога – Церковь, Культ, сущностное ядро которого явлено сакральным именем. Утверждать противоположное, то есть что общение с Богом возможно лишь в пределах “небытия-между”, значит настаивать, что это общение может осуществляться только через посредство того, кто владеет “державой смерти” и неизбежно искажает (διάβολος, что буквально и значит: клеветник). Божественное и человеческое для диалогистов – это вполне самостоятельные смысловые целости, “между” которыми пролег 112 Там же. – С.336. тот самый темный провал онтологического разлома. Для сакрального имени, связующего человеческое с Божественным и устрояющего “целый міръ”, здесь места, конечно, нет, хотя нет и недостатка в лукавых разговорах о Боге. Таков финал современной философии диалога, впрочем, вполне предсказуемый. Что касается промелькнувшего в научной литературе выражения ‘филология диалога’, то оно вовсе лишено смысла: φιλολογία – это пребывание в границах логоса, а не “между” тем и другим логосом. Диалог как способ общения актуализируется лишь тогда, когда в общение вступают с тем, кто является другим, не принадлежит к той смысловой целости, т.е. к тому Культу, в пределах которого ты онтологически осуществляешься. Область, в которой актуализируется необходимость диалога, – это не первичная онтологическая данность, но лишенное бытийного статуса “между”, чем ни в коем случае не упраздняются возможная прагматическая значимость диалога и любовь к другому как одна из важнейших божественных заповедей: “…Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…” (Мф. 5: 44). О каких врагах говорит Господь? Этой заповеди Иисуса Христа предшествует в 43 стихе ветхозаветное “ненавидь врага твоего”: «μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου». μισήσεις – это будущее время изъявительного наклонения от μισέω, что значит не только ‘ненавидеть’, но также ‘не желать, не допускать’. К чему не допускать? Разумеется, изначально: чужака – к участию в сакральном обряде. Наше современное ‘ненавидеть’, с его преобладающей психологической окраской, очень далеко отошло от этого первоначального смысла. Область неприятия в те давние времена определялась серьезными причинами онтологического порядка, а не субъективными капризами. В свою очередь ἐχθρους означает не только того, кто враждебен, но и того, кто неприятен. Это второе значение более определенно, нежели первое, выявляет ритуальную смысловую основу слова. Эта основа станет еще более очевидной, если мы примем к сведению, что θεοῖς ἐχθρία – это ‘безбожие’, т.е. нахождение вне той области, в которой правят боги или Бог. Враг, стало быть, тот, кто вне обряда, не посвящен в него, кто принадлежит к другому обряду, поэтому неприятен, не принят. И вот этой религиозной заповеди, которая существовала столько, сколько существовало человечество, Иисус Христос противопоставляет другую: “…Любите врагов ваших”. Прежняя межритуальная ненависть преображается и побеждается любовью. Это и были “новое небо и новая земля” (Отк. 21: 1) – целый міръ, явленный Господом: новый Иерусалим, в котором “ничего уже не будет проклятого” (Отк. 22: 3). Тот, кто преисполнен любви, так что ее и на других – по их ритуальной принадлежности, как и заблудившихся в “небытиимежду” – хватает, тот сам пребывает в Божественной любви. Только любовью диалог может быть преображен в нечто такое, что уже не является диалогом. Сам же по себе диалог, при всей своей возможной прагматической полезности, в высшем, духовном смысле, конечно, малопродуктивен, а часто и вовсе бесполезен. Но сказанное ни в коем случае не означает, что нужно оставить всякие попытки нарушить герметичность окостеневшего саркофага, в котором коснеет – в своей тотальной языковой инструментальности – диалогический ум. Если мы действительно ищем Бога, мы должны запомнить прежде всего: ложь, что человека всегда отделяет от Него зияние “небытия-между”. ...Ὁ κύριος ἐγγύς, – говорит апостол (Ph. 4:5). Господь близок. Диалогисты исходят из противоположной установки: предельной удаленности от Бога. Жутковатая правда диалогистов заключается в том, что в пределах “небытия-между” диалог действительно является единственно возможным средством общения, поскольку “между” – не просто граница, отделившая означенную область от других, но внутренний принцип самой этой области. В пределах названной области каждый индивид, в ней пребывающий, отделен от других провалом “между”: это и есть “пустота абсолютного одиночества”. Когда Культ упраздняется и, как следствие, подлинная онтология утрачивается, а разделенность становится тотальной, человек, чтобы почувствовать хотя бы иллюзорную почву под ногами, неизбежно придумывает себе “онтологию”: вне Культа каждый индивид сам для себя становится культом, объявляя свои относительные человеческие ценности (права человека, свобода слова) абсолютными, – поздний рефлекс выродившегося ренессансного титанизма, сиречь человекобожества. Названные общечеловеческими, эти ценности на самом деле выражают преобладающие тенденции нашей либеральной эпохи и агрессивно навязываются всем в качестве общеобязательных. Лицемерие либеральной эпохи заключается в том, что абсолютными признаются только свои права и свободы, общеобязательной – только своя идеология. Этой идеологией “небытие-между” заявляет свои права на весь міръ: зияние разверзающейся у наших ног бездны – отнюдь не фантасмагория. Возвращаясь к диалогу, скажем, что он, конечно, является способом общения, но ущербным способом. Диалог актуализируется там, где утрачены путеводные онтологические нити сакрального имени. В русском переводе Нового Завета слово ‘общение’ встречается пятнадцать раз. Во всех случаях за исключением одного, когда это слово добавлено в перевод по смыслу (Рим. 15: 24), ему соответствует в греческом подлиннике не διάλογος, а разные падежные формы слова κοινωνία. В новозаветном контексте оно означает целокупность людей, образованную общим для них целокупным пониманием, которому приоткрывается смысл целокупного сакрального Имени. В той мере, в какой он приоткрывается, общение с Богом становится реальностью. То, о чем здесь сказано так развернуто, в немногих словах выразил апостол Павел: “Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих (ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν) и омрачилось несмысленное (ἀσύνετος) их сердце” (Рим. 1: 21). Ἐματαιώθησαν представляет собой пассивный аорист изъявительного наклонения от глагола ματαιόω – делать суетным, стр. – делаться суетным. Отсюда ματαιο-λόγος (пустословный) – точное определение умствования (διαλογισμός), диалога, т.е. безымянного, сугубо инструментального, лишенного онтологической основы «языка-между». В свою очередь ἀσύνετος – это одновременно и несмысленный, и непонятливый. Понятливость человека целиком зависит от меры сакрального смысла, которую способно вобрать сердце его. Чем больше человек настаивает на своей самоценной (самодостаточной, уникальной и т.д.) понятливости, тем более несмысленным, омрачаясь, становится его сердце, стало быть, тем дальше он от Бога. А всего дальше он – в “небытии-между”. Если существует в наше время подлинная трагедия, то именно здесь: вопль міровой скорби порожден абсолютным одиночеством человека в тотально разделенном и потому абсурдном міре. Но эстетизацией эта трагедия не снимается: “…Самое первое правило, касающееся общения с Богом, правило, которое должен знать каждый: в этом деле нет места воображению”113. Необходимым условием катарсиса является способность узреть в трагической ситуации “правду без покрова” (Е.А. Боратынский), то есть именно без “нас возвышающего” эстетического обмана, во всей ее онтологической безысходности. В онтологическом смысле катарсис – это не сопереживание Гамлету, например, тем более что сам Шекспир иронизирует над своим героем, а преображение через покаяние. Могут спросить: а как же идея соборности, которая отнюдь не предполагает растворения личности в Божественном начале? В Божественном начале личность может только расцвести, а не раствориться; соборность же предполагает общий онтологический фундамент: лад как явленную благодать, по отношению к которому все диалогическое – онтологически вторично. Общение в пределах одного Культа, одного логоса, одного имени – не диалог, а беседа: не достижение необходимого компромисса в сфере сугубо мірских дел, не согласование позиций, но совместное восхождение к Истине по ступеням языка, все более и более наполняющегося сакральным смыслом; не установление Истины в столкновении противоборствующих аргументов, но возрастающая с каждой ступенью сопринадлежность ей. Общение с Богом мистично, а не диалогично: онтологической основой такого общения является сакральное имя. “Сияние богоначальных Речений открывает себя” целокупному, проникнутому благоговением уму, при этом оно всегда ускользает от любых ухищрений расщепленного ума с его безблагодатным умствованием. О двух возможностях общения с Богом – молитве и безмолвии, которые по сути своей, конечно, не диалогичны, говорит прп. Серафим Саровский: “Молвит душа и в молве находится, когда молитву творишь, а при нашествии Духа Святаго Аверинцев С.С. Мы призваны в общение / С.С. Аверинцев // Живой родник. – 2004. – №3 (11). – С.22. 113 надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые Он тогда возвестить соизволит. Надлежит притом быть в полном трезвении и души и духа и в целомудренной чистоте плоти”114. Целокупное понимание, вопрошающе обращенное к онтологическому сакральному смыслу, заключенному в имени (логосе), – таково первоначальное человеческое мышление. Пока мы сохраняем способность целокупного понимания и вопрошание свое обращаем к поэтическому логосу, хранящему в глубинах своих неисчерпаемый онтологический смысл, мы остаемся филологами (то есть любящими, любовью и в любви познающими то, что превышает нас). Филолог – не просто тот, кто любит логос, но тот, чей ум соприроден целокупному смыслу логоса; соприродность же проявляется в любви (φιλία). Как только конститутивным моментом понимания оказывается самодостаточное субъективированное сознание, мы становимся диалогистами (но также лингвистами, литературоведами, “специалистами”). Филология – не специальность; это возможность приобщения к изначальному онтологическому смыслу, который хранит поэзия. ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ И в эту красоту невольно взор тянуло, В тот величавый блеск за темный весь предел… А.А. Фет Философская концепция М.М. Бахтина в нескольких словах – это персоналистично-феноменологическое неокантианство (теория ценностей). За каждым из трех компонентов его концепции стоят определенные, ключевые для понимания М.М. Бахтина персоналии: М. Шелер, Э. Гуссерль, Г. Риккерт. Ни один из аспектов названного триединства не является собственно эстетическим, не является таковым и их синтез. Попробуем убедиться в этом на примере усвоения М.М. Бахтиным идей философа, названного последним. Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни // О цели христианской жизни. – С.27. 114 Двигаясь в русле общеизвестного кантовского разграничения, Г. Риккерт резко противопоставил, с одной стороны, логическое и эстетическое, с другой, – этическое, соотнеся первое и второе со сферой “созерцательного, безличного и асоциального”, а третье – с “личными, социальными благами (ценностями. – А.Д.) действенной сферы”. При этом первые две области, согласно немецкому философу, характеризуются монизмом, тогда как этическая – принципиально плюралистична. Данную классификацию Г. Риккерт определил как “сверхисторическую, на все времена значимую”115. Близкий по духу своего философствования к неокантианцу Г. Риккерту М.М. Бахтин, разрабатывая основы своей нравственной философии, предпринимает радикальную попытку теоретическое (логическое) и эстетическое помыслить изнутри “единственного события свершаемого бытия”, то есть именно изнутри сферы действенности. В результате и теоретическое, и эстетическое начинают мыслиться “уже не в теоретических и эстетических терминах”116. Что совершил М.М. Бахтин? Коперниковский переворот в нашем понимании эстетического? Или он просто продемонстрировал элементарное непонимание классификации Г. Риккерта? Может быть, классификация немецкого философа ошибочна? Например, излишне “схематична”? Настаивая на этом, мы проявили бы непростительное легкомыслие. Уж в чем-чем, а в умении проводить границы кантианцам не откажешь, и этому умению нужно у них учиться, а не спешить с возражениями. К тому же излюбленное в наше время ругательное словечко “схематизм” всегда чревато казусом, когда схематичное по своей природе представляющее мышление этим же словом бранится. Границы, разделившие три упомянутых области, будучи онтически вторичными, оказываются тем актуальнее, чем больше новоевропейским человеком утрачивается ощущение первичной онтологической (следовательно, не объединяющей, но единящей) основы его существования. У самого И. Канта, а также в неокантианстве, мы находим сравнительно позднее, онтически обескровленное понимание проблемы, которую гораздо более 115 116 См.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С.372-377. Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.8. глубоко, поскольку не просто онтически убедительно, но с сохранением онтологической перспективы, рассматривает св. Григорий Палама: “…Мы, противостоя “закону греха” (Рим. 8, 2), изгоняем его из тела, вселяем ум управителем в телесный дом и устанавливаем с его помощью должный закон для каждой способности души и для каждого телесного органа: чувствам велим, что и насколько им воспринимать, действие этого закона называется “воздержанием” (эстетика. – А.Д.); страстной части души придаем наилучшее состояние, которое носит имя “любовь” (этика. – А.Д.); рассуждающую способность души (познание. – А.Д.) мы тоже совершенствуем, выгоняя все, что мешает мысли стремиться к Богу, и этот раздел умного закона именуем “трезвением”. Кто воздержанием очистит свое тело, силой Божией любви сделает свою волю и свое желание опорой добродетелей, а ум в просветленной молитве отдаст Богу, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем, кто чист сердцем”117. Когда Г. Риккерт вслед за И. Кантом разграничивает логическую, эстетическую и этическую области, он знает, что он делает. Эта классификация, ближайшим образом восходящая к богословской традиции Средневековья, отражает реальное различие названных областей, поэтому никакие коперниковские перевороты здесь невозможны. Сказанное означает: изнутри этического, а поэтому и помысленное не в эстетических терминах, увидеть эстетическое нельзя. Помысленное будет в лучшем случае касаться лишь отблеска эстетического в действенной сфере. Но почему М.М. Бахтин решается проигнорировать выводы Г. Риккерта? Потому что для него жизненно значима лишь сфера действенности. Она представляет собой главный и – без преувеличения – единственный предмет его постоянных размышлений, тогда как сама по себе область эстетического его интересует очень мало или совсем не интересует. Поэтому проницаемыми для него оказываются границы этой области. Не значит ли это, однако, что, игнорируя основоположения строгого философского мышления, М.М. Бахтин впадает в столь нелюбимое им “свободное мыслительство”? Нет, не впадает. Почему? Ответ на этот вопрос станет понятным, если мы на Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолвствующих / Св. Григорий Палама. – М.: Канон, 1995. – С.42. Пер. В. Вениаминова. 117 соотношение познавательной, эстетической и этической областей посмотрим изнутри ποιητικὴ τέχνη. Взаимная проницаемость границ названных областей является основополагающим законом ποιητικη` τέχνη. М.М. Бахтин в этом отношении, конечно, никакой не первооткрыватель, но исходит из понимания поэтического искусства, которое вполне отчетливо проявилось уже у Аристотеля. Говоря о том, чему подражает поэтическое искусство, Аристотель утверждает: “… Так как все подражатели подражают действующим [лицам], последние же необходимо бывают или хорошими, или дурными (ибо характер почти всегда следует только этому, так как по отношению к характеру все различаются или порочностью, или добродетелью), – то, конечно, подражать приходится или лучшим, чем мы, или худшим, или даже таким, как мы…”118 Ποίησις, которая предшествовала рождению ποιητικὴ τέχνη, представляла собой развертывание имплицитной полноты сакрального имени, поэтому автономная сфера действенности никаким ее конститутивным моментом быть не могла. Но также не была таковым и автономная область эстетики, которой попросту еще не существовало. Рождение эстетики и ποιητικὴ τέχνη – одновременное событие, но они с самого начала не совпадают в своих границах. Эстетическое – конститутивный момент ποιητικη` τέχνη, однако с самого начала в пределах ποιητικὴ τέχνη сопряженный со сферами познания и действенности. Сфера действенности непосредственно наполнена этическим содержанием, о чем, собственно, и идет речь в приведенном выше фрагменте из “Поэтики” Аристотеля. Он же говорит и о познавательной значимости подражания: “...Подражание присуще людям с детства, и они тем отличаются от прочих животных, что наиболее способны к подражанию, благодаря которому приобретают и первые знания…”119 μίμησις, таким образом, – это соединение только что обособившихся и ставших автономными эстетической, этической и познавательной областей. Высшей формой такого соединения становится ποιητικὴ τέχνη. Причем фундирующей основой этого соединения в ποιητικὴ τέχνη, как и в подражании в целом, оказывается именно 118 119 Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель. – М.: ГИХЛ, 1957. – С.43. Там же. – С.48. эстетическое начало, поскольку “продукты подражания всем доставляют удовольствие”120, тогда как в отношении познания оно может быть полезно лишь “прочим людям”, но не философам121. Согласно общепринятому мнению, то, что универсально, то и более фундаментально. Красота, доставляющая удовольствие, стало быть, представляет собою специфическое свойство подражания, тогда как познание, будучи причастно этой области, отнюдь этой областью не исчерпывается и, напротив, именно за пределами этой области обретает более соответствующий своей сущности облик. Но, может быть, область действенности является для подражания и для ποιητικὴ τέχνη такой же универсалией, как эстетическое? На такую мысль наталкивает приведенный выше перевод В.Г. Аппельрота: “…Все подражатели подражают действующим [лицам]…” Этот перевод с несущественными изменениями повторяет М.Л. Гаспаров122. Если все обстоит именно так, тогда упомянутая выше установка М.М. Бахтина не только имеет право на существование, но действительно позволяет более глубоко понять поэтическое искусство в его собственно эстетическом существе. Однако на самом деле все обстоит совсем не так. В предложенных переводах недоумение вызывает местоимение ‘все’, которого нет и не может быть у Аристотеля. В “Поэтике” сказано «Ἐπεὶ δὲ μιμοῦνται οἱ μιμούμενοι πράττοντας...» [1448a], что значит: когда подражающие подражают действующим… О том, что не все подражатели подражают действующим лицам, Аристотель говорит сразу же после этого абзаца; мы обратимся к рассмотрению этих рассуждений в следующей главе. О том же вроде бы говорит Аристотель и в рассуждении, разграничивающем подражание действию и подражание действующим лицам, что, согласно переводу М.Л. Гаспарова, совсем не одно и то же: “[Итак, трагедия] есть [прежде всего] подражание действию и главным образом через это – действующим лицам”123. Там же. См.: там же. – С.49. 122 См.: Аристотель. Поэтика // Сочинения: в 4 т. – Т.4 / Аристотель. – М.: Мысль, 1983. – С.647. – (Философское наследие). 123 Там же. – С.653. 120 121 Из перевода следует, что даже в трагедии можно подражать действию, не подражая действующим лицам. Но и действию, как видим, трагедия подражает вроде бы не исключительно и целиком, но только “прежде всего”. Перевод уводит нас далеко от Аристотеля, у которого сказано: «ἔστιν τε μίμησις πράξεως καὶ διὰ ταύτεν μάλιστα τῶν πραττόντων». В подлиннике нет ни “прежде всего”, ни “главным образом”. μάλα погречески значит: ‘совершенно’, ‘вполне’, ‘совсем’. Превосходная степень этого слова (μάλιστα), конечно, не может значить меньшую степень исключительности (“главным образом”), но, напротив, высшую: “И [трагедия] есть подражание действию и по этой причине исключительнейшим образом действующим лицам”. Действие (πράξεως) мыслится Аристотелем как результат деяний действующих лиц, поэтому сама трагедия у него всегда есть подражание действующим лицам, а не “прежде всего” или “главным образом”. Но это совсем не значит, что то же самое справедливо относительно других видов поэзии. Об этом также прямо сказано у Аристотеля: “...Трагедия подражает не людям, но действию и жизни, в которой и счастье, и несчастье заключается в действии, и цель [трагедии] – действие, не свойство: свойства же какие бы то ни было присущи характерам, тогда как действиям – счастье или наоборот” (1450а). Δραμα в своем подражании никогда не выходит за пределы действенной сферы, однако и здесь названная сфера оказывается опосредованной эстетическим началом, на что указывает ее упорядоченность (σύστασις), завершенность и цельность – в соответствии с основополагающим требованием поэтического искусства как искусства. Именно следование этому требованию, делает поэтическое искусство более философичным и серьезным, нежели, к примеру, история: завершенное и цельное действие являет нашему созерцанию чувственно данную сущность жизни, а не просто разрозненные, никак между собою не связанные события. Склад деяний, их единство, о чем не устает говорить в “Поэтике” Аристотель, утверждая, что это “первое и самое важное в трагедии” (1450b), – эстетически претворенное искусством действие, а не просто жизненный хаос, не тронутый волшебной кистью поэта. Случайно ли завершенность и цельность действия (именно то, что, согласно Аристотелю, представляет собой краеугольный камень поэтического искусства, когда оно подражает действенной сфере) трактуются М.М. Бахтиным как недостаток, следствием которого оказывается необходимость отказаться от художественного образа? Разумеется, нет. О том, что при этом мы неизбежно должны будем отказаться от самого поэтического искусства, М.М. Бахтин не подумал. Художественный образ – не то, от чего можно небрежно отмахнуться, потому что он – не просто бесполезный довесок к диалогическому столкновению разных точек зрения на мир в границах действенной сферы. Художественный образ – не то, что можно сдать ad acta без того, чтобы туда же следом не последовало искусство. Художественный образ с его не просто совмещением, но интегральным единством онтологического, гносеологического и аксиологического моментов является концентрированным выражением самой сущности ποιητικὴ τέχνη. Редакторское название книги М.М Бахтина 1979 года (“Эстетика словесного творчества”) – одно из самых больших недоразумений в теории литературы последних десятилетий, тем более досадное, что книга стала настольной для целых поколений современных теоретиков литературы. Название книги вкупе с содержащейся в ней принципиальной для М.М. Бахтина полемикой с Г.В.Ф. Гегелем само собою формировало иллюзорное представление о якобы новой, бахтинской, эстетике, как будто в принципе возможны разные эстетики. Разных эстетик не бывает, а есть разная глубина понимания ее сущности, и в этом отношении бахтинская трактовка сугубо эстетических проблем ни в коем случае не является шагом вперед по сравнению с Гегелем. М.М. Бахтин смотрит на эстетическую область извне и судит о ней по законам другой области. Т.С. Элиот сказал об аббате Бремоне: “Мне кажется, что Бремон вводит для поэзии внепоэтические законы: те самые, которые часто создавались и постоянно нарушались”124. Не относится ли сказанное к М.М. Бахтину, а также ко всем, кто в наше время некритически повторяет его мысли? Правомерность такого вывода становится очевидной сразу же, как только эстетическое и этическое в рассуждениях М.М. Бахтина Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. – С.135. Пер. А.Л. Фельдберга. 124 соприкасаются: “Эстетическое созерцание и этический поступок не могут отвлечься от конкретной единственности места в бытии, занимаемого субъектом этого действия и художественного созерцания”125. Вполне могут, причем сказанное касается также и этического поступка, если только его мыслить не сугубо персоналистски. Уже из школьного курса теории литературы известно, что в истории искусства были целые эпохи, когда незаместимость, творческая неповторимость индивида никаким его действенным элементом не являлась. Об этом, например, можно прочитать в главе “Религиозный круг романтического искусства” второго тома “Эстетики” Гегеля. Что касается этического поступка, то, к примеру, греческий ‘этос’ отнюдь не из единственности человека исходит. Скажут: это не тот этос. Конечно, не тот, и что же? Игнорируя первоисток новоевропейской этики, сама философия поступка повисает в воздухе, утратив почву под ногами. Но даже и не заходя так далеко, вспомним, что сказано в §358 “Воли к власти”: “Тот, кто не может мыслить себя как цель и вообще не в состоянии из себя создавать цели, тот склоняется к морали самоотречения – инстинктивно. К ней его склоняет все: благоразумие, опыт, тщеславие. И вера есть также отречение от самого себя”126. Есть мораль, исходящая из конститутивной для нее самости. Этой установкой обусловлен не только бахтинский персонализм, но и весь ницшеанский по преобладающему духу ХХ век – при всем разнообразии ценностных моментов. Мы видим, что позиция М.М. Бахтина в некотором принципиальном отношении гораздо радикальнее, поскольку Ф. Ницше, по крайней мере, вступает в полемику с чуждой ему моралью отречения от самости, тогда как М.М. Бахтин вообще не считает ее возможной. Если нравственная философия М.М. Бахтина не может охватить всю область этики, к которой обращена непосредственно, как же она может претендовать на то, чтобы выявить во всей Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – С.23. «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» (Die Fragmente der Vorsokratiker. – B.I. – Berlin, 1906. – S.78). “Этос людей – божество” (Гераклит). 126 Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. – М.: REFL-book, 1994. – С.156. 125 полноте и глубине сущность эстетического, к которой обращена лишь опосредовано? Пытаясь дать характеристику эстетическому событию, М.М. Бахтин на самом деле характеризует сферу действенности, понятую исключительно персоналистски – как столкновение двух несовпадающих сознаний, как бы мы их при этом ни мыслили: как столкновение персонажей или как отношение автора к герою. Аристотель говорит в “Поэтике”: “…Без действия (πράξεως) трагедия невозможна, а без характеров (ἠθῶν) возможна…”127 Из этого М.М Бахтин делает вывод, что действующие лица (субъекты действенной сферы) представляют собой универсальный ключ ко всем этическим и эстетическим проблемам. Мы имели возможность убедиться, что такой вывод ни в коем случае не соответствует смыслу аристотелевских суждений о поэтическом искусстве. Но даже оставаясь в границах новоевропейской парадигмы, мы должны констатировать, что М.М. Бахтин со своей установкой на действенную сферу в понимании поэтического искусства опоздал по крайней мере на шестьдесят лет. Когда человек бунтующий в середине XIX века не просто заявил свои права, но осознал себя единственным субъектом истории (поскольку, как известно, “Евангелие кончилось”, “Бог – или у них уже: бог – умер”, а человек разумный и человек играющий – простые недотепы), действие и поэзия расходятся радикальным образом. Еще раз: случайно ли именно в это безвременье роман взошел на литературный трон? И не был ли он в чем-то существенном весьма похож на Наполеона III, который в это же смутное время делал свою политическую карьеру? Вроде бы император, то есть человек, претендующий на серьезную роль в исторической драме, однако одновременно, по слову Ф.И. Тютчева, histrion128, заискивающий перед толпой, что вполне соответствовало духу этой отнюдь не героической эпохи. Гистрион у Ф.И. Тютчева – комедиант, скоморох; сравни с итальянским istrione – комедиант, шут; вообще – актер для невзыскательного простонародья, совмещающий разные амплуа: музыканта, певца, мастера разговорного жанра, акробата, – одновременно все эти роды деятельности пародирующий. Аристотель. Поэтика. – С.652. См.: Тютчев Ф.И. Полн. собр. сочинений и письма: в 6 т. – Т.6 / Ф.И. Тютчев. – М.: Классика, 2004. – С.389. 127 128 Где-то у кого-то все это мы читали о романе: здесь и демократизм, и многоликость, и пародирование, следовательно – стилевая (а не стилистическая, как неудачно выразился М.М. Бахтин, поставив тем самым в тупик несчастных преподавателей “Введения в литературоведение”) трехмерность. Стиль может быть воспринят и помыслен трехмерно в границах как эйдосного, так и персоналистского дискурсов, тогда как стилистика может быть понята только лингвистически, чем целиком исключается наличие третьего измерения. Преподаватели вышли из положения, интерпретируя трехмерность как трехкомпонентность, что соответствует термину ‘стилистическая’, но искажает содержание мысли М.М. Бахтина. Эйдосная стилевая трехмерность аналогична трехмерности живописного изображения (есть передний план, есть задний: временной, пространственный, и как правило – их стилевое несовпадение в том же романе); персоналистская обусловлена взаимоосвещением разных голосов, за которыми стоят разные социальные диалекты. Пародирование – одна из древнейших форм изображения чужого слова. Не случайно сегодня, как и тысячелетия назад, неизменным успехом у публики пользуется искусство греческих гистрионов – мимов: подражание голосам известных людей, то, что может делать любой актер, но только немногие не гнушаются на концертной площадке зарабатывать этим на хлеб. Гистрионство действенной сферы онтологически обусловлено тем, что сама она – пародия на делание как со-работничество Бога (богов) и людей, их совместное воздвижение лада. «...Θεοῦ γάρ ἐσμεν συν-εργοί, θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή ἐστε» (1 K 3:9), – говорит апостол. …Ибо мы со-работники Бога, а вы Божия пашня, Божие строение. При этом συν-έργω несет в себе и смысл, тождественный заключенному в слове συμ-βάλλω (символизирую): связывать, соединять, то есть ‘ладить, делать нечто целым’. Именно с этим онтологическим смыслом должна быть соотнесена сущность ποιητικὴ τέχνη. Гистрионство, таким образом, – это и пародия на ποιητικὴ τέχνη. Гистрион – не просто ключ к одному из литературных жанров, роману, как его трактует М.М. Бахтин. На проблему следует посмотреть шире, поскольку роман потому и приобрел такую значимость, что в нем с наибольшей полнотой выразился дух наступившей эпохи. Гистрионство – отнюдь не только скоморошество, но важнейшая особенность нынешнего времени: совсем не случайно лицедеев впервые за все прошедшие тысячелетия нынче почитают больше, чем мыслителей и поэтов. Впрочем, и эта особенность нашего завершающего новоевропейскую историю времени была предугадана Ренессансом, например, в восклицании лиценциата Видриеры: “О столица, столица! Ты делаешь своими баловнями наглых попрошаек и губишь людей скромных и достойных; ты на убой откармливаешь бесстыдных шутов и моришь голодом людей умных и застенчивых”129. Первопричина этой важнейшей особенности нашего времени предопределена тотальной зависимостью всех бывших “свободных искусств” от действенной сферы. Когда мысль начинают признавать лишь при условии, что она обслуживает текущие потребности названной сферы, – это тоже гистрионство. При этом со всей неотвратимостью встает вопрос, способна ли такая мысль оставаться мыслящей.130 Бунт действенной сферы был последним в череде бунтов, в которых с наибольшей полнотой проявился характер (этос) новоевропейской истории. Ему предшествовали бунт разума (теоретическая сфера, XVII век, “век гениев”) и бунт чувства (эстетическая сфера, XVIII век, “просвещение”), представляющие собой различные модификации ренессансного гуманизма, то есть ренессансной цельной личности. Нынешнее порабощение действенной сферой искусства и мысли в ситуации потерявшего всякие сущностные ориентиры “человека заблудившегося” – расплата за бунты. “Сегодня, – пишет в “Прологе” к “Сатурнийским стихам” начинающий П. Верлен, – разрушен изначальный, но износившийся за прошедшие века союз деяния (l’Action) и сновидения (le Rêve)”, то есть поэзии: “деяние, которое в давние времена настраивало песенный лад лир, теперь, проникнутое тревогой, хмельное, Сервантес М. Назидательные новеллы / М. де Сервантес Сааведра. – М.: Худож. лит., 1966. – С.256. Пер. Б. Кржевского. 130 Ср. утверждение М. Хайдеггера: “Наука не мыслит”. (См.: Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер. – М.: Территория будущего, 2006. – С.39). 129 покрытое сажей взбудораженного столетия”131, остается чуждым поэтическому слову. П. Верлен говорит, что в действенной сфере произошли изменения, сущностно ее преобразившие, и это имеет катастрофические для поэзии последствия. В каком свете должны предстать – в контексте поэтического слова – попытки именно эту сферу помыслить в качестве законодательной для искусства? На слова П. Верлена через несколько лет откликнулся А. Рембо в знаменитом письме Полю Демени о ясновидении: “Поэзия не будет больше воплощать в ритмах действие; она будет впереди”132. А поэт? Что произойдет с ним? Об этом – “Одно лето в аду”: “Утром у меня был такой отрешенный взгляд и такое мертвенное лицо, что те, кого я встречал, возможно, меня не могли увидеть”133. С сожалением приходится констатировать, что после этих слов, как будто они никогда не были сказаны, по-прежнему продолжают повторять пошлости о том, что цель поэтического искусства – самовыражение, или, как ни в чем не бывало, пребывают в уверенности, что автор – самостоятельный субъект творческого бытия, способный якобы творить, как Бог, пользуясь “теми же приемами”. Об искусстве нужно говорить серьезно. Речь ведь не просто о любопытных историко-литературных фактах, о которых на досуге можно почитать. Речь о том, что свершилось и затронуло каждого из нас: в каждом из нас что-то умерло, когда это случилось. Сути произошедшего не меняет то обстоятельство, что никто ничего при этом не почувствовал, а боль за всех нас испытали лишь немногие. По большому счету слова П. Верлена и А. Рембо – знак того, что история ποιητικὴ τέχνη закончилась; это значит, что только теперь по-настоящему пришла к своему завершению аристотелевская парадигма в истории поэзии. Сказанное ни в коем случае нельзя понимать в том упрощенном смысле, что вдруг както сразу повсеместно перестали появляться высокохудожественные произведения искусства. Замечательные писатели, ни в чем не См.: Верлен П. Три сборника стихов / Поль Верлен. – М.: Радуга, 2005. – С.16, 18. 132 Рембо А. Парижская оргия / Артюр Рембо. – М.: Эксмо, 2008.– С.273. Пер. Н. Балашова. 133 Там же. – С.281. Пер. М. Кудинова. 131 уступавшие крупнейшим мастерам предшествующего периода (И. Во, например), и замечательные лирические поэты были, конечно, и в ХХ веке, но что это, если не инерция двух с половиной тысячелетней великой эпохи? Круг замкнулся: А мне, Тиресию, предвиденья даны, Что происходит при таком визите; Я у фиванской сиживал стены, Среди теней умерших брёл в Аиде. В границах господствующей действенной сферы не может быть истории поэтического искусства, поскольку оно сущностно этой сфере не принадлежит, но остается история технических кунстштюков, например, разных геометрических фигур вместо живописных произведений. Возникает гипертрофированная мода на -измы: теперь главное – принадлежать к какому-нибудь -изму, и тогда любую чепуху можно выдать за произведение искусства. Действенная сфера по-хозяйски зашла на запретную для нее ранее территорию и вышвырнула на обочину все, что не соответствовало ее представлениям об искусстве. Главным рефери в определении в том числе и эстетической значимости произведений прошлого и современных кунстштюков становятся аукционы с их деловой смёткой. При этом в пределах самой действенной сферы мы имеем полный набор самых разнообразных поведенческих установок: от воспевания ее мощи и энергии в футуризме до ускользания от всяких идеологических императивов, в которых теперь уже растворяется и онтологический смысл, – в постструктурализме. Продекларированный Гегелем закат искусства случился очень скоро, однако не потому, что “мысль и рефлексия обогнали художественное творчество” (здесь Гегель судит как представитель эпохи бунтующего разума, не в образе, а в понятии усматривая “высший и абсолютный способ осознания духом своих истинных интересов”134), а потому, что поэтическое искусство, подчинившись действенной сфере, перестало быть самим собой, поскольку утратило способность осуществлять конститутивную для него интегрирующую функцию. Именно в смысле этой конститутивной функции следует понимать рассуждение, что искусством Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. – Т.1 / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Искусство, 1968. – С.16. Пер. Б.Г. Столпнера. 134 познающий дух лечит рану, которую сам себе наносит, оторвавшись от действенной сферы.135 Ремесло мима-гистриона никаких интегрирующих сверхзадач перед собой не ставит, поэтому целиком остается вне той праздничной в сущностном смысле, серьезно-радостной атмосферы подлинной ποιητικὴ τέχνη, которая всегда стремится из разрозненных частей собрать целый мир, – атмосферы, которую имеет в виду Ф. Гёльдерлин в стихах, надписанных на имя “Софокл”: Многие тщетно пытались радостно выразить радость Высшую, вот, наконец, в скорби открылась она. Чем дальше расходятся действие и поэзия, тем жертвеннее становится удел поэта: …Когда в степи, как диво, В полночной темноте безвременно горя, Вдали перед тобой прозрачно и красиво Вставала вдруг заря, И в эту красоту невольно взор тянуло, В тот величавый блеск за темный весь предел, – Ужель ничто тебе в то время не шепнуло: Там человек сгорел? Опять-таки, случайно ли фанатичные (или, может быть, циничные) сторонники активных действий, твердо знавшие, что и как нужно делать, чтобы всех немедленно осчастливить, вполне в духе ремесла гистриона с таким наслаждением паясничали и кривлялись именно по поводу лирики А. Фета, в частности, бесцеремонно навязывали публике свои бездарные эпиграммы на его гениальные безглагольные стихотворения, представляющие собой крайнее проявление антидействия? При этом опыт П. Верлена, А. Рембо да и самого А. Фета учит, что способность различение рая и ада не является имманентным принципом поэтического искусства. Тема А. Фета оказалась по-своему близкой А. Блоку, но трактовал он ее иначе: у него “жизни гибельный пожар” затмевает “бледные зарева искусства”, которые – вполне в духе новоевропейского гуманизма – лишь средство для того, чтобы увидеть и понять человека. Действенная сфера, каковой она стала к середине XIX века, для Фета – окончательно и бесповоротно – 135 Ср.: там же. – С.14. “базар крикливый”, совершенно чуждый поэзии во всех ее проявлениях. Конечно, это было ведомо и Блоку, но в такого рода стихотворениях почти всегда можно ощутить у него оттенок литературности, например, влияние творчества Э. По, как в этом случае: И странно: жизнь была – восторгом, бурей, адом, А здесь – в вечерний час – с чужим наедине – Под этим деловым, давно спокойным взглядом, Представилась она гораздо проще мне… Весь Блок, конечно, не в этом, а в страстном и в то же время трагическом по своему содержанию чаянии “свободы”, ее грядущего “торжества”, очень долго оставаясь в уверенности, что это чаяние – не знак приближающейся катастрофы, а свидетельство того, что он – “дитя добра и света”. Не случайно и произошедшее в 1917 году он воспринимает как космическое действо, проникнутое музыкой, – не сбывшаяся мечта не просто о действии, но онтологическом событии, в котором опять смогла бы укорениться поэзия. Невозможность этого Блок по-настоящему понял только после катастрофы. Слишком хорошо известно, какие последствия все это имело для его творчества. Вот почему в некотором принципиальном отношении он не более поздний, а более ранний поэт, нежели Верлен, Рембо или Фет. Речь идет не об истрепанном до дыр эпигонами романтизма конфликте поэзии и филистерской действительности. Речь о другом, о чем-то совсем непримечательном и в то же время более страшном: о том, что никакого конфликта уже нет. Самые страшные катастрофы те, которых не замечают.136 В действенной сфере – буднично и незаметно, без извержения Везувия и размахивания на публике “картонным мечом” – произошло нечто, после чего поэзия неминуемо должна была оказаться не в усадьбе Круассе, а бездомной на улицах и в клоаках Парижа, Брюсселя и Лондона. Наступил момент, когда дом столяра Циммера становится для поэта не исключением из правила, а правилом. Действенная сфера становится самодостаточной и ни в какой поэзии уже не нуждается. Она, пожалуй, потерпит поэта – в роли гистриона; например, в роли зазывалы на рынке, как выразилась о 136 Ср.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.339. В. Маяковском советского периода М. Цветаева137. Впрочем, в этом самоунижении – до юродства – по-своему проявилась честность Маяковского: не нужно обманывать самих себя, делая вид, что поэзия теперь – не это. Вот почему на самом деле “Рембо – предел” (П. Валери). Вот почему и Фет – предел. Самоуверенно говорили о темном Средневековье, а на поверку оказалось, что самыми темными как раз являются XIX-XX столетия – из-за того, что действенная сфера заполонила собой все.138 Приходит время волевого порыва к власти (Ф. Ницше), философии прямого социального действия (К. Маркс), персонализма (М. Шелер), прагматизма (Ч.С. Пирс, Дж. Дьюи) и преимущественно или сугубо аналитического понимания мира (Б. Рассел, Л. Витгенштейн). Все эти направления, вроде бы поразному трактуя мир, на самом деле исходят из одного основания и обращены к одному и тому же: к утвердившейся в качестве самодостаточной действенной сфере, и в своей совокупности раскрывают самые существенные ее особенности. Ничто не могло в большей степени скомпрометировать философию, нежели ее готовность обслуживать действенную сферу. “Закат уже состоялся”139, – говорит М. Хайдеггер. Закат – это тотальное господство действенной сферы, время “по-става”, когда только и делают, что говорят о человеке и его потребностях, но при этом под вопрос поставлено само его существо: “Господство постава грозит той опасностью, что человек окажется уже не в состоянии вернуться к более исходному (следовательно, более соответствующему его сущности. – А.Д.) раскрытию потаенного и услышать голос более ранней истины”140. Этой опасности не избежать по той причине, что Бог, поэзия, а также наполненная онтологическим содержанием мысль (иронически обозначенная как “свободное мыслительство”) оказываются вне той области, в которой протекает отныне жизнь человека. Это не значит, что о См.: Цветаева М.И. Об искусстве / М.И. Цветаева. – М.: Искусство, 1991. – С.297. 138 Ср.: Хайдеггер М. Время и бытие. – С.54, 135. 139 Там же. – С.178. Пер. В.В. Бибихина. 140 Там же. – С.234. 137 Боге, поэзии или онтологии не говорят, наоборот, периодически даже возникает мода на ту или иную тему, но эти разговоры не имеют никакого отношения к тому, чем сущностно определяется происходящее в сфере действенности. Не будем забывать, что первой на эту опасность указала именно ποιητικὴ τέχνη – своим категорическим неприятием тотальных притязаний действенной сферы. В 1879 году, через шесть лет после окончания “Одного лета в аду” (а это название прямо говорит, что именно произошло, когда никто ничего не почувствовал), на вопрос Эрнеста Делаэ о литературных занятиях А. Рембо ответил: “Я больше не думаю об этом”. В этом ответе больше поэтического смысла, нежели во всех последующих стихах разных поэтов, лишенных слуха, которые исходили из действия и к действию вели. Такого упрека не может избежать и уже упомянутый поэт: “За порогом стихов Маяковского – ничего: только действие”141. Сказанным лишний раз подтверждается, что ποιητικὴ τέχνη не нуждается в философии для оправдания своих истин, тогда как философия с ее волей к власти, социальными доктринами, персонализмом и проч. плетется в хвосте. Поэтическое искусство – “органон философии” (Ф. Шеллинг), и как только философия, теряя слух, забывает об этом, она сразу же безнадежно отстает. Отсутствие слуха проявилось, в частности, в том, что исходило в ХХ веке из действенной сферы в попытках осмысления поэзии – из поступка ли (персонализм) или из технической сноровки (литературоведческая грамматика). Вот почему М.М. Бахтин судит об искусстве вполне в духе своего времени: его расхождения с эпохой “чисто стилистические”, как выразился по другому поводу один литературовед. Последний русский поэт – из тех немногих, кто в ХХ веке был наделен слухом: я имею в виду Олега Чухонцева – в одном, повидимому, бессмысленном слове еще пытается расслышать то, что говорило когда-то в полный голос – не говорило, а пело: и он не знает, что делать дальше, так и стоит, держась двумя за свою тележку, и что-то бормочет, что-то мычит, но одно лишь слышно: – Кыё! Кыё! 141 Цветаева М.И. Ук. книга. – С.308. “Что это? причет? или проклятья?”142 И то, и другое. Это – все, это поэзия, собранная в одно слово в пределах действенной сферы (“двумя за свою тележку”). Это последнее слово, которым поэзия еще пытается до нее докричаться. Это уже и не голос, а последний “грохот” и “рокот” ускользающего смысла. Что здесь делать персонализму? Не в деловитости ли сугубо диалогической действенной сферы, давно уже обессмысленной, он пытается искать то, чего в ней нет? Словосочетание “поэтика персонализма”, появление которого можно было легко предсказать, – contradictio in adjecto, языковой кентавр, поскольку представляет собой соединение слов, принадлежащих к двум разным областям. Это один из многочисленных примеров эклектики, которой, впрочем, персоналисты не боятся, а, напротив, исходят из установки, что “сам человек эклектичен”, поэтому, дескать, эклектика неизбежно сопутствует ему во всех его начинаниях. Этим, между прочим, лишний раз доказывается, что теоретико-литературный персонализм трансгредиентен тому, что в настоящей книге именуется целокупностью филологии. Когда-то, в самый момент зарождения поэтического искусства, Аристотель объяснил, что подражанием действующим лицам область подражания не ограничивается, стало быть, и эстетическое событие мы не обязательно должны мыслить как столкновение персонажей или как отношение автора к герою. Утверждать обратное – значит растворить эстетику в философии поступка. Поскольку именно эстетическая область является конститутивной для поэтического искусства, постольку лишь изнутри этой области может быть адекватно помыслена его сущность – в эстетических терминах. Поэтическое искусство вбирает в себя и действенную сферу, и сферу познания, но осуществляется это соединение разных сфер на основе эстетики – именно она обеспечивает единство всей области поэтического искусства. Так – эстетически в ποιητικὴ τέχνη – творится целый мир, когда целое как онтологическое событие, то есть как соприсутствие Бога (богов) и людей, становится недоступным. Чухонцев О. Фифиа / О.Г. Чухонцев. – СПб.: Пушкинский фонд, 2003. – С.33. См. также: Чухонцев О.Г. Из сих пределов / Олег Чухонцев. – М.: ОГИ, 2008. – С.303. 142 Жизнь, во всем ее многообразии и во всей ее действенности воплощенная в произведениях ποιητικὴ τέχνη, хочет быть подобием онтологического события: только в этом случае поэтическое искусство обретает смысл. Рассудочно-теоретический подход, когда вместо художественного произведения мы начинаем анализировать текст в его лингвистической данности, к ответу на вопрос о сущности поэтического искусства не ведет. Но то же касается и нравственной философии и ее концентрированного выражения – персонализма, поскольку вопрос о сущности поэтического искусства шире вопроса о роли и значимости в его пределах действенной сферы. Это просто два разных вопроса. Персонализм, будучи порождением нравственной философии, а не эстетики, занят почти исключительно романом именно потому, что сам по себе роман принадлежит к той же сфере действенности, становясь подлинно поэтическим только тогда, когда превозмогает свои границы, приобщаясь к традиционным жанрам поэтического искусства. Роман становится больше, чем роман, когда на романное действие, житейски прозаическое по своей сути, ложится отблеск онтологического события. ДЕЙСТВИЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ Хотя бы Геркулес весь мир разнес, А кот мяучит, и гуляет пес. Гамлет Во второй главе книги было сказано о том, что в трагедии происходит беллетризация онтологического события. Сказанное означает, что действие в трагедии непосредственно онтологическим событием не является. Тогда как они соотносятся? Данная проблема вновь возвращает нас к Аристотелю: “…Можно тому же самому подражать и [использовать] одни и те же [средства], либо сообщая (при этом становясь кем-то другим, как делает Гомер, или [оставаться] самим собой, не меняясь), либо <выводя> всех подражающих [лиц] как действующих (πράττοντας) и деятельных (ἐνεργοῦντας). В этих трех отличительных особенностях состоит подражание, как мы сказали сначала: в каких [родах сущего осуществляется подражание], а также какие [роды сущего изображаются] и как [это делается]. Так что тот же самый Софокл в пределах одной [отличительной особенности] был бы [подобен] Гомеру, поскольку они оба представляют [людей] важно-серьезных, тогда как в пределах другой – Аристофану, ибо…” (1448а ІІІ, 8-17). И здесь начинаются трудности для переводчиков. С этими трудностями связана ключевая проблема предпринятого разговора. У Аристотеля сказано: «πράττοντας γάρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας ἄμφω». Если первое причастие – простое повторение употребленного чуть выше и, очевидно, не вызывающее каких-либо трудностей у Аристотеля, то второе употреблено вместо ἐνεργοῦντας – от ἐνεργέω, что значит: быть деятельным, производить (что?), содействовать (чему?). Отсюда одно из важнейших слов аристотелевской философии – ἐνέργεια, не просто энергия, но творящая, производящая. Очевидно, не все действующие (πράττοντας) деятельны в том смысле, какой имеет в виду глагол ἐνεργέω. Однако в уточняющем именовании, которым завершается приведенное рассуждение, Аристотель употребляет другое причастие: δρῶντας, по всей видимости, полагая, что оно более точно передает его понимание сущности драмы: как трагедии, так и комедии, поскольку Софокл упомянут рядом с Аристофаном. Мы располагаем двумя вариантами решения этой трудной задачи. Однако уже до рассмотрения всех трудностей можно еще раз подтвердить, что не все подражающие подражают действующим лицам, и в этом отношении Софокл и Аристофан отличаются, например, от Гомера: “…Ибо они оба представляют людей действующими и притом драматически действующими”143. “…Ибо оба они выводят в подражании лиц действующих и делающих”144. Стремление передать непереводимое взаимодействие смыслов приводит в первом случае к тавтологии, поскольку ‘драматически действующими’ буквально значит ‘действующе действующими’, а 143 144 Аристотель. Об искусстве поэзии. – С.46. Аристотель. Поэтика. – С.648. во втором случае – к искусственному разграничению, что и проявляется уже в следующем предложении, в котором слово δρῶντας переводится так, как πράττοντας в предшествующем: “Отсюда, говорят иные, и сама драма называется “действом”(δράματα), ибо подражает лицам действующим (δρῶντας)”. Тем не менее, первый вариант перевода, конечно, предпочтительней, поскольку, по крайней мере, заставляет задуматься над тем, чем драматически действующие лица отличаются от просто действующих. Другими словами, этот перевод актуализирует проблему, а не затушевывает ее. Итак, что же такое “просто” действовать и “драматически” действовать? У Аристотеля сказано: “ибо они оба представляют [лиц] действующих и действующих”. Не трудно понять, что речь идет не просто о словах, принадлежащих к разным диалектам (аттическому – первое, дорическому - второе), о чем упоминает Аристотель (1448b ІІІ, 6), но о разных по своему характеру действиях. Каких? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задуматься над тем, что пропето в 12 олимпийской песне Пиндара, посвященной Эрготелу Гимерскому, победителю в дальнем беге: …Еще никто из живущих на земле не получил от бога верного знака (σύμβολον) о предстоящем деле (πράξιος), по отношению к будущему слепы советующие (φραδαί): ведь многое людям вопреки предположению выпало, часто – [вопреки расчетам] на радость, у других же изнурительно-мучительные бури предшествовали обильному счастью, которым в короткое время сковано бывало бедствие.145 С аттическим πράττω (делать, совершать), о котором говорит Аристотель, соотносится существительное πρᾶξις (действие, дело; отсюда наше слово – практика, которая в новоевропейское время стала самым главным критерием истины, а нынче определила характер действенной сферы). Мы видим, что для Пиндара πρᾶξις охватывает всю ту область человеческих действий, которые остаются вне соприкосновения (συμβολή – соединение, шов) с божественным, следовательно, они 145 Pindari carmina cum fragmentis. – P.I.– P.49, 7-12a. остаются вне лада, в пределах которого только и возможны знаки, свидетельства – в том числе и о будущем. Поэтому увиденные изнутри этих действий счастье и несчастье, выпадающие на долю того или иного человека, не могут не восприниматься как случайные. Вне этой изначальной, принципиально не метафизической, целокупности лада как соприсутствия богов и людей остаются также ‘разумные советы’ (φραδή) и основанные на них ‘высказывания’ (φράσις), то есть вся та действенная область, которая в наше время признана единственной реальностью. Чем в этом отношении от πράττω отличается δράω, глагол, с которым, как указывает Аристотель, связано само название ‘драма’? Очевидно, в нем должен быть заключен такой смысл, который отсутствует в первом глаголе и этимологически связанных с ним словах. О том, что существуют другие ‘действия’, наполненные свидетельствами и знаками, мы узнаём, например, из 6 олимпийской песни Пиндара, в которой воспевается “многославный меж эллинами род Иамидов”: Счастье за ним последовало: почитающие доблесть по видному [всем] пути шествуют: каждое их дело (χρῆμα) – знак того: и посрамлены завидующие тем, кого некогда первыми на двенадцатом круге беговых состязаний (δρόμον) стыдливая Харита окропит славной своей красотой (72-76). Χρῆμα – все то, что принадлежит присутствию, то есть преисполненному доблестью “видному пути”: по нему шествует лелеемый милостью и любовью богов, достойный этой любви род Иамидов. Об этом слове в форме генитива τὸ χρεών, с которым мы встречаемся в изречении Анаксимандра, размышляет М. Хайдеггер, понимая его как “наиболее древнее имя, в котором мышление приносит к речи бытие сущего”: “Поскольку оно как существо присутствия существенно связывается с присутствующим, постольку в этой связи должно заключаться, что τὸ χρεών учиняет чин и тем самым также и угоду”146. Очевидно, это близко тому, что мы называем словом ‘лад’. Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Разговор на проселочной дороге / М. Хайдеггер. – М.: Высшая школа, 1991. – С.61. Пер. Т.В. Васильевой. 146 Все, что принадлежит “видному пути”, то есть ладу, принадлежит одновременно истине-несокрытости. Всякое деяние, осуществленное на этом пути, каждый раз представляет собой новое просветление и восстановление блеска и красоты лада – соприсутствия богов и людей, наполняет его новой силой и, таким образом, длит его во времени. Однако среди всего, что принадлежит к τὸ χρῆμα, наиболее очевидным и безоговорочным подтверждением благоволения богов является торжество в состязаниях и, особенно, в беговых состязаниях (δρόμος); оно, как свидетельствует песня Пиндара, ясный знак, что род Иамидов – достойный со-работник богов в учреждении лада. Таким же соработником богов (Музы) оказывается поэт, песня которого удерживает деяние героя в несокрытости, защищая его тем самым от забвения и завистливой клеветы. Бег (δράμημα) как со-учреждающее лад деяние осуществляется бегущим, который одновременно оказывается одержимым богом, вдохновенным (δρομάς). Поэт, воспевающий торжество в беге, стало быть, не привносит свою одержимость (μανία) в воспеваемое событие, но его песня неизбежно оказывается манической в силу манического характера самого события (δράμημα), в котором соприкасаются (συμ-βάλλω) божественное и человеческое. В маническом слове поэта осуществляется самопроявление лада как присутствия, учрежденного соработничеством богов и героев. Такой лад – “просвет бытия” (М. Хайдеггер), из которого все: и мысль, и песня. Μανία, стало быть, изначально была находящейся под попечительством Зевса полнотой самопроявления лада и только в пору ясно осознанной неотвратимой утраты лада стала дионисийским исступлением, то есть безумием. Не будем забывать, что в основе летоисчисления у греков были олимпиады, которые посвящались Зевсу, как у нас – Рождество Христово. Что в основе летоисчисления, то и в основе лада. Возвращаясь к драматической поэзии, зададимся вопросом, не является ли в ее границах аристотелевское δρωντας именно тем словом, которое, в отличие от πράττοντας, вбирает в себя и хранит смысл, присущий слову δρόμος хоровой лирики? Именно на этот контекст указывает Геракл в монологе, обращенном к Адмету, когда победой в состязаниях объясняет присутствие приведенной им женщины, укрытой покрывалом: Больших трудов мне стоила. На играх (ἀγῶνα), предложенных атлетам, получил я этот славный приз.147 О том, что эти слова не прошли мимо слуха Адмета, свидетельствует его реплика в последовавшем вслед за этим споре (стихомифии), вызванном нежеланием хозяина принять женщину в свой дом: Увы, если бы на этот раз в состязании (ἀγῶνος) эту [награду] ты не взял.148 Кроме того Геракл сообщает Адмету, что женщина была последней наградой. Зрители, находившиеся в театре, знали, что завершал состязания, как правило, бег с оружием: таким победителем был, например, Телесикрат Киренский, которому посвящена знаменитая 9 Пифийская песня Пиндара. Бег с оружием по-гречески: ὁπλιτοδρόμοι, то есть буквально: беговые состязания гоплитов, тяжело вооруженных пеших воинов. Таким образом, в деянии (δρᾶμα) Геракла необходимо должен просвечивать традиционный смысл, связанный с состязаниями и состязательным бегом (δρόμος). Стало быть, и награда, завоеванная в результате этого деяния, не такого рода, чтобы по ее поводу можно было дискутировать. Тем более это касается благочестивого Адмета, в начале трагедии вздыхавшего о даре Орфея, ему не доступном. Деяние Геракла, если оно действительно таково, каким он его представляет, восстанавливает лад, поэтому святотатством является любое сопротивление ему и любое несогласие с ним. Если наше предположение верно, тогда мы должны сделать вывод, что все персонажи трагедии Еврипида – πράττοντας (“просто” действующие), но только Геракл принадлежит к тем, о ком мы скажем, что они не только “просто”, но “драматически” действующие: δρῶντας. Он является тем самым трагическим героем, разрешающим конфликт, без которого сама трагедия не Еврипид. Трагедии. – Т.1 / Еврипид – М.: Искусство, 1980. – С.52. Пер. И.Ф. Анненского. 148 Evripides. Alcestis / Evripides. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980. – P.40, 1102. Далее в тексте после цитат указываются стихи по этому изданию. 147 стала бы трагедией. Таковым же у Шекспира является, например, Гамлет. Представляется очевидным, что именно таких действующих лиц имеет в виду δρῶντας в аристотелевском осмыслении поэтического творчества Софокла. В софокловском Эдипе и в Геракле Еврипида нам открываются два разных аспекта трагического героя: у первого – сила мысли, у второго – физическая мощь, но и та и другая направлены к одной цели – восстановить утраченный миром лад: что значит: ис-целить его. Именно поэтому они не просто персонажи, но трагические герои. В границах обозначенной парадигмы мы обретаем ключ к пониманию трагических героев Шекспира: все они не просто πράττοντας, но δρῶντας; при этом либо мудры, как Эдип, либо титаничны, как Геракл. В Гамлете оба эти качества соединяются. Титаническая задача, стоящая перед шекспировским героем, ничуть не уступает по своим масштабам тому, что совершил Геракл: Время выскочило из сустава (joint): о, злобное проклятье, Что именно я рожден его вправить!149 Казалось бы, в этом отношении у Гамлета есть достойный соперник – Лаэрт. На вопрос короля, кто может остановить его в его яростном порыве отомстить виновникам смерти отца, Лаэрт отвечает: Весь мир не сможет, только моя воля: А что до средств, я из мужей, которые настолько хороши, Что и с малыми средствами смогут пойти далеко.150 Этот ответ мало чем отличается от подобного рассуждения Геракла: Я пряну из засады, обовью Руками Смерть. И нет руки на свете, Чтоб вырвала могучую, пока Мне не вернет жены.151 Тем не менее, мы знаем, что Лаэрт все же остается из тех мужей, которые только πράττοντας. Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце датском / У. Шекспир. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – С.98. 150 Там же. – С.294. 151 Еврипид. Трагедии. – С.45. 149 Отличие Гамлета от Лаэрта, в первую очередь, заключается в различии целей. Если бы Гамлет хотел просто отомстить Клавдию, он, конечно, не стал бы медлить, но тогда он ничем не отличался бы от Лаэрта. Есть, однако, и другое отличие. В словах Гамлета мы находим не только ясное осознание того, что ему предстоит совершить, но и мужественную готовность это сделать, тогда как у Лаэрта – только риторика: мы знаем, что его остановила и подчинила себе не его собственная воля, но воля Клавдия. Тем не менее, является ли трагическое δρῶντας таковым, что вбирает в себя онтологический смысл, присущий слову δρόμος хоровой лирики? Мы знаем, что оно не таково: Геракл хитрит, поскольку никакого агона в традиционном смысле этого слова не было. В ответ на отказ Адмета принять в свой дом женщину и, таким образом, разделить с ним торжество победителя, Геракл кощунственно – с точки зрения традиционного понимания благочестия – утверждает: И, согрешив, ошибся бы каждый, не сделавший (δράσας) это (1099). Вполне осознавая, чем может грозить ему непослушание, Адмет все же отвечает: Услуга (δρῶν) [твоя] скорбью сердце истерзает, если ее приму (1100). Δράσας и δρῶν соотнесены с δράω и, следовательно, с δρῶντας, δρᾶμα. Мы видим, что в трагедии этими словами обозначено не восстанавливающее гармонию благодатное самопроявление бытия, которое благоговейно все принимают, но предмет дискуссии. Сакральный смысл, навязанный этим словам Гераклом, оказывается для Адмета проблематичным, соответственно правомерность их понимания в контексте агона и беговых состязаний остается под вопросом. Почему? Ἀγών традиционно переводится как ‘состязание’, однако это слово значит и нечто иное. Когда греки произносили: θεῖος ἀγών, они мыслили не состязание богов, но собрание: собранность, целокупность богов, лад. Всякое действие людей, достигавшее этого лада, приобщавшее их к этой целокупности, становилось агоном не в силу его состязательности, а в силу его онтологического характера. Состязательность здесь вторична: она наиболее очевидно являла приобщенность победителя к ладу: в его торжестве божественное и человеческое соприкасались. К этому традиционному смыслу апеллирует Геракл, но поскольку мы знаем, что он говорит заведомую ложь, постольку его деяние (δρᾶμα) – не наполненное маническим смыслом возведение лада (δράμημα), но только хитрость (τέχνη). В том, что на онтологический статус начинает претендовать слово, которое только прикидывается прямым, а на самом деле надевает личину онтологически безусловного прямого слова, проявляется кризис, во многом аналогичный тому, который мы наблюдаем в позднеренессансный период. Не случайно именно эти две эпохи обозначены невиданным в истории – ни до, ни после – расцветом трагедии. Лад целокупен, поэтому и проникнутая ладом мысль целокупна (что значит: благочестива, благоговейна). Она порождается молчанием как имплицитной полнотой сакрального смысла, которая, в свою очередь, может быть выражена лишь онтологически “неповрежденным словом” – сакральным именем с его неисчерпаемой смысловой глубиной. Природу такого слова объясняет апостол Павел. Апостол говорит о благоухании познания Бога, Им самим посредством своих служителей-соработников распространяемом, которое ведет из жизни в жизнь. Для тех, кто вне этого благоухания, остается только смрад, ведущий из смерти в смерть. Почему так происходит? Все дело в слове Бога, которое можно сохранить неповрежденным, а можно исказить, что неизбежно происходит, когда человек возомнит, что в его власти распоряжаться этим словом по своему усмотрению. Не таковы подлинные со-работники Бога: “Ибо мы не имеем [такого слова], как многие торгующие словом Божиим, но из воочию явленной чистоты, но как из Бога, пред Богом, во Христе говорим” (2 K 2: 17). Подобно этому и δράμημα, будучи учреждающим лад деянием, может быть раскрыта во всем своем неискаженном существе – в первоначальном греческом понимании святости – лишь “неповрежденным словом”. Таково слово хоровой поэзии. В этом случае лад проявляется празднично в торжестве победителя-любимца богов и празднично закрепляется в песне во время торжественного обряда в его честь: лад как единящая собранность целокупных имен. Лад, учрежденный событием Боговоплощения, проявляется светоносно в духовном восхождении к Богу. Это тоже торжество – благодатная праздничность такого состояния мира, когда заботы повседневной жизни отходят на второй план: лад как Любовь, преизобильно источаемая Именем имен, обнимающем Собою все целокупные имена. И в первом, и во втором случае речь идет о торжестве ни в коем случае не в смысле удовлетворенного самолюбия: лад всегда проникнут благочестием. Торжество имеет в виду преобладание тенденций к собиранию, восстановлению целокупности (παν-ήγυρις – торжественное всенародное собрание, всенародный праздник): торжество просветленного пребывания “в одном духе (πνεύματι)” (E 2: 18), “в одном уме (νοῒ), в одном разумении (γνώμῃ)” (1 K 1: 10), то есть в одной смысловой полноте целокупного имени. В событии Боговоплощения сущность лада выявилась с наибольшей полнотой. Вот почему мы сделаем большой шаг вперед, когда поймем, что не сщмч. Дионисий Ареопагит – платоник или неоплатоник, а сам Платон – предареопагитик. Речь ни в коем случае не идет о личном превосходстве первого над вторым. Происхождение драмы связано с тем, что она как бы “призвана” заменить “неповрежденное слово”: она сама хочет стать таким словом. Все дело, однако, в том, что драма обращена не к адептам, не к посвященным, а к публике, которая именно потому интересуется драмой, что ее интересы преимущественно находятся уже вне сферы, сопряженной с “неповрежденным словом”. Поэтому драма претендует на то, что осуществить не может. Самое большее, что она может сделать, – потрясти уклонившиеся от прямого пути умы и таким образом напомнить о “неповрежденном слове”, которым прямые пути понимания определяются. Трагический катарсис и есть такое потрясение-напоминание – миметический аналог манической приобщенности к целому миру, как она, эта приобщенность, может проявиться в эстетической сфере. Речь в данном случае можно вести только о подобии. В “Алкесте” сущность драмы (трагедии) выявлена Гераклом, учреждающим такое состояние мира, в котором прежнему благочестию нет места: оно осмеяно и унижено титаническим героем, прямым предшественником “титанов Возрождения”. В этом новом состоянии мира тотально господствующим оказывается диалогическое понимание – единственно доступное для Геракла, который начинает что-либо понимать только после того, как ему это ‘что-либо’ диалогически вдолбят в голову (например, что его поведение в доме Адмета неприлично). Геракл знает лишь диалогическое слово: сама его знаменитая сила – лишь аргумент в диалоге, а все, что превосходит диалог, неизбежно становится у него своей противоположностью (например, лай вместо пения). Это значит: ни о каком сохранении манического смысла “неповрежденного слова” в миметической трагедии не может быть и речи. Так что же, δρᾶμα – всего лишь словесная маска или, говоря точнее, личина состязательного бега (δράμημα), пустое в смысловом отношении созвучие? Кажется, у нас есть все основания ответить на этот вопрос утвердительно, поскольку онтологический смысл, присущий второму слову, в первом напрочь отсутствует. Пусть не введет нас в заблуждение отмеченное Аристотелем дорическое происхождение названий ‘комедия’ и ‘драма’. В сугубо миметической драме, как и в комедии, господствует, конечно, уже аттический смысл. Различие между онтологически укорененным дорическим диалектом и в значительной степени утратившим эту укорененность, погрузившимся в софистические умствования (διαλογίσμος) аттическим, очевидно, аналогично тому, которое М. Хайдеггер усматривает между греческим языком с присущим ему изначальным онтологическим опытом, и латинским, лишенным такового и определившим беспочвенность всего западного мышления последующих столетий. Придя к выводу, что ключ к греческой поэзии – конфликт Диониса и Аполлона, Ф. Ницше ввел в заблуждение целые поколения своих почитателей и последователей. Кажется, никто из них так и не задумался, что при этом делал Зевс и почему он остался в стороне? На самом деле ключевым для понимания трагической эпохи и причин, обусловивших переход к ней, является конфликт Аполлона с Зевсом. Именно Зевс учреждает тот первоначальный греческий лад, который мы понимаем как соприсутствие богов и людей и к которому приобщаемся в песнях Пиндара: все другие боги – служители Зевса, выполняющие то, что онтологически обусловлено им. Рождение трагедии и, соответственно, начало трагической эпохи связано с тем, что была нарушена онтологически изначальная целокупность богов – их агон. В греческой трагедии, начиная с первых трагиков, конфликт героев онтологически предопределен уже наличествующим конфликтом богов, например, Ареса и Зевса в “Просительницах” Эсхила, очевидно, самой ранней из дошедших до нас его трагедий. Можно ли утверждать, что деяние Геракла в “Алкесте” – не соработничество с богами, но, как уверен Адмет, его самостоятельное деяние и даже – противоборство воле богов? Очевидно, не всех. Приведя неизвестную женщину к дому Адмета, Геракл особенно настаивает, чтобы хозяин коснулся ее, взял ее за руку и держал ее руку в своей руке. Адмет не сразу согласился сделать это: Ад. Я не коснусь ее: [пусть] вопреки [моей воле] входит в дом. Гер. Лишь одной твоей правой руке я ее вверил. Ад. Царь, насильно, не по моей воле, меня принуждаешь сделать это. Гер. [Нужна] отвага (дерзость), чтобы протянуть руку и коснуться чужеземки. Ад. Вот протягиваю, словно (ὡς) Горгоны ожидаю [коснуться]. Гер. Держишь? Ад. Держу? Да. (1114-19) Почему для этого столь простого действия нужна отвага и даже дерзость? Вспомним то, что говорилось о взаимосвязи сакрального имени и культа (лада) в главе “Исток филологии”. Чужеземка неприятна, как Горгона, именно потому, что она не принадлежит тому ладу, в пределах которого пребывает Адмет. Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что отнюдь не чужеземка должна вступить в пределы недоступного ранее для нее культа, но сам Адмет – в пределы нового состояния мира, учрежденного Гераклом. Только после этого Геракл может сдернуть покрывало с незнакомой женщины. Все, что происходит в приведенной выше сцене – сакральное событие: обряд перехода из лада как присутствия в другой “как будто (ὡς)” лад, с которым имеет дело драматическое искусство. Не в борьбе Геракла с Танатосом, которая остается за сценой, но именно в жесте Адмета заключено главное драматическое событие: только после него деяние Геракла обретает видимую законность. Содержание трагедии в том, собственно, и состоит, что благочестивый Адмет сначала сопротивляется Гераклу (а вместе с Адметом сопротивляется и все традиционное греческое благочестие), а потом признает его правоту. Только после этого новый миропорядок становится реальностью. Жест Адмета, взявшего за руку приведенную женщину, становится решающим моментом его перехода от прежней смысловой целости к новому состоянию мира, учрежденному деянием Геракла, причем делает он это до того, как узнал, кто такая незнакомая женщина. Возвращение Алкесты предполагает полное отрицание прежнего миропонимания, в том числе и клятвы, которую дал Адмет Алкесте перед ее смертью: не вводить в дом другую женщину. Возвращение Алкесты, таким образом, – награда за нарушение клятвы: Ад. Но разве жену мою, которую похоронил, вижу? Гер. Осознай истинность [ее присутствия]. Не удивляюсь, однако, что ты не веришь выпавшему тебе счастью. Ад. Прикасаюсь, обращаюсь с речью к моей ожившей жене? Гер. Обращаешься [к ней]. Ибо держишь все, что желал. Ад. О, самой дорогой жены вид и стан, Держу тебя нежданно я, полагавший, что больше никогда тебя не увижу. (1129-34) Признав правоту Геракла, уже изнутри нового миропорядка Адмет прославляет его: О, величайшего Зевса благородное дитя, Да пребудет с тобою благая часть, и породивший тебя отец Пусть хранит тебя, ибо ты один восстановил лад (чин и угоду). (1136-8) Поскольку в границах τέχνη непосредственный онтологический контекст уже утрачен, сказать: ты один восстановил или, напротив, ты восстановил вместе с Аполлоном, значит сказать одно и то же. Но именно потому, что оно вне онтологического контекста, деяние Геракла – ни в коем случае не восстановление лада, но только его подобие: лад никогда не является результатом деяния героя-одиночки, каким бы могучим он ни был. Об этом знал Пиндар: “Сила в свой срок сбивала с ног и надменного”152. Но Адмет судит теперь с точки зрения другой правды, в пределах которой кощунство становится добродетелью. Поэтому кощунство неизбежно становится присущим и самому Адмету: Я зависти небесной не боюсь 152 Pindari carmina cum fragmentis. – P.I. – P.103, 15. И солнцу говорю: “Гляди – я счастлив”.153 Сказанное Адметом – дерзость, за которой всегда неотвратимо следовала кара, Адмету ли это не знать? Даже полубог Геракл, решительно подтвердив, что Адмет держит рукой именно свою жену, тут же опасливо творит молитву: …Да не вызовет это зависти в ком из богов. (1135) “Завистливое око олимпийцев” (Ф.И. Тютчев) – это, конечно, всего лишь плод фантазии человека трагической эпохи, следствие его гордыни, свидетельство утраты соразмерного ладу соприсутствия человеческого и божественного: в человеческой жизни нет и не может быть ничего, что могло бы стать источником зависти для богов, – это знало прежнее благочестие. И хотя дело не в зависти богов, все же Геракл вполне осознает непрочность учрежденной им реальности, но молится вовсе не о том, о чем следовало бы молиться. Этих опасений, кажется, начисто лишен Адмет. И все же таких слов, которые мы находим в приведенном выше переводе И.Ф. Анненского, он сказать, конечно, не мог: не нужно делать из него Яго, до этого еще очень далеко. Отдавая распоряжение гражданам тетрархии творить обряд в честь Геракла и хороводом венчать счастливое завершение событий, он говорит: …Теперь утвердился лад лучшей жизни, ожидающей нас: от выпавшего [на мою долю] счастья не отрекусь (1157-1158). Тем не менее, сказанное Адметом, конечно, бунт, ничуть не меньший, нежели тот, с которым мы встречаемся в интерпретации И.Ф. Анненского, хоть и выраженный не в такой дерзкой форме. Бунт против кого? Против Аполлона? Можно ли утверждать, что прежний лад был учрежден Аполлоном, его договоренностью с Мойрами отсрочить смерть Адмета, когда придет его час, если кто-нибудь согласится умереть вместо него? Человеческой составляющей этого лада является благочестие (ὅσιος) Адмета: так его характеризует сам Аполлон (10). Ὅσιος, как и всякое целокупное имя, невозможно перевести одним словом. Оно значит: благочестивый, но также священный, святой, набожный, чистый, незапятнанный. Когда греки говорили: τὰ ὅσια καὶ τὰ δίκαια (святое и справедливое), – они имели в виду 153 Еврипид. Трагедии. – С.58. соприсутствие божественного и человеческого, их лад. Однако в выражении ἱερὰ καὶ ὅσια (божеское и человеческое) это имя значит, по-видимому, противоположное, но на самом деле то же: человеческое, приобщенное к божественному, соединенность божественного и человеческого. ὅσιος, таким образом, будучи целокупным именем, говорит то же, что σύμβολον (шов, связь) – другое целокупное имя. В ряду этих имен должно быть помыслено и церковнославянское слово ладъ (“линия на прикосновении или соединении досок по всей их длине, паз между досками”154) – живая явленность целокупности. Из сказанного можно сделать вывод, что олицетворением этой связи, то есть лада, становится в трагедии Аполлон, так же названный: ὅσιος. Будучи богом, он одновременно – слуга Адмета, исполняющий наказание Зевса. ὅσιος, стало быть, – это состояние мира, которое учреждается присутствием Аполлона. Адмет, будучи причастным этому состоянию мира, сам становится ὅόσιος. То же следует сказать и об Алкесте, чей поступок (готовность умереть вместо Адмета) определяется тем целокупным смыслом, которым наполнен лад. В то же время отец Адмета Ферет, не пожелавший свою жизнь принести в жертву сыну, – вне лада, его поступки целиком определяются здравым смыслом, свойственным сфере πρᾶξις, именно поэтому он остается персонажем комическим. Наше рассуждение было бы справедливым, если бы не только новый миропорядок, но и прежнее благочестие оставалось в трагедии Еврипида живой реальностью. Между тем в ней мы имеем дело как с живой реальностью только с новым миропорядком, поэтому и все происходящее в трагедии должно быть помыслено изнутри этого миропорядка. Трагедия – всегда и только миметический жанр. Весь вопрос в том, чему именно как живой реальности подражает та или другая трагедия: целокупному ладу или новому миропорядку. В этом отношении, конечно, существует большое различие между Еврипидом и Эсхилом. В “Просительницах” последнего Аполлон не противостоит Зевсу, но в пределах традиционного благочестия является его соработником в их общем противостоянии неистовому Аресу – 154 Г. Дьяченко, прот. Полный церковно-славянский словарь. – С.278. первопричине трагического конфликта. На сцене эта борьба богов проявляется как конфликт дочерей Даная и сыновей Египта: Предводительница хора О Зевс, не дай погибнуть, сжалься, смилуйся! Данай Коль он захочет, все счастливо кончится. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предводительница хора К лучам взываем солнца благодатного. Данай И к богу Аполлону: он бежал с небес. Предводительница хора Чтоб, зная долю беглых, нам сочувствовал. Данай Сочувствовал и смертных защитил, как друг.155 У Эсхила упоминается тот же эпизод из сказаний об Аполлоне, который является важнейшим для понимания трагедии Еврипида: его пребывание на земле в качестве слуги Адмета. Мы видим, что у Эсхила сочувствие Аполлона к смертным – отнюдь не проявление его противоборства Зевсу. В трагедии Эсхила утверждается идея непоколебимости традиционного благочестия. Совсем другое у Еврипида: Аполлон у него вовсе не противостоит Гераклу, а потом и Адмету, как защитник прежнего благочестия, но сам является первопричиной нового состояния мира, которое мы назовем трагическим. Борьба Геракла с Танатосом – продолжение конфликта Аполлона, учредителя нового миропорядка, с Зевсом. Чем определяется этот новый миропорядок? Об этом мы узнаем уже в прологе от самого Аполлона, объяснившего, благодаря каким способностям ему удалось отсрочить смерть Адмета: …Благочестивого (ὁσίου) мужа благочестивый (ὅσιος) получил сын Ферета, которого от смерти я избавил, Мойр обманув… (10-12). То, что в основе деяния Аполлона – обман, подтверждает и Танатос, пришедший за Алкестой: Не достаточно тебе, коварному, что судьбе Адмета не дал свершиться, Мойр искусством (τέχνη) перехитрив? (32-34). Сущность нового миропорядка, отныне признанного единственно реальным, заключается в том, что Бога начинают понимать как Демиурга, творящего мир на основе божественной 155 Эсхил. Трагедии / Эсхил. – М.: Искусство, 1978. – С.14. Пер. С. Апта. τέχνη, то есть законов, доступных человеческому пониманию. В границах τέχνη человек осознает себя сначала соперником богадемиурга, а затем, упразднив его и обожествив, таким образом, сами по себе законы, которые теперь стали законами природы, осознал самого себя единственным субъектом исторического процесса. Этим глубочайшим переворотом, то есть переходом от присутствия к τέχνη, обусловлены и основные периоды в последующей европейской истории, и все неисчислимое разнообразие последующих родов деятельности – от поэтического искусства и философии до сегодняшней генной инженерии. Этим переходом обусловлены все важнейшие события европейской истории вплоть до последних новостей: что “Бог умер”, вследствие чего идея сверхчеловека (под новой личиной – все того же Геракла или его предшественника в искусстве оживления мертвых Асклепия) становится определяющей тенденцией двух последних столетий; что единственно бытийной, ergo онтологически первичной, становится действенная сфера с ее субстанциальной субъективированностью, прагматизмом и т.д. Тотальность τέχνη делает невозможной целокупную мысль. В пределах τέχνη Бог неизбежно умирает: это было констатировано в XIX веке, но произошло намного раньше – в тот момент, когда бог был объявлен демиургом, владеющим τέχνη. Мощь учрежденного Аполлоном и совершенного Гераклом переворота оказалась такой, что даже событие Богоявления как наиболее полное осуществление со-присутствия божественного и человеческого очень скоро специализированной богословской и философской мыслью было вовлечено в заезженную колею τέχνη и там не могло не утратить свой подлинный смысл. Всякая попытка изнутри τέχνη помыслить Бога – это и есть “свободное мыслительство”, тогда как попытка совершить то же в границах действенной области и диалога, подчинивших себе τέχνη, – это даже не “свободное мыслительство”, а “мудрование”: “…Ежели не смиришь мудрование свое, то благодать оставит тебя, и побежден будешь в том, в чем искушаем был. Ибо твердо стоять в добродетелях сам собою не можешь. Это есть дело благодати, Сына Аполлона, смерть которого от молнии Зевса – именно за то, что совершил Геракл (оживление мертвых – известных по трагедиям Ипполита, Капанея и др.), – предопределила конфликт Аполлона с Зевсом. которая носит тебя, как мать свое дитя на руках своих” (преп. Нил Сорский). То, что трагическая эпоха в лучшем случае лишь изнутри τέχνη может помыслить Бога, свидетельствует о ее онтологической ущербности. В пределах этой области, утратившей Бога и именно поэтому озабоченной умозрительными доказательствами Его бытия, ни все эти доказательства, ни все проявления богоборчества не имеют никакой онтологической значимости, поскольку являются свидетельством ‘не есть’ человека, не могущего, стало быть, проникнуть в бытийную тайну, упразднить или хотя бы поколебать бытийное ‘есть’. Поруганием со стороны толпы, крестными муками, смертью на кресте, Воскресением, то есть учреждением лада как соприсутствия, в пределах которого смерти нет, трагическая парадигма как тотальность τέχνη онтологически упраздняется. Онтологической основой ποίησις является ἀγών, то есть живая целокупность богов, открытая для целокупного приобщения людей. Порождающей основой трагедии и трагической эпохи в целом оказывается конфликтное, следовательно не должное, состояние божественного агона: борьба богов за торжество того или иного миропорядка. В богоборчестве богов, таким образом, находит легитимацию богоборчество людей: оправданием для них и, следовательно, кумиром для богоборцев становится, например, Прометей. У Эсхила, а затем у Софокла, при всех потрясениях, торжествует все же подражание ладу как присутствию. У Еврипида осуществляется радикальный переход к ладу как творению τέχνη: именно он устами Адмета назван лучшим. Еврипид, уже Аристотелем объявленный трагичнейшим из поэтов, – наиболее значимый предтеча наступившей эпохи. Он был слишком нов для современников, но затмил других трагических поэтов в последующее время. С тех пор в границах этой – трагической – парадигмы движется европейская история, в которой периоды экзальтированного пиетизма сменяются, как в наши дни, периодами вульгарного богоборчества, однако и те и другие в равной мере остаются вне того смысла, которым наполнено событие Богоявления. * * * Перед тем как заявить свое право на бунт, Адмет совершил то, что греки называли: τὰ περὶ τοὺς θνήσκοντας ὅσια (священные обряды, установленные по отношению к мертвым). Заявить, что новое состояние мира, учрежденное дерзким поступком Геракла, лучше, значит отменить все священные установления, на которых покоилась прежняя божественно-человеческая целокупность. При этом сам Адмет перестает быть ὅσιος в прежнем смысле этого слова. Поэтому трагедия Еврипида не разрешает трагического конфликта, вызванного утратой лада, но, по-видимому, разрешая один конфликт (возвращение Алкесты Адмету), она тут же порождает новый: на смену трагическому герою Гераклу, сразу же приходит трагический герой Адмет. В ответ на приглашение остаться и присутствовать на устроенном в его честь празднике, Геракл отговаривается до другого раза: “Ныне же следует мне торопиться” (1152). Другого раза не будет, поскольку принадлежность Геракла к δρῶντας – не разовое событие, после которого наступает отдохновение от трудов, но то, чем сущностно определяется способ его пребывания в мире. Его лихорадочная деятельность, которая никогда не прерывается, – следствие одержимости такого рода деланием, когда состояние присутствующего ис-правляется им самостоятельно, в соответствии с его собственным пониманием должного. Такая одержимость вполне раскрывает свою квазионтологическую природу, если только мы сравним ее с подлинной божественной одержимостью со-работников богов. Геракл мечется по всем известным в то время землям и странам, чтобы делать, делать и делать свое нескончаемое дело, творить лад и при этом никогда его не достигать. Сизифов труд трагического героя. Любого трагического героя, не только Геракла. Что касается Адмета, то он – не богохульник, но герой, сделавший свой выбор в пользу Геракла, и притом – с этого момента – трагический герой, готовый ценою жизни расплатиться за этот выбор, ибо он не может не сознавать, что деянием Геракла прежнее со-гласие с богами упразднено. Вот почему ни в коем случае нельзя исключать, что теперь Алкеста возвратилась уже за ним. Не отрекаясь от нее и тем самым подтверждая истинность всех слов любви, обращенных к ней, Адмет проявляет черту, не свойственную Гераклу, но отныне становящуюся, наряду с мужеством, определяющей чертой трагического героя. Как всякий подлинно трагический герой, Адмет, прежде всего, честен. Так, Эдип становится трагическим героем не тогда, когда пытается перехитрить судьбу, избежав, таким образом, предсказанного, но тогда, когда высказывает готовность заплатить по счетам за все, что совершил. Иллюзия благополучия в трагедии Еврипида возникает потому, что он ставит точку там, где у Софокла было бы только начало. Аристотелевские πράττω и δράω, таким образом, вместе целиком охватывают действенную сферу, которая для М.М. Бахтина – в суженном до πράττω виде – станет конститутивным моментом в осмыслении сущности искусства. Эта сфера действенности не является онтологически первичной, но учреждается в качестве якобы онтологически значимой посредством хитрости (τέχνη) сначала Аполлона, а затем Геракла: она представляет собой только личину онтологии. Об этом нам говорит “Алкеста” Еврипида. В поэтическом искусстве (τέχνη) “просто” действовать и “драматически” действовать опосредовано представлением: не онтологическое событие, как у Пиндара, а иллюзия, образ онтологического события. Вот почему действенная сфера не может быть здесь не только первичным, но даже равнозначным представлению конститутивным моментом поэтического искусства: лишь постольку, поскольку она опосредована красотой, она становится фактом искусства. Онтологическая ущербность действенной сферы сначала Аристотелем, а затем новоевропейской эстетикой была успешно переосмыслена: это, конечно, иллюзия, но такая, в которой сущность жизни раскрывает глубже, нежели в любом проявлении действительной жизни. При этом онтологически первичный опыт ποίησις, которая не является искусством, был проигнорирован. Трагедия, будучи вполне миметическим поэтическим жанром, тем не менее, апеллирует к онтологическому смыслу хотя бы попыткой пародийно его изобразить. К онтологическому смыслу, хранимому первоначальной ποίησις, по-разному апеллируют все традиционные жанры поэтического искусства (ποιητικὴ τέχνη) именно потому, что всем им присуще не только πράττω, но и δράω. Δράω – это пуповина, которая не дает поэтическому искусству забыть о его происхождении из ποίησις, хотя о самом происхождении поэтическое искусство, конечно, ничего уже не знает: оно для него не более, чем грёза, полузабытый предутренний сон. Роман – единственный жанр, который этой пуповины лишен, поскольку целиком происходит из области «πράττω» “зоны контакта с незавершенным событием настоящего” (М.М. Бахтин), не ведающего о знаках, связующих настоящее с уже бывшим и предстоящим. Для того, чтобы выйти из этого, предопределенного его происхождением, ограниченного состояния, роман не вбирает в себя другие жанры (он на это не способен по определению), но превозмогает свои границы, приобщаясь таким образом к той тусклой памяти об онтологическом смысле, которая присуща традиционным жанрам поэтического искусства. Когда герметичные границы романа становятся проницаемыми для этого смысла, он перестает быть только романом и, стало быть, перестает быть только чтивом. Разложение драмы и ее погружение в сферу «πράττω» приводит к тому, что она становится мелодрамой, в которой на смену поэтическому содержанию приходит его эрзац – аффектация. Точно так же и роман, не выходя за пределы означенной сферы, остается мелодраматичным, тогда как восходя в область «δράω», он становится романом-комедией, романом-драмой или даже романом-трагедией и лишь при этом условии становится поэтичным. Еще раз: действенная сфера, тем более исключительно понятая как «πρᾶξις», не является конститутивной для произведения словесного искусства. Собственная область такой действенной сферы, в которой она вполне возвращается к своей сущности и проявляется непосредственно, – этика, нравственная философия. Даже роман не может быть целиком ограничен областью «πράττω», если претендует хоть на какую-то поэтическую значимость, тогда как этика только к этой области и апеллирует. Роман собственного поэтического содержания не имеет. Его исключительная сфера, в которой он остается самим собой и не трансформируется в другие жанры – жизнь как сугубая эмпирическая πρᾶξις, в которой ничего поэтического нет. Поэтическое – в проявлении лада или хотя бы в напоминании о ладе как целом мире. ποίησις являет лад, τέχνη творит иллюзию лада и только в этом случае становится ποιητική. “Назидательные новеллы” М. Сервантеса будут восприняты как безнравственные только в том случае, если мы начнем рассуждать о них сугубо прозаически, а это значит: изнутри действенной сферы, сферы πρᾶξις как единственно значимой. Такой подход подразумевает, что эстетическое по своей сущности явление будет помыслено не в эстетических терминах: то самое, к чему стремился М.М. Бахтин. Между тем эстетическая сущность новелл Сервантеса заключается, прежде всего, в том, что они ироничны именно по отношению к такому подходу, поскольку иронизируют над претензией πρᾶξις быть законодательницей в той области, где правит поэтическое искусство. Сама мораль при этом перестает быть отвлеченным императивом и обретает плоть и кровь живой жизни, не переставая, однако, являть собою всего лишь эрзац онтологического события. В то же время какой-нибудь “отменно длинный нравоучительный роман”, признающий правомерность претензии πρᾶξις на законодательство, именно потому останется чуждым подлинной поэзии. Еврипидовский Геракл целиком остается в границах поэтического искусства, а не ποίησις по той причине, что он не принадлежит онтологическому событию, но только играет в онтологию. Этот не просто игровой, но якобы онтологический момент необходимо присущ подлинному поэтическому искусству. Там, где он исчезает, остается либо бессодержательная игра, либо только дидактика, морализаторство, вполне возможно – полезное, но не искусство. Подлинно поэтическим любое произведение словесного искусства становится лишь тогда, когда в красоте его образов присутствует хотя бы отблеск той Красоты, которой наполнен лад и которая поэтому никогда не может быть ограничена сферой πρᾶξις. Поскольку, однако, роман оставляет наибольший простор для анализа самой по себе действенной сферы, так что и эстетическое при этом отходит на второй план, постольку роман остается любимейшим жанром персоналистов. В отличие от миметических жанров словесного искусства, для которых конститутивным является эстетическое начало, ποίησις, будучи манической по своей природе, пребывает в смысловой полноте целокупного имени и остается во владении своей сущности, пока эту связь хранит, что значит: хранит полноту явленности онтологического события и приобщенности к нему. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГРЕЧЕСКИЙ ЛАД И вместе с тем муж, говорящий прямые слова, содействует явленности лада в его целости. Pyth. II: 86 Осмысляя сущность поэзии, а также своеобразие творчества разных русских писателей, А.М. Ремизов обращается к слову, которое остается неведомым нашей теории словесности. Это слово – лад. Благодаря обращению к этому слову история русской литературы неожиданно предстает перед нами как история сохранения искони присущего ей лада и одновременно как история его утраты. Катастрофичными для нее в этом смысле были результаты деятельности Петра I, который “залил на Москве Красную площадь стрелецкою кровью и по крови дубинкой забил глубоко в землю природный лад русской речи”156. С этой точки зрения, столь же неожиданно более значимым, нежели поэзия “русского Пиндара”, оказывается творчество В.К. Тредьяковского, излюбленного объекта насмешек для очень многих писателей – вплоть до нашего времени: “Осьмнадцатый век никакой памяти. У Тредьяковского еще какие-то, как из сна, обрывки, а у Ломоносова не ищите. Третий век, из поколения в поколение – да мы и думаемто не по-русски, ладя слова по грамматике Грота, и со знаками препинания”157. Творчество Н.В. Гоголя проникнуто южно-русским ладом158, и этим объясняется в первую очередь обаяние его поэтического слова. Суров А.М. Ремизов по отношению к И.С. Тургеневу – по той причине, что он “создает” хотя и “стройную”, но “обреченную на безвыходность, воображаемую на человеческий лад человеческую жизнь. По плану, с метрикой и послужным списком действующих Ремизов А.М. Сны и предсонье / А.М. Ремизов. – СПб.: Азбука, 2000. – С.149. 157 Там же. 158 См.: там же. – С.253. 156 лиц он даст русскую повесть – nouvelle; наставник его будет Флобер”159. В ограниченности творчества Тургенева человеческим ладом ответ на вопрос, почему слова его “робкие” и почему он говорит “тихим голосом (вот кто никогда не напугает!)”160. Поэтому по художественной силе произведения Тургенева никогда не смогут сравниться с творчеством Толстого и Достоевского, достигающих “своей вдохновенной изобразительностью… вершин Иезекииля”161. Понятно, что в случае Толстого и Достоевского речь идет о таком ладе, которым сметаются, как домики из картона, все человеческие мерки. Кажется парадоксальным, что неизбывный голос человека звучит при этом гораздо громче. Именно потому, что человеческую мерку освоить легче, “русская литература идет за Тургеневым, что и проще, и посильнее”. За Толстым и Достоевским, как и за Шекспиром, идти невозможно: “нехватка голоса, да и глаза наши – не орлы”162. Мало кто в ХХ веке смог написать о ладе так, как А.М. Ремизов. Но что для него “лад”? А.М. Ремизов пишет о ладе русского языка, русской речи. Лад – живой первоисток слова, то есть имени как такого слова, в котором имплицитно заключена вся полнота языка. «В “ладе” имя»163, но также и в имени – лад. Только то слово и живое, в котором хранится хотя бы отзвук лада. Лад звучит, его звучание гармонично. Живое и гармоничное – одно, потому что живое – соединяет (ἁρμονία – связь, скрепа), оно всегда – целое. Целое упорядочивается (становится ладным), тогда как мертвое всего лишь механически составляется из частей. Лад – хранимый языком первоисток и неуничтожимая первооснова народной жизни, образующая народ. Без него совокупность людей даже и совокупностью не останется, а разбредется в разные стороны. Поэтому «лад – звучание души народа»164. Таковы основные мысли А.М. Ремизова о ладе. Все это говорит глубоко укорененный в стихии русской речи человек, обладающий абсолютным слухом к живому. Это, конечно, не Там же. – С.220. Там же. – С.165, 169. 161 Там же. – С.148. 162 Там же. – С.220. 163 Там же. – С.147. 164 Там же. 159 160 эстетика, но то, что ее превышает и ее обусловливает. Лад онтологичен, на него опирается любая претендующая на значимость эстетика. В имени, а потом в поэзии как развертывании смысловой полноты имени лад впервые проявляется. Поэзия, стало быть, самая главная скрепа, которой удерживается лад народной жизни. Когда поэзия об этой своей единственной цели – быть тем, что снова и снова восстанавливает лад – забыла, тогда на смену поэзии пришло поэтическое искусство. Но и поэтическое искусство чего-то стоит лишь тогда, когда оно оживлено живой водой – подспудным присутствием лада или, если нет, вопиет о его утрате, оставляя заметы в народной душе. История литературы в какой-то момент становится не более чем историей напоминаний о том времени, когда расщепленная народная душа была целой, то есть проникнутой ладом. Ее можно десятилетиями вытаптывать, душить в стальных идеологических тисках, потоками лжи приводить в бесчувственное состояние, но как только ослабнет хватка, она вновь возвращается к своему нормальному состоянию, определяемому присущим ей изначально ладом. Рассуждения, что существуют два лада русской души – от лукавого. Лад может быть только один, при этом он не может быть трагическим. В ладе проступает, проявляется неразрывная родовая связь разных исторических эпох в жизни народа; трагическое – свидетельство разрушения этой связи, следовательно, утрата лада. Любой народ, утративший лад, весь без остатка преданный своей трагической судьбе, перестает быть народом, но может остаться призраком, длящим свое присутствие в истории только ненавистью и беснованием при соприкосновении с ладом, то есть живой жизнью других народов. Смысл присутствия в истории таких народов-призраков только один: снова и снова испытывать на прочность другие народы, их волю к жизни. Сказанное объясняет, через какое испытание прошел в ХХ веке русский народ. Никто не может с уверенностью утверждать, что это испытание уже закончилось. Воля к жизни и воля к культуре не противостоят друг другу, поскольку в их основе одно. Для верующего христианина достижение лада – это возможность уже в земной жизни, покаявшись, приобщиться к Царству Небесному, которое “приблизилось” (Матф. 3: 2): “Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него” (Лук. 16: 16): “καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται” (и всякий достигает его силою, то есть силою воли, сосредоточенной на достижении лада). Христианское смирение, таким образом, отнюдь не бесхребетность, в нем проступает твердость, которую ничто не сокрушило и не сумело поколебать за две тысячи лет, поскольку не смогло превозмочь оберегающее и удерживающее присутствие лада. Ничто заменить его не может. В XIX веке Ф. Ницше, а затем слишком многие в ХХ веке путали волю к жизни и волю к смерти. Лад существует в таком просторе, где никому не тесно, поэтому он никогда не может быть первопричиной ненависти к другим народам и другим религиям: для всех есть место, всем хватает “жизненного пространства”, которое отнюдь не километрами измеряется. Стремление “толкать падающего” вызвано не жизнью, проникнутой ладом, а волей к смерти. Лад (уклад) – не просто некая особенность устройства социальной жизни или быта. Напротив, социальная жизнь или быт того или иного народа целиком определяются искони присущим ему ладом. Поэтому невозможно и даже опасно весь мир кроить по одному лекалу. Самолеты улетят, а те, кому удастся выжить, вновь станут жить по заветам своих отцов и дедов. В этой исполненной достоинства верности заветам как раз и проявляется тяга к ладу, что значит: воля к жизни. Еще раз: язык хранит память о ладе и укрепляет волю к нему. Современному человеку, забывшему о сакральной природе языка, трудно и даже невозможно постичь эту простую мысль. Но вот повод для раздумий: почему церкви стоят, и в годы гонений и погромов даже с помощью современных технических средств многие из них не были разрушены, а жилые дома и школы, построенные в те же годы, падают сами собой? Потому что первые были построены с молитвой, тогда как у вторых каждый кирпич больше, чем раствором, полит матерной бранью – как же они будут стоять? какая сила их удержит? Так что скрепляет прочнее любого бетона? В ладе имя, – говорит А.М. Ремизов. Но и в имени лад, – добавляем мы, – если имя это сакральное. Что же дальше, сразу речь, язык? Всецело в этих – сугубо словесных – пределах должна двигаться наша проникнутая ладом мысль? Но мы-то помним, что теория словесности слыхом ничего не слыхала о ладе, тогда как в музыке он – основа основ, зиждущее начало гармонии. Не без музыки лад и в речи. Об этом знает А.М. Ремизов: “Музыка так и звучит и “лад” ее открывает больше, чем “склад”слов”165. Склад, стало быть, становится ладом, когда встречается с музыкой? В музыке исток лада? Нет, но и лад, который в речи, и музыкальный лад из одной “первожизни”, которая – до всякого расщепления и рассечения: “Я знаю, ты откуда, ты из первожизни всякой жизни, ты, озаривший мою рассеченную душу”166. “В тишине рождается пение”, – говорил Бетховен, один из любимейших сынов гармонии, к тому же лучше других знавший, что такое тишина. “Молчание – порождающее лоно поэзии”, – вслед за Тютчевым, тоже любимцем гармонии, говорим мы. Можно ли утверждать, что немецкий композитор и русский поэт говорят одно? Запомним этот вопрос и не будем спешить с ответом. В глубине сакрального имени, которым впервые было нарушено “священное молчание” (Дионисий Ареопагит) божественной полноты, таится росток того, что мы теперь называем ладом, в музыке ли он проявляется или в поэзии. Что было дальше? Хотя ответ очевиден, я все же попрошу назвать единственный музыкальный жанр, который нравится всем без исключения, идет ли речь о величайших представителях человечества или о самых обычных людях. Давно уже ставшее пошлостью рассуждение, что, дескать, все жанры хороши, кроме скучного, нисколько не отменяет того простого факта, что они по-разному хороши, то есть хороши в разной степени, следовательно, и ценностью обладают разной. Нас, непритязательных “детей ничтожных мира”, pointe d’esprit Вольтера удовлетворяет вполне, однако она не убедила Н.В. Гоголя, тщетно пытавшегося в “Мертвых душах” превозмочь границы романного жанра, вместив в него то, что этому жанру – вопреки утвердившемуся мнению о его универсальности – недоступно. 165 166 Там же. – С.145. Там же. – С.269. Сонаты и скерцо создаются не для дискотек, аляповатые джазовые композиции – не для любителей камерной утонченности. И только песне везде находится место – и в храме, и в филармонии, и на дискотеке. Скажут: это разные песни, но все другие жанры тоже могут быть разными, при этом условия их исполнения не меняются: где-то уместно одно и нежелательно или неуместно другое. Песня – это первый жанр, в котором музыка и поэзия впервые выявили соприсущий им лад и в то же время вполне проявили свою разделённость. В глубине человеческого сознания, конечно, сохраняется память о том, что когда-то в самом начале не от повторения имени того или иного бога, но от пропетой богу песни стало зависеть восстановление лада. Песня, таким образом, стала первым шагом к осознанию человеком самого себя. Повторяя имя бога, он остается растворенным в божественном имени, тогда как песня предполагает устремленность человека к богу, а значит и уже проявившуюся какую-то его отдаленность от бога. Рождение песни обусловлено не потребностью отдохновения от трудов, но сущностными причинами онтологического характера: необходимостью восполнения человека до целого, когда принадлежность к целому оказывается под вопросом. Такое восполнение необходимо человеку, ибо оно целительно: оно исправляет поврежденный дух. Не случайно греческое слово ἀναπληρόω значит: восполнять, но также: исправлять. В песне человек впервые пробуждается к сознательному мышлению, поэтому оно изначально было стихослагающим. Вот почему для каждого человека – соразмерно его возможностям – найдется любимая песня. В ней – родовое лоно нашего самосознания, в ней наша изначальная человечность. Вот почему так таинственно-притягательна и властительна песня. Из песни – вся последующая поэзия во всем ее многообразии. Из песни – вся последующая музыка во всем ее многообразии. Из песни вся последующая человеческая мудрость. То, о чем нельзя сказать, можно пропеть, потому что песня больше, чем та область, в которой правят разговоры. Первоначальные песни – гимны, они обращены к богам либо к Богу, они – воспевание имен богов или Бога, они учреждают общую сопринадлежность тех, кто их исполняет, сакральному смыслу, заключенному в божественных именах. В гимнах, таким образом, раскрывается изначальная сущность лада. Поскольку существуют два рода гимнов – о первом мы можем судить по песням Пиндара, о втором – по сочинениям сщмч. Дионисия Ареопагита, – постольку, очевидно, существуют и два лада: вопервых, свойственный изначальному греческому миру, во-вторых, миру христианскому. В настоящей главе речь пойдет только о первом. Что говорит нам о ладе поэзия Пиндара? В его третьей Олимпийской песне читаем: Муза встала рядом со мной, Ибо мною обретен новоблещущий лад, С дорийской поступью слаживающий праздничную речь. Венки на этих кудрях К богозданному зовут меня долгу, Зовут меня слить Перезвоны лир, переклики флейт и склад слов По достоинству Энесидамова сына.167 Мы видим, что отрывок, приведенный в переводе М.Л. Гаспарова, буквально пронизан ладом. Так и у Пиндара: νεοσίγαλον τρόπον – новоблещущий лад; ἐν-αρμόζω – прилаживать. При этом не следует думать, что Муза расположилась рядом, чтобы подивиться самоценному искусству поэта или “не заинтересованно” полюбоваться его искусством. Дело не в искусстве. Муза – при поэте (παρέστα μοι168), но и поэт при Музе: присутствием Музы засвидетельствована подлинность поэтической речи. Это именно соприсутствие: голос поэта – это одновременно голос Музы: в ладе как присутствии они сливаются, смешиваются (μίγνυμι). Лад как присутствие – смешение человеческого и божественного, как смешала (μιγεῖσα) Алкмена в одних родах доблестных двух сыновей – от Амфитриона и Зевса – мощную в борениях (κρατησίμαχον; Pyth. IX: 84, 86) силу. Возможность смешения божественного и человеческого и, таким образом, учреждение лада как следствия такого смешения обусловлена Напомню, что сам сщмч. Дионисий Ареопагит называет свои сочинения гимнами. 167 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.19. 168 Pindari carmina cum fragmentis. – P. I / Pindarus. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980. – P.13, 4-5. Далее в скобках римскими цифрами указывается номера песен, арабскими – номера строчек по этому изданию. общим происхождением богов и людей, различие же между ними сугубо количественное: Есть племя людей, Есть племя богов, Дыхание в нас – от единой матери, Но сила нам отпущена разная…169 Поэтому, когда проявляется в человеке “мощная в борениях сила”, ее одной оказывается достаточно, чтобы вознести его “до небожителей”170, хотя сила эта – всегда дар небожителей. Здесь нет разделения на онтологически первичное и онтически вторичное, здесь все в равной мере онтологично, поскольку все принадлежит ладу. Гимн не просто сочиняется поэтом, поэт его “воздвигает” (ὀρθόω; Ol. III: 3), что значит: воздвигает лад. Вместе с ним это делают музыканты, играющие на формингах и авлосах, а также участвующие в праздничной процессии, украшенные венками девушки, которые исполняют торжественную песнь. И во всем этом одновременно участвуют боги, они не только учреждают, но и воздвигают лад вместе с людьми: Правда (Δίκα) сама Соприсуща этим песенным шествиям.171 Все сказанное – ответ на вопрос, что значит ‘петь’ в понимании Пиндара. В девятой Пифийской песне, помянув “мощную в борениях силу” Ификла и Геракла, он говорит о своем предназначении: Мне же петь их по добром исходе каждой мольбы.172 Перевод введет нас в заблуждение, если мы на сентиментально-романтический манер вообразим здесь мечтательного поэта, в уединении вверяющего звуки своей лиры дубровам и лугам: и пение здесь другое и молитва другая. Глаголу ‘петь’ у Пиндара соответствует κωμάσομαι от κωμάζω, что значит: ходить веселой процессией в честь Вакха или другого бога с Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.134. Ср. слова бл. Феофилакта Болгарского: “Он есть Хлеб, поскольку мы веруем, что закваска человеческого смешения испечена огнем Божества”. Здесь речь идет не только о количественных различиях. 170 Там же. – С.135. 171 Там же. – С.100. 172 Там же. – С.106. 169 песнями и плясками, то есть шумно, бурно, весело проявлять свое почитание божества. Ни о каком воспевании поэтом самого себя, здесь, конечно, не может быть и речи173. Должно быть также отмечено, что τρόπος (в переводе М.Л. Гаспарова – лад, но также – тон, мелодия) – это ни в коем случае не наш троп с его обязательным переносным смыслом. Прямое слово – основополагающая особенность лада и ποίησις. Гимн всегда остается на “прямых путях правды”(εὐθείᾳ… δίκᾳ; Nem. X: 12), не сбиваясь “на кривую (πλαγίῳ; Nem. I: 64) дорогу”174, т.е. хитросплетения последующего подражательного искусства с его ‘тропами’, так что и саму художественность как сугубо эстетическую категорию, целиком относящуюся к ποιητικὴ τέχνη, начинают понимать из иносказательности. Τρόπος у Пиндара – продолжение “прямого ума” богов, “не знающих лжи” (ψευδέων ἄγνωτον; Ol. VI: 67)175, но соразмерное возможностям человеческого приобщения к нему, ‘обращенное’ (τρέπω) к человеку. Лад, стало быть, – это взаимная любовная обращенность богов к человеку и человека к богам. Не музыкальным ладом гимна порождается блеск и сияние лада, которым проникнуто присутствие: напротив, в гимне должен быть увиден свет уже просиявшей славы Энесидамова сына – Ферона Акрагантского, которому посвящен праздник. Не только блеск и сияние, но и праздничность, песенная многозвучность (ποικιλόγαρυν; Ol. III: 8), полнота проявленности, открытость торжества – непременные особенности или свойства лада как присутствия. Победа Ферона Акрагантского вызывает к жизни гимн, но гимн, конечно, не просто отблеск победы. Только в гимне вполне раскрывается подлинный ее смысл, благодаря чему и жизнь раскрывается вполне как лад, то есть как праздничное соприсутствие богов и людей, и, таким образом, становится явленной, зримой ее (жизни) подлинная сущность: Кто лишен слова (ἄγλωσσον), но храбр сердцем, Того забвение крепко держит Сравни, что по этому поводу говорится у Гегеля; см.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения / Г.В.Ф. Гегель. – Т. 14. – С.306. 174 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.152, 119. ’Ορθα˛ φρενί (Ol. VIII: 24), что значит: прямое целокупное разумение, из которого только впоследствии возникнут разные способности мышления. 175 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.37, 29. 173 в гибельном злоязычии, Тогда как наибольший почет достается верткой лжи. (Nem. VIII: 24-26). При этом учреждаемое победой Ферона Акрагантского и воздвигаемое гимном пространство лада потому и возможно, что божественное не теряет своей божественности и поэтому освящает лад, а человек не забывает о своей человеческой природе и поэтому не выходит за пределы дозволенного ему: чем больше он приближен к богам, тем больше их чтит. “Не рвись быть Зевсом”176, – нерушимость благомыслия: важнейший императив, нарушение которого катастрофично для человека. В 9 Пифийской песне Пиндар восклицает: Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι καθαρὸν φέγγας. (Pyth. IX: 89а-90). Харит звенящих Да не оставит меня чистый свет! Именно в Харитах греческий мир как раз и явил сущность лада как присутствия: Аглая – сияющая, Евфросина – благомыслящая, Талия – цветущая. Лад – награда за борение: только достойный достигает его, а значит уже при жизни, подобно богам, живущим на Олимпе, вкушает блаженство. Поэтому и звучит песня, гремит музыка, во все концы разнося славу любимца богов. Вне борения – не лад, но его противоположность, “безмолвное бессилие”177: буквально: ‘молчаливое неборение’ (σιγαλὸν ἀμαχανίαν; Pyth. IX: 92). Молчание, таким образом, оказывается не средоточием изначальной смысловой полноты, но своей противоположностью и одновременно противоположностью песне – всего лишь вне лада пребывающей тенью изобилующей в ладе жизни. Где нет лада, там нет ни жизни, ни песни. Там совсем другое: не всепобеждающая мощь чтящего богов героя, прославленного из поколения в поколение и распространяющего любовь и благоволение богов на весь свой род, город, остров, а, напротив, призрачное, на грани бытия и небытия существование, и тогда: Что – мы? Что – не мы? Сон тени – Человек.178 Там же. – С.171. Там же. – С.106. 178 Там же. – С.101-102. 176 177 Лад – это проявление воли богов (должного) в людских деяниях. В свою очередь человек должен оказаться достойным тому требованию, с которым обращается к нему судьба. Мерой достоинства человека определяется лад; нужно быть всегда готовым высказать свое достоинство, ибо второй раз случай может и не представиться: Случай, который выпадает людям, имеет краткий срок. Это хорошо известно: они же ему – добровольные помощники, а не слуги, исполняющие [приказы]. (Pyth. IV: 286-287). Люди богам – добровольные помощники (θεράπων), такие же, каким был Патрокл Ахиллу: полностью свободные в своем выборе со-работники. Только совместными усилиями богов и людей может быть учрежден и воздвигнут лад. Таким же со-работником является и поэт: Сияюще-тронным Музам добровольным помощником пришел я к Олигетидам. (Ol. XIII: 96-97). Упоминание Ферона Акрагантского в гимне – указание на меру, которой должна соответствовать похвала: в песне ничто не должно выходить за пределы этой меры. Поэтому величина гимнов у Пиндара ни в коем случае не определяется щедростью заказчика, но только характером воздвигаемого лада, всегда соразмерного учредившему его деянию: “О великом речь – всегда велика”179. Лад как присутствие – не метафизичен; он вовсе не является некой вечной данностью, неподвластной времени. У Пиндара Время (Χρόνος; Ol. II: 17) – “всему отец”180. Любой учреждаемый и воздвигаемый лад не вечен, но вечна ладность мира, ибо вечны боги, они же суть ее (ладности) прекрасные олицетворения. Они вместе с ладом воздвигаются и только в нем обретают свой прекрасный облик, вечно перетекая из одного лада в другой. Лад сияет ослепительным блеском, потому что он наполнен божественным. Лад как присутствие не метафизичен; он представляет собой вот-бытие, но такое вот-бытие, в котором выявлена вся смысловая полнота присутствия. Чем оглушительнее слава, величественнее могущество, неисчислимее богатство со-работника богов, 179 180 Там же. – С.105. Там же. – С.14. учреждающего лад, тем ощутимее благоволение богов, обращенное к их любимцу, тем полнее присутствие проявляет себя как лад. Таким образом, песней лад, учрежденный заслугами лучших людей, воздвигается, то есть становится явленной данностью просветленного истиной присутствия, в котором человеческое соседствует и даже смешивается с божественным. Из такого лада и о таком ладе – вся фундаментальная онтология М. Хайдеггера. БЛАГОДАТНЫЙ ЛАД …Бог во Христе примирил с Собою мир… 2 Кор. 5: 19 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился; не я впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 1 Кор. 15: 10 В разговоре о благодатном ладе нельзя обойти вниманием вопрос об орудийности языка. Поскольку об этом я писал и в монографии “Интерпретация и толкование” (2000), и в монографии “Об интерпретации и толковании” (2007), в этой главе можно ограничиться лишь несколькими краткими уточнениями. В предыдущих публикациях было предложено различать неметафизический, то есть кажущий присутствие, казовый язык, символический, сущностной особенностью которого является его метафизический характер, а также инструментальный язык. В пределах символической языковой орудийности было осуществлено разграничение изначального священносимволического языка и собственно символического, автономного по отношению к священному содержанию. Казовым языком, согласно точке зрения, высказанной в монографиях, определяются все особенности ποίησις, тогда как символической орудийностью языка – все особенности ποιητικὴ τέχνη. При этом священносимволический язык оказывался на границе фундаментальноонтологического казового и автономно-эстетического символического языков: он сохранял способность казать Истину, но сама Истина приобретала трансцендентный характер. В свою очередь инструментальный язык характеризовался как антипоэтический по своей сути. С точки зрения этого языка, ποίησις как изначальное и самое главное делание (буквальный перевод слова ‘поэзия’) становится своей противоположностью – в лучшем случае забавой и, если не служит прямым прагматическим целям действенной области, только в таком качестве и допускается. Инструментальному языку и сознанию гистрионской эпохи, признающему только такой язык, никогда не понять, почему “поэт старше, чем другие люди…”181 Что здесь можно уточнить? Возможность уточнений подсказало имя ‘лад’: священносимволический язык не противостоит казовому как метафизический фундаментально-онтологическому. Фундаментально-онтологический характер имеет все, что принадлежит ладу, в чем проявляется сущность лада как присутствия. Гимны сщмч. Дионисия Ареопагита, которого современные книжники и фарисеи по-прежнему пытаются пятнать словечком ‘псевдо-’, проникнуты не метафизическими отвлеченностями, но реальностью присутствия Истины, с той существенной разницей, что в них она проявляется не только иначе, но и с большей полнотой и глубиной, нежели в песнях Пиндара. До тех пор, пока Запад пребывает под властью этого псевдо-, а это значит: под гипнотическим взглядом известного насмешника Эразма Роттердамского, предтечи нынешних гистрионов, никакого возвращения к онтологической мысли в мышлении Запада быть не может. Все лучшее, что было в западном мышлении после отпадения католического мира от апостольской Церкви, – а это богословие св. Фомы Аквинского и философия Николая Кузанского – онтологически связано с благодатно-целокупной мыслью сщмч. Дионисия Ареопагита. То же мы скажем и о проникнутой целокупностью философии М. Хайдеггера, убежденного в религиозной основе своего философствования. Когда мы говорим о ладе, мы должны помнить, что проявиться он может только в пределах символико-казовой орудийности языка. При этом не будем забывать, что метафизичность вовсе не является сущностной характеристикой 181 Элиот Т.С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. – С.148. символа. Сущностной характеристикой символа является его принадлежность ладу. Συμβολή по-гречески – такое столкновение, результатом которого становится связь, соединение, в первую очередь соединение божественного и человеческого в их со-присутствии. Символико-казовая орудийность языка – это язык молчания, молитвы и гимна, которые лишь тогда наполнены смыслом, когда соотнесены со священным именем, когда исходят из целокупного имени и являются способом самораскрытия его неисчерпаемой смысловой глубины. В имени проявляется онтологическая сущность лада. Лад первоначальной греческой поры предстает как “нетронутая целость счастья” (Pyth. III: 105-106) олимпийских богов, к которой на больший или меньший срок может приобщиться – к примеру, в результате торжества в состязании – человек: Но пора мне воздвигнуть память мою, Чтобы славить цвет победительных рук Блепсиадов, Ныне шестым окружившихся венком В лавроносных играх (ἀγώνων)… <…> Весть, дочь Гермеса, скажет Ифиону А Ифион перескажет Каллимаху Блещущую олимпийскую красу, Зевсом уготованную их породе. Зевсова да будет воля Славные славными умножить их дела, А режущие немощи отвратить от них. Зевс да возбранит Немезиде Надвое мыслить об их добре, Безгорестною жизнью Возвеличивая и город их, и род.182 Приобщение это всегда обусловлено благоволением богов и никогда не бывает результатом противостояния и борьбы с богами. Такое приобщение, явленное в торжестве, – это и есть лад, который всегда онтологически связан с именем учредителя. Достоинством потомков гарантируется сохранность лада: не только полубог, сын Аполлона Иам, но и “почитающие доблесть” Иамиды по “славному 182 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.39. (видному всем) пути” (Ol. VI: 72-73) шествуют. Блеск и гремящая слава видного пути восполняются словом гимна, так что онтологически торжество победителя и слово гимна – одно. Гимн не просто воспевает некое деяние, он его со-учреждает как лад. В этом проявляется символико-казовая сущность гимна. Но мы вот уже две тысячи лет знаем, что есть также лад как присутствие благодати. Первоначальному греческому ладу тоже присуща χάρις, то есть благодатно-целокупная явленность истины, о чем свидетельствует и сказанное в предыдущей главе, и опыт осмысления целокупности сщмч. Дионисием Ареопагитом. Но степень самопроявления целокупной истины в первом и втором случае разная, поэтому данную главу правильнее было бы назвать: “Собственно благодатный лад”. В Евангелии от Иоанна говорится: “ И слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати (χάριτος) и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. <…> И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать…” (1: 16). Буквально в Евангелии сказано: χάριν ἀντι` χάριτος, что значит: ‘благодать вместо благодати’. На смену менее полному проявлению благодати приходит благодать во всей своей совершенной полноте. Событие Боговоплощения есть предельная полнота явленности лада как со-присутствия божественного и человеческого. Напомню еще раз слова преп. Нила Сорского: “…Ежели не смиришь мудрование (т.е. διαλογισμός. – А.Д.) свое, то благодать оставит тебя, и побежден будешь в том, в чем искушаем был. Ибо твердо стоять в добродетелях сам собою не можешь. Это есть дело благодати, которая носит тебя, как мать свое дитя на руках своих”. Лад не метафизичен и не эмпиричен: он вне этого разделения. Он целокупен, то есть охвачен полнотой самопроявления целого міра. Человек принадлежит целому міру и только поэтому сам становится целым. Лад всегда тео-онтологичен, поскольку он всегда – богоименство, т.е. “участие, сродство, прикосновенность божественному имени”183. Он всегда онтологически безусловен, 183 Г. Дьяченко, прот. Полный церковно-славянский словарь. – С.51. следовательно, его реальность не нуждается в диалогическом обсуждении и обосновании. У лада в его первоначальной явленности свое благое слово (εύ-λογος морского старца Нерея): Хвали и врага за красивые дела Всем сердцем, и будешь прав.184 Преисполненное блага имя (εὐώνυμον) является для человека крепчайшим из благодатных даров (χάριν).185 Лишь при условии следования благому слову, пребывания в благом имени можно стать сопричастником лада. Никогда лад не строится на ненависти к врагам или на основе сублимированной модификации ненависти – ловком диалогическом противостоянии оппонентам. Мысль М. Хайдеггера онтологически связана с ладом, присущим первоначальной греческой поре. Он полагал, что поставленные им проблемы станут доступными пониманию лет через триста. Вполне возможно, что он ошибался. Разве мы в нашей повседневной жизни не сталкиваемся на каждом шагу – вплоть до олимпиад и одержимости ими – с подражанием именно тому ладу, осмыслению которого посвятил М. Хайдеггер всю свою жизнь? Другое дело, что этот наш нынешний “лад”, лишенный греческой религиозной основы и приспособленный к не слишком впечатляющим возможностям современного обыденного понимания, мало что сохранил от “лавроносных игр” той первоначальной поры. Лад как присутствие благодати один и тот же – от Нового Завета и гимнов сщмч. Дионисия Ареопагита до современных подвижников и молитвенников. Наполненный всеми признаками вырождения, трагическими противоречиями и гистрионским кривлянием міръ сделает первый шаг к обретению мира лишь тогда, когда люди научатся почитать тех, благодаря кому человеческое существование все еще остается в границах онтологического смысла (причастно ладу). Это почитание нужно не им, а нам. Свидетельствами о ладе как присутствии благодати наполнены книги, которые остаются недоступными для расслабленных современных умов. Однако только этот лад и дает 184 185 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.106. См.: там же. – С.113. См. также: Pyth. XI: 58. подлинную, непреходящую радость: “Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал: “Царствие Божие внутри вас есть”. Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святаго и отвне осиявает и согревает нас и, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью неизглаголанною”186. То, что таким образом открывается “внутри вас”, – не субъективный самообман, но онтологически значимое для “целого міра” событие.187 Преп. Серафим Саровский говорит о реальности благодати, которой наполнено присутствие, открывается же она или не открывается сообразно достоинству каждого человека. Если она тебе не открывается, это не значит, что она метафизична, а только то, что ты – вне лада. Если она тебе не открывается, это не значит, что она не есть, это значит, что ты не есть. Человек вне лада всегда не есть, но именно в этом не есть творится новоевропейская история. Первоначальный греческий лад и благодатный нельзя грубо противопоставлять по принципу “или-или”. Речь должна идти о разной степени, полноте выявленности благодати. В гимнах Пиндара благодатно (χάρις) все, что принадлежит песенному ладу, поскольку он всегда находится под попечительством Харит (Χάριτες), но также Зевса, Аполлона, Музы, других богов, героев, которые благодатью имени своего осенили потомков. Поэтому и восклицает в молитве Пиндар: “Да не оставит меня Харит звенящих / чистый свет!” (Pyth. IХ: 89а-90). С другой стороны, благодатный лад, учрежденный событием Богоявления, – это тоже ἀγών, сохраняющий свою онтологическую целокупность: “Ибо желаю, чтобы вы знали (εἰδέναι), сколь великую борьбу (ἀγῶνα) веду я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы были призваны сердца их, примиренные в любви, также и во всякое богатство полноты соединения (συνέσεως), в познание тайны Бога, 186 187 О цели христианской жизни. – М.: Паломникъ, 2001. – С.56. См.: там же. – С.57. Христа, в котором заключены все сокровенные богатства мудрости и знания” (Kol 2: 1-3). О каком знании говорит апостол? Εἰδέναι образовано от οἶδα – знаю. При этом сочетание χάριν εἰδέναι значит: пребывать в благодатной радости; сочетание ἤπια εἰδέναι τινί – быть расположенным к кому (ср. расположение как фундаментальный экзистенциал в онтологии М. Хайдеггера188). Речь, таким образом, идет не о рассудочном знании – единственном, которое новоевропейский человек признает без оговорок. ‘Знать’ здесь – значит пребывать в знании, всей полнотой своего существа онтологически приобщиться к знанию. Равно и σύνεσις – это соединение, слитие и именно поэтому, на этой основе – разумение. Будучи онтологически укорененным, оно – это разумение – становится благодатным, при этом оно всегда – результат агона, борьбы, подвига. В пределах агона, имеющего в виду восстановление благодатного лада, осуществляет свою борьбу каждый подвижник. Пример такой борьбы подает апостол. Вот почему и сщмч. Дионисий Ареопагит говорит о благодатном ладе теми же словами, какими прежде греки говорили об учреждающих лад состязаниях: “…Богообразный (θεοειδὴς) иерарх начинает помазание, а иереи завершают священнодействие помазания, образно призывая усовершаемого к священным подвигам (ἀγῶνας), благодаря которым он оказывается под судией соревнований, Христом, поскольку Тот как Бог – творец судейства, как Премудрый же установил его законы, а как Прекрасный соделал благолепные награды победителям. И еще более божественно то, что Он как Благой среди атлетов священно боролся вместе с ними за их свободу и победу над силой смерти и тления. И приходит усовершаемый к соревнующимся как к божественным, радуясь, и пребывает в законоположениях Премудрого, и согласно им неотступно борется, уверенно имея надежду на прекрасные награды, становясь под покровительство Благого Господина и руководителя атлетических соревнований; взойдя же божественными следами Первого из атлетов и по причине благости победив богоподражательными ведущими к обожению подвигами противоположные ему действия (ἐνεργείας) и См.: Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Ad Marginem, 1997. – С.134-142. 188 образы существования, он, говоря таинственно, со-умирает в крещении со Христом для греха”189. Утверждение, что смысл хоровых песен Пиндара стал непонятен грекам вскоре после его смерти, не совсем верен. Мы видим, что этот смысл вполне понятен сщмч. Дионисию Ареопагиту и именно потому, что в благодатном ладе – в изначальной целокупности Истины, Добра и Красоты – с предельной полнотой выявилось то, что уже присутствовало, хотя и неотчетливо и искаженно, в первоначальном греческом ладе. Не пропустим еще один урок: в пределах лада само подражание становится целокупным именем, обретая не вторичный эстетический, но изначальный фундаментально-онтологический смысл, поэтому и соотнесено здесь должно быть не с ποιητικὴ τέχνη, а с ποίησις. В главе “Действие и онтологическое событие” говорилось о трудностях, с которыми столкнулся Аристотель, когда он попытался выявить сущность не простого действия (πράττοντας), а собственно драматического. Вспомним, что он сначала употребил слово ἐνεργοῦντας, а затем δρῶντας. Обращение к благодатному ладу помогает нам более глубоко понять смысл этого перехода: “Итак, каждое устроение священноначального лада в соответствии с соприродно свойственной [ему] соразмерности возводится к божественному соработничеству (συνεργίαν), благодатью и богоданной силой [в своих пределах] совершая то, что природно и сверхприродно присуще Богоначалию, и сверхсущественно Им осуществляется (δρώμενα), и священноначально является для соответствующего возможностям боголюбивых умов 190 подражания” . Πρᾶξις становится ἐνέργεια, когда она оказывается в сфере воздействия богоначального действия (δρᾶμα). Само собой разумеется, что и это действие, и обусловленная им возможность подражания не являются принадлежностью драматического искусства или эстетически понятого подражания, но они суть явленный ладом онтологический исток искусства и эстетики. Об агоне как непременном условии приобщения к ладу, стихослагая, говорит преп. Силуан Афонский: Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания / Дионисий Ареопагит. – СПб.: Алетейя, 2001. – С.47. Пер. Г.М. Прохорова. 190 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.36-38. 189 Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, Ведут духовную войну. Этой войне Святые научились Долгим опытом От благодати Святого Духа. Дух Святой наставлял их, Вразумлял и давал силу Побеждать врагов, А без Духа Святого Душа не может даже И начать этой войны, Потому что она не знает И не разумеет – Кто и где ее враги.191 Искаженный сознанием новоевропейского человека отголосок этой борьбы, этого подвига необходимо расслышать и в стихотворении Ф.И. Тютчева: Природа знать не знает о былом, Ей чужды наши призрачные годы, И перед ней мы смутно сознаем Себя самих – лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, Свершающих свой подвиг бесполезный Она равно приветствует своей Всепоглощающей и миротворной бездной. Тютчевский подвиг ведет свое происхождение от греческого агона. Различие между учреждением лада и приобщением к нему и, с другой стороны, трагическим мироощущением – в понимании агона: он либо наполнен онтологическим смыслом, либо лишен такового. Ф.И. Тютчев в приведенном выше отрывке из стихотворения “От жизни той, что бушевала здесь…” выступает как один из самых глубоких выразителей сущности трагической эпохи, ясно осознавая при этом ее исчерпанность. Между тем тот подвиг, который имеет в виду преп. Силуан Афонский, никогда не бывает бесполезным, но в ином, более высоком смысле, нежели тот, который доступен человеку трагической эпохи. Первоначальный греческий лад был утрачен, как только греки помыслили бога исключительно как демиурга, владеющего Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мір / Преп. Силуан Афонский. – М.: Паломникъ, 2009. – С.100. 191 искусством (τέχνη), и, таким образом, открыли для себя возможность в области искусства посоревноваться с богом и превзойти его. По той же колее, но с гораздо большим самомнением двинулось новоевропейское человечество в эпоху позднего Ренессанса. Этого самомнения хватило и для того, чтобы не стать мудрее после трагического опыта ХХ века. Тот факт, что европейский человек со временем стал мыслить символ не целокупно, то есть не в онтологических границах присутствия, свидетельствует о том, что уже осуществился переход от символико-казового языка к языку символико-метафизическому. Этот переход одновременно является переходом от ποίησις к ποιητικὴ τέχνη. В этой связи нуждается в уточнении идущая от эстетики убежденность, что инобытие истины, данное наглядному представлению в ποιητικὴ τέχνη, нисколько не ущербно для выявления сущности бытия. На самом деле все, конечно, наоборот: никакого инобытия не бывает; за пределами фундаментальной онтологии есть только ущербные способы проявления бытия. Из всех этих ущербных способов образ в его сугубо эстетической данности, будучи основополагающей особенностью поэтического искусства, но также искусства в целом, является наиболее приближенным к бытию искаженным способом его проявления, и именно в той степени, в какой вообще представлению в области эстетики иносказательно может открываться бытие. В отношении бытия поэтическое искусство, подобно Иксиону, всегда обречено обнимать облако вместо Геры. Гермес: Царь Иксион, Кронид велел Гефесту обруч сделать, Уж из чего – не знаю. Ты на нем Своим распятым телом образуешь И втулку, царь, и спицы. К ободку ж Тебя притянут не канаты – змеи.192 Казнь Иксиона целиком соответствует эмблематичному для трагической эпохи изображению человека, выполненному Леонардо да Винчи. τέχνη и есть то колесо, к которому намертво притянут – особенно в новоевропейское время – человек, и уже Анненский И. Царь Иксион // Стихотворения. Трагедии / И.Ф. Анненский. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1998. – С.363. 192 очень давно движение этого колеса определяется не человеком, но его собственной инерцией. Ни переоценивать, ни недооценивать образ как эстетическую данность мы не должны. Мы сможем достичь этого, если не будем забывать об онтологическом истоке образа. εἶδος человеческий происхождение свое ведет из божественного образа (θεο-ειδής), что значит: из εἰκών и ὁμοίωσις Божьего. Божественный образ единовиден, тогда как человеческий предельно разнообразен, переливаясь нескончаемым потоком всевозможных оттенков: и зрительных, и смысловых. Вот почему посвящаемый в монашество, “усовершаемый”, то есть тот, кто стремится всю свою жизнь привести в соответствие с образом и подобием Божиим, произносит отречение от всех разделений (διαρεταῖς от δι-αιρέω – разделять и уже на основе этого разъяснять) – не одних только непосредственно жизненных, но и тех, которые имеют место в воображении (φαντασίαις; также: представление).193 Отречение от воображения является необходимым шагом к благодати: шагом от τέχνη к ποίησις, то есть к онтологии присутствия. Сам монах (μοναχός) так называется именно потому, что он приобщен – помимо всех разделений – к единовидному (μονοειδής): неделимому и несмешанному, простому и чистому Богоначалию. Помнить об этом необходимо, чтобы, обратившись к “уму воображающему”, в свой черед в границах τέχνη не творить Бога уже по своему образу и подобию. Тот, кто упорно в своих рассуждениях исходит из “ума воображающего”, то есть изнутри τέχνη пытается постичь Божественное и это понимание трактует как проявление тотальности во-ображения, должен оставить всякие надежды на приобщение к целокупному смыслу. Все это ведь уже было. В наше сумеречное для теоретико-литературного персонализма время апелляция его представителей к воображению свидетельствует, во-первых, о том, что от образа не так легко “отказаться”, во-вторых, что всё, дерзнувшее в теории литературы это сделать, очень быстро заканчивается. Возвращение к воображению представителей строго рационалистического персонализма – свидетельство того, что Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. – С.145. Суждение о. Софрония (Сахарова); см.: Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мір. – С.217. 193 достигший предельной остроты в позднем Просвещении конфликт “человека разумного” и “человека чувствующего”, который отчетливо проявился в памятном столкновении летом 1795 г. И.Г. Фихте и Ф. Шиллера, становится внутренним конфликтом самого теоретико-литературного персонализма. Надежды его адептов в результате этой эстетической прививки (невозможность которой в свое время ясно объяснил М.М. Бахтин) преодолеть онтологическую беспочвенность самого персонализма, изначально оказываются тщетными, что и не удивительно для дискурса, определяющей основой которого является “упование на свое тщание” (преп. Иоанн Лествичник). Все это – отголосок “эры Воображения” (У. Блейк) там, где он никогда не должен был прозвучать. Если в пределах воображения “вненаходимость” всегда предполагает эстетическое завершение, то Бахтина, прежде всего, интересуют в ней и обусловленном ею “избытке” другие моменты, не подлежащие завершению, внеэстетические: “…Вопрос в том, как Достоевский использует этот избыток. Не для овеществления и завершения”194. Говоря о воображении как онтологическом лоне поэтического творчества, современные персоналисты не должны забывать о том искусе, который с предельной остротой проявился на заре романтизма и с тех пор уже не ослабевал: У. Блейк, полагая Воображение той “вечной обителью”195, которая поэта делает Напомню, что Фихте обвинял Шиллера в том, что он в “Письмах об эстетическом воспитании человека” “обращается не к разуму, а к воображению читателя” (Лозинская Л. Комментарии // Шиллер Ф. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.6. – М.: ГИХЛ, 1957. – С.762). В наше время трудно понять, к чему еще, если не к воображению, нужно обращаться, говоря об эстетическом воспитании. “Внешний образ может быть пережит как завершающий и исчерпывающий другого, но не переживается мною, как исчерпывающий и завершающий меня” (Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. –С.118). М.М. Бахтин говорит об актуальных для него границах эстетики, обусловленных его нравственно-философской, персоналистской установкой. Нет нужды напоминать, что основная его проблематика сосредоточена как раз за пределами этих границ. 194 Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.5. – С.358. 195 Блейк У. Из аннотации к “Рассуждениям” сэра Д. Рейнольдса / У. Блейк // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: МГУ, 1980. – С.260. Пер. А.Н. Горбунова. истинным (true), именно на этом основании утверждал, что истинный поэт принадлежит “Devil’s party”196. Это неизбежно, если значимость воображения абсолютизируется, а лад как присутствие перестает быть путеводной нитью: “Два ангела направляются искать врага прямо в куще и там находят его. Он, в виде жабы, забился под самое ухо Евы, стараясь адской силой проникнуть до сокровенных органов ее воображения, отуманить ее мечтами, фантастическими призраками, обманчивыми грезами; или, вдохнув свой яд, он думал отравить им тех чувственных духов, что поднимаются из самой чистой крови подобно парам, выходящим от дыхания светлого потока. Тогда он надеялся возбудить в душе прелестной Евы недовольство, беспокойные мысли, источник тщетных надежд, тщетных целей, необузданных желаний, разжигаемых высокомерными мечтами, плодом безумной гордости”197. Само собой разумеется, что прививки от такого понимания воображения у самого персонализма нет. Говоря об онтологическом лоне поэзии, мы должны помнить, что здесь в свои права вступает не ποιητικὴ τέχνη, целиком принадлежащая к эстетической сфере с ее воображением, космосом как предметом представления и т.д., но ποίησις – проникнутое единящим воздействием лада присутствие. Еще раз: не эстетически, но онтологически следует понимать образ, принятый нами от Бога, нерастление которого представляет собой цель христианской жизни.198 Поэтому и говорит свт. Григорий Палама: “…Зримое лицо Божие есть не иное что, как божественная благодать и действие, являемое на достойных”, то есть именно самопроявление благодатного лада, что значит: не апофатика. Только изнутри τέχνη лад как благодатное соприсутствие божественного и человеческого может быть помыслен апофатически, то есть метафизически. В апофатике, как Блейк У. Песни Невинности и Опыта / У. Блейк – СПБ.: Азбука-классика, 2006. – С.174. 197 Мильтон Д. Потерянный Рай. Возвращенный Рай / Д. Мильтон. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – С.82. Пер. А. Шульговской. 198 См.: Григорий Богослов. Собр. творений: в 2 т. – Т.2 / Григорий Богослов. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. – С.60. 196 только она забыла, что ее отрицание должно стать отречением, направленным на самое себя,199 – исток трагической эпохи. Ладом как благодатным со-присутствием божественного и человеческого апофатика снимается, ибо, как говорит сщмч. Дионисий Ареопагит, ссылаясь на книгу Бытия (“Все хорошо весьма”), “в мире нет ничего, полностью лишенного причастности прекрасному”200. Если эстетическое всегда сопряжено с чувственной сферой, то целокупная приобщенность к ладу вовсе не есть нечувствие – по примеру отрешенности, атараксии восточных религий. Нечувствие неизбежно приводит к “оцепенению мысли” (преп. Иоанн Лествичник). Чувство, благодатно вовлеченное в целокупность, – такое же необходимое свойство целокупного понимания, как и ум. В пределах символико-казовой орудийности языка символ – явленное со-присутствие божественного и человеческого, их взаимопросветляющая связь. В пределах символико-метафизической орудийности языка символ – метафизический отголосок небесного в земном: “кратковременный блеск молнии”201, напоминание о соприсутствии как онтологической основе лада. Символико-метафизический язык, конечно, не учреждает лада, но он способен хранить хотя и тусклую, но память о нем. Это даже не столько память, сколько беспокойство из-за образовавшейся онтологической пустоты, о которой поэтическое искусство знает, что она не всегда была пустотой. Это беспокойство – единственное, что делает поэтическое искусство приобщенным к онтологическому смыслу. Как только оно – это беспокойство – проникает в роман, он перестает быть романом. Все, что было сказано в упомянутых выше монографиях об антипоэтической сущности инструментального языка, остается в силе. Самое главное делание – это учреждающее лад деяние. ποίησις – это ‘делание’, и она в наибольшей степени является деланием, “Отречение и умолкание мысли, отречение и высвобождение ее из категориального строя дискурсивного познания” (Флоровский Г.В. Преп. Максим Исповедник / Г.В. Флоровский // Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.XXXIX). 200 Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – С.23. 201 Там же. 199 когда становится молитвой. Только утративший всякую способность приобщения к онтологическому смыслу человек может утверждать, что поэзия – это забава, не понимая при этом, что хваленая дельность типичного представителя действенной области – всего лишь карикатура на подлинное делание. Лад связан с молитвой. Молитва – это моление, то есть просьба: Страх Господень – авва воздержания, Воздержанье дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание, Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние, Покаянье тщетно без прощения. Лучшее пред Богом предстояние – В глубине высокого смирения. Я забудусь в таинстве молчания Пред иконой чудной “Умиление”, Да очистят слезы покаяния Высшую поэзию – моление. Отец Роман (Матюшин) Известные слова из одного знаменитого романа: “Никогда ничего не просите”, – есть ничто иное как стремление всех врагов лада и их начальника “ослабить наше стремление к молитве, зная, что молитва побеждает их” (Иоанн Карпафский). Экскурс II. Корневой лад и лад кроны: О природе поэтического слова (В. Стефаник) Название нуждается в пояснении, ибо кто-то в нем усмотрит стремление к нарочитой парадоксальности, а кто-то, напротив, подумает, что автор хочет заняться зряшным делом взламывания открытой двери. Действительно, если слово В. Стефаника поэтично, значит В. Стефаник – поэт? Почему В. Стефаника мы должны называть поэтом, если всем, даже школьникам, известно, что он прозаик, писал в основном новеллы и именно в этом качестве вошел в историю литературы? Однако другие, читавшие Гегеля и хотя бы немного знакомые с эстетикой словесного творчества XIX века, помнят, что поэзией тогда называли всю область словесного искусства, поэтому, разумеется, В. Стефаник – поэт, в отличие от какого бы то ни было литературоведа, философа или историка. В первом случае проблема, вынесенная в заголовок, представляется надуманной, во втором – ее нет вовсе. Однако оба возражения оказываются неправомерными, поскольку название подразумевает другой смысл слова “поэт”. Для уразумения этого смысла нам придется возвратиться очень далеко. Ответ на поставленный вопрос нужно искать у греков. Такой далекий маршрут в свою очередь может вызвать недоумение: Стефаник и греки? Может быть, не нужно отправляться так далеко и ограничиться уточняющим пониманием поэтического в эстетике Гегеля, которого мы уже упомянули? В письме В. Морачевскому от 14 января 1897 г. В. Стефаник пишет: “Д вечеру ліс змордувався, і задеревів, і заснув камінним сном. Із світів далеких, із-за водів глибоких надніс сумну вість до села. Чи то війна буде, чи помір на люде, чи саранча сонце сховає, чи пани панщину заведуть? Бог знає – ми не знаємо. Хрестимося і спати йдемо. Лиш одна баба Тимчиха знає, що ліс шептав і що то буде. Сидить на печі, і пряде вовну, і віщує дівчатам, що на вечерниці зійшлися. “Чули-сте дівчєта, як ліс шумів? Война буде, ой буде. Такої войни ще не було. Всі царі будуть си бити. Усіх хлопців і чоловіків заберуть і всіх уб’ють, а потім старих озвуть, і вони не повертаються. Лиш баби, дівки і діти полишаються. А потім голод буде. Аж потім буде людям ліпше, бо рекрутів вже не мут брати”. Дівчата мліють зі страху і не хотя йти додому, бо страшно. Тато веде доньку додому і сварить, чому забавилася. “Я боялася, бо баба казала, що така война буде, що і вас уб’ють, і нашого Юрка уб’ють, і всіх уб’ють...” – “Добре, що тебе лишуть”, - каже тато і гадає собі: хто знає, може, й буде война, і не годен заснути. Так ми усі разом з лісом, з бабов Тимчихов, з дівчатами і татами творимо те, що життям називається в селі, а що поза селом називають люде поезією”202. Приведенный фрагмент, являясь частью письма, то есть не художественного документа, обладает высокими поэтическими Стефаник В.С. Вибране / В.С. Стефаник. – Ужгород: Карпати, 1979. – С.307. 202 достоинствами. О каком состоянии мира он говорит? Или, вернее, какое состояние мира он являет? Именно то, какое имеет в виду Гегель, говоря о первоначальной эпической поэзии, что она представляет собой “непосредственное поэтическое бытие”203. Поэтическим здесь является еще не разделенный в себе “целый мир”, в пределах которого осуществляется все бытие, а не какая-то его часть, противостоящая внепоэтической, прозаической действительности. То, что этот поэтический фрагмент появляется в письме – не случайно. Жизнь и поэзия не разделены у В. Стефаника границей, отделяющей эстетически завершенное от сырого, необработанного искусством жизненного материала. У него другая мера поэтичности, не эстетическая, однако она изначальнее и серьезнее любой эстетики. Эту меру, однако, нужно еще понять, причем именно Гегель нам в этом помочь не только не сможет, но, скорее, собьет с пути. Эстетика Гегеля и впереди, и позади нас, нынешних. Его теория художественного образа по-прежнему остается вехой, вершиной, от которой современная теория литературы отброшена на гораздо большее расстояние, нежели, к примеру, поэтика XIX века. Вот почему в своем понимании художественного образа, как он проявляется в сугубо эстетической сфере, мы, пытаясь приблизиться к Гегелю, по-прежнему остаемся гегельянцами – и так будет продолжаться, очевидно, еще очень долго. Но в том, как в “Эстетике” Гегеля осмысляется исток поэзии и ее первоначальное состояние, она безнадежно устарела. Первоначальную поэзию Гегель способен мыслить лишь эстетически, через опосредование ее автором-творцом, вкладывающим в нее “свою душу, полноту своего духа”204, не зависимо от того, о ком идет речь: о Гомере или о Гете. Между тем память поэтического слова может хранить такие смыслы, которые предшествуют рождению эстетического сознания. Когда мы говорим о памяти поэтического слова, мы должны иметь в виду, какой эпохой в истории саморазвития языка оно порождено. Гегель убежден, что поэзия с самого начала выступает как ποιητικὴ τέχνη, для которой значимы все эстетические Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3 // Сочинения. – Т.14 / Г.В.Ф. Гегель. – С.233. 204 Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3. – С.235. 203 основоположения. Творчество В. Стефаника учит нас, что изначальная ποίησις не есть τέχνη, поэтому эстетический подход к ней не является адекватным. В этой связи чрезвычайно важной и еще ожидающей сопоставимого по глубине понимания является мысль И.Я. Франко, касающаяся творчества В. Стефаника: “…Се вже не техніка”205, то есть именно не τέχνη. Противоречие, которое не уяснилось Гегелю, явственно проступает в полемике В. Стефаника с О. Маковеем. “Я готовий пристати на те, – пишет В. Стефаник в письме от 11 марта 1898 г. своему оппоненту, – що мої оповідання закороткі, за борзо шкіцовані, загрубі, аби увійшли в літературний журнал. <…> Сирий матеріал – то хиба. Але більше Ваших закидів не приймаю. Будовою своєю вони, мої оповідання, не кривдять естетики і штуки”. Ближе к концу письма автор поясняет, почему он так думает: “Як ми маємо стати на якусь оригінальну і сильну літературу, то треба писати безлично голі образи з життя мужицького. І хоть вони сирий матеріал, то все-таки не декламація. Бо всякі речі надто прибрані, і ще з життя нашої інтелігенції, серед котрої нічо не діється, мусять вийти на декламацію. А серед мужиків так багато діється, що відти і сирий матеріал має хосен. <…> Одне ще скажу Вам щиро, що мої образки, аби їх хто-небудь прочитав, то чув би естетичне вдоволення. Я таких оповідань буду сотки писати, я буду і повісті писати, але ніколи не буду давати їх публіці заокруглених. Як ме їх прожирати, най чує, що дре або скобоче”. Причины категорического неприятия “эстетических закруглений”, т.е. “делікатних фабрикатів”, В. Стефаник пояснил в письме так: “Ото я уважаю, що ті естетичні заокруглення, то є на те, аби їх читач борзенько минав, або на те, аби запліснілому мозкові не дати ніякої роботи. Навіть такої, аби він не пізнав, що як хтось змалку свині пас, а потім нагадує те життя десь у світі, далеко, вже панком ставши, аби не пізнав, що то якась мужицька дитина”206. Если оставаться в границах эстетики, то, разумеется, нужно признать правоту О. Маковея, поскольку для Гегеля в его панэстетическом подходе к поэзии подлинно (или, как он Історія української літературної критики та літературознавства: (Хрестоматія): у 3 кн. – Кн. 2. / упоряд. П.Ф. Федченко. – К.: Либідь, 1998. – С.132. 206 Стефаник В.С. Вибране. – С.322-324. 205 выражается, “конкретно”) поэтическим является то, что эстетически завершено, достигло “подлинной поэтической закругленности”207. Отсутствие такой закругленности, стало быть, ведет – с эстетической точки зрения – к невосполнимым для поэзии потерям. Настаивая на эстетической значимости “сырого материала”, В. Стефаник вступает в противоречие с основоположениями эстетики и при этом говорит о них как об общезначимых, в том числе актуальных и для его произведений, несмотря на то, что своим творчеством de facto существенно ограничивает их претензию на общезначимость. В пределах не умозрительно, а действительно актуальной для него меры поэтического само это разграничение на “сырой” и эстетически завершенный материал теряет смысл. В. Стефаник называет написанное им – в соответствии с установками эстетики – “образками”, однако для его произведений есть более точное имя – “бесіди” (λόγοι): “Я вас дуже перепрашаю за мою таку бесіду...” Эти “бесіди” – всегда ἀγών: “Куми вже не обзивалися, не перечили, бо бачили, що Івана не переможуть...” 208 В высшем своем проявлении агон – разговор с Богом: “Вийшли, і мати розповідає донькам, що їх тато вже сімдесят років має, що ослаб, що вже десять років як ледве чутно говорить, а тепер гримить, як грім, та з Богом правдається”209. Так гремел когда-то в своих молитвах Пиндар: Пифийского победителя о медном щите, Милостью глубоко подпоясанных Харит, Хочу я прокричать (γεγωνεῖν) Телесикрата, Обильного мужа, Венец Кирены, гонительницы коней…210 Γέγωνα – кричать так, чтобы нас слышали; быть слышным. “Правдатися” так, чтобы в результате родилась молитва, – ни в коем случае не проявление диалогической виртуозности в споре, что есть пустословие, для обозначения которого в церковнославянском языке было неудобопроизносимое в наше время слово. “Правдатися” – это συμβολή, столкновение, Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. – Кн.3. – С.230. Стефаник В.С. Вибране. – С.127. 209 Там же. – С.193. 210 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.102, 1-4. 207 208 результатом которого должно стать восстановление со-присутствия божественного и человеческого. Правда (“прямое слово”211) – онтологически необходимое условие лада. Любовью к земле, говорит В. Стефаник, дано человеку дерзновение к Богу и право на прощение: “Земля – твоя донька, і ти повинен мені простити”212. Возвратимся к приведенному выше фрагменту из письма В. Морачевскому. Что это? Поэтическое искусство? Нет, это поэзия, которая предшествует рождению поэтического искусства, поскольку представляет собой не созерцание и закругление (эстетическое завершение) изображаемого мира с позиции вненаходимости, но пребывание в мире: именно поэтому он остается целым. Философия? Нет, но то, что до философии. Этнография? Нет, но предшествующее этнографии. Это то изначальное целое, из которого рождается и поэтическое искусство, и философия, и все остальное. Приобщенность к нему делает самого человека целым и, значит, делает онтологически укорененным его существование и его творчество. А поскольку это так, постольку сразу же обнаруживается несерьезность всех наших дискуссий об -измах в творчестве В. Стефаника, целиком остающихся в границах эстетического или технического подхода к нему. Столь же недальновидны попытки ограничить преемственность и влияния на В. Стефаника пределами документально подтвержденных биографических фактов. Сам В. Стефаник говорит, что в гимназические годы – именно тогда, когда происходило его интенсивное личностное становление – два года не расставался с двумя томами Г. Успенского, особенно выделяя при этом его “Нравы Растеряевой улицы”213. Для гениально одаренного в языковом отношении В. Стефаника два года – все равно что для обычного человека десятилетия. Влияние, разумеется, было, и его следы обнаружить нетрудно: например, в изображении мастера у Г. Успенского (глава “Прохор Порфирыч”) и у В. Стефаника (“Майстер”). Или – еще более очевидно – глава “Дела и знакомства”, в которой рассказывается, как убитая горем жена тщетно пытается догнать своего мужа, мастерового, унесшего из дому в кабак последние вещи, и “Лесева фамілія”. Невозможно См.: там же. – С.29, 30, 63 и др. Стефаник В.С. Вибране. – С.193. 213 См.: там же. – С.230, 235. 211 212 отрицать, что влияние творчества замечательного русского писателя было благотворным. Не в последнюю очередь именно авторитет Г. Успенского и его принципиальная творческая установка (во “Власти земли”, например) “топорно и грубо” говорить “непривлекательную” правду ради самой правды укрепили В. Стефаника в его противостоянии О. Маковею, не позволили ему усомниться в своем призвании. И все-таки это влияние не касается самого главного существа дела. На Растеряевой улице не только не осталось “целого” мира, но даже память о нем большей частью растеряли. Попытка воссоздания “целого” Прохором Порфирычем остается карикатурой на подлинное “целое”, а по большому счету, очевидно, не входившему в творческий замысел писателя, – и карикатурой на новоевропейского человека, уверенного в своей способности из самого себя сотворить “целый” мир, сущность которого ему давно уже не доступна. Творчество В. Стефаника, напротив, проникнуто “целым” миром, но уже уходящим, исчезающим. Ощущением возможной или переживанием уже происходящей катастрофы “целого” мира порождено поэтическое слово В. Стефаника. Та же “власть земли” для Г. Успенского остается реальностью в качестве предмета исследования, это взгляд со стороны, тогда как для В. Стефаника – это живая, поэтически явленная реальность, одно из проявлений “целого мира”: “Здойміть мене на землю, най її ще раз поцілую”214. Хронологически творчество Г. Успенского предшествует творчеству В. Стефаника, типологически же – наоборот. Вот почему второе нельзя выводить из первого. Мы сказали, что непосредственно поэтическим у В. Стефаника является “целый мир”. “Целый мир” (“цілий світ”) является ключевым словом для понимания его творчества. Однако для того, чтобы дальнейший разговор оставался осмысленным, необходимо напомнить, что мы имеем в виду, произнося эти слова – “целый міръ”. “Целый міръ” никогда не вмещается в сферу эстетического, но превышать эту сферу он может по-разному. Его можно было бы назвать и доэстетическим, и сверхэстетическим, если бы не существовало угрозы эстетическое помыслить как первичное по 214 Там же. – С.194. отношению к нему. Ибо первичен всегда “целый міръ”, поскольку только он подлинно онтологичен. Первоначальный хоровой песенный лад связан не просто с греческим языком, но с дорическим диалектом греческого языка: только этот диалект и мог с наибольшей полнотой выявить тот онтологический смысл, который присущ песням Пиндара. Такой лад, который способен выявиться лишь в пределах одного диалекта и который нельзя без потерь перевести на другой диалект и, тем более, на другой язык, можно было бы назвать корневым ладом. Но есть также лад кроны – лад Благовестия. Такой кроной для всего православного мира стал наполненный новозаветным онтологическим смыслом греческий язык. Такой кроной для всего католического мира стал латинский язык. Крона – это уже не диалект, а единый язык в полной своей силе, достигший высшей точки в своем развитии. Неизменным остается то, что онтологическая безусловность и смысловая полнота как корневого, так и благодатного лада сказываются, стихослагая, – в гимнах ли Пиндара или в стихах Нового Завета и гимнах сщмч. Дионисия Ареопагита. В ХХ веке пример того, как принадлежность к благодатному ладу раскрывается в 215 стихослагающем мышлении, дает преп. Силуан Афонский. Корни и крона равно необходимы. В латинском языке крона изначально намного превышала возможности корней. Именно поэтому неизбежно должно было возникнуть протестантство, сначала заявившее о себе в самом католичестве в 1054 году, а несколько столетий спустя обратившее свое оружие уже против католичества. Протестантство соорудило себе крону по человеческой мерке и в соответствии с возможностями корней. Никого из его адептов до сих пор, кажется, не беспокоит, что вместо кроны получилась былинка. Гармоническое равновесие корня и кроны мы находим в гимнах сщмч. Дионисия Ареопагита: не случайно их живой водой наполнено и все православное богословие, и все лучшее, что есть в католичестве: богословие св. Фомы Аквинского и философия Николая Кузанского. Вот почему именно греческий язык хранит в себе ту полноту благодатного лада, которую никогда никакая См.: Преподобный Силуан Афонский. Плачет душа моя за весь мір / Преп. Силуан Афонский. – М.: Паломникъ, 2009. 215 внешняя сила, какой бы злобной и лукавой она ни была, разрушить не сможет. Его, этот благодатный лад, через церковнославянский язык благоговейно впитал в себя русский язык. В творческом сознании В. Стефаника благодатный лад, разумеется, присутствует. В письме С. Морачевской (весна 1897 г.) он пишет: “Ще чую, що треба стати не собою, але вищим від себе, аби хоть одне слово таке сказати за любов, щоби не було брехнею. Відай, би треби здуріти, або я знаю. Очима, може, може, складом уст, може, музиков можна би дати хоть крішку правди за любов, але мовою ніколи. А ще кажу: любов то є статуя свята, форму має коханої, але життя, святість не її, але Божі”216. Все приведенное рассуждение проникнуто тягой к благодатному ладу кроны. Но сердцевину творчества В. Стефаника определяет не этот лад, а другой. В заметке о постановке “Землі” он говорит о корневом ладе, то есть о выходящем из корневой диалектной основы языка “целом міре”: “Я боявся, що страчу і ту невеличку публіку, яку дотепер мав, а найбільше непокоїв мене покутський діалект. Сам він, цей жаргон, тяжкий і негарний... <…> І за цей покутський діалект... я лякався, і недурно. <…> Кожний діалект, кожна мова, мусить належати до цілого чоловіка, від дитини аж до старості... А вже перейнятися фразою, бо я фразесович, то треба дійсно вродитися в Русові або вчитися, і то тяжко, того діалекту. Я не міг з молодих літ аж дотепер навчитися мови інтелігентного оточення і давно, і тепер. Най Бог криє, які прикрості мав Федькович, що наслідував Шевченкову мову. Та він великий поет, а по нім то вже прийшли Тарасики, а по Тарасиках не приходив уже ніхто, лиш жаргон всіляких інтелігентів і всіляких партій, далеко поганіший від жаргону Покуття...”217 В словах В. Стефаника таится ответ на вопрос, почему, очевидно, “тяжкий і негарний” дорический диалект, которого чурались изысканная риторика и философия, смог выявить такую полноту корневого лада, которая оказалась недоступной, к примеру, для диалекта аттического. При этом интеллигентноутонченная философия, которая порождена корневым ладом, на протяжении тысячелетий не могла приблизиться не только к его 216 217 Стефаник В.С. Вибране. – С.311. Стефаник В.С. Вибране. – С.279. тайне, но даже к тому, чтобы сам факт его онтологического присутствия уяснить. Сказанное помогает понять, в каком направлении должна двигаться наша мысль, если мы когда-нибудь задумаемся над вопросом, почему “тяжкий і негарний покутський” диалект через тысячелетия смог откликнуться дорическому и пропел свою, наполненную тем же онтологическим смыслом, песнь: “Мої думки снували довгими скибами плодючої ріллі. Ссали землю, і годували мене самотою. І ще приносили солений піт і тихі пісні, що снувалися за орачем, за плугом і за погоничем. І поїли мене тим спокоєм, що мріє над ярмами волів у плузі. Бачив я ще маленькі огники між маленькими пастухами і вівці по полю. Я тут буду, як буйний вітер, панувати, заспіваю свою пісню!”218 Только песня, будучи проявлением онтологической сущности лада, способна собрать в целокупность то, что человеческая воля может соединить лишь механически. Подход к этой песне помогает обрести одно слово, употребленное Лесей Украинкой. Это слово, однако, нам предстоит переосмыслить. В статье о буковинских писателях Леся Украинка, указывая на отличительные особенности творчества Ю.-О. Федьковича от творчества В. Стефаника, говорит, что у Федьковича на первый план “выступала главным образом этнографическая, казовая сторона народной жизни», тогда как «у г. Стефаника, наоборот, мы видим изнанку этой жизни”219. Понимание Лесей Украинкой слова “казовая” остается сугубо эстетическим: оно говорит о парадной, приукрашенной действительности, противоположность которой представляет то, что мы, полагает автор, находим у В. Стефаника. Разделив міръ на его казовую сторону и изнанку, мы прошли мимо “целого міра” – порождающего лона всех творческих усилий В. Стефаника. Между тем міръ потому и целый, что сразу кажет себя целиком: все, что ему присуще, – не часть целого, но всегда тождественно целому; Там же. – С.157. Історія української літературної (Хрестоматія): у 3 кн. – Кн. 2. – С.310. 218 219 критики та літературознавства: все его имена – не названия каких-то его специфических особенностей, но сливаются в одном имени, поэтому по-разному говорят одно и то же. “Целый міръ” вне эстетического восприятия, поскольку он – не предмет представления, но всегда – живое средоточие жизни, которой целиком и безраздельно принадлежит человек. Онтология актуального для В. Стефаника “целого міра” не метафизична, но также и не эмпирична: она предшествует такому разделению: “Галаган маю у хустині зав’язаний, булок повні пазухи та й цукру добру байду. Сиджу коло мами, ладно мені, а за школу забув”220. “Целый міръ” у В. Стефаника – это лад, проявляющийся как данность присутствия. Присутствием мамы, то есть ближайшей родовой целостью, он скрепляется и становится лоном, в котором рожается слово. О том, что это лад корневой, а не лад кроны, опятьтаки свидетельствует сам В. Стефаник: “Як я об’яснив мамі, відки стільки добра в мене набралося, то мама сказала, що за кожний обарінок і яблуко треба молитву говорити. Я так не любив говорити молитви..., що від милосердних жінок я тікав, як заяць”221. Еще раз: в этом “целом міре” исток и силы, и творчества: “Але у мене є те, що мене рятує і держить. Я хлопчик. Діточий сміх і біль є ще у мене. То така невинність, чистота дитини. Се у мене сила первісна, елементарна”222. Именно изначальная: она из “целого міра”, но одновременно ею он утверждается – не как единство чувственного и сверхчувственного, но как непосредственная явленность присутствия, еще не разделенного, но таящего в себе возможность всех последующих разделений. При этом не следует легкомысленно утверждать, что этот “міръ” наивный, примитивный: если в нем имплицитно заключено все, то, разумеется, в нем имплицитно заключены – как возможность – и все более поздние достижения человеческого мышления. Вопрос в другом: там, где разделение стало всеобщим принципом, так что и “целый міръ” в самом себе разделился, и целый человек распался, способна ли утратившая цельность мысль возвыситься до той полноты, которая была присуща ей в пределах “целого міра”? Ведь никто не станет отрицать, что как только не стало “целого міра” – идет ли речь об актуальном для В. Стефаника изначальном целом Стефаник В.С. Вибране. – С.301. Там же. – С.247. 222 Там же. – С.312. 220 221 или о том, которое утверждается Иисусом Христом, – не стало и мудрости, а мудрость как раз и есть изначальная цельность и полнота. Никакого третьего “целого міра” нет и быть не может. Новоевропейский человек, опираясь на свою абсолютизированную изолированную субъективность, может создавать лишь проекты “целого міра”, а это, как мы понимаем, не одно и тоже. “Целый міръ” бытиен, поскольку мы ему принадлежим, являемся орудием его самоосуществления; как только мы начинаем с позиции вненаходимости из подручного материала конструировать его, он сразу же свой бытийный статус теряет. Его нельзя слепить, к нему можно лишь возвратиться. Ощущение присутствия “целого міра”, принадлежность ему – жизненно необходимы человеку: без этого человек подобен кленовым листьям, “що... розвіялися по пустім полю, і ніхто їх позбирати не годен...”223: судьба бездомного новоевропейского человечества. Первый шаг к мудрости мы сделаем, когда, пресытившись многознанием, смиренно признаем, что давно утраченный нами “целый міръ” таит в себе такие глубины, к которым никогда не приблизится никакая рассудочная философия. Но к ним может прикоснуться поэзия. В слове “казовый”, таким образом, актуализируется изначальный онтологический смысл, когда “целый міръ” кажет себя в присутствующем, а само присутствующее обретает характер “целого міра”. У “целого міра”, который, самораскрываясь, приходит к слову в поэзии В. Стефаника, много имен. Из поэтической исповеди “Дорога” мы узнаем, какие из них важнейшие. Во-первых, это то, каким обозначено присутствующее: люди, земля, міръ, космос. Все это объединяется именем “ціле село”: “Спросив Іван ціле село”224. Поэтическое слово В. Стефаника потому имеет такое сверхчеловеческое внутреннее напряжение, что его село вбирает в себя «целый міръ». Когда село потрясено, устои космоса колеблются. Сводить в наше время значение творчества В. Стефаника к тому, что он был «певцом обездоленного селянства», значит по-прежнему не уметь его творчество «в рахунок взяти»225. Если уж обездоленный, то весь міръ, Там же. – С.134. Там же. – С.69. 225 Там же. – С.332. 223 224 переставший быть целым, а вместе с ним, разумеется, и селяне, последние, кому суждено было причаститься к нему, когда он еще был целым. Поэтому им больнее других, когда он рушится. Приобщением к целому порождается песня: “З їх губів злизав слова, з чолів вичитав мислі, а з серць виссав почування. А як сонце родилося в крові і цілувало поміж довгі вії їх очі, то в його серці породилася пісня. Розспівалася в його душі, як буря, розколисалася, як мамине слово”226. Песня теряет силу, как только природная порождающая мощь міра ослабевает: “По їх чолах копалися рови один коло одного. Губи їх засихали і біліли. Серце заходило жовчю. І пісня його душі згіркла, як зігніла пшениця”. Поскольку песня и поэт – одно, вместе с песней теряет жизненные силы поэт. Второе важнейшее имя “целого міра” – любовь: ею он скрепляется и одухотворяется. Как только она уходит, песня умирает: “На свіжій ріллі під веселою дугою стояла його любов. Земля радувалася її білими слідами. Як безсила дитина, протягнув до неї руки. - Ходи! - Не можу, бо ти отрута! Захитався, а як прожер свій засуд, то поклав на чорну ріллю окрушки своєї пісні і поволікся дальше”. Наконец, третьим именем “целого міра”, с которого все начинается и которым все заканчивается, является имя “мама”; в нем предельно концентрированное выражение обретает все: и лад, и любовь. Как только умирает мама, теряют смысл все имена и сам человек теряет имя: “Одного дня спотикнувся на гріб своєї мами. Заридав сухими очима і впав. Зарив чоло у могилу і просив маму, аби його назвала так, як він був ще дитиною. Одне маленьке слово аби сказали! Довго просив. Потім поклав голову на хрест і почув від нього мороз. Здригнувся, поцілував могилу в маленьку яблінку і поплівся безіменний і самотній”227. 226 227 Там же. – С.99. Там же. – С.100-101. Имя вбирает в себя всю смысловую полноту “целого міра”. Вот почему утрата имени – это одновременно утрата “целого міра”, утрата творческой силы. Если поэт замолкает, это не значит, что он “исписался”. Это значит, что “целый міръ” перестал говорить, а без него никогда не “народитьси... слово”228. Имя в изначальном его понимании и актуальный для В. Стефаника “целый міръ” – одно. О том, что такое это одно, говорит в своем истолковании имени А.Ф. Лосев: “Имя – как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще – есть также и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни… Без имени – было бы бессмысленное и безумное столкновение глухонемых масс в бездне абсолютной тьмы, хотя и для этого нужно некое осмысление и, значит, какое-то имя. <…> И нет границ жизни имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и держится мир”229. Сам “целый міръ” творит песню, а поэт – его голос. Можно сказать иначе: изначальная ποίησις – не что иное как артикуляция смысловой полноты имени, попытка удержать его исчезающий смысл, поскольку с его утратой теряет смысл сама человеческая жизнь. Чем безнадежнее эта попытка, тем напряженнее, неистовее становится поэтическое слово. Поэтическое слово В. Стефаника равноизначально тому рубежу, расколовшему надвое древнегреческую поэзию, когда на смену прямому слову гимнов Пиндара, непосредственно являвших “целый міръ”, приходит миметическое слово трагедии, которое знает только опосредованную возможность явленности “целого міра”: “Эдипову мудрость”, то есть иносказание.230 Миметическая поэзия (ποιητικὴ τέχνη) дает лишь образ “целого міра”, ограниченный возможностями представления, поэтому является шагом к его забвению. В третьей Пифийской песне Пиндара изначальный “целый міръ” предстает как “нетронутая целость счастья” («ὄλβος... σάος»231), колеблемая легким порывом ветра, в любой момент могущая быть разрушенной. У В. Стефаника “целость счастья” еще Там же С.164. Лосев А.Ф. Философия имени // Самое само: Сочинения / А.Ф. Лосев. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – С.153. – (Антология мысли). 230 См.: Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. – С.425. 231 Pindari carmina cum fragmentis. – P. I– P.75, 105-106. 228 229 есть (например, в проникнутой “старогрецьким” ладом новелле “Мамин синок”): - Не біси, такий мудрий, як старий. Не мав би си в кого вдати! Вікапаний Михайло!... - Коби здоров ріс та чемний. Має три роки та й геть оченашу береси. Такий старогрецький... - Але поміркуй, який бахур мудрий, геть все знає! Но эта изначальная целость и смысловая полнота уже “тронуты” набежавшей тенью будущей неизбежной катастрофы: - Добре. А куди ти поїдеш? - До Канади.232 Еще раз вспомним фрагмент из письма В. Морачевскому, приведенный в начале этой главы. В любую минуту лес может прошуметь свою страшную весть, а баба Тимчиха изъяснит пророчество, и теперь, спустя сто с лишним лет, мы знаем, что она не ошибется, как не ошибся Тиресий, призванный Эдипом. Вот только веры ей больше, чем софокловскому Тиресию, поскольку ее “міръ” в большей степени целый, нежели в древнегреческой трагедии. Творчество В. Стефаника – это и попытка удержать “целый міръ”, и до последней трагической глубины осознанная невозможность это сделать: столь же искренняя, сколь несправедливая по отношению к себе убежденность, что в его книге “ничего… не найдете целого – самые осколки чего-то болезненного и самое вздрагивание”233. Когда К. Гаморак сказал: “Не пиши так, бо вмреш”, – он сказал правду, но это только половина правды, ибо столь же справедливо, но в другом смысле, было бы и противоположное: “Пиши так, бо вмреш”. Справедливо, поскольку так писать – единственная возможность осуществить “целый міръ”, а значит его удержать. Только то слово является подлинно поэтическим, которое принадлежит “целому міру” и его являет. Среди тех немногих, через кого “целый міръ” в ХХ столетии еще подавал свой голос, был В. Стефаник. Вот почему его правильно называть поэтом – в первоначальном и наиболее точном смысле этого слова. Решта – декламація. 232 233 Стефаник В.С. Вибране. – С.42, 43. Там же. – С.336. ФИЛОЛОГИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ Глагол, переданный вчерашним днем нынешнему, глубоко проник в слух земли. Архимандрит Антонин (Капустин) Для начала нам необходимо возвратиться к одной из лейтмотивных тем настоящей книги. М.М. Бахтин настаивает, что действительность поступка является конститутивной для произведения или, как он уточняет, “эстетического объекта”234. При этом сама эстетическая деятельность трактуется им как вторичная по отношению к названной действительности, хотя, разумеется, остается “самостоятельной и своеобразной”235. Ее самостоятельность и своеобразие все же основывается на опознанности и оцененности преднаходимой искусством действительности поступка. Специфика же искусства, согласно ученому, целиком определяется его материалом (например, языком).236 Эстетике задолго до М.М. Бахтина было известно, что материалом определяется не специфика искусства, а специфика разных видов искусства. На вопрос же о своеобразии самого искусства, оставаясь в границах материала, мы никогда ответить не сможем. Если мы, отвечая на этот вопрос, ограничиваемся разговором о материале, это будет означать, что смысл поставленного вопроса остался для нас темным. В случае персоналиста М.М. Бахтина это произошло потому, что насыщенный эстетической проблематикой эйдосный дискурс XIX века остается ему чуждым: это совсем другой язык, с другими смысловыми интенциями, не родной ему. Утверждать, что действительность поступка конститутивна для произведения искусства, значит целиком выводить его онтологическую значимость из безусловной онтологической значимости указанной действительности. Отсюда делается вполне логичный вывод, что эстетическое адекватно может быть помыслено только изнутри этой действительности. См.: Бахтин М.М. Собр. сочинений: в 7 т. – Т.1. – С.286. Там же. – С.287. 236 См.: там же. – С.286. 234 235 Нужно отдавать себе отчет в том, что объявляя конститутивной для эстетической деятельности действительность поступка, мы тем самым делаем вторичными и малосущественными все ее собственно эстетические отличия от названной действительности (поэтому М.М. Бахтин и ограничивается указанием на материал, полагая, что этим указанием обозначено наиболее существенное). То же самое произошло бы с действительностью познания и с действительностью поступка, если бы мы объявили конститутивной для них эстетическую деятельность: в этом случае изнутри эстетической деятельности мы обязаны были бы выводить самые существенные особенности научной и этической областей. Обратим, однако, внимание, что само эстетическое, помысленное изнутри действенной сферы, оказывается не созерцанием (каковым ему надлежит быть), а деятельностью: знак тотальности действенной сферы в нравственной философии М.М. Бахтина. Нужно называть вещи своими именами. Попытка помыслить эстетическое изнутри действенной сферы является эстетически беспомощной установкой. Возможность появления этой установки в отечественной теории литературы, равно как попытки эстетическую проблематику втиснуть в границы текста, симптоматичны. Немецкие формалисты (О. Вальцель) или тот же Г. Риккерт, пройдя соответствующую основательную выучку, просто не могли игнорировать могучих импульсов, идущих от эстетических учений Ф.В. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля, тогда как наши грамматисты и персоналисты остались по большому счету вне этого контекста. Поэтому они легко смешивают грамматическое и эстетическое, нравственно-персоналистское и эстетическое и легко отказываются от того, от чего Г. Риккерт ни при каких обстоятельствах отказаться не смог бы. Нашим предкам образа всегда говорили больше, чем образы. Мы же образа утратили, а к образам – в лице грамматистов и персоналистов – не пришли. Помогли нам в этом и современные западные иконоборцы – духовные дети иконоборческого ОПОЯЗа, из-за отрицательного отношения к образам с недоверием поглядывающие и на образы. Возвращаясь от М.М. Бахтина к Г. Риккерту, выскажем тривиальное, однако “сверхисторическое, на все времена значимое” (Г. Риккерт) суждение: для действенной сферы неизбежно не конститутивными, а вторичными будут познающая мысль и эстетическое созерцание; в границах логической сферы таковыми же неизбежно окажутся эстетическое созерцание и этическая мысль; в границах эстетического созерцания – логическая и действенная сферы. В то же время непосредственной онтологической значимостью не будет обладать ни одна из названных сфер. Непосредственной онтологической значимостью обладает только целый мир. Часть мира, какой бы важной она ни была, всегда только опосредовано онтологична. При этом не следует забывать, что онтологически безусловный целый мир – никогда не предмет представления, но всегда – присутствие. Заслуга прояснения сущности целого мира как присутствия – так что и древним грекам многое стало понятно – принадлежит М. Хайдеггеру. Согласно автору “Бытия и времени” (1927), целый мир как присутствие должен быть помыслен в контексте фундаментальной онтологии. Отличие фундаментальной онтологии от кантовской или докритической заключается в том, что она мыслит не сущее в его бытии, но стремится возвратиться “к той сущностной основе, из которой вырастает осмысление истины бытия”237. Спустя двадцать лет в “Письме о гуманизме” М. Хайдеггер обращается к словам Гераклита «Ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων» – и переводит их следующим образом: “Местопребывание (обычное) есть человеку открытый простор для присутствия Бога (Чрезвычайного)”238. Мысль, принадлежащая открытому простору, в котором присутствие Бога сказывается как “истина бытия”, согласно позднему М. Хайдеггеру, “не есть ни этика, ни онтология”239, даже фундаментальная. Такая мысль – не онтология, поскольку она не является ни наукой, ни исследованием, разрабатывающим определенное учение относительно бытия. Она сама есть момент присутствия, самораскрытия бытия, его “просвет”. Будучи событием, которое может случиться или не случиться, такая мысль всегда оказывается за пределами любой методически и методологически планирующей установки. Она случается, когда оказывается соразмерной “правящему требованию” истины бытия – Хайдеггер М. Время и бытие. – С.216. Там же. 239 Там же. – С.217. 237 238 в открытом просторе присутствия Бога. Пока она ‘есть’, ‘есть’ бытие. Целый мир как присутствие – это ‘есть’ бытия, явленного в мысли. Мысль сохранена речью. Речь – лоно, в котором рождается человек. Вот почему язык (речь) – “дом бытия”. Высказывая это суждение, которое стало одним из самых значимых в ХХ веке, М. Хайдеггер мыслит, конечно, уже не как философ, а как филолог, если только мы начнем понимать филологию из ее сущностного истока. ‘Есть’ бытия предполагает ‘есть’ мысли, которой в свою очередь предполагается ‘есть’ человека. В ‘есть’ человека ‘есть’ бытия достигает полноты своего самораскрытия. ‘Есть’ бытия, мысли и человека – одно и в то же время разное. Утрата ‘есть’ – это всегда утрата всего ‘есть’ (бытия, мысли, человека), а не какой-то его части: невозможно, чтобы ‘есть’ человека сохранялось при утрате ‘есть’ бытия и мысли. Но в ‘есть’ бытия коренится ‘есть’ мысли и человека, а не наоборот. Бытие – ничто иное как ‘есть’, но не в смысле простой связки, а в смысле полноты осуществляемого. Полнота осуществляемого означает, между прочим, что ей принадлежит человек: именно поэтому он тоже ‘есть’. То же касается мысли и речи. Подлинное ‘есть’ бытия – полнота осуществляемого как со-присутствие Бога (богов) и человека. В бытийной полноте со-присутствия утверждается ‘есть’ мысли и человека, в человеке – ‘есть’ бытия и мысли, в мысли – ‘есть’ человека и бытия. Вне этого триединства изолированный человек источником бытийного ‘есть’ для себя и для мира быть не может. ‘Есть’ бытия – это событие самораскрытия истины бытия. ‘Есть’ мысли – это ее “оберегающее внимание” к событию самораскрытия истины бытия. ‘Есть’ человека – это его способность пребывать в истине бытия, что значит мыслить истину бытия. Эта бытийная целокупность мысли, погруженной в целокупный смысл имени, для которой М. Хайдеггер не может подобрать названия, отказываясь в какой-то момент и от самого главного – фундаментальная онтология, в настоящей книге названа филологией. Человек существует на земле таким образом, что он, как правило, ‘не есть’, и только иногда, в редких или редчайших случаях, ‘есть’. И вот именно тогда, когда человек ‘не есть’, он впадает в иллюзию, что его познающая либо регулирующая действенную сферу мысль или, в другом случае, его чувственное созерцание обладают непосредственной онтологической значимостью. Человек ‘есть’, когда он принадлежит целому миру. Невозможно принадлежать целому миру, представляя его (не важно, как: абстрактно или чувственно), поскольку представлять можно, лишь находясь вне представляемого. Вся область представляющего мышления новоевропейского времени и, стало быть, сам представляющий человек – ‘не есть’ человека. Любая теоретико-познавательная, теоретико-регулирующая, эстетическисозерцательная установка оказывается вторичной по отношению к истине бытия, под воздействием которой мысль впервые пробуждается к жизни. Поскольку любая из перечисленных выше установок утверждается в перспективе от истины бытия и направлена на сущее, истина бытия никогда не может стать тем, что подлежит осмыслению в ее границах. Когда-то в самом конце великой истории сущностной мысли Запада Ф. Шеллинг сказал, что “искусство – органон философии”. Его суждение, разумеется, имеет в виду и поэтическое искусство. В отличие от философии, для филологии органон – не поэтическое искусство, но ποίησις, которая не есть τέχνη. Вот почему мы не будем опрометчиво утверждать, что философия и ποίησις – сестры, тем более что сами нынешние философы не знают толком, что делать с этим родством, которое им навязано. Для ποίησις философия – разве что племянница. При этом, говоря о филологии, мы должны помнить, что λόγος в ее пределах должен быть понят не как учение, а как имя с его живым онтологическим смыслом. Философия не выходит и не может выйти за пределы τέχνη, тогда как филология обращена к ποίησις или к тому в словесном искусстве, в чем могут быть обнаружены следы присутствия ποίησις. Там, где поэтическое искусство довлеет себе, филологии делать нечего. В этом случае в свои права вступает теория литературы: для любого из ее направлений всякие разговоры о филологии, которая сущностно отличается от них, в большей или меньшей степени остаются пустым звуком. Для того чтобы приблизиться к осознанию онтологического провала, разделившего филологию и теорию литературы, необходимо понять, что изначальный логос – это знание в ὄνομα, а не с помощью ὄνομα, когда имя становится понятием. В результате этого перехода от ὄνομα к понятию проникнутое благоговением вопрошание становится представлением, целокупное имя расщепляется, филология, которая только в соотнесенности с целокупным именем есть то, что она есть, распадается на специализированные формы знания, рождаются поэтика как теория поэтического искусства, лингвистика как наука о языке, философия как метафизика и т.д. Неметафизической философии быть не может. В противоположность ей филология никогда не метафизична, поскольку осуществляется в смысловой полноте целокупного имени как реальнейшей реальности присутствия, как бытийнейшей бытийственности бытия, как концентрированного проявления живой жизни, вне которой только призрачное прозябание, в какие бы фальшивые блестки и перья оно ни рядилось. Рождение метафизики – это переход от фило-логии к философии. Рождение поэтики – это переход от фило-логии к фило-технэ. И в первом, и во втором случае решающий переход совершил Аристотель, тогда как его учитель Платон еще сумел удержаться на границе. Смысловая полнота имен – это соприсутствие божественного и человеческого, их лад. Таким ладом в его первоначальном проявлении проникнуты мысль досократиков и хоровая ποίησις Пиндара, однако уже во времена Аристотеля на торных путях философии о нем даже памяти не осталось. Гимн – сохраненное в стихослагающей речи самопроявление присутствия и одновременно воздвижение, делание (ποίησις) присутствия, учреждаемого со-работничеством Бога (богов) и людей. Поэтому не только песни Пиндара, но и Ветхий Завет, и Новый Завет, и творения сщмч. Дионисия Ареопагита состоят из стихов. Все это – гимны в изначальном смысле: онтология присутствия, стихослагающая явленность, а значит реальность, а не метафизическая трансцендентность истины бытия. Гимн – не эстетическая и не теоретико-литературная категория, это пение, наполненное онтологическим смыслом целокупного имени. Гимн – это и есть явленное со-присутствие божественного и человеческого, и там, где такое со-присутствие становится реальностью, слово того, кто причастен этой реальности, не может не стать гимном. Так, “восторженными гимнами” становятся “многие главы в “Исповеди” Августина”240. Та же явленность соприсутствия божественного и человеческого – в гимнах преп. Симеона Нового Богослова. Целокупное имя – слово гимнов, а не диалогов, хотя в “беседах” (так правильно следует переводить) Платона оно еще присутствует, но не в таком незамутненном виде, как в гимнах сщмч. Дионисия Ареопагита. Спасительность Боговоплощения – в возвращении целокупного имени, раскрывшего свой потаенный смысл с неведомой ранней Античности полнотой и чистотой. Гимн, будучи песней, онтологически укорененной в Откровении и событии Боговоплощения, заключает в себе все, что по отдельности рассредоточено в разных книгах Священного Писания, ибо “иному учат пророки, иному бытописатели; в одном наставляет закон, а в другом – предложенное в виде приточного увещевания; книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. <…> И при сем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным” (свт. Василий Великий), то есть наполненным изначальной целокупной полнотой. У сщмч. Дионисия Ареопагита – мышление, руководимое целокупными именами, следовательно – не метафизика. Оно осуществляется в пространстве, где “новое небо и новая земля” (Откр. 21:1) – реальность присутствия, а не трансцендентность. Вот почему его гимны, хранящие неповрежденной полноту имен – это фило-логия, а если это одновременно тео-логия, то в смысле Иеромонах Пантелеимон. О гимнах преп. Симеона Нового Богослова // Божественные гимны / Преподобный Симеон Новый Богослов. – Нижний Новгород: Братство св. Александра Невского, 1989. – С.VII. У Платона – λόγοι, а не διάλογοι. «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17). Неповрежденное слово – хранящее онтологически первичную целокупную полноту смысла, тогда как поврежденное – лишенное таковой, целиком принадлежащее диалогическому контексту действенной области (ср.: Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – С.373-374, 385-387). Напомню в связи со сказанным, что в церковнославянском языке ‘повредитися’ – разногласить, не соглашаться. 240 тождества целокупных имен, а не в современном смысле специализированного знания. Теология как специализированное знание – это уже метафизика, разделившая судьбу всего западного постсредневекового мышления с его секуляризацией вплоть до демифологизации Нового Завета в протестантской теологии ХХ века, когда единственным законодателем в области веры становится отпавший от изначальной целокупности осколочный разум новоевропейского человека.241 Отсюда рассуждения о “мифической картине мира” в Новом Завете, как будто сама картина мира как способ понимания – не творение новоевропейского разума, не имеющее никакого отношения к Благой вести. Отсюда же филистерские рассуждения, подобные этому: “…Если принявший смерть Христос был Сыном Божьим, предсуществующим божественным существом, что в таком случае значило для Него умереть? Ведь для того, кто знает, что через три дня воскреснет, умирание не должно значить слишком много”242. Приведенное рассуждение отличается, прежде всего, тем, что оно – не умно. “Умирание” Христа во всех смыслах значило так много, что помыслить всю его значимость осколочный ум, объявивший себя целым и от имени Целого выносящий вердикты, конечно, не может. Если бы все человечество сейчас одновременно оказалось на кресте, только тогда произошло бы нечто соизмеримое с тем, что значила крестная смерть Христа. Убежденность, что событие Боговоплощения во всей его полноте может быть измерено человеческим умом, – разновидность бунта, сродни тому бунту, о котором идет речь в трагедии “Алкеста”. Одновременно это свидетельство того, что трагическая эпоха по-прежнему крепко, как Геракл любого из своих противников, держит нас в своих объятиях. Осколочный разум современного европейца, даже того, кто называет себя христианином, будучи проявлением трагической эпохи, ни в коем случае не может быть законодателем в области веры. См.: Бультман Р. Избранное: Вера и понимание / Р. Бультман. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.7 – 41. 242 Там же. – С.12. 241 Осколочный разум современного европейца, будучи проявлением трагической эпохи, также ни в коем случае не может быть законодателем в области филологии. Но поскольку духовное возрастание в смысловой целокупной полноте для него недоступно, постольку филологию, понятую из этой полноты, он перетолкует по-своему, поэтому неизбежно – исказит. Филология – онтологически первичное имя-знание, которое является единственно возможным способом изначального самопроявления лада – полноты со-присутствия божественного и человеческого и полноты неразделенного в самом себе смысла. Филология – “дверь слова” (Kol 4: 3), онтологический просвет, выход за пределы инструментального языка, заключившего в узы человеческий ум. Филология – хранительница “неповрежденного слова”, следовательно, возможность приобщения к пространству, где “новое небо и новая земля” (благодатная полнота любви, хранимая “неповрежденным словом”) – онтологически безусловная реальность. Филология – имплицитная полнота начала, которая всегда остается и самой главной целью всех наших усилий. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ “ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ” Содержание курса Лек. № Тема п/п 1 Вводная лекция. Факторы, которыми определяются тенденции 2 развития современной теории литературы. 2 Современная теория литературы: общая характеристика. Почему 2 современная теория литературы не является филологией? 3 Эйдосный теоретико-литературный дискурс. Ποιητικη` τέχνη. 2 4 Проблема эстетического завершения поэтического целого. Способы 2 и принципы эстетического завершения поэтического целого. 5 Грамматический теоретико-литературный дискурс, его 2 доэстетический характер. Имя и текст. 6 Персоналистский теоретико-литературный дискурс. “Действенная 2 область” (Г. Риккерт) как его конститутивный момент. Действие и онтологическое событие. 7 Филология, которая “еще не начиналась” (Ф. Ницше). Исток 2 филологии. Филология как проблема. 8 Литературно-художественное творение, представленное в виде 2 текста, произведения, высказывания, как предмет теории литературы. Теория литературы – не филология. 9 Поэтическое сказывание как онтологическая основа филологии. 2 Ποίησις. Переход к вопрошанию (т.е. к мышлению, руководимому именами) в филологии. 10 Орудийность языка, филология и теория литературы. 2 11 Символико-казовая орудийность языка: ποίησις. 2 12 Символико-метафизическая орудийность языка: ποιητικη` τέχνη. 2 13 Проблема понимания литературного произведения (анализ, 2 интерпретация) и поэтического сказывания (толкование). 14 Особенности интерпретации в границах эйдосного и 2 персоналистского дискурсов. 15 Сущность толкования и филология. Филология как реальность. 2 Поэтическое слово в границах филологии: Ф.И. Тютчев, В.С. Стефаник. Программа лекционного курса Разделы курса 1. Основные теоретико-литературные дискурсы. 2. Теория литературы и филология. Филология как проблема. 3. Орудийность языка. 4. Проблема понимания в современной теории литературы и филологии. Филология как реальность Основная литература к курсу 1. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании: Монография / А.В. Домащенко. – Донецк: ДонНУ, 2007. – 277 с. 2. О тенденциях развития современной теории литературы: Монография / отв. ред. А.В. Домащенко. – Бердянск: БГПУ, 2010. – 92 с. Планирование курса Вводная лекция Факторы, которыми определяются тенденции развития современной теории литературы: а) факторы внутренние (борьба разных теоретико-литературных дискурсов, их взаимодействие); б) факторы внешние (конфликт теории литературы и филологии как определяющий фактор). Литература 1. Аверинцев С.С. Филология / С.С. Аверинцев // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – С.544-545. 2. Федоров В.В. Оправдание филологии / В.В. Федоров. – Донецк: НордПресс, 2005. – С.3-14. 3. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.6-8. 4. О тенденциях развития современной теории литературы. – С.3-4. 5. Наст. книга. – С.3-11. Дополнительная литература 6. Дискуссия о филологии в журнале “Литературное обозрение” за 1979 г. 7. Ницше Ф. Мы филологи // Философия в трагическую эпоху / Ф. Ницше. – М.: REFL – book, 1994. – С.267-325. Вопросы для самопроверки 1. Как С.С. Аверинцев и В.В. Федоров понимают филологию и ее соотношение с теорией литературы? Какие расхождения в их взглядах вы заметили? 2. С кем из ученых вы согласны? Почему? 3. Какие противоречия у каждого из ученых вы заметили? 4. Какие из вопросов, затронутых учеными, остались без ответа? 5. Какие ответы на эти вопросы вы можете предложить? Раздел 1. Основные теоретико-литературные дискурсы 1.1. Современная теория литературы как сложное, внутренне противоречивое целое. Основные модусы научности. Модусы научности – теоретико-литературные дискурсы. Теоретико-литературные дискурсы как способы артикуляции основных модусов научности. 1.1.1. Эйдосный теоретико-литературный дискурс, его эстетическая направленность, основная проблематика. Ποιητικη` τέχνη. 1.1.2. Проблема эстетического завершения поэтического целого. 1.1.3. Способы и принципы эстетического завершения поэтического целого. 1.2. Грамматический теоретико-литературный дискурс, его доэстетическая, гносеологическая сущность и основная проблематика. 1.3. Персоналистский теоретико-литературный дискурс, его постэстетическая, нравственно-этическая сущность и основная проблематика. “Действенная область” (Г. Риккерт), действие и онтологическое событие. Литература 1. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.10-25, 87-140. 2. О тенденциях развития современной теории литературы. – С.21-58. 3. Наст. книга. – С.75-114. Дополнительная литература 4. Гегель Г.Ф.Ф. Поэтическое представление // Сочинения. – Т. 14 / Г.В.Ф. Гегель. – М., 1958. – С.194-199. 5. Лосев А.Ф. Проблема вариативного функционирования поэтического языка // Знак. Символ. Миф / А.Ф. Лосев. – М.: МГУ, 1982. – С.408-425. 6. Тынянов Ю.Н. Ода как ораторский жанр // Поэтика. История литературы. Кино / Ю.Н. Тынянов. – М.: Наука, 1977. – С.227-252. 7. Якобсон Р. Грамматический параллелизм и его русские аспекты // Работы по поэтике / Р. Якобсон. – М.: Прогресс, 1987. – С.99-132. 8. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста / Ю.М. Лотман. – Л.: Просвещение, 1972. – С.3-39. 9. Гаспаров М.Л. “Снова тучи надо мною”… Методика анализа // О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики / М.Л. Гаспаров. – М.: Азбука, 2001. – С.11-26. 10. Бахтин М.М. Проблемы содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – С.6-71. 11. Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – С.361-373. 12. Федоров В.В. О природе поэтической реальности / В.В. Федоров. – М.: Сов. писатель, 1984. – С.38-74. 13. Федоров В.В. Три лекции об авторе / В.В. Федоров. – Донецк: Юговосток, 2002. – 88с. Вопросы для самопроверки 1. Модусы научности и теоретико-литературные дискурсы, их соотношение. 2. Основные признаки эйдосного теоретико-литературного дискурса. 3. Проблема эстетического завершения, ее осмысление в границах разных теоретико-литературных дискурсов. 4. Основные способы и принципы эстетического завершения поэтического целого. 5. Грамматический теоретико-литературный дискурс, его основные признаки. 6. Персоналистский теоретико-литературный дискурс, его основные признаки. 7. Эстетическая, логическая и действенная области в поэтическом искусстве, их соотношение. Раздел 2. Теория литературы и филология. Филология как проблема 1. Смысл слова “филология”. Исток филологии. 2. Филология как проблема. 3. Имя (логос) и текст. 4. Имя и понятие: эйдос, грамма, персона. 5. Современная теория литературы – не филология. Література 1. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.25-47. 2. О тенденциях развития современной теории литературы. – С.5-20, 5990. 3. Наст. книга. – С.11-75. Дополнительная литература См. список литературы к вводной лекции. Вопросы для самопроверки 1. Почему вопрос о сущности филологии остается открытым? 2. Каков первоначальный смысл слова “филология”? 3. Ποίησις как онтологическая основа филологии. 4. Основные особенности филологии, связанной с вопрошающим, целокупным мышлением. 5. Текст, произведение, высказывание (теория литературы) и логос (филология). 5. Почему современная теория литературы не является филологией? Раздел 3. Орудийность языка 1. Символико-казовый язык ποίησις как фундаментальный экзистенциал филологии. 2. Символико-метафизический язык ποιητικη` τέχνη как онтологическая основа теории литературы. 3. Автономность эстетического и символико-метафизическая орудийность языка. 4. Инструментальный язык современной науки о литературе. Литература 1. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.48-59, 168-196. 2. Наст. книга. – С.126-140; см. также: Домащенко А.В. Еще раз об орудийности языка / А.В. Домащенко // Воскресенье: литературнохудожественный альманах. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – С.126-132. Дополнительная литература 1. Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – С.259-273. 2. Гадамер Х.-Г. Онтологический поворот герменевтики на путеводной нити языка // Истина и метод / Х.-Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – С.446-566. 3. Гадамер Г.-Г. Неспособность к разговору // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – С.82-92. 4. Херрманн Ф.-В. фон. Фундаментальная онтология языка / Ф.-В. фон Херрманн. – Мн.: ЕГУ, 2001. – 168 с. Вопросы для самопроверки 1. Сущность символико-казовой орудийности языка, ее связь с поэзией. 2. Сущность символико-метафизической орудийности языка, ее связь с поэтическим искусством. 3. Теория литературы и орудийность языка. 4. Филология и орудийность языка. 5. Инструментальный язык “действенной области” (Г. Риккерт), его антипоэтическая сущность. 6. Инструментальный язык современной науки о языке, его особенности в границах разных теоретико-литературных дискурсов. Раздел 4. Проблема понимания в современной теории литературы и филологии. Филология как реальность 1. Проблема понимания литературного текста (анализ). 2. Проблема понимания литературного произведения (интерпретация). 3. Проблема понимания поэтического сказывания как онтологической основы филологии (толкование). Ποίησις. 4. Филология как реальность. 5. Поэтическое слово в границах филологии: Ф.И. Тютчев, В.С. Стефаник. Литература 1. Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании. – С.60-76, 152-167, 196-202, 241-264. 2. Наст. книга. – С.114-163 Дополнительная литература 2. Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина / М. Хайдеггер. – СПб.: Академический проект, 2003. – 320 с. 3. Штайнер Э., Хайдеггер М. По поводу одного стихотворения Мёрике // Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М.: Гнозис, 1993. – С.243-257. 4. Гадамер Г.-Г. Гельдерлин и античность // Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – С.207-228. 5. Рикер П. Конфликт интерпретаций / П. Рикер. – М.:. Медиум, 1995. – 415 с. Вопросы для самопроверки. 1. Анализ литературного текста, его гносеологический характер, сущность. 2. Интерпретация литературного произведения, условия ее эстетической направленности, сущность. 3. Толкование поэтического сказывания, его онтологические основы, сущность. 4. Лад как онтологическое лоно поэзии. 5. В чем заключается и как проявляется реальность филологии? УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН Иисус Христос 6, 68, 71-72, 131-132, 150, 161-162 * * * Иоанн, евангелист и апостол 129 Павел, апостол 25, 35, 37, 72-73, 84, 101, 131-132 * * * Августин, бл. 160 Василий Великий, свт. 161 Григорий Богослов, св. 138 Григорий Палама, св. 76-77, 138 Дионисий Ареопагит, сщмч. 9, 19, 48-49, 65-66, 102, 119-120, 127-128, 130, 132-133, 136, 138, 147, 160-161 Иоанн Карпафский, преп. 140 Иоанн Лествичник, преп. 66, 137, 139 Максим Исповедник, преп. 138 Нил Сорский, преп. 109, 129 Серафим Саровский, преп. 15, 74-75, 131 Силуан Афонский, преп. 133-134, 147 Симеон Новый Богослов, преп.160 Феофан Затворник, свт. 56 Феофилакт Болгарский, бл. 121 Фома Аквинский, св. 128, 147 * * * Антонин (Капустин), архимандрит 154 Дьяченко Г., прот. 8, 106, 129 Иоанн (Шаховской), архиепископ 7, 67 Пантелеимон, иеромонах 160 Роман (Матюшин), иеромонах 140 Софроний (Сахаров), архимандрит 136 Флоренский П., свящ. 25, 68-70 Флоровский Г., прот. 138 * * * Аверинцев С.С. 12-14, 16-18, 45, 74 Анаксимандр 96 Анненский И.Ф. 106, 135 Аппельрот В.Г. 79 Аристотель 78-80, 83, 92-95, 103, 110-112, 133, 160 Аристофан 93-94 Арцыбашев М.П. 23 Аст Ф. 19 Бальзак О. де 21, 57 Барт Р. 54, 58-59 Бахтин М.М. 3, 14, 18, 20-26, 28, 33, 35, 37-39, 44-45, 47-49, 63, 75-84, 91, 111-113, 137, 155-156 Бетховен Л. ван 46, 119 Бибихин В.В. 50 Блейк У. 137 Блок А.А. 25, 51, 60, 87-89 Боратынский Е.А. 57, 74 Бочаров С.Г. 31 Бремон А. 44, 81 Буслаев Ф.И. 27-28 Валери П. 89 Вальцель О. 157 Верлен П. 85-89 Витгенштейн Л. 13, 90 Во И. 55, 86 Вольтер 120 Гадамер Г.-Г. 59-60 Гаморак К. 154 Гаспаров М.Л. 14-15, 32, 79, 121-122 Гегель Г.В.Ф. 16, 30, 35-38, 46-47, 81-82, 87, 122, 140-143, 156 Гераклит 51, 82, 157 Гёльдерлин Ф. 32, 35, 38-39, 50, 88 Гёте И.В. 32, 142 Гоголь Н.В. 115, 119 Гомер 93, 142 Гримм Я. 27-28 Грот Я.К. 115 Гуссерль Э. 75 Делаэ Э. 91 Демени П. 86 Дёдерлейн Л. 16 Дидро Д. 22, 26 Дильтей В. 19-20 Достоевский Ф.М. 39, 54, 115-116, 137 Дьюи Д. 90 Еврипид 40-42, 64, 97-99, 105, 107-108, 110-112, 114 Кант И. 76-77 Китс Д.21 Косиков Г.К. 20, 22 Леонардо да Винчи 135 Леонардо ди Тоне 26 Леся Украинка 149 Лозинская Л. 136 Ломоносов М.В. 115 Лосев А.Ф. 12, 25-26, 152-153 Маковей О. 142-143, 145 Маркс К. 90 Маяковский В.В. 89, 91 Мильтон Д. 138 Морачевская С. 147 Морачевский В. 141, 144, 154 Моруа А. 21 Наполеон III 83 Николай Кузанский 12, 127, 147 Ницше Ф. 5, 23, 27-28, 31, 46, 57, 82, 90, 103, 117 Ноткин Г.Б. 39 Ожегов С.И. 8 Павсаний 64 Пиндар 42, 60-62, 64, 95-96, 98, 103, 105, 112, 120-125, 127-129, 131-132, 144, 146-147, 153, 160 Пирс Ч.С. 90 Платон 5, 16, 102, 160-161 По Э. 88 Потебня А.А. 4, 46 Пруст М. 21 Рассел Б. 90 Рембо А. 86-89, 91 Ремизов А.М. 114-116, 118 Риккерт Г. 45, 48, 50, 75-77, 156, 161 Руссо Ж.-Ж. 22 Сартр Ж.П. 59 Секст Эмпирик 15-16 Сент-Бёв Ш.-О. 20-24 Сервантес Сааведра М. де 85, 113 Сократ 15-16 Софокл 60, 64, 93-94, 98, 110-111 Стефаник В.С. 140-154 Тассо Т. 70 Толстой Л.Н. 6-7, 115-116 Тредиаковский В.К. 115 Тургенев И.С. 115-116 Тэн И. 21 Тютчев Ф.И. 24, 29, 37, 50, 83, 105, 119, 134 Уайтхед А.Н. 4 Успенский Г.И. 145-146 Федькович Ю.-О. 148-149 Фет А.А. 75, 87-89 Фихте И.Г. 136 Фичино М. 26 Флобер Г. 21, 115 Франко И.Я. 142 Фёдоров В.В. 17-20, 24, 27, 47 Хайдеггер М. 28, 32, 35, 37-40, 44, 49-50, 53, 66, 85, 89-90, 96-97, 103, 125, 127, 130-131, 157-158 Цветаева М.И. 89, 91 Чухонцев О.Г. 11, 28, 91 Шантрен П. 54 Шевченко Т.Г. 149 Шекспир У. 22-23, 49-50, 74, 98-99 Шелер М. 75, 90 Шеллинг Ф.В.Й 18, 91, 156, 159 Шиллер Ф. 32, 136 Шлегель Ф. 18, 58 Шлейермахер Ф. 19-20 Элиот Т.С. 4, 30, 44, 81, 126 Эсхил 64, 103, 107-108, 110 СОДЕРЖАНИЕ От автора Вместо введения. Путеводный свет утраченных слов Филология как проблема 3 6 11 Почему современная теория литературы не является филологией? Имя и текст Экскурс I. Ειδος, γράμμα, persona 30 51 61 Исток филологии 65 Ποιητικη` τέχνη 75 Действие и онтологическое событие 93 Первоначальный греческий лад 114 Благодатный лад 126 Экскурс II. Корневой лад и лад кроны: О природе поэтического слова (В. Стефаник) Филология как реальность 140 154 Методические материалы к курсу “Тенденции развития современной теории литературы” Указатель имен 164 170 Учбово-методичне видання Олександр Володимирович Домащенко Філологія як проблема та реальність Навчальний посібник