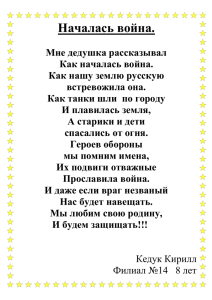Тезисы PDF document - Факультет свободных искусств и
advertisement
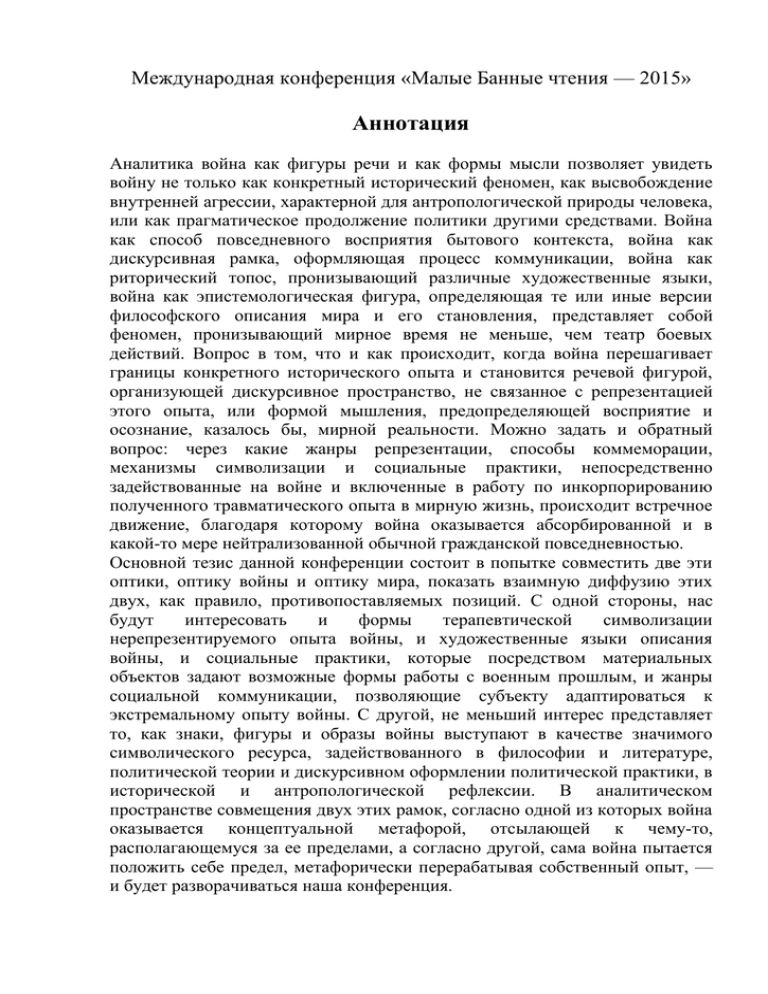
Международная конференция «Малые Банные чтения — 2015» Аннотация Аналитика война как фигуры речи и как формы мысли позволяет увидеть войну не только как конкретный исторический феномен, как высвобождение внутренней агрессии, характерной для антропологической природы человека, или как прагматическое продолжение политики другими средствами. Война как способ повседневного восприятия бытового контекста, война как дискурсивная рамка, оформляющая процесс коммуникации, война как риторический топос, пронизывающий различные художественные языки, война как эпистемологическая фигура, определяющая те или иные версии философского описания мира и его становления, представляет собой феномен, пронизывающий мирное время не меньше, чем театр боевых действий. Вопрос в том, что и как происходит, когда война перешагивает границы конкретного исторического опыта и становится речевой фигурой, организующей дискурсивное пространство, не связанное с репрезентацией этого опыта, или формой мышления, предопределяющей восприятие и осознание, казалось бы, мирной реальности. Можно задать и обратный вопрос: через какие жанры репрезентации, способы коммеморации, механизмы символизации и социальные практики, непосредственно задействованные на войне и включенные в работу по инкорпорированию полученного травматического опыта в мирную жизнь, происходит встречное движение, благодаря которому война оказывается абсорбированной и в какой-то мере нейтрализованной обычной гражданской повседневностью. Основной тезис данной конференции состоит в попытке совместить две эти оптики, оптику войны и оптику мира, показать взаимную диффузию этих двух, как правило, противопоставляемых позиций. С одной стороны, нас будут интересовать и формы терапевтической символизации нерепрезентируемого опыта войны, и художественные языки описания войны, и социальные практики, которые посредством материальных объектов задают возможные формы работы с военным прошлым, и жанры социальной коммуникации, позволяющие субъекту адаптироваться к экстремальному опыту войны. С другой, не меньший интерес представляет то, как знаки, фигуры и образы войны выступают в качестве значимого символического ресурса, задействованного в философии и литературе, политической теории и дискурсивном оформлении политической практики, в исторической и антропологической рефлексии. В аналитическом пространстве совмещения двух этих рамок, согласно одной из которых война оказывается концептуальной метафорой, отсылающей к чему-то, располагающемуся за ее пределами, а согласно другой, сама война пытается положить себе предел, метафорически перерабатывая собственный опыт, — и будет разворачиваться наша конференция. Тезисы Константин А. Богданов Институт русской литературы, Санкт-Петербург Письма с фронта, семейные узы и растерянные историки. Комментарий к интимной эпистолографии военных лет В центре доклада — выборка писем с 1905 по 1980-е годы, адресованных с фронтов отечественных войн солдатами и офицерами своим любимым и близким, а также те проблемы, которые встают перед исследователями, которые видят в таких письмах материал историографического характера. Надежды, которые связывались и по сей день связываются с изучением частной эпистолярии, выросли из исследовательской эмпирики — из необходимости считаться с огромным массивом данных, которые если не меняли, то сильно корректировали сложившиеся представления о социальной истории. В общем виде такие коррективы строились на пути «антропологизации» концепций социальной истории, ее задач и методов, выразившиеся в изменении самой оптики исследовательского анализа. Фокусировка исторического нарратива, некогда определявшегося порядком безличных событий, деяниями именитых личностей и динамикой коллективных трансформаций, сменилась интересом к биографическим частностям и тем повседневным — социальным, бытовым, психологическим — подробностям, из которых слагается то, что сегодня принято называть «историей жизни» (life history). В терминах социологии, в те же годы испытавшей влияние биографического метода, «устной истории» и антропологии, инструментально достаточным фундаментом к изучению «истории жизни» при этом полагалась такая «само собой разумеющаяся» теория (grounded theory), которая бы отказывалась от априорно специфицированных гипотез об объекте исследования. Но вот вопрос: как это сделать? Критики биографического метода указывали, что исследователь, дезавуирующий традиционную методологию социологического анализа, так или иначе упреждающего исследуемые явления их теоретической структуризации, обманывает себя и других, так как невольно привносит в свои вопросы — а значит и в те ответы, которые он получает, — свой профессиональный и личный опыт, определяющий характер масштабирования тех данных, из которых извлекается и на основании которых строится та или иная история. Микроисторические исследования не избежали тех же методологических ловушек. Претендуя на определенного рода историографическую и антропологическую герменевтику — детальность и (в буквальном смысле слова) сложность создаваемого объяснительного нарратива, исследователь, прибегающий к анализу исторических «микро-данных» — будь это дневники, письма, записи устного характера — заведомо сталкивается с проблемой, некогда сформулированной Фридрихом Шлейермахером как принцип «герменевтического круга»: оправданно думать, что понимание частностей ведет к пониманию целого, но не предопределяется ли само понимание частностей «предпониманием» этого целого? Итоги микроисторического исследования — если в них видится потенциальный фрагмент «целостной истории» — неминуемо вписываются в то, что остается за его собственными рамками, в то, что отсылает к Большой и Еще-более-большой Истории и т.д. Какова мера масштабируемости тех суждений, которые нарочито опираются на фрагментацию исторического опыта в качестве опыта частной «истории жизни», индивидуальных происшествий и субъективных переживаний? И как соотносятся в этих случаях «эпистолярные истории» адресантов и адресатов, «здравый смысл» исследователей и дидактика исторических обобщений? Илья Будрайтскис Государственный центр современного искусства, Москва Оставляет ли война место насилию? Этот вопрос может показаться абсурдным, если исходить из привычного взгляда на насилие как средство политики, которая по желанию элит в любой момент может быть продолжена «другими средствами». Но торжество военного насилия в то же время оборачивается мертвящим единством народа и властей за пределами фронта — тем типом «гражданского мира», который мы сегодня можем наблюдать. По замечанию Ханны Арендт, войны практически всегда являлись либо предисловием к революции, либо ее завершением. Война могла создавать возможность и для революционного взрыва внутренних противоречий, и радикально закрывать саму возможность публичной сферы и политики. Взгляд на насилие, в определенные моменты выявляемое в обществе и содержащее возможность перемен, в той или иной степени объединяет Ленина и Сореля, Беньямина и Фанона. Следуя за Вальтером Беньямином, можно сказать, что такое «правоустанавливающее» насилие лишает само насилие какого-либо самостоятельного содержания, выходящего за пределы осуществления власти. Как сегодня можно помыслить это противоречие между войной и насилием? И способно ли это насилие преодолевать и «критиковать» само себя? Михаил Габович Эйнштейновский форум, Потсдам Советские военные памятники: эффекты материальности Концептуальная рамка конференции предполагает подход к войне как форме или языку репрезентации, вписываясь таким образом в давнюю традицию «герменевтики подозрения» (формула Поля Рикёра). Такой подход рассматривает реальность как состоящую из двух пластов, один из которых (в данном случае — военный или иной опыт и вызванная им травма) более реален, чем другой — или, по крайней мере, скрываем им. Задача исследователя в таком случае — раскрыть эту связь и обозначить, как форма репрезентации искажает или ограничивает доступ к невидимому пласту реального опыта. Мой подход прямо противоположен этой перспективе. Анализируя избранные советские военные памятники и практики, в которые они вовлечены, я постараюсь рассмотреть эти памятники не как знаки или формы репрезентации, но как артефакты, материальность которых имеет свои, порой неожиданные эффекты, не предусмотренные их «знаковым» статусом. При этом я опираюсь не только на социологические и философские концепции в духе «material turn», но и на разработанные археологами подходы, помогающие понять и переосмыслить эффекты материального присутствия войны и смерти в местах массовых захоронений (или незахоронений) от Руанды до Освенцима. Олег Журавлев Европейский университет во Флоренции, Италия Война как продолжение политики подлинности: политическая субъективность и гражданский конфликт в Украине В своем докладе я хотел бы проанализировать субъективные (то есть связанные не с внешнеполитическими и полицейскими мерами, а с коллективными идентичностями) предпосылки гражданской войны в Украине. На мой взгляд, помимо факторов российского военного вторжения в Украину, давления НАТО и агрессивной политики Киева в отношении Юго-востока, большую роль в эскалации военного конфликта в Украине сыграли коллективные идентичности, сформированные до войны в рамках Майдана и Антимайдана. Я буду опираться на коллективное исследование Лаборатории публичной социологии, которая собрала уникальную базу качественных интервью с рядовыми участниками обоих движений летом 2014 года. Л. Болтански и Э. Кьяпелло писали о том, что возникновение «нового духа капитализма» было, помимо прочего, ответом на «критику неподлинности» прежних форм организации труда. Эта же критика неподлинности в конце XX века была адресована официальной политике в Западной Европе и США, равно как и политике на постсоветском пространстве. Политика, как официозная, так и оппозиционная, ассоциировалась в России и Украине с коррупцией, насилием и ложью. Однако если прежде в качестве подлинной ей противопоставлялась приватная сфера, то «Болотная» и Майдан изобрели своеобразную гражданскую «политику подлинности». Последняя, будучи локализованной в публичной сфере, автономизированной как от государства, так и от частной жизни, характеризовалась отказом от привычных форм политической репрезентации: артикуляции политических требований и программ, конструирования социальных и идеологических идентичностей, делегирования и создания собственных политических организаций. Этим формам политической репрезентации протестующие противопоставили принцип подлинности: примат опыта участия над политической дискуссией («Мы были на Болотной!») или превосходство свидетельства, будто бы говорящего само за себя, над идеологическим дискурсом («Я видел вброс!»). Однако если Болотное движение, не сумев выработать политическую программу и специфическую идентичность, а также встретив репрессии, рассыпалось, то в Украине, где Майдан добился смены режима, политика подлинности имела драматические последствия. Главный тезис данного доклада состоит в том, что политика подлинности сформировала такие коллективные идентичности сторонников Майдана и Антимайдана, которые способствовали поляризации сторон противостояния, дегуманизации противника и предпочтению войны политической дискуссии. Симпатизанты Майдана часто подчеркивают разницу между «прежним» украинским национализмом, противопоставляющим «Запад и Центр» «Юговостоку», а украинский язык русскому, и национализмом, родившимся на Майдане, который будто бы объединил всех украинцев, вне зависимости от региона и языка. Однако если прежний «рукотворно» конструируемый в электоральных целях национализм оперировал внятной оппозицией и поэтому имплицитно заключал в себе компромисс или пакт между двумя сторонами, то новый, «спонтанный» национализм Майдана оказался более бескомпромиссным потому, что выразил не политическую идею и не критерий национальной принадлежности, но коллективный опыт единичного и уникального события, воспринимаемый как опыт подлинного: «Именно… украинская символика вышла на передний план. … Украинское… оно очень сильно начало отождествляться именно с этим… даже не знаю, как это назвать, это вот то, что мы называем “революция достоинства”. <…> Это … ощущение себя украинцами … непередаваемо. Даже сейчас … мне стоит … достать … украинский флаг, вот так вот сделать в метро, знаешь, я буду ехать по эскалаторам, и люди будут улыбаться и вот так вот махать. Это ощущение непередаваемой общности», — говорит один наш респондент. Будучи продуктом не политического рассудка, но «сообщества переживания», говоря словами немецкого социолога Г. Шульце, национализм Майдана осуществил перенос подлинности как маркера уникального опыта в план дискурса национальной идентичности. Анализ нарративов «украинскости» в наших интервью показывает, что главным критерием принадлежности к нации становится не язык, регион, приверженность политической идеологии или вера в этническую общность, но метафора подлинности. Участники Майдана выстраивали собственную коллективную идентичность, говоря о «настоящих» и «ненастоящих» украинцах. Именно дефинитивная функция этой идеологически «пустой» метафоры способствовала превращению нового национализма из инклюзивного в исключающий: граждане Украины, выступившие против Майдана, могли быть «автоматически» объявлены «ненастоящими» украинцами, после чего на них навешивались ярлыки «русских», «сепаратистов» и т.д. Таким образом, прежние, «стереотипные» формы национализма постепенно возвращались в общество в виде новых эмблем («ватники», «колорады»). Исключение из коллективной идентичности на основе стигмы неподлинности способствовало дегуманизации политических оппонентов и переходу конфликта в горячую фазу (что не отменяет ключевой роли внешнеполитических и полицейских мер в эскалации этого конфликта). Более того, анализ нарративов представителей Майдана и Антимайдана друг о друге показывает, что причиной противостояния двух сторон мыслится не политическое разногласие и даже не конфликт ценностей разных групп украинских граждан, но убежденность в том, что протест другой стороны — ненастоящий. Активисты Майдана и Антимайдана «зеркально» обвиняли друг друга в проплаченности и отсутствии действительных причин для недовольства, противопоставляя свой «настоящий» протест другому, «ненастоящему». Наконец, отсутствие институционализированной политической дискуссии, включающей рядовых граждан, «синдром публичной немоты», говоря словами Б. Гладарева, способствовали тому, что именно участие в войне, а не продолжение инициатив, начатых Майданом («правительство народного доверия», низовые комитеты гражданского контроля и самоуправления) воспринималось его активистами в качестве наиболее легитимного продолжения «дела революции». Таким образом, «политика подлинности», будучи политикой наивной и, в определенном смысле, деполитизированной, может способствовать не только кризису и распаду протестного движения, как это было на Болотной, но и его перерождению в «партию войны». Альтернативой политики подлинности, на мой взгляд, должна стать политизация общества на основе делиберативного производства общих политических идей и коллективных идентичностей, формирования социальных требований и политических программ, принципа самоорганизации и самоуправления, которые могут сегодня предложить обществу левые и леволиберальные политические силы. Илья Калинин Факультет свободных искусств и наук СПбГУ; журнал «Неприкосновенный запас» «Отвратительное, но благодетельное дело ампутации»: Лев Толстой и разрушение романтического батального канона Ранняя проза Льва Толстого (прежде всего его «Кавказские очерки» и «Севастопольские рассказы») во многом фиксирует вступление России в эпоху современности. Эти ранние тексты Толстого, — в которых он пытается нащупать основы своей будущей поэтики, и по своему жанру (балансирующему на грани новеллы и очерка), и по своему предмету (Кавказская и Крымская войны), и по доминирующему типу рефлексии (интерес к формированию собственного «я», опознание фигуры другого как конституирующего момента этого формирования, этос навязчивого самонаблюдения и аналитическое расчленение героем собственной психической жизни, последовательная критика романтических представлений во всем их спектре — от истории до этики и эстетики) — позволяют рассматривать его как первого последовательно современного (то есть и опосредованного опытом модерна и наделившего его формой) писателя в истории русской литературы. Личный опыт войны, последовавший за внутренним опытом самонаблюдения дневников 1847– 1852 годов, дал Толстому ту внеэстетическую «ясность и подробность изображения» (Б. Эйхенбаум), которая была противопоставлена им поэтическому канону романтизма. Причем эта борьба с романтической эпохой была развернута Толстым на территории самого романтизма, которая была давно закреплена за описанием Кавказа и войны. Эта борьба с романтическим прошлым предмодерна может быть описана как столкновение двух типов зрения — живописного и фотографического, когда первый тип зрения подвергается критике как такой способ наблюдения и описания, который подменяет «объективную реальность» видимого сложившимися культурными кодами его интерпретации, в результате чего предмет наблюдения вытесняется устойчивым риторическим топосом его описания. Кроме того, противопоставление живописного и фотографического разворачивается через по-разному данное в них соотношение конкретного и универсального, внешнего и внутреннего, поверхности и глубины (эстетика живописного стремится к их гармоничному растворению друг в друге, документальность фотографического драматично сталкивает их). Взгляд Толстого, обращенный на картины войны, по тому типу зрения, на который он опирается, оказывается современен фотографии, впервые задействованной англичанами во время осады Севастополя. Этот фотографический по своей природе тип зрения позволил Толстому поновому изобразить то, что в принципе сопротивляется репрезентации (боль, страдание, смерть). И поскольку его интересует правда, а не красота, «фотографическое письмо», балансирующее на грани свидетельства и искусства, позволяет ему критически деконструировать (остранить) живописную фиктивность существующего литературного романтического канона, озабоченного производимыми эстетическими эффектами. Александр Кондаков Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург «Пропаганда гомосексуализма» и однополые браки: насколько адекватно понятие «новая холодная война» для описания международной дискуссии о ЛГБТ Гомосексуальность с недавних пор является особым объектом международной политики. Генеральный секретарь ООН объявил права ЛГБТ вопросом всемирного масштаба, призвав нации отказаться от дискриминационного законодательства против своих ЛГБТ-граждан. Президент и правительство США существенным образом расширяют границы сексуализированного гражданства, распространяя правовое признание на однополые семьи. Британский премьер-министр заявил, что он собирается «экспортировать» однополые браки в другие страны. И тем не менее в разных частях мира повторяются попытки криминализации гомосексуальности: новый виток уголовного законотворчества намечается в Индии, тюремные заключения за добровольные сексуальные отношения между мужчинами вводятся в Уганде, а высшая мера наказания — в Зимбабве. Запрет так называемой пропаганды «гомосексуализма» введен в России в 2013 году, и он уже заинтересовал парламентариев Кыргызстана, Казахстана и Армении. Представляется, что гомосексуальность делит мир надвое и дает начало новой холодной войне. Однако такое восприятие происходящих процессов слишком упрощает ситуацию. Оба подхода (включающий и исключающий) используют схожие механизмы власти и питаются из одного и того же источника. Воспользовавшись идеями Мишеля Фуко о колониальности и марксистской квир-теорией, я покажу потоки отношений власти, позволяющие предложить более тонкий анализ набирающей обороты «новой холодной войны». Предложенный анализ позволяет бросить вызов упрощающим ситуацию дихотомиям, «чернобелому» восприятию событий, чтобы обеспечить критическое отношение к обеим поляризующим дискуссии позициям. Квир-теория культивирует взгляд на анализируемый материал с альтернативной точки зрения, в которой одинаковый скепсис вызывают и призывы к законодательному оформлению личных парных отношений, и попытки зачистки публичных дискуссий от любого упоминания гомосексуальности. Михаил Куртов философ, медиа-теоретик, Санкт-Петербург Может ли атомная бомба быть феминисткой? О последствиях «поворота к не-человеку» для гуманитарных наук «Поворот к не-человеку» (non-human turn), предпринятый социологией перевода и спекулятивным реализмом, возвращает, казалось бы, навсегда отброшенные эпистемологические опции — панпсихизм и витализм. Это требует не только переосмысления войны между человеком и вещью, начавшейся в Новое время и тематизированной философией техники, но и концептуализации войны между самими вещами, которая обнажилась после «смерти человека». Инспирированное этим поворотом переописание сферы вещей — как обладающих если не субъектностью, то индивидуальностью — должно коснуться основных нечеловеческих акторов постсовременности: средств коммуникации и ядерного оружия. Теоретические проблемы, которые возникают в процессе такого переописания, отсылают, однако, к темам, уже знакомым гуманитарным наукам прошлого века. В этой постантропологической перспективе вопрос о том, могут ли вещи разделять ту или иную социально-критическую повестку, хоть и кажется странным, но позволяет по-новому определить значение наук о человеке и обществе. Драган Куюнжич Университет Флориды, США Сараево и имперские границы Европы, 1914–2014: непрерывный календарь В докладе речь пойдет о Сараево и комбинации сил — колониальных (Османская и Австро-Венгерская империи), постколониальных (давших импульс образованию коммунистической Югославии), религиозных, коммунистическо-интернационалистских и националистических — вовлеченных в события августа 1914 года, когда после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда началась Первая мировая война. Основываясь на российских и югославских документальных свидетельствах, доклад раскрывает политическое влияние на это убийство со стороны тайной сербской организации «Чёрная рука» и прокоммунистического движения «Млада Босна», а также их связи со Вторым Интернационалом, российской тайной полицией и, возможно, немецкими националистами, критиковавшими Франца Фердинанда. Не оставлена без внимания и вдохновлявшая Гаврило Принципа фантазия об убийстве османского султана Мурада I в начале Битвы на Косовом поле 1389 года (эрцгерцог был убит ровно в ее годовщину, 28 июня). Такая политическая конфигурация, как будет видно из доклада, воспроизводила себя как в годы Первой мировой войны, так и в других исторических контекстах, вплоть до последней войны в Боснии, когда вооруженные формирования сербов шли сражаться против «турок» на воображаемое Косово поле. Эту аналитическую картину дополняют видеосъемки с участием русского писателя Эдуарда Лимонова и военного преступника Радована Караджича, ведущих огонь из боевого оружия во время осады Сараево. Кевин Платт Университет Пенсильвании, США В поисках фашизма, прошлое и настоящее: исторический дискурс и геополитический конфликт 2014–2015 годов. В течение последних двух десятилетий в российском и восточноевропейском общественном дискурсе происходит процесс «национализации» истории Советского Союза как истории России. Сейчас политическое значение подобной национализации стало предельно ясным. Апелляции к советскому политическому доминированию как к «российскому гнёту» и, далее, стремление крайне правых приравнивать нацизм и сталинизм как вариации одной и той же тоталитарной политической формации — это упрощение, позволившее стигматизировать политику левых и современные российские меньшинства как соучастников массового насилия в XX веке. В зеркальном отражении этого механизма в Российской Федерации восприятие советской истории как части истории России обеспечивает моральным и политическим капиталом «национализацию» российской политики. Этот феномен наиболее ярко проявляется в грандиозных патриотических парадах Победы, напоминающих всему миру, что «русские» выиграли войну с фашизмом — разве что, в этом случае, фигура Сталина оказывается предельно антифашистской и патриотичной. Конфликт двух точек зрения на историю XX века очевиден в риторике, относящейся к украинскому конфликту 2014 года, в котором обе стороны использовали слово «фашист» как ключевой термин политического обвинения. Этот доклад продемонстрирует взаимоотношения этих двух кажущихся противоречащими друг другу, но на деле взаимозависимых способов восприятия истории, и осветит другие возможности историзации и видения будущего, исключенные из общественного дискурса в текущих режимах истории и памяти. Александр Погребняк Факультет свободных искусств и наук СПбГУ Знаки войны: монстр и инвалид В цикле гравюр Марка Шагала, иллюстрирующих гоголевские «Мертвые души», есть одна, с изображением стоящих друг подле друга капитана Копейкина и Наполеона — таковы две ипостаси Чичикова, порожденные коллективным бессознательным чиновников города N. Можно предположить, что перед нами удвоенный (или проблематизированный) знак «конца истории», и, что характерно, этот знак отсылает к войне. Так, Наполеон, согласно знаменитой интерпретации Кожева, олицетворяет «гомогенное государство», в-себе-и-для-себя бытие общества абсолютного взаимного признания. Чичиков же, можно сказать, рожден «под знаком Наполеона» в той мере, в какой призван реализовать этот проект на русской земле. Кстати, сам план «Мертвых душ» во многом совпадает с логикой «Философии права» Гегеля (где Наполеон «повторен», «снят» в фигуре монарха как простой единичности): от «абстрактно» законного приобретения собственности (первый том) — через «моральное перерождение» (недописанный второй том) — к «нравственному» растворению в субстанции государства: становлению семьянином, гражданином и чиновником (ненаписанный третий том). Наполеон, «Корсиканское чудовище», изображен Шагалом в характерное позе — как бы «единоруким» (можно вспомнить осуществленную Деррида деконструкцию образа руки у Хайдеггера — последний использует французский перевод гельдерлиновской «Мнемозины», где Zeichen переведено как monstre), что является знаком тотальной, мировой войны — войны как функции «всеобщего». В той же «Философии права» в связи с современной войной Гегель пишет о «высшей форме» храбрости, когда «личное мужество являет себя как неличное», так что значение смелости – уже не в ней самой (иначе бы чем-то значащим было бытие «разбойников и искателей приключений»), но только в «позитивном, цели и содержании». Известно, однако, что негативность самого этого содержания выражена у Гегеля в фигуре «черни». Так вот, капитан Копейкин, лишенный, в отличие от знака-монстра Наполеона, руки — есть другой знак современной войны, знак-инвалид: здесь война представлена в сниженном, обесцененном образе «разбоя», причем как у Гегеля, так и у Гоголя — но, разумеется, это уже совсем другая война. И, очевидно, Копейкин — это то, что критически связывает Чичикова с заветом его отца «копить копейку», так что «вставная повесть» прочитывается как «война против войны», стало быть, диверсия «черни» и «пушечного мяса» против того мира, который обещан в третьем томе в качестве «истинной цели» и «позитивного содержания». Станислав Савицкий Факультет свободных искусств и наук СПбГУ Скифский поход русских футуристов на «немцев» Велимир Хлебников бросил вызов «немцам» в «Воззвании учащихся славян», написанном в начале политического кризиса на Балканах, который привел к Балканским войнам. Вскоре Председателя Земшара поддержали футуристы, объявив скифский поход против «неметчины». Эти военнохудожественные действия развернулись в пространстве этнической мифологии на волне поисков национального своеобразия в искусстве. Антинемецкие настроения были характерны для тех, кто разделял идеи панславизма — расовой мифологии, против которой выступали сторонники пангерманизма. Из русских футуристов в этой полемике принял участие, главным образом, Велимир Хлебников. В художественной борьбе будетлян против «немцев» была и доля ревности к зарубежным конкурентам по цеху экспериментального искусства, и доля эпатажа, существенного для их эстетической программы. В годы Первой мировой войны антинемецкие высказывания футуристов не выделялись на общем фоне националистических настроений. В некоторых случаях их антинемецкие выпады подразумевали не адресата, представлявшего немецкую культуру и германоязычный мир, но европейцев в целом — иностранцев, не говорящих по-русски, «немых», «немцев» в устаревшем, но понятном образованному носителю языка начала ХХ века значении. В контексте художественной полемики вызов «немцам» — это в первую очередь часть борьбы за «достоинство независимого русского искусства», как писал Бенедикт Лившиц в «Полутораглазом стрельце». Или, если процитировать другую его формулировку, попытка свести «сложные счеты с Западом». Русские футуристы искали самобытное экспериментальное искусство, которое должно было преодолеть влияние европейского авангарда, прежде всего, французской школы, выйти из кубизма, как сказал бы Николай Пунин, видевший во Владимире Татлине русского художника, превзошедшего «самого Пабло Пикассо». Наталья Гончарова на одном из художественных диспутов настаивала на том, что и кубизм, и футуризм в основе своей были искусством архаическим: «Кубизм — вещь хорошая, но не совсем новая. Скифские каменные бабы, крашеные деревянные куклы, продаваемые на ярмарках, — те же кубистические произведения. […] во Франции, родине кубизма, исходной точкой для этого направления послужили памятники готической скульптуры». Родословная кубизма, возводимая к готике, и понимание русского авангарда как продолжения традиции искусства скифов и русского народного творчества, переносят конфликт России и Европы в контекст архаической этнической мифологии. Одно из самоназваний русских футуристов — Гилея, страна скифов в Северном Причерноморье, описанная Геродотом в четвертой книге «Истории». Братья Бурлюки были родом из Херсонской области, где, по преданию, когда-то находилась часть Скифского царства. Родом из Северного Причерноморья, Одессы, был Бенедикт Лившиц, писавший о Гилее как о пространстве архаических мифов. Им был создан едва ли не самый яркий образ будетлянина — скифского воина, скачущего на восток и «вполглаза» смотрящего на запад. В докладе речь пойдет о том, чем было обусловлено формирование самоидентификации футуристов как новых скифов, а также о том, каковы были предпосылки азиатского милитаризма русского авангарда. Сергей Ушакин Принстонский университет, США Жестокие романсы: о песнях «локальных» войн В своем выступлении я попытаюсь показать, как происходит символизация «локальных» войн в песнях. Появившись как своеобразный ритуал «снизу», «военный шансон» представил альтернативную версию войн в Афганистане и Чечне как опыта индивидуального и коллективного распада, предательства и непризнания. Написанные зачастую самодеятельными авторами, эти песни были своеобразными документами травматического опыта: законы жанра задавали жесткую повествовательную и ритмическую структуру, с помощью которой истории о войне находили устойчивую форму. Военный опыт, рассказанный с помощью песен, позволил добиться определенного социального признания. Типичная для ранних песен об афганской войне фигура ветерана, которому не только отказывали в социальном признании, но и в символическом присутствии («Ну разве это было зря? / Скажите в чем мы виноваты / Десятилетняя война, Десятилетняя беда, / А мы всего лишь в ней солдаты»), сменилась другой, подчеркивающей социальную, политическую и поколенческую преемственность. На смену «афганцу-самозванцу» пришел «сын солдата, взявшего Кабул, внук солдата, взявшего Берлин». Ритуалы и песни ветеранов значительно изменили общий контекст восприятия войны, переместив внимание с вопросов о статусе афганской и чеченской войн на темы индивидуальных травм и враждебного окружения. Попытки осознать травматический опыт войны оказались в тени желания вписать этот опыт в узнаваемые форматы и матрицы военной истории России. В ходе этой тематической эволюции изменился и сам «малый» жанр — песни о так называемых «забытых» войнах стали приобретать эпический характер, став частью официоза. Игал Халфин Тель-Авивский университет, Израиль Генеалогия насилия в универсалистских режимах: на примере строительства коммунизма Мы знаем, как можно объяснять насилие, исходящее от правых, радикальных или экстремистских, политических сил — через фигуру инаковости. Другой лишается человеческого облика и подлежит уничтожению. На этом построен описательный дискурс ООН и западных либеральных медиа. Но коммунистические режимы действовали по-другому, обнаруживая врага среди своих и уничтожая себе подобных. Здесь также был задействован образ врага, но сконструирован он был иначе. Это был не внешний Другой, но внутренний враг, тем более опасный, чем ближе к политическому центру, к ядру идеологической идентичности он находился. «Неисправимым» врагом был тот, кто понимал, что такое Коммунизм, но отказывался от его официальной трактовки. Это был сознательный предатель, ренегат — почти всегда описываемый как «Троцкист», то есть как тот, кого нет смысла просвещать и переучивать, тот кто знает, что такое хорошо и что такое плохо, но по необъяснимым причинам выбирает последнее. Такой враг самоорганизуется в параллельные партии организации, оппозиционные центры, которые практикуют своеобразную черную мессу — набор практик, копирующих официальные политические практики, но выворачивающих их наизнанку. С точки зрения Партии, это выглядело так, что внутренний враг насмехается над Коммунизмом, пытаясь завуалировать свою истинную сущность. И чем более враг походил на Партию, тем опасней он был и тем важнее его было физически уничтожить. Мария Чернышева Факультет свободных искусств и наук СПбГУ Призрак Малахова кургана В жизни художника Василия Верещагина хорошо известен инцидент, связанный с его первой персональной выставкой в России, которая открылась весной 1874 года в Петербурге и на которой была показана его Туркестанская серия, посвященная недавно присоединенному к Российской империи среднеазиатскому краю. Влиятельные российские генералы обвинили Верещагина в том, что он некоторыми своими картинами оклеветал, по их мнению, русскую армию. Среди работ, изображавших потери, поражения и отступления русских отрядов, особое недовольство вызвала композиция Верещагина «У крепостной стены. Вошли». Между тем она показывала победу русского гарнизона Самаркандской крепости, который только что успешно отразил атаку противника. Почему же эта картина возмутила русских генералов? В докладе предлагается новый ответ на этот вопрос. Он основывается, во-первых, на анализе тех приемов репрезентации войны, которые Верещагин ввел в практику русского искусства; а, во-вторых, на изучении того, как официальная реакция на художественные эксперименты Верещагина зависела от актуальной ситуации в области российской имперской политики. Андрей Щербенок Бизнес-школа СКОЛКОВО, Москва «Издалека стрелять — это не война»: образ войны и проблема развития в постсоветской России В рамках либерального российского дискурса призывы к активному участию России в военных действиях, от Кавказа до Новороссии, обычно рассматриваются как проявление глубоко консервативной, реакционной политической позиции, стремящейся повернуть время вспять и враждебной любым модернизационным проектам, направленным на включение России в глобальную повестку. Точно так же оценивается и резко активизировавшаяся за последний год риторика милитаризированного противостояния России и Запада, и рост военного бюджета, образно соединяющиеся в фигуре известного телеведущего, наглядно демонстрирующего зрителям возможности российского ядерного оружия. Все эти феномены складываются в симптоматическую картину массового сознания, зациклившегося на травме распада СССР, ностальгирующего по былому военному величию и неспособного к адекватному ответу на вызовы современности. В докладе будет предпринята попытка деконструировать этот упрощенный фантазматический образ российского постсоветского «военного сознания» и обсудить сложность и противоречивость этого феномена. В качестве основных источников будут использованы фильмы Алексея Балабанова, являющиеся показательным рефлексивным феноменом самоощущения постсоветской России, дискурс таких современных «милитаристов», как Игорь Стрелков, и бинарная стагнационно-мобилизационная модель российской истории Александра Прохорова. Я постараюсь показать, что за российским «желанием войны» подчас стоит не реакционный, а модернизационный импульс, а агрессивное противостояние с Западом далеко не всегда предполагает стремление к изоляции России от глобальной повестки. Сергей Яров Педагогический университет им. Герцена, Европейский университет в Санкт-Петербурге Социальные коммуникации в блокадном Ленинграде: коммунальные квартиры 1. Смещение оси социальных коммуникаций в блокадном Ленинграде было обусловлено резким изменением бытовых практик в условиях осажденного города, голодом, холодом, отсутствием водоснабжения, ослаблением контроля за преступностью. 2. Перемещение центра коммуникации соседей в квартирах в наиболее теплые их помещения вызвало появление таких проблем, как очередность пользования отопительными устройствами, распределение места рядом с ними, сокращение жилой площади до объемов кухни. 3. Обилие мертвых тел, оставленных в «выморочных» комнатах, с одной стороны, создавало конфликты между соседями, опасавшимися эпидемий и размножения крыс, с другой стороны, вело к созданию «круга посвященных», заинтересованных в том, чтобы не предавать этот факт огласке. 4. Переселение в пустующие комнаты квартир жителей из обстреливаемых кварталов города вызывало споры о «правах пришельцев», их обязанностях, формах поведения. Вместе с тем, это размывало культурные стереотипы сложившегося в квартирах сообщества соседей. 5. Возникновению новой системы коммуникаций способствовало то, что многие соседи оказались обессилены, лишены доступа к пище и воде. Это помогало разрушать автономность привычных для коммунальной квартиры действий их жильцов, сплачивало их, побуждало к развитию различных форм «обменных операций». 6. Изменение форм быта во время блокады вело к возникновению более тесных соседских связей, ломало социальные перегородки между жильцами квартир, делало их действия более коллективными. *** Информация об участниках Константин А. Богданов Филолог, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, выпускник кафедры классической филологии Ленинградского государственного университета, доктор филологических наук, автор исследований по истории культуры, науки и гуманитарного знания, в их числе книг: «Деньги в фольклоре» (1995), «Homo tacens. Очерки по антропологии молчания» (1998), «Арат Солийский. Явления. Перевод с древнегреческого и комментарий» (2000), «Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности» (2001), «Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII-XIX в» (2005), «О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов» (НЛО, 2006), «Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры» (НЛО, 2009), «Из истории клякс. Филологические наблюдения» (НЛО, 2012), «Переменные величины. Погода русской истории и другие сюжеты» (НЛО, 2014). Илья Будрайтскис Публицист, историк, художественный критик. Член редакций «Художественного журнала», «Открытой левой» и «LeftEast». Составитель и соавтор книг «Post-post-Soviet? Art, Politics and Society in Russia in the Turn of the Decade» (Chicago University Press, 2013, совместно с Екатериной Деготь и Мартой Дзеванска; Marsilio Editori, 2014, совместно с Арсением Жиляевым). С 2013 года сотрудник Государственного центра современного искусства. Михаил Габович BA Oxon, PhD EHESS, научный сотрудник Эйнштейновского форума (г. Потсдам, Германия), преподаватель Гумбольдтского университета (Берлин), член научного совета Берлинских коллоквиумов по современной истории. В прошлом — шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас», главный редактор издания «Laboratorium. Журнал социальных исследований», преподаватель Принстонского университета. Автор монографии о российских протестах 2011–2013 годов, составитель сборников «Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа» (М.: НЛО, 2005), «Памятник и праздник: Советские военные мемориалы 9 мая» (М.: НЛО, 2015, в печати), «Memory Out of Context» (Palgrave Macmillan, в печати). Соруководитель двух международных проектов (в 2013 и 2015 годах) по изучению празднования 9 мая и роли в нем советских военных памятников. Олег Журавлев Социолог, сотрудник Лаборатории публичной социологии при ЦНСИ (Санкт-Петербург) и аспирант European University Institute (Florence, Italy). Автор нескольких глав в коллективной монографии «Политика аполитичных: гражданские движения в России в 2011–2013 годах» (НЛО, 2014), автор статей, опубликованных в журналах «Studies in East European Thought», «Неприкосновенный запас», «Лабораториум», «Журнал исследований социальной политики», «Транслит» и др. Музыкант группы «Аркадий Коц». Илья Калинин Филолог, историк культуры, критик. Доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ. Шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре». Редактор книжных серий «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас”» и «Интеллектуальная история» в издательстве «Новое литературное обозрение». Автор многочисленных научных статей, опубликованных в журналах: «Ab Imperio», «Baltic Worlds», «Sign Systems Studies», «Social Sciences», «Russian Literature», «Russian Studies», «Russian Studies in Literature», «Slavonica», «Wiener Slawistischer Almanach», «Неприкосновенный запас», «Новое литературное обозрение», «Звезда» и т.д. В настоящее время готовит к печати книгу «История как искусство членораздельности. Русские формалисты и революция». Александр Кондаков Ассистент профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований, заместитель главного редактора «Журнала исследований социальной политики» (Москва). Михаил Куртов Философ, медиатеоретик, кандидат философских наук (СПбГУ). Автор книг «Между скукой и грезой. Аналитика киноопыта» (2012) и «Генезис графического пользовательского интерфейса. К теологии кода» (2014). Драган Куюнжич Профессор Университета Флориды, преподает теорию кино и медиа, иудаику славистику и германистику. Автор многочисленных статей, посвященных критической теории, деконструкции и литературной критике. Редактор книг «Deconstruction, A Merry Science» (1985), «Khoraographies for Jacques Derrida on July 15, 2000» (2000), «Who or What — Jacques Derrida» (2008), двухтомника «J» о Джозефе Хиллисе Миллере (2005), «Provocations to Reading» (2005) и «tRace: Etienne Balibar and Jacques Derrida», изданные в Сербии и России. Также под его редакцией вышли сборники, посвященные Вальтеру Беньямину, Михаилу Бахтину и Самуэлю Веберу. В список его публикаций входят монографии «Critical Exercises» (Белград, 1983), «The Returns of History» (Нью-Йорк, 1997) и «Воспаление языка» (Москва, 2003). В настоящее время работает над монографией «Ghost Scriptum» и книгой о фильме «The First Sail: J. Hillis Miller» (выйдет в 2015 году). Его документальный фильм «Frozen Time, Liquid Memories» о Холокосте на территории Сербии и Франции был показан в Европе и США, в том числе в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне. Кевин М.Ф. Платт Историк культуры, заведующий программой сравнительной литературы и литературной теории в Университете Пенсильвании. Автор книг «History in a Grotesque Key. Russian Literature and the Idea of Revolution» (Stanford University Press, 1997; русский перевод: «История в гротескном ключе: Русская литература и идея революции». М.: Академический проект, 2007) и «Terror and Greatness: Ivan and Peter as Russian Myths» (Cornell University Press, 2011). В настоящее время заканчивает книгу «Культурные практики извне: русские в Латвии» и работает над исследованием о русской историографии XVIII–XXI веков. Живет и работает в Филадельфии, США. Александр Погребняк Кандидат экономических наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории (Институт философии, СПбГУ); доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук (Факультет свободных искусств и наук СПбГУ); приглашенный преподаватель факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Автор около 50 научных публикаций. Сфера интересов: социальная философия, философия истории, философия современности, философия экономики, философское осмысление творчества Н.В. Гоголя, философия и кинематограф. Станислав Савицкий Доцент кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств, руководитель Центра современного искусства, кандидат искусствоведения, Ph.D. Автор книг «Андеграунд» (М.: НЛО, 2002), «Записки кочевников» (М.: НЛО, 2009), «Взгляд на петербургское искусство 2000-х гг.» (СПб: Петрополис, 2011), «Частный человек: Л.Я. Гинзбург в конце 1920-х и начале 1930-х гг.» (СПб: Изд-во Европейского универитета, 2013), «Самоучитель прогулок» (М.: НЛО, 2014). Эксперт Фонда современного искусства «Про Арте», преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге, арт-критик газеты «Деловой Петербург». Область научных интересов: история и теория авангарда, интеллектуальная история садов и парков, русско-французские культурные связи XIX—XX веков, неофициальные сообщества, современное искусство. Сергей Ушакин Антрополог, историк культуры, профессор Принстонского университета (США), реподает на кафедрах антропологии и славистики. Автор книг «Поле пола» (Вильнюс: ЕГУ, 2007) и «The Patriotism of Despair: War, Nation, and Loss in Russia» (Cornell UP, 2009), получившей в 2011 году приз за лучшую книгу года от Американской ассоциации преподавателей славянских и восточно-европейских языков. Редактор и соредактор сборников «In Marx’s Shadow: Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia» (вместе с Costica Bradatan. NewYork: Lexington Books, 2010), «О муже(N)ственности» (НЛО, 2002), «Семейные узы: модели для сборки» (НЛО, 2004), «Травма: пункты» (вместе с Еленой Трубиной. НЛО, 2010). Игал Халфин Профессор исторического факультета Тель-Авивского университета. Преподает современную историю России и Европы, историю кино, читает курсы по теории гуманитарных наук. Автор книг «From Darkness to Light» (2000), «Terror in My Soul» (2003), «Intimate Enemies» (2007), «Red Autobiographies» (2011) и других исследований по истории коммунизма. Помимо ранней советской истории в область его интересов входят историческая антропология, психоанализ, теория литературы и история кино. Недавно опубликовал микроисследование сталинских чисток в Ленинграде («Stalinist Confessions»). Основанная на материалах НКВД, личных делах ведущих университетских преподавателей из партийного архива и других архивных источниках, книга позволяет рассмотреть в антропологической оптике процесс «разоблачения», арестов и казней студентов и профессоров ленинградских коммунистических университетов. Мария Чернышева Кандидат искусствоведения, доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ, специалист по французскому и русскому искусству XIX века, русско-французским художественным связям, проблеме мимесиса в истории и теории искусства. Автор монографии «Мане» (СПб: Бельведер, 2002) учебного пособия «Мимесис в изобразительном искусстве: от греческой классики до французского сюрреализма» (СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2014). Андрей Щербенок Кандидат филологических наук (русская литература, СПбГУ), Ph.D. (критическая теория, UC Berkeley). Профессор практики бизнес-школы СКОЛКОВО, где занимается проблемами управления изменениями и стратегического менеджмента исследовательских университетов. Был постдокторальным исследователем, преподавателем и членом Общества гуманитарных наук Колумбийского университета, международным исследователем фонда Ньютона Британской академии. Автор работ в области литературы, кино, теории травмы, исторической памяти и идеологии. Сергей Яров Историк, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор РГПУ им. А.И. Герцена, ведущий научный сотрудник СПИИ РАН, автор около 200 научных трудов, в том числе 19 монографий и учебных пособий. Сфера исследований — история блокады Ленинграда, общественные настроения 1920-х годов.