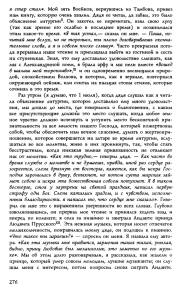АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН ТО ЛИ БЫЛО, ТО ЛИ НЕ БЫЛО
advertisement
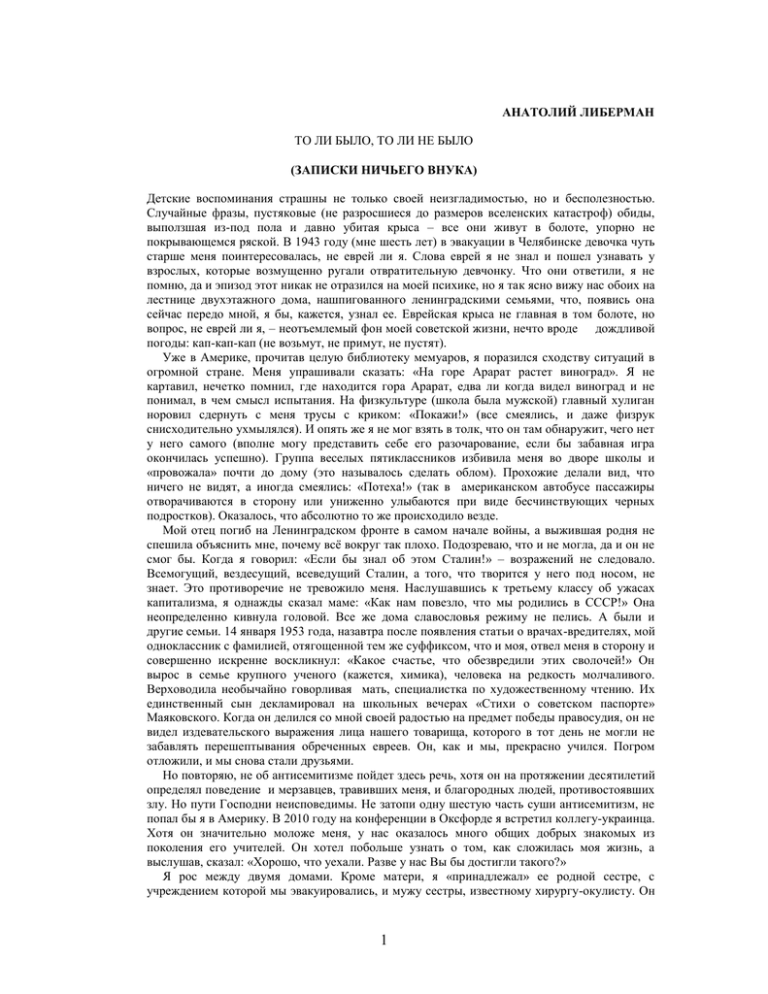
АНАТОЛИЙ ЛИБЕРМАН ТО ЛИ БЫЛО, ТО ЛИ НЕ БЫЛО (ЗАПИСКИ НИЧЬЕГО ВНУКА) Детские воспоминания страшны не только своей неизгладимостью, но и бесполезностью. Случайные фразы, пустяковые (не разросшиеся до размеров вселенских катастроф) обиды, выползшая из-под пола и давно убитая крыса – все они живут в болоте, упорно не покрывающемся ряской. В 1943 году (мне шесть лет) в эвакуации в Челябинске девочка чуть старше меня поинтересовалась, не еврей ли я. Слова еврей я не знал и пошел узнавать у взрослых, которые возмущенно ругали отвратительную девчонку. Что они ответили, я не помню, да и эпизод этот никак не отразился на моей психике, но я так ясно вижу нас обоих на лестнице двухэтажного дома, нашпигованного ленинградскими семьями, что, появись она сейчас передо мной, я бы, кажется, узнал ее. Еврейская крыса не главная в том болоте, но вопрос, не еврей ли я, – неотъемлемый фон моей советской жизни, нечто вроде дождливой погоды: кап-кап-кап (не возьмут, не примут, не пустят). Уже в Америке, прочитав целую библиотеку мемуаров, я поразился сходству ситуаций в огромной стране. Меня упрашивали сказать: «На горе Арарат растет виноград». Я не картавил, нечетко помнил, где находится гора Арарат, едва ли когда видел виноград и не понимал, в чем смысл испытания. На физкультуре (школа была мужской) главный хулиган норовил сдернуть с меня трусы с криком: «Покажи!» (все смеялись, и даже физрук снисходительно ухмылялся). И опять же я не мог взять в толк, что он там обнаружит, чего нет у него самого (вполне могу представить себе его разочарование, если бы забавная игра окончилась успешно). Группа веселых пятиклассников избивила меня во дворе школы и «провожала» почти до дому (это называлось сделать облом). Прохожие делали вид, что ничего не видят, а иногда смеялись: «Потеха!» (так в американском автобусе пассажиры отворачиваются в сторону или униженно улыбаются при виде бесчинствующих черных подростков). Оказалось, что абсолютно то же происходило везде. Мой отец погиб на Ленинградском фронте в самом начале войны, а выжившая родня не спешила объяснить мне, почему всё вокруг так плохо. Подозреваю, что и не могла, да и он не смог бы. Когда я говорил: «Если бы знал об этом Сталин!» – возражений не следовало. Всемогущий, вездесущий, всеведущий Сталин, а того, что творится у него под носом, не знает. Это противоречие не тревожило меня. Наслушавшись к третьему классу об ужасах капитализма, я однажды сказал маме: «Как нам повезло, что мы родились в СССР!» Она неопределенно кивнула головой. Все же дома славословья режиму не пелись. А были и другие семьи. 14 января 1953 года, назавтра после появления статьи о врачах-вредителях, мой одноклассник с фамилией, отягощенной тем же суффиксом, что и моя, отвел меня в сторону и совершенно искренне воскликнул: «Какое счастье, что обезвредили этих сволочей!» Он вырос в семье крупного ученого (кажется, химика), человека на редкость молчаливого. Верховодила необычайно говорливая мать, специалистка по художественному чтению. Их единственный сын декламировал на школьных вечерах «Стихи о советском паспорте» Маяковского. Когда он делился со мной своей радостью на предмет победы правосудия, он не видел издевательского выражения лица нашего товарища, которого в тот день не могли не забавлять перешептывания обреченных евреев. Он, как и мы, прекрасно учился. Погром отложили, и мы снова стали друзьями. Но повторяю, не об антисемитизме пойдет здесь речь, хотя он на протяжении десятилетий определял поведение и мерзавцев, травивших меня, и благородных людей, противостоявших злу. Но пути Господни неисповедимы. Не затопи одну шестую часть суши антисемитизм, не попал бы я в Америку. В 2010 году на конференции в Оксфорде я встретил коллегу-украинца. Хотя он значительно моложе меня, у нас оказалось много общих добрых знакомых из поколения его учителей. Он хотел побольше узнать о том, как сложилась моя жизнь, а выслушав, сказал: «Хорошо, что уехали. Разве у нас Вы бы достигли такого?» Я рос между двумя домами. Кроме матери, я «принадлежал» ее родной сестре, с учреждением которой мы эвакуировались, и мужу сестры, известному хирургу-окулисту. Он 1 провел всю войну в Ленинграде, оперируя раненых, вскоре после демобилизации защитил докторскую диссертацию и стал преподавать в Первом медицинском институте. На пике борьбы с безродными космополитами его выслали «для укрепления кадров» в Алма-Ату, где обещали сделать профессором, но он так и остался доцентом (и на том спасибо: недалек был час убийц в белых халатах; в Алма-Ате свистопляска могла и не достичь московсколенинградских размеров). Перед отъездом он больше всего беспокоился, что на новом месте жара, а улиц не поливают. За ним охотилась старая пациентка, с которой он жил в блокаду. Достоверно этого тетя, скорее всего, знать не могла (если не получала анонимных писем), но догадывалась. Поэтому, дав мужу устроиться в Алма-Ате, она последовала за ним и вскоре умерла от неудачно сделанной операции. Насчет полива улиц в Казахстане ничего сказать не могу. До 1950 года дядя и тетя жили в коммунальной квартире сравнительно недалеко от моей школы, и два раза в неделю после уроков я ходил к ним, так как мать работала учительницей музыки в школе и бегала по частным ученикам. Говорить что бы то ни было опасное в моем присутствии не полагалось, но, конечно, говорили, и я помню постоянное дядино предупреждение: «Он нас всех посадит!» Однако благоразумие часто покидало и его, и он иногда при мне считал, сколько раз в передовой статье упоминается имя Сталина: если четное количество раз, то будет заседание кафедры, а если нечетное, то не будет. В какой-то год я выписывал «Пионерскую правду» на его адрес. Он аккуратно просматривал ее и говорил, что это единственная газета, которую местами можно читать. Я не понимал, почему, но этого высказывания нигде не повторял, так что никого не посадил. В 1946 году состоялись выборы в Верховный Совет. Голосовали за блок коммунистов и беспартийных. По радио транслировали бесконечные собрания «трудящихся» с непременным зачином. Одно почему-то запомнилось мне. Председательствующий выдвигал в депутаты величайшего гения человечества, корифея всех наук, кормчего коммунизма, чьего-то лучшего друга – список никак не кончался. «Кто это?» – спросил я. «Сталин», – лаконично ответил дядя. Мне было девять лет, но я помню, что ответ несколько озадачил меня. Почему-то я ожидал другое имя, нечто вроде Зевса. Тогда же я прочитал книгу «Железный Феликс». Все это было так давно, что я вынужден пояснить смысл реалий, в наши дни уже мало кому понятных. Железный Феликс – это Феликс Эдмундович Дзержинский, глава Чрезвычайной Комиссии (ЧК), аскет и чудовище. Кроме памятника перед Лубянкой, остался от него анекдот о человеке с грохотом падающем вниз по лестнице («Это железный Феликс свалился», – поясняет Ленин). Один из рассказов назывался «Картошка с салом». Голод. Дзержинскому приносят картошку с салом. Он уже открыл было рот, да призадумался и спросил: «А что ели рабочие?» Его успокоили (ложь во спасение), что рабочие ели то же самое. Я был от рассказа в восторге (картошка с салом – это тебе не то, что хлебные чернильницы, которые, если верить Зощенко, хитрый конспиратор Ленин в большом количестве поедал в тюрьме). Осчастливленный моим пересказом, дядя веселился от души, и каждый раз, выслушивая очередную трогательную историю, говорил: «Картошка с салом». Я невероятно мешал ему готовиться к лекциям и писать (он много печатался и редактировал), так как вечно приставал: «Дядя, давай во что-нибудь поиграем». По вечерам он не отказывался участвовать в разных словесных играх и решениях кроссвордов, в которых постоянно фигурировали малоизвестные притоки Волги и инструмент для выпиливания (с тех пор я и знаю слово лобзик), но чаще он предлагал поиграть в ненавистную мне молчанку: кто кого перемолчит. У него стояла многотомная медицинская энциклопедия, и он пришел в ярость, увидев однажды, что я пытаюсь прочесть в ней неположенную мне статью (наверно, потому, что у него никогда не было детей). Зато он учил меня плавать и почти каждое воскресенье ходил со мной в Эрмитаж. Он не смог остановить мою стремительно прогрессировавшую близорукость, а сам умер, дожив до девяноста лет, в полном одиночестве и ослепший, похоронив свою третью жену (ту пациентку). Свою неизбежную слепоту он предсказал задолго до рокового исхода. Из его разговоров за столом я многое узнал о глазных болезнях и, когда впервые попал на «Иоланту» (как известно, Иоланта в начале оперы слепа), поинтересовался: «У нее катаракта или глаукома?» – чем он меня тоже потом долго дразнил, как картошкой с салом. И тетя была врачом. В таком окружении я постепенно сделался хорошим диагностом и правильно заметил, что у Спящей Царевны было отравление желудка. 2 Впоследствии выяснилось, что я знаю много полезных вещей о медицине, и мои знания пригодились не только мне, но и моим жене и сыну. Послевоенная мужская школа была зверинцем. 1944 год. На сорок два первоклассника три или четыре отца; остальные погибли. Вопиющая бедность. Та же нищета и у учителей. Работают, пока не упадут мертвыми прямо в классе. Всю жизнь одна и та же кофточка. «У, вредина, – говорил мне мальчик из моего четвертого класса (значит, уже 1948 год), – 400 рублей получает да еще двойки ставит». Он, видимо, полагал, что ставить двойки – ни с чем несравнимое наслаждение; при нем и денег не надо. На 400 рублей нельзя было ни жить, ни умереть. Как только сняли блокаду, люди стали возвращаться в Ленинград – те, чьи дома (как наш) не были разбомблены, и кому вождь народов разрешил вернуться (нужен был вызов). Открыли шесть первых классов. Во многих «переростки», которые в годы войны не учились. Особо нуждающимся давали по утрам алюминевую тарелку полусъедобного варева. Это УДП (усиленное дополнительное питание). Ничего ни забавного, ни романтического в духе «Двух капитанов» или «Республики Шкид»: когда шла толпа детдомовцев или еще хуже ремесленников (читайте картофельно-сальную «Звездочку» Василенко), разумнее было перейти на другую сторону. Я иногда приносил в ранце (портфели появились чуть позже) кусочек хлеба (просто хлеба), но и его невозможно было съесть: вокруг всегда танцевали двое или трое «огольцов», кричавших: «Рубани, рубани!» Но если отщипнуть от такого ломтика несколько кусочков, то ничего не останется. Всё же благодаря дяде (он зарабатывал хорошо и имел доступ в «литерный магазин») мы не голодали, но и его привилегии уменьшались с каждым годом. Доктор наук, хирург, на которого молились больные, ни одного дня не жил в собственной квартире, а дрова для печки таскал из сарая во дворе. Когда я вырос, второй мешок таскал я (разумеется, то же я делал и у себя, но я еще тогда не был обременен степенями). В 1¹ и 1² взяли маленьких, прилично выглядевших детей. Отбор (селекцию) проводила директрисса. Маме и тете разрешили присутствовать. Я не смог ответить, сколько стоит трамвайный билет. В Челябинске мы никогда не ездили на трамвае, а в Ленинград попали лишь в августе, и за несколько дней я еще не обжился) в новой обстановке. Еще хуже обстояло дело со вторым вопросом: «Сколько у человека пальцев?» Я, конечно, знал, но, влекомый потоком аналитического мышления, уточнил: «На руках и на ногах вместе?» «Я тебя спрашиваю, сколько у человека пальцев», – холодно повторила директрисса и послала меня в 1³ (потом ввели буквы, и я, например, кончил 10-б). Сходной экзекуции на десять лет позже меня подвергли в приемной комиссии ленинградского университета и тоже выгнали. Молодая учительница, которой мы достались, была, по-моему, неплохая (следующая оказалась совершенно жуткой: она приехала откуда-то из области и говорила: «Сотреть с доски»). Летом между первым и вторым классом я прочел «Мифы древней Греции» Л.В. и В.В. Успенских и в сентябре с восторгом рассказал об этом учительнице. «Греки – мудрый народ», – глубокомысленно изрекла она. Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Никогда не знаешь, что произведет впечатление на ребенка. И вновь пути Провидения стали ясны лишь позже. Через год открыли новую школу. Вернее, закрыли госпиталь, располагавшийся в помещении Пушкинского лицея (туда он переехал из Царского села где-то в середине XIX века), и стали использовать его корпуса и огромный сад по прямому назначению, разбив на две школы. Хорошие классы – 1¹ и 1² – не тронули, а отребье, то есть всех остальных, убрали с глаз долой. До двенадцати лет школа помнится мне, как сплошной кошмар, но потом жизнь наладилась (между прочим, именно в начальной и средней школе меня и мне подобных терзала единственная за все годы откровенная антисемитка: она вела арифметику, а потом алгебру и геометрию). В последних классах появились очень сильные учителя математики и литературы, много более сильные, чем те, которые преподавали в старой школе, и наши знакомые оттуда нам откровенно завидовали. Что ни делается, все к лучшему. Так кажется? Частично вина за ужасы первых пяти классов лежит на домашней среде, которая меня воспитала. Судя по отрывочным рассказам, отец был человеком спортивным (прекрасный пловец и прочее) и в этом смысле полная противоположность матери. Меня с детства приохотили к английскому языку и музыке, но игры с мячом и лыжи прошли мимо меня (даже на велосипед я сел только к шестнадцати годам, а на лыжи встал и того позже); к тому 3 же мешали очки. Я не умел драться и давать сдачи и лишь благодаря страстному желанию быть не хуже других в какой-то мере овладел турником (помогла палка, вбитая летом между двумя деревьями) и научился даже без помощи ног влезать по канату. На уроках физкультуры давались задания, непосильные для многих, и ставились отметки (тройки). Меня одевали в бриджи, а не в длинные брюки, в чулки, пристегивающиеся пуговками к лифчику (и очень хвалили, когда я справлялся с задними пуговицами без посторонней помощи – в те времена мальчиковый лифчик был не такой уж редкостью), и в нечто, напоминавшее женское трико (или бывшее таковым?) Поначалу я мирился с хохотом в раздевалке, а потом взбунтовался, но на победу ушло три, если даже не четыре класса. Природа не наградила меня ни прыгучестью, ни ловкостью, ни могучими бицепсами. Интеллигентного еврейского ребенка и надо было бы послать в секцию борьбы или бокса (о таких секциях я мечтал и говорил все время), но неперспективные дети тренеров не интересовали, а попыток найти «частника» не делалось; даже в бассейн невозможно было пробиться. Лишь в каникулы после восьмого класса меня взяли в гребной клуб (туда брали всех), и я хорошо гребу до сих пор. Однако в пятнадцать лет мои отношения с мужским миром утратили прежнюю остроту: меня уже больше тянуло в другую сторону. Вокруг стали цениться успехи в науках, а не только в спортзале; к тому же классная шпана слушала мои рассказы, развесив уши (как урки в лагерях). Если бы кто-нибудь знал, как я ненавижу мое детство! Несмотря ни на что, я подобно большинству обитателей страны победившего социализма (ибо подоспел родиться как раз к моменту его окончательной победы), рос идейным ребенком и довыбирался до заместителя председателя совета дружины – были такие должности у юных пионеров. Управляла нами старшая пионервожатая, безграмотная, но напористая женщина с дворянской фамилией. Позже ее ненадолго сменила необычайно привлекательная девушка лет девятнадцати. Десятиклассники вились вокруг нее роем, но я запомнил только один момент. Кончался восьмой класс. Весна. Мой красный галстук давно позади. Мы о чем-то говорим с ней у окна, и солнце слепит глаза. «Что, мешает солнце?» – спрашивает Светлана и собирается отойти в сторону. «Нет, – отвечаю я, – сияние исходит от Вас». «Ох, ты какой», – засмеялась она и с любопытством посмотрела на меня. Это был первый случай, когда молодая женщина заметила, что я уже не ребенок. Но возвращаюсь к идейности. Так как я с ранних лет писал стихи и рассказы (существовал даже неоконченный роман с эпическим началом: «В тот год я гулял по Эстонии»), мне поручали делать доклады и выпускать стенгазету (только рисовал не я). Один из докладов был посвящен горестной судьбе женщины до революции. «По каким материалам ты его подготовил?» – осведомился дядя. Я удивился: какие материалы? И так все известно. Написал я и поэму о женской доле (может быть, к тому времени я уже прочел «Мороз, красный нос» и цитировал поразившую меня фразу: «Как дождь, зарядивший надолго, тихонько рыдает она»). Школа начиналась без четверти девять, а идти мне надо было почти полчаса. Я просыпался с величайшим трудом. В моей поэме крестьянка ждет революцию и среди прочего выражает такую надежду: «Не будем вставать в шесть утра». Строчку эту я запомнил, потому что был за нее жестоко высмеян в семье. Между прочим, детей не надо вышучивать, ибо насмешки взрослых ранят на всю жизнь. И «роман» мой не сохранился из-за того, что никто вокруг (а круг состоял из трех человек) не догадался поддержать юного графомана, а было бы небезынтересно прочесть ту прозу, как читают литературный памятник. Научившись прилично играть на рояле, я лет в двенадцать приступил к сочинению оперы «Овод» (потрясение от этого романа нельзя передать никакими словами, а ведь тоже картошка с салом). «Не барабань», – сухо сказала мне мама: лучше бы она показала мне, как гармонизовать мелодию. Для классной газеты я сочинял передовые. Уроки постоянно срывались, кого-то приходилось выгонять в коридор. Даже немногочисленные учителя мужчины не могли справиться с бандой созыва 1948-1949 годов. Я писал: «Без дисциплины нет успеваемости, а без успеваемости нет знаний, без которых нельзя построить коммунизм, светлое будущее всего человечества». Валентина Петровна, наша воспитательница и учительница русского языка, переписывавшая газету свои красивым почерком, пришла от этой банальности в восторг и несколько раз повторила ее. С В.П. связаны и другие мои воспоминания. В четвертом классе была диктовка (тогда говорили диктант), в которой встретилось предложение: «Улетели и гуси, и утки». Его туда вставили с умыслом, но я оказался единственным, кто вспомнил, что перед вторым и нужна запятая. Об этом выдающемся 4 событии она поведала даже на родительском собрании. Годом позже она увидела мою тетрадь, а на газете, в которую тетрадь была обернута, надпись о том, что сия принадлежит такому-то ученику такого-то класса – всё, как положено. Но требуемые слова я написал поверх портрета генералиссимуса. Она сорвала газету и сделала мне строгий выговор, чтобы я никогда («слышишь: никогда!») не совершал подобного святотатства. Учительница арифметики наверно бы отнесла тетрадку в партком и потребовала расследования. 20 декабря 1949 года В.П. прибежала к нам домой с написанным ею докладом о семидесятилетии вождя. До великой даты оставался один день. Она что-то упустила, и мы не подготовили сбора отряда, в котором я был председателем «совета» (много лет спустя один мой знакомый меланхолически заметил: «Я никогда не поднялся выше помощника звеньевого»). Тем, кто не принял бы участия в общесоюзном мероприятии («поток приветствий»), грозили крупные неприятности. Это мне еще утром не без злорадства сказала старшая пионервожатая. Назавтра я доклад зачитал, и молох не сожрал очередную порцию детей, всегда готовых бороться за его дело. В седьмом классе начались короткие сочинения: помню что-то о баснях и о «Мцыри». С довоенных времен у нас сохранился томик Крылова с хорошим предисловием. Прочитав там об истории басни, я и написал, что Крылов блестяще обработал древние сюжеты и особенно многим был обязан Лафонтену. На дворе стоял 1951 год. Халы переименовали в плетенки, «Ленч» – в «Печенье к чаю», а «Норд» (бывший «Лор») – в «Север». Оставалось только неясным, чем заменить иностранное слово «приоритет». Валентина Петровна засомневалась и показала сочинение преподавательнице литературы старших классов. Какой Лафонтен? За ссылку о влиянии Байрона на Пушкина устраивали открытые процессы над университетскими профессорами. Мне было приказано переписать первую страницу, что я и сделал, убрав упоминание о зловредном французе, и за предательство получил честно заработанную пятерку. Дядя долго ахал, узнав об изгнании Лафонтена. Но он о Ползунове, братьях Черепановых, Яблочкове и даже о восстании Булавина тоже узнал только от меня. «В наше время этого не проходили», – пояснял он извиняющимся тоном. На выпускном вечере я неожиданно для себя выступил с речью, в которой сказал, как многим мы обязаны нашим учителям литературы и математики старших классов. Остальные не значили для нас ничего (скучные, посредственные люди); по наивности и незнанию церемониала я и не упомянул их. Речь всем понравилась, но через несколько часов я узнал, что смертельно обидел не только тех, кого пропустил, но и Валентину Петровну. «Столько лет, столько лет», – повторяла она. О средних классах я и не подумал, но никогда не простил себе того промаха. Действительно: столько лет. Библиотекарем работала одинокая, страшно заикающаяся женщина. Как со всеми библиотекарями на протяжении моей долгой жизни, у меня и с ней сложились самые дружеские отношения. Она тоже пришла на выпускной вечер. Были куплены букеты для учителей, но ее никто не ждал. Она стояла у стены с жалкой улыбкой, а тот мальчик, который держал букет, предназначенный для учительницы рядом с ней, сильным движением разломил его пополам и дал каждой одну часть. Я был потрясен (может быть, никто больше и не заметил происшедшего): никогда подобный жест не пришел бы мне в голову. Чуткость и великодушие, – видимо, врожденные качества, хотя чему-то можно и научиться. Я учился долго, в покаяние без искупления не верю, и потому меня пожизненно жгут воспоминания о людях, которых бы осчастливила одна моя улыбка, вознесло одно слово, но я не улыбнулся и слова того не сказал. Вокруг цвело пустословие о гуманизме (социалистическом гуманизме, разумеется), но жестокость сопровождала каждый наш шаг. 1949 или 1950 год. Кого-то исключают из пионеров. Случай редчайший; я только один такой и помню. Исключение требовало санкций высших инстанций (райкома комсомола?) Линейка, то есть выстроена вся дружина или большая ее часть. Пионервожатая (та, с дворянской фамилией) приказывает жертве выйти из строя. Зачитывается приказ. С несчастного снимают галстук. «Сомкнуть ряды». Я помню свое равнодушие и плачущего мальчика. Что он сделал? Может быть, скрыл, что арестован его отец, враг народа? За хулиганство так (и вообще никак) не наказывали: иногда грозили поставить четверку по поведению и даже ставили. Никто не кинул к его ногам букетика цветов. Не те времена, не тот эшафот. Осень 1952 года. Восьмой класс. Меня принимают в комсомол. Я пожизненный круглый отличник, меня вечно «прикрепляют» к отстающим, которых я учу грамоте; я выступаю на 5 сборах, пишу в газету – словом, какой разговор? Одну из двух положенных рекомендаций дал мне классный комсорг. Остается только проголосовать и отправить меня в райком, где спросят, кто председатель коммунистической партии Гватемалы или Индонезии, и проверят знание устава (классический вопрос: «На что идут взносы?»). И вдруг поднимается преподаватель, временно ведущий у нас литературу, член Общества по распространению политических и научных знаний, сын той замечательной учительницы, которую я много позже благодарил на выпускном вечере, и начинает витийствовать о том, что для истинного комсомольца я недостаточно скромен и без должного уважения отношусь к мнению старших товарищей. Откуда он это взял? Нашего класса он почти не знал, плохо слышал, из-за лекций постоянно пропускал уроки, но как раз со мной не раз беседовал и о Пушкине, и о Гоголе, хваля за любовь к поэзии и нетривиальные наблюдения о композиции пьес. Я чувствовал себя невероятно польщенным тем, что он снисходил до меня. Малолюдное собрание (комсомольцев в классе пока не больше десяти) остолбенело. Комсорг школы просит выступить моих рекомендателей. Мой лучший друг полагает, что если есть в моем характере недостатки, именно комсомол поможет мне исправиться. Классный комсорг смущен, но вынужден подтвердить свою рекомендацию. К сожалению, я забыл главное: примеры моей нескромности. Кажется, ему показалось, что я говорил с ним чуть ли не на равных; вот он и нашел время и место поделиться своими мыслями. Все это выглядело так неубедительно (какой же восьмиклассник станет говорить с преподавателем «на равных»?!), что собрание постановило принять. В 26 лет я выбыл из комсомола по возрасту и вздохнул свободно, но непринятие могло бы обернуться аналогом волчьего билета. После того, как я кончил школу, мать моего супостата пригласила меня бывать у нее; там я встретил еще троих ее избранников из предыдущих выпусков. Почти никого я не ценил так, как ее. В 1939 году (если я не путаю) она во время недолгого послабления (Ежова сменил Берия) усилиями ее второго мужа вырвалась из ГУЛАГ’а. Но это я узнал много позже, а сына встретил на ее похоронах, в оттепельную пересменку. Он подошел ко мне и, заикаясь, пробормотал, что очень сожалеет о том инциденте. Растерявшись, я ответил: «Что вспоминать? Дело прошлое». А надо было бы спросить, зачем он и по собственной ли инициативе покрыл себя таким позором (ведь знал, что делал), и пожелать ему гореть в аду. Нет у меня веры не только в биение себя в грудь, но и во всепрощение. Маленькие дети верят учителям безоговорочно, и только ложь может поколебать эту веру. «С той страшной ночи Катюша перестала верить в Бога». Можно опуститься и пониже. Историю СССР в четвертом классе вела у нас старая, даже древняя женщина. Так казалось мне, одиннадцатилетнему. Пожалуй, она и была в преклонном возрасте, но ее скрипучего голоса боялись и вели себя смирно. Начиная урок, она регулярно сообщала, что в параллельном классе, т.е. в 4-а, только что поставила две пятерки и четверку. Подвиги соседей должны были вдохновлять и нас, 4-б, на то, чтобы не уступать им. Но раз в неделю история в 4-а бывала после 4-б, и однажды учитель географии, урок которого следовал за ее уроком, забыл там карту. Из-за близорукости я сидел в среднем ряду прямо перед столом учителя, и географ попросил меня зайти в класс А и нужную ему карту принести. Урок только начался. Я постучал, извинился, как мне было велено, и объяснил, зачем пришел. «Да, да, вот она висит. Бери». Пока я снимал карту и нес ее к выходу, она сообщила, что поставила у нас две пятерки и четверку, а на самом деле поставила четверку и две тройки. Мир безгрешных учителей рухнул навсегда. Страшная вещь – детские воспоминания. Похоронные процессии. Я вижу их из окна нашего челябинского жилья каждый день. За повозкой идут музыканты. Их музыка кажется мне веселой по определению: раз музыка, значит, веселая. (Позже я неоднократно убеждался, что мажор и минор не вызывают у маленьких детей привычных нам ассоциаций.) Больница, куда я, восьмилетний, хожу на перевязки после операции аппендицита. По коридору бредет чудовищно исхудавший человек, скелет, обтянутый кожей. «Что с ним?» – в ужасе спрашиваю я. «Рак пищевода». На каталке провозят истерично кричащую девушку. Хирург, та же женщина, которая за несколько минут до перитонита оперировала меня и спасла от неминуемой смерти, говорит ей, что ногу придется ампутировать, и добавляет: «Ничего страшного, милочка». А на перевязке сестра отдирает с мясом заскорузлую марлю и, чтобы отвлечь мое внимание от дикой боли, спрашивает, знаю ли я, в каком слове семь о и больше 6 никаких гласных. Я не знаю. Слова обороноспособность я тоже раньше не слышал. Наложена новая марля, и я в свою очередь рассказываю ей, что мы писали на уроке: «Ленин. Сталин. Ворошилов», – а в диктанте было предложение: «Колхозник Иван Кузьмич приехал в Ленинград». Так как учительницу зовут Евгения Кузьминична, самые догадливые решили, что в Ленинград приехал ее брат. После операции меня положили к женщинам, чтобы мама и тетя могли беспрепятственно заходить в палату. Мое внедрение вызвало недовольство: маленькое существо, но все-таки противоположного пола. «Он ничего не понимает», – успокоила женщин мама. Я потом часто вспоминал ее слова, стараясь сообразить, чего же я не понимаю. В состоянии невинности меня продержали постыдно долго, пока, наконец, один товарищ не растолковал мне даже с излишними подробностями, что к чему. Отца рядом не было, а женщины, родившиеся в начале века, краснели при слове месячные. Да и в юности я ни у кого не мог добиться, почему попал в тюрьму Оскар Уайльд (а если бы было, где прочесть, едва ли бы разобрался в сюжете). Зато в палате, где я провел больше недели, я с большим успехом рассказывал сказки Андерсена (приходили слушать даже санитарки), а от горбатой женщины через проход услышал об Адаме и Еве. Правда, она же изложила мне содержание великой поэмы «Девушка и смерть», зачем-то добавив, что они теперь неразлучны и даже в кино вместе ходят. «Какой вздор», – с отвращением сказал дядя. Когда-то все знали имя и узнавали голос Надежды Апполинарьевны Казанцевой. Она пела на музыку «Сентиментального вальса» Чайковского: «Прэдо мною цепь воспоминаний». Нет, скорее звенья давно разорванной цепи. Теперь, когда наступила поздняя осень и улетели и гуси, и утки, всё видится в другом свете. На горе Арарат поспел виноград, а девушки, от которых по-прежнему исходит сияние, уступают мне в лондонском метро место. Хорошо, что в лондонском. 7