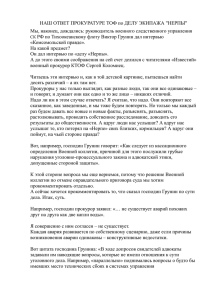ЛОХ — САМЕЦ СЁМГИ Маргарита БОРЦОВА
advertisement
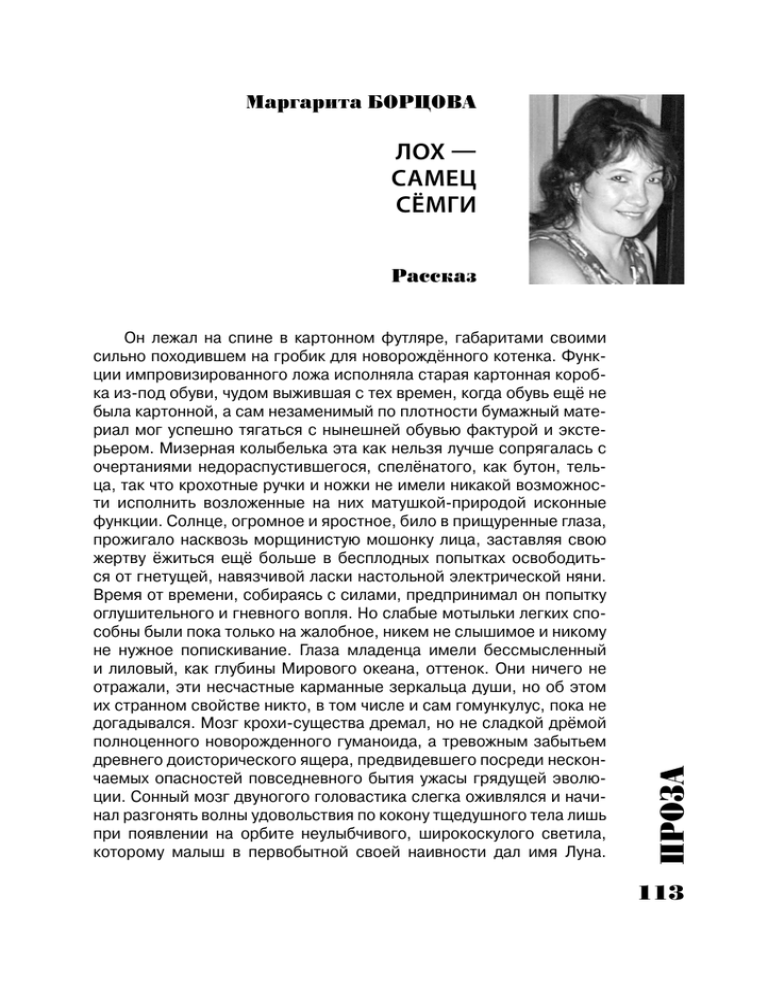
Маргарита БОРЦОВА ЛОХ — САМЕЦ СЁМГИ Он лежал на спине в картонном футляре, габаритами своими сильно походившем на гробик для новорождённого котенка. Функции импровизированного ложа исполняла старая картонная коробка из-под обуви, чудом выжившая с тех времен, когда обувь ещё не была картонной, а сам незаменимый по плотности бумажный материал мог успешно тягаться с нынешней обувью фактурой и экстерьером. Мизерная колыбелька эта как нельзя лучше сопрягалась с очертаниями недораспустившегося, спелёнатого, как бутон, тельца, так что крохотные ручки и ножки не имели никакой возможности исполнить возложенные на них матушкой-природой исконные функции. Солнце, огромное и яростное, било в прищуренные глаза, прожигало насквозь морщинистую мошонку лица, заставляя свою жертву ёжиться ещё больше в бесплодных попытках освободиться от гнетущей, навязчивой ласки настольной электрической няни. Время от времени, собираясь с силами, предпринимал он попытку оглушительного и гневного вопля. Но слабые мотыльки легких способны были пока только на жалобное, никем не слышимое и никому не нужное попискивание. Глаза младенца имели бессмысленный и лиловый, как глубины Мирового океана, оттенок. Они ничего не отражали, эти несчастные карманные зеркальца души, но об этом их странном свойстве никто, в том числе и сам гомункулус, пока не догадывался. Мозг крохи-существа дремал, но не сладкой дрёмой полноценного новорожденного гуманоида, а тревожным забытьем древнего доисторического ящера, предвидевшего посреди нескончаемых опасностей повседневного бытия ужасы грядущей эволюции. Сонный мозг двуногого головастика слегка оживлялся и начинал разгонять волны удовольствия по кокону тщедушного тела лишь при появлении на орбите неулыбчивого, широкоскулого светила, которому малыш в первобытной своей наивности дал имя Луна. ПРОЗА Рассказ 113 Вместе с Луной вторгалась жизнь. Душным резиновым сосцом забивала рот. Пресекая всякую попытку сопротивления, обрывала враз тонкий протестующий писк, роднясь тем самым с вечным своим антиподом — смертью. А затем тягучие, горько-сладкие волны живительной амброзии начинали вплывать в недра бессмысленного создания, дабы там, в тёмных глубинах его, окрашиваясь в алый заревой цвет, претвориться в самую изменчивую и непостоянную, в самую необходимую ткань организма. В момент появления на свет сын человеческий этот был безнадёжно дисквалифицирован собратьями по виду. Краткое резюме «здыхлец» звучало как приговор, и оттого Господь Бог выслал на охрану младенца целых двух ангелов. Крылатые братья стояли у изголовья недоношенной крохи, скорбно потупив головы и скрестив крылья, как невидимые мечи. Один из них — чёрный ангел небытия — призван был отводить от своего подопечного назойливую старухусмерть, когда она чересчур близко протягивала к нему свои костлявые лапы, а другой — белый ангел жизни — не давал суете бытия безоглядно вовлечь в свой бурлящий водоворот утлое судёнышко наспех сработанного тельца. И оттого ни жизнь, ни смерть не могли одержать верха в борьбе за крохотную душу и, сливаясь, словно перманентные супруги в насильственном объятии, вечно проклинали друг друга. А маленькое существо продолжало плавать в невесомости сна, где жизнь и смерть сосуществуют на паритетных началах. Там, во сне, смутное сознание новорождённого парило в сонмище таких же, но пространных очертаний, теней со скользкими белыми подбрюшиями, и огромная, ни с чем не сравнимая радость бурлила и вовлекала их всех в свой круговорот. Так зачиналась биография Лоха — седьмого, последнего и единственного из оставшихся в живых сыновей своей матери. Конечно, при рождении было даровано мальцу совершенно другое, гордое и величественное, как порфиры римских кесарей, имя, так же не приличествовавшее ему, как рабу — звание легионера. Мать не могла простить злополучному последышу небытия предыдущих шести сыновей, хотя тот нимало не был в нем виноват, и как бы в отместку пыталась втиснуть в худые бытийные закрома своего дитяти остальные прочие шесть незадавшихся жизней. Мать всегда мать. Она, конечно же, хотела как лучше. Но Лоху вряд ли по силам была и одна его собственная жалкая жизнь. Сын рос вялым, малоподвижным, тщедушным и слабым. Несчастный мозг его, изначально выжженный электрическим солнечным муляжом, оставался немой и бесплодной пустыней. Удивительные, сапфировые, редкой миндалевидной огранки глаза взирали на окружающую суету с полнейшим безучастием. Он как бы по сию пору пребывал в спасительной рапане сна, добросовестно ограждавшей своего добровольного узника в равной степени как от жизни, так и от смерти. Попервоначалу мать пыталась растрясти своего отпрыска, выискивая для него всё новые сферы деятельности. Но из всех существующих формальных и неформальных человеческих сообществ мальца изгоняли его же сверстники за вопиющую бездеятельность и полнейшее отсутствие какого-либо куража. Лох еле-еле перека- 114 рабкивался со ступеньки на ступеньку в стенах всё, казалось, повидавшей школьной пирамиды. Даже настроенные довольно-таки лояльно с помощью подзатыльников собственных матерей дворовые марадоны и пеле не пускали своего вечно сонного ровесника дальше скобки футбольных ворот. Так что вожделенное для любого пацана пятнистое чудо, которое все прочие гоняли ногами, ему выпадало брать руками, да и то не всегда. И каждая такая игра, к полнейшему недоумению Лоха, непременно заканчивалась поминанием его собственной, ни в чём не повинной матери. Плосколицая, неколебимая эта особь женского пола заполняла собой всё окружающее мальчугана пространство. Когда суровая нереида покидала вверенный ей судьбой капитанский мостик, на посту всё равно оставался её голос, зычный, как звон корабельной рынды. Мать не терпела и туманного призрака возражений. Да и нельзя было, в самом деле, представить себе, чтобы её же собственное треклятое детище осмелилось вступить с ней, владычицей морской, в бесплодные, оскорбительные по сути своей пререкания. Где-то за линией окоёма существовал фантом отца; невидимый и неслышимый, он таки подразумевался и, вероятно, тоже служил выполнению неведомых Лоху функций и отправлений. Иногда отец проявлялся, как проявляется изображение на негативе, если долго смотреть через него против солнца. Лох помнил смутно, как отец возил его по скверу на детском велосипеде, придерживая за сиденье, как учил кататься на двухполозных, прикрученных к валенкам коньках, а потом тащил на руках в больницу и из больницы, когда сын в детстве неловко подвернул ногу… Окончательно и бесповоротно отец проявился только много лет спустя в шершавом, обитом снаружи красной материей ящике, стоявшем на столе в гостиной. У отца оказались большие бледные волосатые руки и нос с горбинкой, а также круглая монашеская лысина с проросшим вокруг венчиком волос. Волосы, светлые, тонкие, шевелились от малейшего дуновения ветерка, как водоросли на морском дне. Всё это мелькнуло в вялом сознании Лоха, с тем чтобы тут же исчезнуть навсегда. Больше к теме отца он никогда не возвращался. Живое, пытаясь продолжить на земле свой след, неудержимо тянется к себе подобному. Поскольку первые впечатления детства, так называемый импринтинг, образовали Лоху сразу два величайших светила в своём воинствующем противоборстве, надежд на встречу с родственной душой у бедного соискателя не было никаких. Вопреки собственной тщедушной конституции, ему нравились крупнопородные, с отличными лепными пропорциями самки. Те самые, приникновение к которым, как к чаше с ядом, означало для особи его организации одновременно и утешение, и смерть. Но назначенные Господом ангелы старались недаром. У Лоха не было друзей-сверстников, но подружки, как это ни странно, водились. Что-то подпитывало рядом с томным неулыбчивым юношей их извечную тоску по материнству: то ли пупсовая внешность и полная несостоятельность избранника, то ли неукротимая миссионерская жажда возжжения огня в пустующем глиняном сосуде, к слову сказать, сработанном не без известного изящества Господом Богом. 115 И никаких, абсолютно никаких усилий не предпринималось этим невольным расхитителем женских сердец для того, чтобы ослабить или усилить накал неослабевающего женского внимания. Внимание это как бы и не касалось его вовсе. Со вселенской точки зрения, все звезды были равны и воспринимались лишь как крохи, осколочные световые пятна, по лености или недогляду Творца не имеющие имен собственных и оттого полностью взаимозаменяемые. У Сёмги, очередной пассии Лоха, огненно-спелая рыжета волос сочеталась с бесстрастной мраморностью кожи, по которой, как весёленькие рыжие сеттеры, разбегались во все стороны крупные веснушки. Сёмга, как почти все молоденькие девушки, считала себя далеко не дурнушкой и обожала вступать в немой диалог с зеркалами. Последние в её понимании делились на два вида. Одни любили Сёмгу (в таких она казалась себе красивой без малейшего сучка и задоринки). Эти зеркала девушка считала ручными. Другие почему-то Семгу не жаловали. В них она отражалась со всеми своими веснушками и ненавистными прыщиками. Надо сказать, лицо её имело совершенно лунные свойства, так удивительно преображалось оно под влиянием различных фаз жизненного цикла. Такие вот, дикие, зеркала приходилось терпеливо и последовательно приручать, подолгу и с разных ракурсов гипнотизируя их взглядом. В конце концов, сдавались и «дички», ведь Сёмга вкладывала в них всю неуёмность своей натуры, которую, кроме как на приручение зеркал, пока не на что было потратить. Какой из родов удивительных этих стёкол увидела она в подслеповатых глазах растяпы Лоха, неизвестно. Но припала к нему надолго, почти навсегда. Небесному же взору её партнера открывался только золотистый венчик вокруг матового, излучающего лунный свет лица, как будто гигантская живая ромашка склонялась к нему и щекотала кожу своими шёлковыми лепестками. Трудно поверить, но Лох впервые боялся потерять существо, дававшее ему нечто большее, чем банальный комфорт. И, что уж совсем невероятно, впервые проявил прыть, столь чуждую его менталитету. Так, Лох подкарауливал (да-да, представьте себе, подкарауливал) Сёмгу возле её дома, чтобы снова и снова захватить в плен это сказочное бело-рыжее тело и снова и снова наблюдать, как всходит и заходит над ним обрамлённое одушевлённым золотом светило её лица. Чтобы в нужный момент напрячься и опасть, как опадает после отлива океан, оставляя на взбухшем песке клочья белой, плодородной пены. Из пены этой как-то сами собой проклюнулись двое прелестных, как купидоны, малюток. И Лох, теперь уже дебелый и огромный (со временем из тщедушного малявки вызрел он во вполне породистого фактурного самца), норовил первым припасть к тугим, чуть горьковатым струям, истекавшим из материнских сосцов. Сделав своё дело, то бишь отметав икру, Сёмга всякий раз становилась малоподвижной вялой рыбиной, даже венчик ее пышных волос из золотого временно превращался в ржавый. Оная фаза бытия как нельзя лучше роднила её с Лохом, на какое-то время сплачивая их в самую дружную в мире пару, в зазеркальной полуденной дрёме обречённую мирно сосуществовать до очередного всплеска стихий. 116 Вот тогда, выныривая из голубеющей пучины миопических глаз своего супруга, отправлялась Сёмга на поиски добычи, ибо сёмги — рыбы хищные и в целях продления собственного существования и жизни своего потомства обязаны питаться далеко не травою морскою. А Лох был Сёмге в этом деле никакой не подмогой: кроме лежания на тахте — лицом к стенке, своей излюбленной позы, он ни на что более способен не был. В остальное время супруги перемогались в противофазе. Как у одного, так и у другого бывали неоднократные и довольно бурные всполохи чувств, но всегда, разрывая чужие виртуальные или реальные путы, устремлялись они к семейной гнездовине, как рыбы из поколения в поколение приходят на нерест в одно и то же место. С Сёмгой это случалось чаще. Предпочитал ли Лох не догадываться о прорывах подруги в иное измерение или по лености закрывал на всё глаза? Но в те дни, когда вероломная влага его подруги смешивалась с агрессивным началом неведомых чужих самцов, он желал её ещё сильнее. Пальма старшинства в этом странном союзе негласно и навсегда закрепилась за Сёмгой. Супруг, пользуясь правами ребёнка, величал её Матерью. Потомство мужало и постепенно отчаливало в более глубокие воды. Великовозрастный младенец не менялся. Все, что требовалось для поддержания собственного незамысловатого существования, он имел: мелководье старой разбитой тахты убаюкивал привычный, постоянный и ровный свет. С годами, правда, свет этот заметно слабел, то ли сбавлял обороты источник свечения, то ли сдавало и мутнело воспринимающее устройство, то ли и то и другое вместе. В один прекрасный день Сёмга отчалила в очередной заплыв и не вернулась. Вместе с ней исчезли голоса, прежде наполнявшие надсадным шумом раковину квартиры. Может статься, прочие обитатели тихой заводи просто выросли и ушли из жизни родителя, как в своё время, незаметно и тихо, отец ушёл из его собственной жизни. Лох не заметил, когда эти прочие повзрослели. Он даже не догадался дать им имена. Так и остались они навсегда в смутной памяти Лоха безымянными маленькими тенями. Канула в пучину времени та, которая первая осветила его вселенную. Лох прошляпил и это событие, даже не мог представить, насколько стара или молода была прародительница Сёмга в момент отплытия. Да и зачем ему было знать это, если он и собственных лет никогда не считал? Сёмга, его Сёмга не вернулась на нерест. Вот что беспокоило по-настоящему. Сначала Лох и не думал предпринимать никаких действий. Он просто лежал в своей гигантской колыбели, надеясь, что всё образуется, как всегда, само собой. Но ничто не колыхало вязкой тишины его обиталища, только пылинки исполняли в одиноком луче света, просочившемся сквозь амальгаму запылённых окон, печальный и замысловатый старинный менуэт. Лох осторожно поворочался с боку на бок. Ветхая лежанка, ровня своего владельца, сжима- 117 лась, скрипела, аккомпанируя многозвучиям давно не кормленного желудка. Лох напряг каждую клеточку своего тела, как звери сторожко напрягаются в предчувствии неведомых зол, и вдруг услышал тишину. Сквозь уши, ноздри, глаза и поры кожи тишина проникала в кровь, заставляя её течь медленнее ударов сердца. Когда тишина разрослась до категории абсолюта, Лох принялся что есть силы раскачивать грузный корабль обветшавшего тела. Затем попытался сбросить с остова кровати ватные стариковские ноги, до того тощие и дряблые, что вряд ли по силам было им вынести заплывшее жиром прогорклое тулово хозяина. Первая попытка не удалась, и Лох грохнулся поперёк собственного лежбища, ударившись лысой головой о голую стену. Удар оказался неожиданно сильным, и он, которого даже в детстве никто не тронул пальцем, чуть было не взвыл от обиды и неприкаянности. Рывок… удар… снова рывок, ещё отчаянней… и — о, чудо! — Лох не только вознесся над лежанкой, но и пошёл. Он брёл неуверенно, держась за стену, в совершенно неизвестном направлении, так как давно уже забыл, что и как расположено на его собственной территории. Земля непознанная простиралась перед ним. Помещения, бывшие когдато ванной, коридором, кладовой, превратились в немыслимые нагромождения крутых отвесных скал и коварных пропастей. Вещи обернулись разбросанными как попало залежами грубых булыжников. Древний инстинкт первопроходца и охотника вел Лоха в сторону кухни, большого, навсегда пропитавшегося разномастными запахами помещения, где могли быть хоть какие-то запасы съестного. По пути он помочился в гладкий полукруглый сосуд, бывший на самом деле умывальником, так как дверь в уборную, хоть и отыскал по запаху, открыть не сумел. О том, что направление пути выбрано верное, свидетельствовали распоясавшиеся тараканьи кланы, взрывавшиеся живыми фейерверками под ногами и с шуршанием прыскавшие прочь. Распадающаяся на ходу вселенная грохотала вокруг незадачливого пилигрима метеоритными ливнями, била по темечку и рукам, оставляя серо-синие отметины на рыхлой коже. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем, натрудив до зуда ладони о чешую стен и чуть не вывернув ноги, добрался он до владений всемогущего, издававшего утробное рычание кухонного идолища, прежде именовавшегося холодильником. Каждая жилочка Лоха запела и завибрировала в такт уверенному зычному рокоту. Раскинув по сторонам руки, побрёл он навстречу всё усиливающемуся гулу. Высохшие до пергаментной желтизны ладони покрылись испариной, колени дрожали… Когда по какой-то причине привычное клокотание обрывалось, обрывалось и падало вниз не закаленное усилиями и борьбой бесталанное сердце Лоха. Наконец грудь его уперлась в могучую грудь противника, а руки бесстыдно и жадно зашарили по холодной, гладкой поверхности. Они урчали теперь на два голоса, один — басовито и важно, другой — приглушённо и вымученно. Нащупав на брюхе супостата острый ледяной 118 выступ, Лох вцепился в него обеими руками. От холода и вожделения перехватило дыхание. Лох дёрнул раз, дёрнул другой… Дверка в Эдем оказалась запертой. Тогда он в сердцах саданул ногой никчёмную бесчувственную глыбу. Невозмутимый левиафан захлебнулся собственным рёвом, но не поддался. Горло старика перехватило судорогой, по щекам его, путаясь в дремучей поросли, заструились потоки солёной морской воды. Путь назад показался немыслимо трудным предприятием. Сил хватило лишь на то, чтобы, добравшись до ниши, бывшей некогда ванной, рухнуть на край гигантской белой лохани и замереть, сгорбившись. Дремотное забытьё вскоре опутало Лоха по рукам и ногам. И привиделась ему необъятная лазурь небесного пространства с плавающими в нём диковинными рыбами, покрытыми сплошь золотой и серебряной чешуёй. Узор на чешуе каждой царь-рыбы составлял начертание имени собственного. Того самого имени, по которому Создатель призывает нас в жизнь и отзывает обратно. Лох хотел отыскать рыбину со своим именем на боку и не мог, потому что своё собственное настоящее имя давно заплутало в закоулках его памяти. — Господи! — взмолился неведомо кому не верующий ни во что Лох. — Помоги… И откликнулся на стражбу сына человеческого тот, единственный, кто сам испытал на себе скорби людские и печали. И воззвал Господь к двум ангелам, и встали они по обе руки Лоха и, склонив долу свои мечи, посвятили его в воинство горнее. Ибо никому в своей жизни не делал он зла и нищих духом есть царствие небесное. Лох проснулся оттого, что свалился в ванную, обжегшись лохмотьями тела о саркофажное ледяное дно. «Не возвращаться обратно и заночевать здесь, прямо в ванной…» «Тепло и покой… Покой и тепло», — каждая молекула организма взывала к утраченному расслабленному блаженству. Напрягшись всем грузным своим корпусом, в немыслимом последнем усилии сорвал Лох сразу оба крана. Две струи, огненная и ледяная, ударили его в лоб… Шум льющейся воды спугнул прижившееся в квартире одиночество, и оно конфузливо ретировалось в сторону, оставив свою жертву в объятиях блаженно-бессмысленного небытия… Когда соседи, обескураженные шумом льющейся непонятно откуда воды и видом набухающих на потолке серых лилий, с помощью монтировки вскрыли подозрительную дверь на верхнем этаже, Лох уже благополучно отбывал по летейским водам вслед за своей Сёмгой. Длинные, тощие руки его превратились в ладные плавники, шаткие ноги — в красиво организованную и сильную лопасть хвоста, а бесполезные глаза, наконец-то ставшие подлинными светочами души, узрели где-то далеко впереди себя призывное рыжее сияние. 119