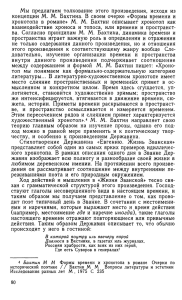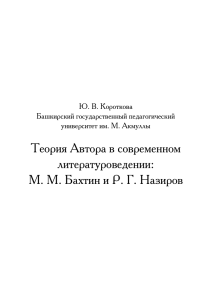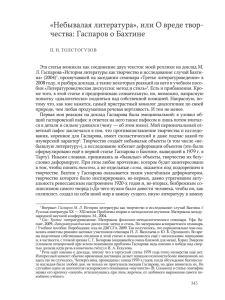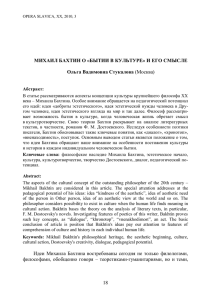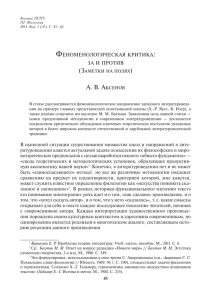внешнее и внутреннее, или диалектика взаимоотношений я и
advertisement
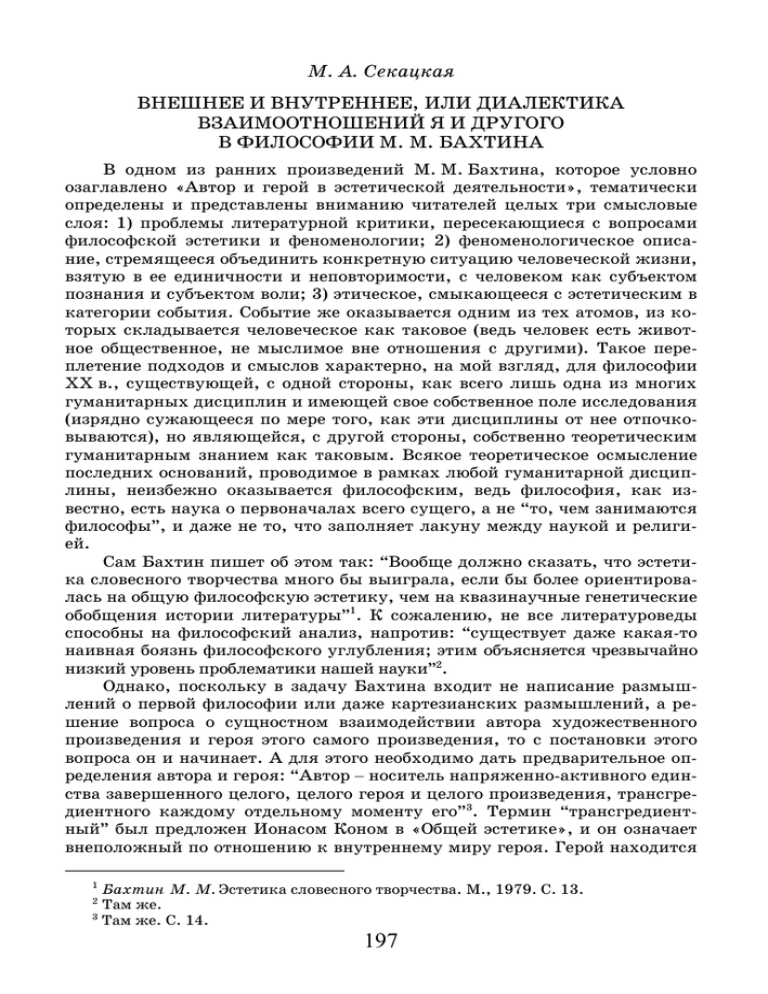
М. А. Секацкая ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ, ИЛИ ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ Я И ДРУГОГО В ФИЛОСОФИИ М. М. БАХТИНА В одном из ранних произведений М. М. Бахтина, которое условно озаглавлено «Автор и герой в эстетической деятельности», тематически определены и представлены вниманию читателей целых три смысловые слоя: 1) проблемы литературной критики, пересекающиеся с вопросами философской эстетики и феноменологии; 2) феноменологическое описание, стремящееся объединить конкретную ситуацию человеческой жизни, взятую в ее единичности и неповторимости, с человеком как субъектом познания и субъектом воли; 3) этическое, смыкающееся с эстетическим в категории события. Событие же оказывается одним из тех атомов, из которых складывается человеческое как таковое (ведь человек есть животное общественное, не мыслимое вне отношения с другими). Такое переплетение подходов и смыслов характерно, на мой взгляд, для философии ХХ в., существующей, с одной стороны, как всего лишь одна из многих гуманитарных дисциплин и имеющей свое собственное поле исследования (изрядно сужающееся по мере того, как эти дисциплины от нее отпочковываются), но являющейся, с другой стороны, собственно теоретическим гуманитарным знанием как таковым. Всякое теоретическое осмысление последних оснований, проводимое в рамках любой гуманитарной дисциплины, неизбежно оказывается философским, ведь философия, как известно, есть наука о первоначалах всего сущего, а не “то, чем занимаются философы”, и даже не то, что заполняет лакуну между наукой и религией. Сам Бахтин пишет об этом так: “Вообще должно сказать, что эстетика словесного творчества много бы выиграла, если бы более ориентировалась на общую философскую эстетику, чем на квазинаучные генетические обобщения истории литературы”1. К сожалению, не все литературоведы способны на философский анализ, напротив: “существует даже какая-то наивная боязнь философского углубления; этим объясняется чрезвычайно низкий уровень проблематики нашей науки”2. Однако, поскольку в задачу Бахтина входит не написание размышлений о первой философии или даже картезианских размышлений, а решение вопроса о сущностном взаимодействии автора художественного произведения и героя этого самого произведения, то с постановки этого вопроса он и начинает. А для этого необходимо дать предварительное определения автора и героя: “Автор – носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его”3. Термин “трансгредиентный” был предложен Ионасом Коном в «Общей эстетике», и он означает внеположный по отношению к внутреннему миру героя. Герой находится 1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 13. Там же. 3 Там же. С. 14. 2 197 в своем настоящем, он, как и всякий живой человек, не знает, что его ждет и чем окончатся его устремления, центр тяжести его жизни находится в будущем. И потому завершающее единство не может возникнуть изнутри героя, оно является даром иного сознания – творческого сознания автора. Автор видит и знает больше, чем все его герои, “и в этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения целого – как героев, так и совместного события их жизни, то есть целого произведения”1. Герой действует в этической и познавательной сфере, он мыслит и совершает поступки, автор же придает его жизни эстетическое измерение, форму художественного целого; автор не просто знает то, чего герой пока не знает, он принципиально знает больше, чем герой когда-либо сможет узнать, потому что сознание автора включает в себя сознание героя и объемлет его. Автор знает героя извне и изнутри, тогда как сам герой может знать о себе только изнутри. Отсюда вытекает и формула эстетически продуктивного отношения автора к герою, позволяющая собрать его воедино: “собрать его и его жизнь и восполнить до целого теми моментами, которые ему самому в нем самом недоступны, как то: полнотой внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его отношением к событию смерти и абсолютного будущего и проч., и оправдать и завершить его помимо смысла, достижений, результата и успеха его собственной направленной вперед жизни”2. Но отношение автора и героя подразумевает две стороны, ибо “эстетическое событие может свершиться лишь при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания. Когда герой и автор совпадают или оказываются рядом друг с другом перед лицом общей ценности, или друг против друга как враги, кончается эстетическое событие и начинается этическое”3. На самом деле, как подчеркивает Бахтин, всякий человек обладает избытком видения по отношению к другому, является автором этого другого в качестве эстетического объекта. И первое, что порождается избытком видения, есть наружность другого, то, каким он предстает во вне, то есть – его внешность, внешность как совокупность всех экспрессивных моментов человеческого тела. На первый взгляд, она представляется чем-то само собой разумеющимся, однако тело как видимое (тело другого) и тело как чувствуемое (мое тело) суть два абсолютно различных феномена. И дело тут вовсе не в том, что я не вижу себя со стороны (ведь тогда можно было бы сказать, что я вижу себя в зеркале, или на фотографии, или еще при помощи каких-нибудь хитростей), а в том, что я – это принципиально внутреннее, я для себя есть мысль, ego cogitans, центр мира. Говоря словами Хайдеггера, Dasein не находится в пространстве, это пространство формируется “вокруг” Dasein. Я никак не могу быть телом, пространственно ограниченным, обладающим внешностью, чертами и выражением лица и прочими совершенно не имеющими ко мне отношения характеристиками. 1 Там же. Там же. С. 15. 3 Там же. С. 22. 2 198 Собственно говоря, со времен Декарта этот вопрос является одним из важнейших для философии. После того, как Декарт установил тот факт, что я непосредственно дано себе как вещь мыслящая, res cogitans, неотъемлемым свойством которой является непротяженность в пространстве и неделимость, вопрос о человеке как гармонично существующем союзе тела и души остается открытым. В силу его практической неразрешимости и с целью избегания т. н. “дуализма” большинство философов склонялись к устранению одной из союзных сторон: либо тело объявлялось свойством души или же присущей ей идеей (Беркли, Лейбниц, Фихте, Шеллинг), либо душа объявлялась свойством тела (Локк, Гоббс, господа позитивисты и иже с ними), либо, наконец, и то, и другое объявлялось двумя разными проявлениями (акциденциями, объективациями) одной субстанции (Спиноза, Гегель, Шопенгауэр). Список этот, безусловно, неполон и, может, отчасти произволен, однако суть передает верно: всякая рационально-позитивистская система стремится к унификации знаний по единому принципу, а две различные субстанции – разум и материя – к такому объединению сами по себе не способны. На мой взгляд, впервые после Декарта ответить на этот вопрос всерьез берется только феноменология и, разумеется, ее дочерние течения. Дело в том, что всякое объединение субстанций возможно только при том условии их абстрагирования и подведения под некую более широкую категорию. Однако после проведения этой операции стороны теряют многие свои чувственно-конкретные характеристики, и в результате получается, что понятное объясняется через непонятное. Так, например, чтобы унифицировать мироздание и избавиться от ноуменов, Шопенгауэр вводит понятие воли, которая якобы лежит в основе всех видимых и мыслимых явлений, и тогда идеальное и материальное становятся двумя разными объективациями этой самой воли, что позволяет объяснить их связь в каждом конкретном человеке. Но проблема, однако, в том, что при этом материальное становится всего лишь другим проявлением нематериального (ведь воля нематериальна, если это название – “воля” – дано ей правильно) и теряется тот необходимый, с философской точки зрения, дуализм, в котором между мыслящим и протяженным пролегает непреодолимая граница. Та же самая сложность возникает в системах Беркли и Гегеля: материальное не может порождаться идеальным. Я имею в виду то известное еще схоластике правило, что в следствии не может содержаться больше реальности, чем ее содержалось в причине. То есть, если материя порождается идеей, то, значит, материя содержится в идее (на более высокой ступени реальности, как сказал бы Декарт), что вновь приводит нас к тому же самому: тело и мысль становятся проявлениями некой объемлющей их субстанции (ведь иначе мы пришли бы к солипсизму, утверждая, что это наш собственный разум порождает наше тело и всю окружающую реальность). А эта объемлющая субстанция (название ее может меняться, но суть остается прежней) хороша всем, кроме одного: все объясняя и объединяя, сама она становится qualitas occulta. Материализму присущ по видимости противоположный, но по сути тот же недостаток: сводя душевное к телесному, он забывает, что само тело дано нам лишь как мыслимое, воспринимаемое тело, а отнюдь не как 199 вещь в себе. И получается, что есть еще какая-то первоматерия (как тут не вспомнить платоновскую хору?), которая и порождает наш разум и все сущее, что мы нашим разумом и воспринимаем. Очевидно, на мой взгляд, что после кантовской критики материализм способен оправданно существовать только в качестве позитивизма, а позитивизм теоретически непродуктивен. Так или иначе, но истинных достижений в “главном философском вопросе” (в смысле Канта) можно добиться, лишь отойдя от привычных и упрощающих суть дела теоретических схем, лишь вернувшись “назад к самим вещам”. Это и является задачей феноменологии. Лишь отдав должное тому обстоятельству, что все, воспринимаемое нами, суть феномены, то есть некие данности нашего сознания, можно заново поставить вопрос о соотношении тела и души. Притом задача эта уже не будет чистой теорией, ведь возвращение к вещам подразумевает практическое, внимательное действие и незамутненный философским схематизмом взгляд. Такова интенция Гуссерля, хотя он больше интересуется проблемами гносеологии (и прежде всего вопросом обоснования всякого знания как знания трансцендентально субъективного, которое лишь после определенного, также субъективного по сути акта объективации может стать научным), то есть занимается классическими философскими проблемами. Но многие из учеников и последователей Гуссерля считают необходимым отказаться от традиционно философского поля исследования и стараются применить феноменологический метод к другим сферам гуманитарного знания. Так, Мерло-Понти, например, обращается к проблемам гештальт-психологии в «Феноменологии воображения» и достигает многих собственно философских открытий. Его понятие “феноменального тела”, в частности, представляется мне весьма неплохим подходом к разрешению вопроса о мистическом союзе тела и души. И эстетический подход Бахтина также оказывается весьма плодотворным в философском смысле. Установив, что отношение автора и героя является одним из видов отношения между двумя людьми, то есть, в идеале, отношением я и другого, русский философ приступает к его феноменологической дескрипции. Получается, что первым порождением межчеловеческого отношения является наружность другого, которая существует только для меня, создается моим взглядом и вниманием, а другим может быть либо принята от меня, либо отвергнута. Изнутри наружность переживается субъектом в виде разрозненных обрывков, и достоверность ощущения тела обеспечивается отнюдь не данными внешних чувств, но внутренним самоощущением. “Так обстоит дело с действительным восприятием: во внешне-едином видимом, слышимом и осязаемом мною мире я не встречаю своей внешней выраженности как внешний же единый предмет рядом с другими предметами, я нахожусь как бы на границе видимого мною мира, пластически-живописно не соприроден ему”1. Так же и в мечтах: мы являемся центром нашего воображаемого мира настолько же, насколько ощущаем себя центром реального, и если отдельные, даже второстепенные персонажи наших грез могут иметь ярко выраженную 1 Там же. С. 27. 200 внешность, то себя мы совсем не видим, воспринимая все изнутри. Даже представить себе свой собственный внешний образ весьма нелегко, нужно сделать над собой усилие, и все равно в результате мы не сможем выйти из себя, чтобы взглянуть на свое тело со стороны. Единственное, что удастся сделать, это сконструировать из обрывочных восприятий, отражений и фотографий некоего призрачного двойника, глядящего на нас безо всякого выражения из призрачного мира. И никакое эстетическое или этическое отношение установить с ним не представляется возможным, ибо все мои чувства, переживания и страсти направляются изнутри вовне, так что они останутся во мне воображающем, а я воображаемый буду лишь немым манекеном. И потому Бахтин утверждает, что “в этом смысле можно говорить об абсолютной эстетической нужде человека в другом, в видящей, помнящей и объединяющей активности другого, которая одна может создать его внешне законченную личность; этой личности не будет, если другой ее не создаст: эстетическая память продуктивна, она впервые рождает внешнего человека в новом плане бытия”1. А самым важным моментом в восприятии другого является восприятие его внешней ограниченности. Другой дан нам непосредственно как эмпирически конечный, как вещь среди вещей, находящаяся в непрерывном горизонте мира. Я же не могу ощутить себя самого как существо ограниченное: “оборачивая во все стороны свою голову, я могу достигнуть видения всего меня со всех сторон окружающего пространства, в центре которого я нахожусь, но не увижу себя, действительно окруженного этим пространством”2. Познание игнорирует это различие, но в реальном восприятии оно неустранимо. Мое я включает в себя тело как некий внешний, незначительный момент (вернее, как форму презентации себя другому). Я другого человека, напротив, входит в его тело как некая составная часть и познается нами извне. Я для себя являюсь субъектом, а другой для меня – объект: другой человек для меня весь в объекте, и его я – только объект для меня. И отсюда следует, что только другой человек для меня является соприродным внешнему миру, входящим в него без остатка и в нем пребывающим. Другой интимно связан с миром, я – с моей внутренней внемирной активностью. Все объектное во мне является лишь внешней оболочкой, все внешнее в другом – проявлением его внутренней сущности. Как образно выразился Бахтин, “все пространственно данное во мне тяготеет к непространственному внутреннему центру, в другом все идеальное тяготеет к его пространственной данности”3. И именно это делает возможным как этическое, так и эстетическое отношение к другому. Дело в том, что другой – это не просто объект среди объектов, это объект моего чувства, в первую очередь – объект любви, сочувствия и понимания. В силу своей ограниченности, хрупкости другой человек становится для меня ценностью. Только другого можно любить, заботиться о нем и оберегать его, получая взамен тоже любовь, которая, соответственно, может существовать только для кого-то и только другим 1 Там же. С. 34. Там же. С. 35. 3 Там же. 2 201 может быть подарена. “Можно переживать любовь другого к себе, можно хотеть быть любимым, можно представлять себе и предвосхищать любовь другого, но нельзя любить себя как другого, непосредственно”1. Ценность моей внешней личности дарится мне любящими меня другими, в нее можно верить и на нее можно рассчитывать как на дар, но невозможно переживать ее непосредственно. “Многообразные, рассеянные в моей жизни акты внимания ко мне, любви, признания моей ценности другими людьми как бы изваяли для меня пластическую ценность моего внешнего тела”2. Тело другого человека – внешнее тело, и ценность его дана мне непосредственно. Только в теле другого я могу созерцать красоту, а красота есть одновременно и этическая и эстетическая категория моего отношения к другому. Таким образом, проводя феноменологическую дескрипцию взаимоотношений автора и героя литературного произведения, Бахтин приходит к немаловажным философским положениям. Во-первых, пользуясь феноменологическим, по сути, методом, он по-новому освещает вопрос о союзе тела и души, проводя демаркационную линию не внутри субъекта, а вовне его. Идея Бахтина о “внутреннем теле” очень близка к идее Мерло-Понти о феноменальном теле, которая, в свою очередь, является развитием идей позднего Гуссерля о кинестезе и целокупном живом теле (при этом особенно поразительно, что Бахтиным эта идея была высказана раньше и совершенно независимо от Гуссерля). Внутреннее тело есть средний член пропорции, введение которого внушает надежду как на разрешение дуализма, так и на победу над солипсизмом, ведь именно невозможность контакта с другим является большой проблемой для Гуссерля в «Картезианских размышлениях». И, во-вторых, более интересуясь эстетическими проблемами, Бахтин подробно разбирает тему внешнего тела, которое является именно плодом интерсубъективных отношений. Притом его решение проблемы интерсубъективности можно назвать позитивным: другой – это прежде всего любимый другой, принимающий от меня в дар свою экспрессивную наружность и дарящий мне меня; образно выражаясь, можно сказать, что для Бахтина другой – это рай, а не ад, как для Сартра. 1 2 Там же. Там же. С. 46. 202