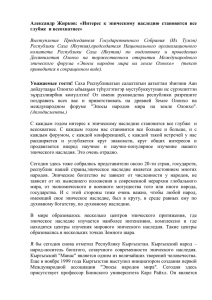УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ ОБ ЭПИЧЕСКОМ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
advertisement
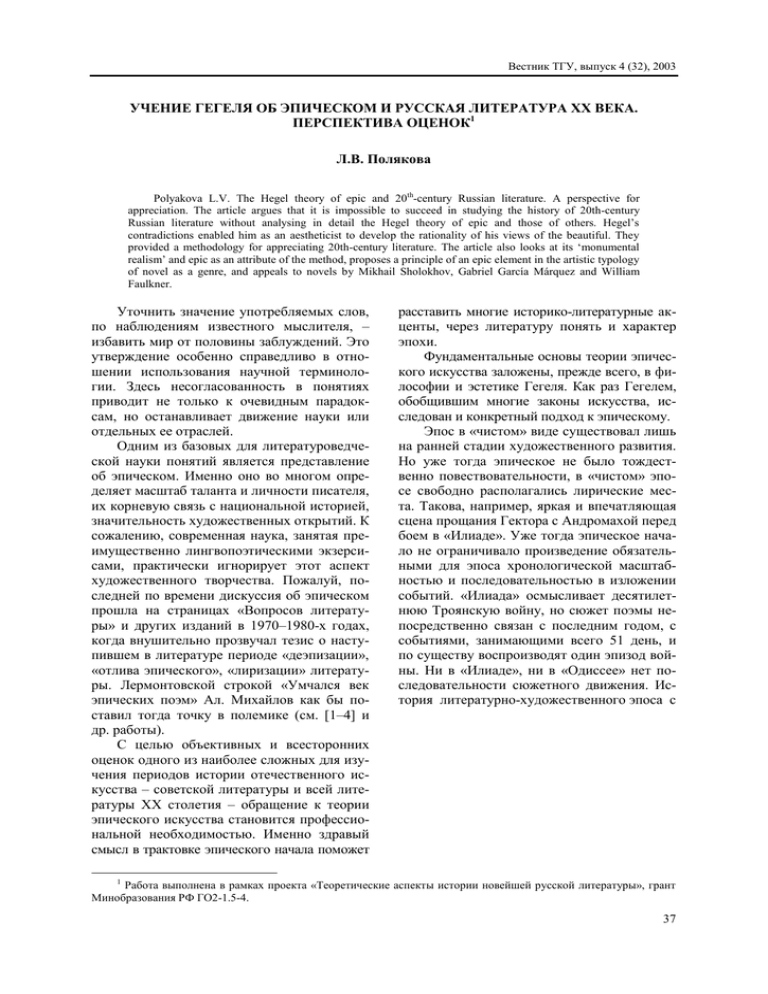
Вестник ТГУ, выпуск 4 (32), 2003 УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ ОБ ЭПИЧЕСКОМ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. ПЕРСПЕКТИВА ОЦЕНОК1 Л.В. Полякова Polyakova L.V. The Hegel theory of epic and 20th-century Russian literature. A perspective for appreciation. The article argues that it is impossible to succeed in studying the history of 20th-century Russian literature without analysing in detail the Hegel theory of epic and those of others. Hegel’s contradictions enabled him as an aestheticist to develop the rationality of his views of the beautiful. They provided a methodology for appreciating 20th-century literature. The article also looks at its ‘monumental realism’ and epic as an attribute of the method, proposes a principle of an epic element in the artistic typology of novel as a genre, and appeals to novels by Mikhail Sholokhov, Gabriel García Márquez and William Faulkner. Уточнить значение употребляемых слов, по наблюдениям известного мыслителя, – избавить мир от половины заблуждений. Это утверждение особенно справедливо в отношении использования научной терминологии. Здесь несогласованность в понятиях приводит не только к очевидным парадоксам, но останавливает движение науки или отдельных ее отраслей. Одним из базовых для литературоведческой науки понятий является представление об эпическом. Именно оно во многом определяет масштаб таланта и личности писателя, их корневую связь с национальной историей, значительность художественных открытий. К сожалению, современная наука, занятая преимущественно лингвопоэтическими экзерсисами, практически игнорирует этот аспект художественного творчества. Пожалуй, последней по времени дискуссия об эпическом прошла на страницах «Вопросов литературы» и других изданий в 1970–1980-х годах, когда внушительно прозвучал тезис о наступившем в литературе периоде «деэпизации», «отлива эпического», «лиризации» литературы. Лермонтовской строкой «Умчался век эпических поэм» Ал. Михайлов как бы поставил тогда точку в полемике (см. [1–4] и др. работы). С целью объективных и всесторонних оценок одного из наиболее сложных для изучения периодов истории отечественного искусства – советской литературы и всей литературы ХХ столетия – обращение к теории эпического искусства становится профессиональной необходимостью. Именно здравый смысл в трактовке эпического начала поможет расставить многие историко-литературные акценты, через литературу понять и характер эпохи. Фундаментальные основы теории эпического искусства заложены, прежде всего, в философии и эстетике Гегеля. Как раз Гегелем, обобщившим многие законы искусства, исследован и конкретный подход к эпическому. Эпос в «чистом» виде существовал лишь на ранней стадии художественного развития. Но уже тогда эпическое не было тождественно повествовательности, в «чистом» эпосе свободно располагались лирические места. Такова, например, яркая и впечатляющая сцена прощания Гектора с Андромахой перед боем в «Илиаде». Уже тогда эпическое начало не ограничивало произведение обязательными для эпоса хронологической масштабностью и последовательностью в изложении событий. «Илиада» осмысливает десятилетнюю Троянскую войну, но сюжет поэмы непосредственно связан с последним годом, с событиями, занимающими всего 51 день, и по существу воспроизводят один эпизод войны. Ни в «Илиаде», ни в «Одиссее» нет последовательности сюжетного движения. История литературно-художественного эпоса с 1 Работа выполнена в рамках проекта «Теоретические аспекты истории новейшей русской литературы», грант Минобразования РФ ГО2-1.5-4. 37 Гуманитарные науки древнейших времен до наших дней у разных народов, в разных художественных направлениях, у самых разных писателей – это необычайное богатство и разнообразие не только форм выражения эпического начала, но и форм взаимодействия его с другими родами. Все это пока не нашло последовательного и всестороннего освещения в научной литературе, хотя появляются разрозненные исследования, так сказать, полисемантического характера эпического, созданные не только отечественными учеными1. Противоречия эстетического учения Гегеля об эпическом стали теми великими противоречиями, которые дали возможность другим мыслителям развить рациональную основу взглядов немецкого эстетика на прекрасное. Они обеспечили методологическую базу и для оценок литературы ХХ столетия. В сложности и неоднозначности трактовки Гегелем эпического отражена многослойность, многоаспектность самой практики, литературно-художественной эпики. Коренным положением теории эпического искусства у Гегеля является положение о соотношении искусства и жизни, человека и окружающего его мира. «Всеобщее эпическое состояние мира, самое подходящее для всего жизненного состояния, которое эпос превращает в свой фон», по Гегелю, характеризуется «единством и взаимопроникновением индивидуального и всеобщего», «всеобщее должно присутствовать в индивиде как нечто теснейшим образом ему принадлежащее, и притом не в качестве мыслей субъекта, а как свойство его характера и чувства» [3]. «В героическом состоянии общества субъект, оставаясь в непосредственной связи со всей сферой своей воли, своих действий и свершений, целиком отвечает за все последствия своих действий...» (1, 196), – так Гегель характеризовал героическое, эпическое состояние мира, способное адекватно выразиться только в эпическом искусстве. Если мы обратимся к основным чертам эпического рода поэзии, как трактует их Гегель, то увидим, что для философа этот род не ограничивался только эпопеей. «Эпопею в собственном смысле слова», так Гегель на1 Интересен, к примеру, анализ новаторской концепции эпического героя «фрагментарного эпоса» «Листьев травы» У. Уитмена американским исследователем Э. Хаджинсом. См. [5]. 38 зывает целый самостоятельный раздел своего фундаментального труда «Эстетика», содержание и форму эпического «составляют миросозерцание и объективность духа народа во всей их полноте, представленные в их объективируемом облике как реальное событие» (3, 426). «Объективность» же духа народа, «подлинные основы сознания народа» в подлинно эпическом произведении Гегель связывал только с «изначальным» народным миросозерцанием, которое единственно и было «целостным созерцанием всего духа народа». Такое эпическое творение «есть сказание, то есть Книга, или Библия, народа, и у каждой великой и значительной нации есть такие абсолютно первые Книги, где высказано то, что составляет изначальный дух народа» (3, 427). Гегель таким образом связывал подлинный эпос с отражением «наивного сознания нации» (3, 427). Еще и еще раз убеждает нас Гегель в существовании подлинного эпоса только тогда, когда «отношения нравственной жизни, устои семьи, а также народа как целой нации в период войны и мира должны быть уже созданы и развиты, не обретая, однако, при этом формы всеобщих установлений, обязанностей и законов, значимых сами по себе, помимо живого субъективного своеобразия индивидов, и обладающих силой противостоять индивидуальной воле. Смысл права и справедливости, нравственность, душа, характер должны являться, напротив, как их единственный источник и опора, так чтобы никакой рассудок не смог утвердить их в форме прозаической действительности и противопоставить сердцу, индивидуальному умонастроению и страсти» (3, 433-434). В эпосе, по оценке Гегеля, обнаруживается не только субстанциальная, сущностная и существенная первооснова, общность объективной жизни и действия, но также и «свобода в этом действии и жизни» субъективной воли индивидов. В те периоды, когда человек начинает обретать свои силы в борьбе с природой, преобразовывать ее, когда общество развивается до «организованного» государственного состояния с разработанными законами, упорядоченной администрацией, государственными канцеляриями, «индивидуальная самость освобождается от субстанциальной целостности нации, ее состояний, образа Вестник ТГУ, выпуск 4 (32), 2003 мыслей и чувств, ее деяний и судеб, когда человек разделяется на чувство и волю», когда, наконец, субстанциальные обязанности противостоят человеку как некая внешняя, не имманентная ему самому необходимость, принуждающая его к признанию своей значимости. Тогда вступает в права прозаическое состояние мира, и «вместо эпической поэзии наиболее зрелого развития достигает лирическая поэзия» (3, 428). Согласно концепции Гегеля, в прозаический период бытия человеческая личность полностью подчинена упорядоченной государственности, замкнута сама в себе, не принимает на себя ответственность за происходящее, не вдохновляется большими целям1. М.Б. Храпченко в связи с гегелевской теорией героического и прозаического бытия, эпического и постэпического периодов искусства отметил пессимистический характер концепции выдающегося философа: «На будущее искусства немецкий философ смотрел довольно пессимистически. Ему казалось, что оно исчерпало свои силы и возможности в воплощении абсолютного», что уже невозможно рождение новых подлинно крупных, великих художников слова. «И это была, – заключал М. Храпченко, – глубоко драматическая жертва выдающегося философа и эстетика некоторым ложным идеям своей системы» [7]. Не только XX столетие, а уже и современность мыслителя опровергли жестокое пророчество гения Гегеля: XIX век стал временем рождения замечательных эпических творений. Колоссальное диалектическое мышление философа не совместилось с ограниченностью его исторической концепции, не позволившей выйти за пределы одного общественного строя. Гегель на очередном витке исторической спирали не различил наступления эпохи поистине героической, когда уже на совершенно новой общественной основе, отнюдь не на основе наивного сознания нации, «изначальной жизненности», а именно вполне осознанно, с полным пониманием перспектив исторического развития человек активно вмешается в окружающую жизнь и 1 Можно себе представить, сколь сложна задача оценки русского общества ХХ века, разных его исторических периодов в параметрах гегелевского положения о «героическом» и «прозаическом» состояниях бытия. повернет колесо истории в сторону небывалого в мире миропорядка, который даст человечеству качественно новый литературнохудожественный трагический эпос «монументального реализма» (А.В. Луначарский), подтвердивший замечание Гегеля о том, что «у эпоса вообще есть глубочайшее внутреннее родство с пластичностью скульптуры...» (3, 476). Мучительно переживая закат эпоса в современную ему эпоху, немецкий мыслитель тем не менее историю развития эпической поэзии не обрывал только героическим периодом, «допрозаическим» этапом бытия. Признавая, что «совершенную форму в качестве эпоса в собственном смысле слова и наиболее адекватную этому роду поэзии действительность» мы находим в древний Греции, Гегель тем не менее не отказывал в рождении эпического искусства новым, следующим за героическим и «поэтическим», этапам. Как раз напротив, он дал тончайшие образцы характеристики эпического начала в поэзии последующих эпох, продолжая и далее развивая, совершенствуя свою теорию эпического в художественном творчестве. Разработав основные черты и категории эпоса, дав общую характеристику эпического, Гегель завершил раздел своей «Эстетики», связанный с эпической поэзией, специальной главой «История развития эпической поэзии», где подчеркнул мысль, чрезвычайно важную в общей концепции философа: «По способу изложения это искусство разветвляется на самые различные виды и разновидности и относится ко многим временам и народам» (3, 476). Система подхода великого немецкого мыслителя к проблеме эпического в искусстве была достаточно подвижной, она учитывала самые разнообразные факторы генезиса и эволюции поэзии, начиная от зарождения произведения и кончая его окончательной судьбой или наметившейся перспективой жизнеспособности. Гегель оставил в наследство богатейший словарь выражений, терминов и понятий, призванных теоретически оформить и выразить эстетическую категорию эпического. «Вид эпического изложения», «эпическое содержание», «эпический тон», «способ» освоения мира, «великий эпический стиль», «внутренне органичная эпическая цельность», «индивидуальное 39 Гуманитарные науки эпическое действие», «цельность эпического характера», «эпическое событие», «эпическая коллизия», «эпический поэт» (роль автора в произведении), «специфически эпическое начало в изображении индивидов», «эпические обстоятельства», «способ эпического развития», «эпический тип» героя, «целостность миросозерцания», «эпически-предметный тон», «повествовательная форма эпоса» и так далее – эти и другие определения эпического начала в поэзии, будь то «эпопея в собственном смысле слова», «эпос», «эпическая поэзия», «неполные виды» эпической поэзии, «абсолютный эпос», «побочные ответвления собственно эпического», «двойственные виды» эпического, «стихотворения наполовину описательные, наполовину лирические», «по содержанию эпические», «а по манере изложения, как правило, лирические, так что их можно причислить то к одному, то к другому роду», «современная буржуазная эпопея» или «любовная эпопея» (Низами), – все говорит не только о чрезвычайной сложности понятия эпического и составных его частей, но и свидетельствует о гибкости концепции Гегеля в определении и оценках эпического рода поэзии, ее видов и отдельных черт. Неоднозначно решение проблемы эпического и у В.Г. Белинского, который развил концепцию великого немецкого мыслителя, но больше сориентировал ее на русскую литературную почву. Он обратил внимание своего читателя на тот факт, что «беспредельное и бессознательное уважение к величайшему произведению древности, в котором выразилось все богатство, вся полнота жизни греков, простиралось до того, что на «Илиаду» смотрели не как на эпическое произведение в духе своего времени и своего народа, но как на самую эпическую поэзию, то есть смешивали сочинение с родом поэзии, к которому оно принадлежит...» [8]. Русский критик внес некоторые уточнения в гегелевскую теорию эпического, хотя полностью от нее не отошел. По-гегелевски он ставил вопрос о субстанциальном характере жизни народа, которая выражается в событии, положенном в основу жанра эпопеи: «Если состояние народа, его субстанция составляют главное содержание эпоса, – необходимо еще, чтоб народ вмещал в себе идею, дух, чтоб он был всемирно историческим народом...» (37). Однако Белинский не 40 ограничивал эпическую поэзию только героическим этапом столь намеренно, как это делал Гегель, хотя объективно и у него получалось иначе, так сказать, по-Белинскому. Белинский отвергал гегелевское утверждение об обязательности «целости, единства действия, соразмерности в частях» только для эпопеи. «Это составляет необходимое условие каждого художественного произведения, а не исключительное свойство эпопеи» (39), – писал критик. Более подробно и основательно, чем это сделано у Гегеля, Белинский говорил о романе как «эпопее нашего времени», в которой «все родовые и существенные признаки эпоса, с тою только разницею, что в романе господствуют иные элементы и иной колорит» (39). В подходе Белинского к эпическому не только не чувствуется гегелевского скепсиса в связи с литературой новейшего времени, а наоборот, критик считал «сферу романа несравненно обширнее сферы эпической поэмы»; «кроме занимательности и богатства содержания, роман ничем не ниже эпической поэмы и как художественное произведение... Правда, эпическая поэма требует большей сосредоточенности в силе гения, – уточнял Белинский, – который видит в ней подвиг целой жизни своей; но причина этого совсем не в превосходстве эпопеи над романом, а в богатейшем и превосходнейшем содержании жизни новейших народов в сравнении с жизнью древних греков. Их историческая жизнь вся выразилась в одном событии и в одной поэме (ибо «Одиссея» есть как бы продолжение и окончание «Илиады», хотя и выражает собою другую сторону греческой жизни). Явись у них новый Гомер, – и для его поэмы уже не было бы другого события, вроде Троянской войны... Кроме того, на стороне романа еще и то великое преимущество, что его содержанием может служить и частная жизнь, которая никаким образом не могла служить содержанием греческой эпопеи: в древнем мире существовало общество, государство, народ, но не существовало человека как частной индивидуальной личности, и потому в эпопее греков, равно как и в их драме, могли иметь место только представители народа – полубоги, герои, цари... В романе совсем не нужно, чтоб Ревекка была непременно царица или героиня вроде Юдифи: для него нужно только, чтоб она была женщина» (40-41). Вестник ТГУ, выпуск 4 (32), 2003 И это наблюдение Белинского о способности «прозаического» (в терминологии Гегеля) состояния духа рождать эпически совершенные художественные творения было величайшим открытием русского критика. Оно оправдано всем ходом литературной истории, в том числе и XX столетия. О соотношении лирического и эпического в отдельных произведениях Белинский говорил недвусмысленно, допуская самые разнообразные формы и способы взаимопроникновения этих двух начал. «Перевес лирического элемента также бывает и в эпопее и в драме», – писал он и уточнял: «Хотя новейшие стихотворные поэмы, образцы которых представляют поэмы Байрона и Пушкина и которые в эпоху своего появления назывались романтическими поэмами, – хотя они, по явному присутствию в них лирического элемента, и должны называться лирическими поэмами, но тем не менее они принадлежат к эпическому роду: ибо основание каждой из них есть событие, да и самая форма их чисто эпическая. Впрочем, это уже эпопея нашего времени, эпопея смешанная, проникнутая насквозь и лиризмом и драматизмом и нередко занимающая у них и формы. В ней событие не заслоняет собою человека, хотя и само по себе может иметь свой интерес» (42-43). Для осмысления эпического в литературе весьма ценно положение Белинского (есть оно и у Гегеля) о единстве национального и общечеловеческого в эпическом творении. «Если национальному эпосу по праву суждено приобрести непреходящий интерес и для других времен и народов, то для этого описываемый им мир должен быть не только миром особой нации, но в этом особом народе с его героизмом и подвигами одновременно должна отчетливо запечатлеваться и общечеловеческая сторона» (37), и это положение блестяще подтвердил литературнохудожественный эпос эпохи трех русских революций ХХ века. Революционные идеи не покидали страниц литературы ни на каком этапе ее развития, будь то 1920–1930-е годы, Великая Отечественная война, послевоенное возрождение. Русские революции, особенно Великая Отечественная война, как бы к ним не относиться, нашли то «всемирно-историческое оправдание» в масштабах всемирной истории, которое Гегель, а за ним и Белинский, считали ярким стимулом и условием для формирования эпоса. Сам дух эпохи, определивший героическое состояние бытия, в большей степени, чем все предшествующие эпохи, способствовал рождению эпических творений. Прямое отношение к осмыслению эпического начала, к характеру его в литературе ХХ столетия имеют и размышления классиков философии искусства о роли в эпическом творении коллективного начала, о соотношении его с индивидуальным. «Полтаве» Пушкина Белинский отказал в эпичности только на том основании, что «эта битва была мыслию и подвигом одного человека: народ принимал в ней участие как орудие в руках Великого...». Высоко оценивая поэму Пушкина (произведение «великое», «огромное», образ Петра «колоссальный», любовь Марии «грандиозная»), критик одновременно всетаки замечал: произведение «нестройное, странное, неполное» и причину «нестройности» объяснял следующим образом: «Главный недостаток «Полтавы» вышел из желания поэта написать эпическую поэму» [8, т. 7, с. 402]. И хотя в целом оценка «Полтавы» как эпического произведения гораздо сложнее, как вообще сложен подход Белинского к понятию эпического в литературе, его мысли о роли коллективного элемента в эпическом художественном творении принципиально важны в осмыслении ведущих тенденций в русской литературе ХХ века. Еще ранее Белинского аналогичную мысль о роли коллективного начала в эпическом произведении высказал Гегель в связи с походом Александра на Восток. «В этом отношении поход Александра на Восток, например, далеко не очень хороший сюжет для подлинной эпопеи, – писал Гегель, – ибо эти героические подвиги, как они были задуманы и исполнены, в такой значительной мере покоятся на самом Александре, этом о д н о м индивиде, его индивидуальный дух и характер в такой значительной мере является их единственным носителем, что национальная основа – войско – и его предводители совершенно лишены независимого существования и положения... Войско Александра – это его войско, полностью связанное с ним и с его приказами, л и ш ь покорное ему, но не последовавшее за ним добровольно. Собственно же эпическая жизненность, – уточнял Гегель, – заключается как раз в том, что 41 Гуманитарные науки обе основные стороны, особенное действие с его индивидами и всеобщее состояние мира, оставаясь в беспрестанном опосредовании, все же сохраняют в этом взаимоотношении необходимую самостоятельность, чтобы проявлять себя как такое существование, которое и само по себе обретает и имеет внешнее бытие» (3, 462). «Эпический характер», «эпический индивид» соответствуют «целостности эпического», рожденного «целостностью миросозерцания», в котором «все стороны призваны к тому, чтобы развиваться с более самостоятельной полнотой», ибо, «с одной стороны, – уточнял Гегель, – это заключено в самом принципе эпической формы вообще, с другой же стороны, эпический индивид уже в соответствии со всем состоянием мира имеет право быть и проявляться таким, каков он есть и что он собою представляет...» (3, 449). Эпический, «целостный» индивид является наиболее красноречивым воплощением т и п и ч е с к о г о характера, поскольку он сосредотачивает в себе «все то, что разбросано в национальном характере» и остается «великим, свободным и человечески прекрасным» характером, – «именно потому эти герои получают право встать во главе происходящего и видеть, что все основные события связываются с их индивидуальностью», «нация концентрируется в них...» (3, 449-450). Так Гегель развивал теорию эпического искусства в теснейшей связи с вопросами типического характера, что чрезвычайно важно учитывать при анализе всевозможных проблем реалистической литературы ХХ столетия. Учитывая позитивный смысл открытий немецкого мыслителя, следует еще раз обратить внимание на тот факт, что литературная практика уточнила или отвергла многие гипотезы ученого, и не только общефилософского плана. Подкорректирована, например, мысль об обязательности для эпоса необходимой дистанции времени, отделявшей эпическое событие от автора и его эпического творения. Гомер и его поэмы действительно отделены почти двумя веками от Троянской войны. На этот факт взаимодействия эпоса и эпического события указывал и Белинский. Однако русский критик подчеркнуто говорил об этом в связи с конкретной исторической эпохой, с эпохой младенческого народа, ко42 гда обычная хитрость, «часто грубая и плоская», «не могла не казаться крайнею степенью возможной премудрости». «Отсюда вытекает и наивный характер как самых высоких, так и самых простых мыслей у Гомера, выражается ли в них народное миросозерцание или только практическое наблюдение, правило житейской мудрости, – уточнял Белинский и еще раз подчеркивал: «Настоящее не бывает предметом поэтических созданий младенствующего народа...» (449-500). Иначе распорядилась советская эпоха: «эпос революции», «эпос Великой Отечественной войны», «эпос послевоенного возрождения» – не просто номенклатурные или условные обозначения этапов истории литературы, это и вполне конкретные, самой литературной практикой рожденные эстетические понятия, связанные с масштабами художественного творчества в героические периоды истории нашей страны, а не спустя века или десятилетия. В процессе исследования эпической сущности литературы ХХ века, таким образом, оказываются принципиально важными положения Гегеля и Белинского о сложности, многозначности категории эпического, об отдельных конкретных ее проявлениях, признаках и чертах, об этапах и периодах истории эпического искусства. Однако распространение этих положений на советское искусство предполагает учет качественных перемен, произошедших и в истории народа, и в судьбе отдельного человека, в характере литературного героя и принципах его художественного воплощения. В искусстве XX столетия в сравнении с предшествующими эпохами бесспорно происходили перемены. Имел место и поворот к «отливу» эпического, к «деэпизации», «лиризации», и для них есть свои причины, которые, к сожалению, сторонники концепции деэпизации мало учитывают и в своей аргументации оперируют весьма субъективными критериями лирического и эпического. Например, Н. Мазепа и Ю. Кузьменко, и не только они, общественное оздоровление, наступившее в нашей стране после ХХ съезда КПСС, считали побудительной причиной лиризации литературы, в то время как это, напротив, самый наглядный стимул для раскрепощения личности, усиления ее общественных функций, что Гегель и считал необ- Вестник ТГУ, выпуск 4 (32), 2003 ходимым условием «поэтического», «эпического», «героического» бытия, адекватно воплощающегося в формах эпического искусства. В литературе монументального реализма ХХ века у эпического начала свое место. Здесь оно – своего рода атрибут метода, существенный признак его, родовая черта. Эпические формы адекватны характеру и масштабам советской эпохи. Эту взаимозависимость ранее теоретиков ощутили сами художники, даже те, кто по природе своего таланта прежде всего лирики. «Я считаю, – писал, например, Б. Пастернак, – что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это и очень трудно» [9]. Мысль Пастернака созвучна и заявлению М. Горького: «Мы живем в стране и атмосфере, для которых характерна именно эпика...» [10]. Новаторский характер советской литературы определялся новым героем, новым человеком. Сфера личностного, субъективного, «анатомия души» настолько эпизировалась, раздвинулась, что стала способной вместить в себя и выразить огромный объективный в его перспективных тенденциях мир. Эта черта литературы русского «монументального реализма» ХХ столетия не позволяет ставить знак тождества между нею и произведениями иных мастеров мировой литературы, написанных ярко, но не одухотворенных пафосом колоссальных перемен в жизни человека и в самом человеке, пафосом созидания. Тип реалистического искусства, как и других творческих направлений, определяется именно художественной концепцией человека и мира. Типология романа (или другого жанра) характеризуется в первую очередь характером писательского зрения. К примеру, «Тихий Дон» М. Шолохова следует сравнивать с произведениями масштаба романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», многогеройным, охватывающим жизнь семи поколений семьи Буэндиа, написанным в манере мифологического эпоса, хотя и привязанного сюжетно к клочку земли Макондо, с ее «двумя десятками хижин, выстроенных из глины и бамбука». И, наоборот, едва ли возможно продуктивное сопоставление в рамках художественной типологии «Тихого Дона», скажем, с романом Фолкнера «Шум и ярость». Именно роль эпического начала в них (хотя оба написаны в эпическом жанре романа) слишком разная и слишком велика в общих концепциях произведений, чтобы можно было объединить их в одной тенденции. В современной реалистической литературе трудно найти аналог роману Фолкнера. В своем стремлении создать такой художественный мир, который был бы тождествен «краеугольному камню вселенной: если его убрать, вселенная рухнет» [11], в полном осознании масштабности творческой задачи Фолкнер в процессе работы над романом разрушал, кромсал именно эпический колорит произведения, делал его фрескообразным, ломал естественный ход времени, пытался сосредоточить вселенную в «недетерминированной» душе идиота Бенджи – Мори Компсона. Четыре части романа, четыре перевернутых в хронологическом отношении временных пласта: каждая часть имеет свое время. 7 апреля 1928 года, 2 июля 1910 года, 6 апреля 1928 года и 8 апреля 1928 года. Четыре монолога-исповеди: Бенджи, его «поток сознания», «поток сознания» Квентина, внутренний монолог Джейсона и, наконец, повествование самого автора. Причем последняя часть введена в качестве попытки автора «склеить» предшествующие частикуски в единое целое. Фолкнер намерено разрушал эпическое, цельное состояние мира рваной архитектоникой романа и сам этого как будто бы испугался, когда и решил ввести «еще одного рассказчика, самого себя», «собрать все куски вместе», «надеясь, что пробелы будут таким образом заполнены». «Но, – признавался Фолкнер, – история осталась все-таки нерассказанной даже и через пятнадцать лет после того, как книга вышла в свет, и после того, как я сделал в виде приписки к другой книге последнюю попытку досказать ее, чтобы она наконец оставила меня в покое» [11, р. 74]. Художественное сознание реалиста было бессильно в борьбе с тотальным воздействием на идейно-художественный исход романа «деэпизирующей» структуры. Сам Фолкнер относился, как известно, к «Шуму и ярости», «как мать какого-нибудь искалеченного ребенка» [10, р. 183]. Да, роман Фолкнера написан в духе того самого «романа лирического», деэпического, где «тип художественного воплощения» 43 Гуманитарные науки личности обусловлен сосредоточенным вниманием художника преимущественно к «недетерминированным свойствам» этой личности, что сближает роман с экспериментальным, модернистским искусством века. И это довольно-таки распространенный взгляд на фолкнеровский роман в современном литературоведении, не только советском (см. об этом в монографиях [12, 13]). А вот «Тихий Дон», и не только он, к теории деэпизирующегося романа никакого отношения не имеет и иметь не может (см. мою полемику… [14]). 1. 2. 3. Мазепа Н.Р. В поэтическом поиске: об эпическом и лирическом начале в современной русской поэзии. Киев, 1977. Кузьменко Ю.Б. Загадка М.С.Р. // Лит. учеба. 1978. № 5. Анастасьев Н.А. Диалог (Советская литература и художественный опыт ХХ века) // Вопросы литературы. 1983. № 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мулярчик А. Куда ведет столбовая дорога // Лит. обозрение. 1983. № 3 и др. работы. Hudgins A. «Leaves of Grass» from the perspective of modern epic practice Midwest Quart. Pittsburg, 1982. V. 23. № 4. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1968. Т. 1. С. 190. Далее в тексте указаны том и страницы этого издания. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа: статья первая // Вопросы литературы. 1980. № 11. С. 148. Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1954. Т. 5. С. 33. Далее цитируется это издание с указанием в тексте страницы пятого тома. Лит. наследство. М., 1983. Т. 93. С. 649. Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 30. С. 442. Faulkner W. Three Decades of Criticism. Michigan State University Press, 1960. P. 82. Затонский Д. В наше время... М., 1979. Палиевский П.В. Литература и теория. М., 1979. Вопросы литературы. 1984. № 4. О ФИЛОСОФИИ КАК ВУЗОВСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ А.И. Юдин Yudin A.I. On philosophy as a discipline taught in higher educational establishments. The article looks at different aspects of teaching philosophy to university students. Прежде чем говорить об изменении преподавания, на наш взгляд, следует обратиться к недавней истории. В советское время на всей территории Советского Союза, во всех вузах читался курс марксистско-ленинской философии. Это было вполне объяснимо, марксистско-ленинская философия являлась официальной идеологией правящей Коммунистической партии. Этим объяснялось во многом значение предмета в рамках вузовского образования. Количество часов равнялось 140, кроме того, отводилось значительное количество часов на работу с рефератами, на индивидуальную работу и так далее. Это имело как положительное, так и отрицательное значение. Положительное – существовал кабинет общественных наук, с периодикой, с трудами классиков марксизма44 ленинизма. Студент мог прийти в кабинет, получить консультацию преподавателя или заведующего кабинетом, почитать философские и общественно-политические журналы, законспектировать работы классиков марксизма. Это хорошо, потому что студент работал с философским текстом, пусть с текстом Маркса, Энгельса, Ленина, но работал. Это то положительное, от чего, на наш взгляд, не было необходимости отказываться. Сохранить положительное и приумножить его – это нормальное явление. Однако в России радикалы всегда доминировали. Превращение философии в официальную идеологию неизбежно привело к ее догматизации, а догмат – это уже не философия, это система однозначных вопросов и ответов, чем и являлся советский марксизм-