Document 2241488
advertisement
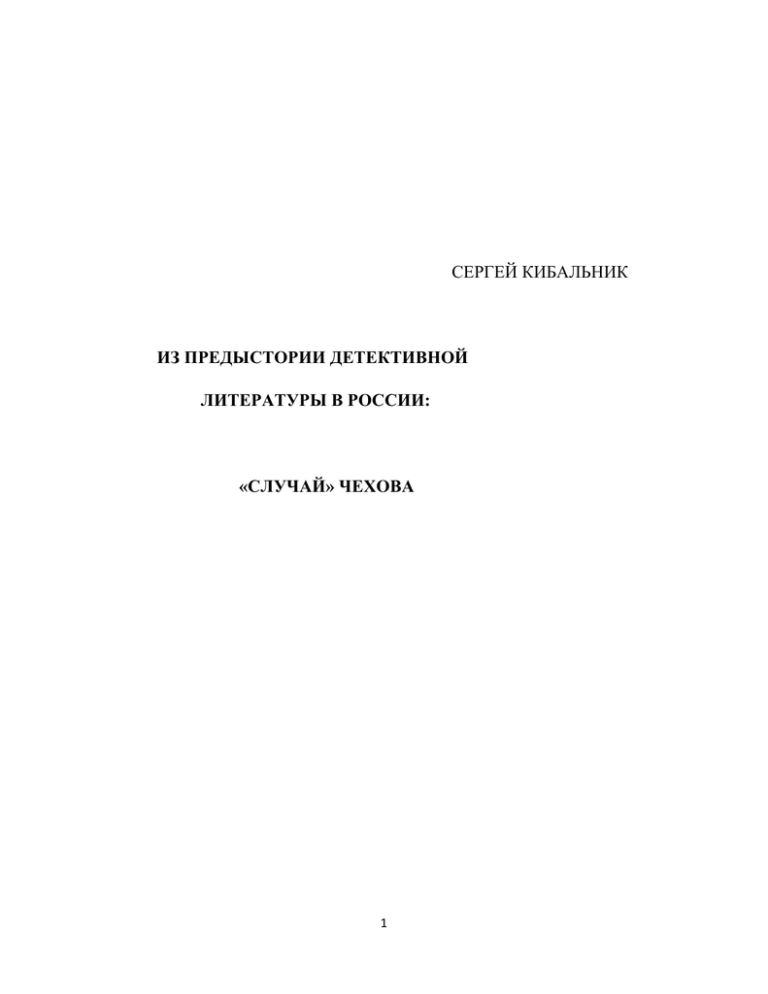
СЕРГЕЙ КИБАЛЬНИК ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ: «СЛУЧАЙ» ЧЕХОВА 1 К читателю Приглашение в докторы Ватсоны Заглавие настоящей книги звучит намеренно парадоксально – не как утверждение, а расследованию», скорее был как ли в приглашение к действительности «литературоведческому Чехов «детективным писателем». Разумеется, широкому читателю и специалистам он известен прежде всего совсем в ином качестве: как великолепный рассказчик и тонкий художник, прекрасный прозаик и драматург-новатор. Однако ведь это именно он написал по-прежнему читаемый и перечитываемый роман «Драма на охоте», хорошо известный массовой аудитории по экранизации Эмиля Лотяну «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). Именно у Чехова мы находим целый ряд рассказов, в центре сюжета которых – расследование преступления, как правило, убийства (классический и самый известный пример – «Шведская спичка», 1884 – обозначенный в подзаголовке как «уголовный рассказ», широко известен по экранизации 1954 года; автор сценария – известный советский драматург Николай Эрдман). Именно его герои нередко читают самых популярных детективных писателей того времени – авторов «уголовных романов» Эмиля Габорио и Александра Шкляревского, а литературоведы находят «отражения» их произведений во многих ранних и даже в некоторых поздних произведениях самого Чехова. Именно его самые известные произведения дописывают 2 современные мастера детективного жанра, превращая их тем самым (впрочем, не без существенных художественных потерь для исходного произведения) в настоящие детективы («Чайка» Бориса Акунина). Именно многие из произведений Чехова и сами по себе построены, по мнению некоторых серьезных исследователей его творчества, на своеобразной «поэтике улик». Так, может быть, как Пушкин, по словам Аполлона Григорьева, это «наше все», так и у Чехова в его многотомном собрании сочинений можно найти многое – в том числе и детективные произведения? Как это в свою очередь ни парадоксально, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо провести своего рода «литературоведческое расследование». Потому что точного ответа на него в современном как российском, так и зарубежном чеховедении пока не дано. И для того, чтобы придти, наконец, к какому-то достаточно определенному выводу, лучше это сделать в жанре научно-популярной книги, читатель которой был бы своего рода доктором Ватсоном, а автор играл бы отчасти роль Шерлока Холмса. В ходе проводимого «расследования» «дедуктивным методом» (и не только им) читателю будет предложена цепочка аргументов и доказательств, которые сами подведут его к конечному его результату. А чтобы оно было убедительным, в книге будет приведено множество «улик», относящихся к истории зарождения детективного жанра в России и Европе и к происхождению многих чеховских произведений. Читатель сам сможет познакомиться со всеми материалами этого расследования и вынести свой собственный вердикт в качестве своего рода 3 присяжного заседателя, прослушавшего не только автора, который выступающет в данном случае в качестве своего рода следователя (а также «защитника», прокурора и т. п.), но и многих «свидетелей», а может быть, и не только их. И ничего что роль «улик» будут выполнять цитаты из произведений и биографические свидетельства из жизни самого Чехова, а роль доказательств – иногда не самые простые сопоставления с произведениями, с одной стороны, Эмиля Габорио, Эдгара По, Уилки Коллинза, Агаты Кристи, Александра 1 Шкляревского, Всеволода Крестовского, а с другой – Достоевского, Тургенева, Льва Толстого, Александра Островского, Гончарова и многих других писателей. Как история зарождения детективной литературы в России, так и специфика "уголовных" произведений Чехова до сих пор вызывают живой интерес как у специалистов, так и среди широкого круга читателей. Между тем как в том, так и в другом остается еще немало неясного. Названная тема в целом особенно важна для понимания своеобразия соотношения между "высоким" и элитарным, с одной стороны, и с развлекательным и массовым - с другой, которое сложилось еще в русской культуре XIX века. В свою очередь это имеет серьезное значение для осмысления своеобразия русского искусства в целом. О Чехове только в последнее время было уже написано немало ярких биографических, в том числе и научно-популярных книг (Александром Чудаковым, Дональдом Рейфильдом, Алевтиной Кузичевой и др.), а также содержательных анализов его творчества (А.П. Чудаковым, В.Б.Катаевым, 4 В.И.Тюпой, И.Е. Гитович, И.Н. Сухих, А.Д. Степановым, П.Н. Долженковым, Робертом Джексоном, Светланой Евдокимовой, Майклом Финком и др.). Впрочем, научно-популярная литература, посвященная писателю, заметно уступает научной – если не в числе, то в качестве. Особенно это очевидно, коль скоро мы обратимся к освещению отдельных сторон многогранной творческой личности Чехова. Это же касается и самой детективной литературы. В последние годы ее поэтике и истории было посвящено немало работ (назовем хотя бы некоторые монографические: Лоренса Франка, Ховарда Хэйкрафта, Джона Скэгса, Абрама Рейтблата, Николая Вольского, Еремея Парнова, Аркадия Адамова и многих других). Однако произведения Чехова если и относятся к детективной литературе, то к не совсем обычной. Это детективные произведения, которые одновременно являются пародиями на сам этот жанр. В этом смысле они прокладывали дорогу не только классическому детективу Конан-Дойля и Агаты Кристи (хотя и здесь они кое-что предвосхитили), а философским «антидетективам» Набокова (термин Н. Мельникова) и даже, в какой-то мере, может быть «ироническому детективу» в современной литературе (см. работы о нем Ю. Демьяненко) и т. п. Детективная сторона произведений Чехова на «уголовные» темы заключается не столько в собственно «детективных» элементах сюжета, сколько в ощущении их сложной природы, вообще присущей традициям детективной литературы в России (не случайно один из истоков ее нередко усматривается в «Преступлении и наказании» Достоевского). И «расследование» пародийной стороны этих произведений, которое ощущает и отчасти ведет каждый читатель этих чеховских произведений и которое 5 обязан проводить их исследователь, заключается в ответе на вопрос, на что именно она направлена. И здесь ответ оказывается даже более неожиданным, чем обнаружение истинного убийцы чеховской «Драме на охоте». Объектом пародии в этих произведениях Чехова оказывается в том числе и практически вся русская классическая литература, предшествовавшая и современная Чехову, и прежде всего повести и романы Достоевского (не в последнюю очередь как раз именно «Преступление и наказание»). Таким образом, истинным преступником и обвиняемым в этих произведениях оказываются не только Габорио и Шкляревский, но и Тургенев, Александр Островский, Тургенев и Толстой. В чем именно обвинял своих предшествнников на ниве серьезной литературы Чехов, какие новые ценности он отстаивал – именно на этот вопрос и призвано ответить наше «литературоведческое расследование» его детективных произведений. А именно с утверждением этих новых ценностей связана целая магистральная линия развития русской культуры XX века, представители которой отвергали Достоевского и декларировали свою приверженность Чехову (от Михаила Зощенко до, скажем, Фридриха Горенштейна и Сергея Довлатова). 2 6 Глава первая, вводная «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДЕТЕКТИВ» От Эдгара По к Уилки Коллинзу и Эмилю Габорио Жанр детектива – порождение западной модернизации. Соответственно, и возникает он прежде всего в США и Западной Европе. Если оставить в стороне так называемые «готические романы», которые всетаки лишь предвосхищали некоторые черты детективной литературы, надо признать, что родоначальником детектива – пока еще только детективной новеллы, а не романа – был Эдгар По. Первой детективной новеллой в истории мировой литературы считается его рассказ «Убийство на улице Морг», напечатанный в 1841 году. А первым сыщиком с блестящими аналитическими способностями стал его герой Огюст Дюпен. Однако непосредственных продолжателей у американского романтика в этом жанре сразу не возникло. И только постепенно, в 1860-е годы, упавшее знамя было подхвачено целым рядом западно-европейских писателей, из которых наиболее известными стали, в Англии – Уилки Коллинз и во Франции – – Эмиль Габорио. Они и считаются своеобразными «отцами» детективного жанра. 7 Впрочем, довольно много переводились на другие европейские и на русский языки и такие уже забытые ныне писатели, как А.Бело, К.Геру, Э.Шаветт, А.К.Грин и многие другие. Российский историк детективного жанра и социолог детективной литературы Абрам Рейтблат отмечает: детектив тесно связан с атмосферой современного города, в котором рушатся патриархальные связи и традиционные стереотипы поведения, люди отчуждаются друг от друга и вступают в формальные отношения. Здесь у всех на глазах случаи быстрого обогащения, ежедневно стакливаются с соблазнительными, но труднодостижимыми и нередко испытывают сильное желание пойти недозволенным путем, чтобы достичь успеха. 3 Исследователи обычно пишут о том, что всего этого в России того времени было еще не так много, и именно этим объясняют замедленное развитие российского детектива и появление его в иных, не «классических» формах. Но почему же тогда таким сумасшедшим успехом пользвались в России зарубежные детективы – например, «полицейские романы» Эмиля Габорио? В 1868 – 1874 годах на русский язык было переведено более десятка романов Эмиля Габорио (Émile Gaboriau), причем многие сразу у нескольких издателей (например, роман «Петля на шее» издан в 1873 г. Е.Н.Ахматовой, Н.В.Трубниковым и Е.К.Олениной). Некоторые переводы его книг выдержали по два-три издания, что в то время встречалось нечасто. Вышли на русском языке (вскоре после публикации в Англии) «Женщина в белом» и «Лунный камень» Уилки Коллинза. 8 Детективные романы, повести и рассказы, которые в России обычно называли в то время «уголовными», широко читались. Например, книги Габорио в 1880-х – начале 1890-х гг. в публичных библиотеках входили в число наиболее читаемых. 4 Разве удивительно после этого, что ими зачитываются и герои ранних произведений А.П.Чехова? 9 Рождение российского детектива От чтения не так далеко и до создания. То, что пользутся спросом, рано или поздно начинают пытаться сделать многие писатели и в самых разных странах. Как мы видим, попытки «импортозамещения» J то и дело происходят в России и в литературе. Свое начало они берут в 1870-е годы. В одной из своих работ литературовед Абрам Рейтблат даже решился назвать точную дату рождения российского детектива: 1872 год. До этого времени в печати появлялись только очерковые книги о сыщиках и преступниках типа «Московских тайн» М.Максимова (1861) или уже упомянутых книг Соколовского и Степанова («Острог и жизнь (Из записок следователя)» Н.Соколовского, 1866) и «Правые и виноватые. Записки следователя сороковых годов» П.Степанова, 1869. Т. 1 – 2 – С.К.).5 А в 1872 году, наряду с продолжающими старую традицию «Записками следователя» Н.Тимофеева, появились три произведения, посвященные процессу расследования уголовного дела: «Концы в воду» Н.Ашхарумова (в журнале «Отечественные записки») и отдельно изданные «Убийство в деревне Медведице» С.Панова и «Рассказы следователя» А.Шкляревского, который впоследствии писал только книги этого жанра и был даже прозван «русским Габорио 6 10 Впрочем, отечественный продукт в таких случаях обычно отличается «лица необщим выраженьем». Присуще оно и новорожденному российскому детективу: Распространение получил здесь не чистый, так называемый «классический» детектив (Коллинз, Конан Дойль и использовавшие их опыт другие англо-американские литераторы), а другие модели – «уголовный роман» и «сыщицкая литература». 7 Национальное своеобразие русских в жанре детектива можно отмерить скалозубовским определением: «дистанция огромного размера»: В отличие от западного детектива, где основной движущей силой преступления (и романной интриги) является стремление к обогащению, в русском уголовном романе очень часто <…> эту функцию выполняет любовь или, точнее, страсть. Подобное положение связано с меньшей меркантильностью русского общества, где даже законно разбогатевший человек отнюдь не являлся героем в глазах окружающих, и большей зависимостью личных отношений между людьми. На Западе детектив – царство логики, и с ее помощью там всегда можно «вычислить» преступника (вспомним дедуктивный метод Холмса), в России это – мир чувств и эмоций, где на первый план выходит психология, и лишь опираясь на нее можно найти и, главное, понять человека, нарушившего закон.8 Объяснения этому даются иногда довольно мудреные: Модель «классического детектива» предполагает, что окружающее общество характеризуется следующими чертами: развитое чувство частной собственности; высокий статус формально-правовых отношений; безличность, анонимность отношений между людьми; высокая культура 11 логического мышления; привычка рассчитывать свои действия; сравнительно высокий уровень образования. В России же наблюдались лишь слабые элементы названных явлений и охватывали они при этом довольно тонкий слой населения. Подавляющее же большинсто населения находилось в сфере влияния патриархальной, общинной культуры, с приматом моральных и религиозных, а не юридических норм, личных, а не формальных отношений, расчетом на «авось», а не на целенаправленное планирование своего поведения. 9 Однако так или иначе ранний российский детектив действительно был иным. «Уголовный роман» существенно отличался от западного «полицейского», а пристрастие русских авторов к форме «записок следователя» не свойственно в такой мере авторам западно-европейских детективных романов: В русских детективах обычно акцентировалась не сюжетная, а психологическая сторона уголовной истории. У Габорио и других его зарубежных коллег – классическая детективная схема – главный интерес заключается в поиске преступника, а кто он – выясняется в конце. У Шкляревского и его последователей имя преступника нередко становится известным читателю уже в середине книги, а главный упор сделан на характеристику причин, толкнувших на преступление, на психологию преступника. Подобные повести и романы можно назвать детективными лишь при достаточно расширительном понимании этого жанра – как объединяющего все произведения о преступлении и его раскрытии. В отличие от западных, отечественные авторы, как правило, основное 12 внимание уделяют не сыщику и процессу следствия, а переживаниям преступника (нередко ведущих к раскаянию) и причинам, побудившим его к преступлению. <…> Вообще «чистах» детективов писалось немного. Чаще детективный сюжет сочетали с другими жанровыми структурами: сенсационным романом (описание нравов полусвета, дна, уголовной среды и т.д.), приключенческим, мелодрамой и т.д. Нередко основу для книги давал нашумевший судебный процесс. 10 Своеобразие российского детектива предопределял и особый, не слишком высокий статус подобной литературы в России: Признанные литераторы уголовных романов не писали (немногие исключения – Достоевский, Н.Ашхарумов – лишь подтверждают правило), и в «детективщики» шли те, кто из-за недостатка таланта или образования не мог пробится в первый (да, пожалуй, и во второй) ряд литературы. Об иерархии жанров свидетельствуют и гонорарные ставки: за «реалистическую» прозу – бытовую и психологическую в толстых журналах платили 75 – 100 рублей за печатный лист, а за детектив в газетах – 20 – 25 рублей. 11 Любопытен, но далеко не бесспорен в связи с этим взгляд исследователя Абрама Рейтблата на вопрос о том, является ли детективным романом «Преступление и наказание» Достоевского: Возникающие иногда среди критиков споры, детектив или нет «Преступление и наказание», носят схоластический характер, поскольку 13 книгу соотносят с западными образцами жанра, а отнюдь не с русским «уголовным романом». Сопоставительный анализ такого рода показал бы, что Достоевский стоял у истоков «уголовного романа» («Преступление и наказание» появилось в 1866 г.), а его последователи, сняв философский пласт и предельно упростив психологическую и нравственную проблематику, испытали, тем не менее немалое влияние этой книги (в поэтике, да и в идейном плане). 12 Ну, последнее, конечно же, совсем не аргумент. А вообще на ум невольно приходят и некоторые возражения. Ведь и на русский «уголовный роман» «Преступление и наказание» Достоевского похоже мало. Это не «сыщицкий роман»: собственно, «расследовательская» линия имеет в нем второстепенный характер. И уж тем более это ни в коем случае не «записки следователя». Да и с какой же стати автор «толстых журналов», живший исключительно на литературные гонорары, стал бы придавать своему роману явные черты второсортного и низкооплачиваемого жанра? Во взгляде на Достоевского как на детективного писателя у А.И.Рейтблата есть, впрочем, сильный союзник, о котором сам он не упоминает. Это В.В.Набоков, который в своих «Лекциях по русской литературе» говорил своим студентам: Раз и навсегда условимся, что Достоевский – прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж, представший перед нами, остается тем же самым до конца, со своими сложившимися привычками и чпрточками. 13 14 Однако чтобы в полной мере оценить степень провокативности этого суждения писателя, вспомним, что ранее в его романе «Отчаяние» ровно такой же самый взгляд высказывал набоковский Герман: Да что Дойл, Достоевский, Леблан, Уоллес, что все вликие преступники, не читавшие ловких романистов!14 Одним словом, жанровая природа романа Достоевского явно намного сложнее. Но, впрочем, для героя нашей книги это, хотя и имеет, но далеко не самое первостепенное значение. Потому что Чехов действительно написал несколько произведений, которые большинством исследователей рассматриваются либо как детективные роман и рассказы, либо как пародии на них. И одновременно в некоторых из этих произведений немалое место занимает пародирование и одновременно стилизация под Достоевского, в том числе и под «Преступление и наказание». Обратимся же теперь к «случаю», который мы сами собираемся детально «расследовать» в настоящей книге: «случаю» Чехова… 15 Глава вторая ОТ ЧЕГО ЗАГОРАЕТСЯ "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА"? «Дело» об убийстве отставного корнета Кляузова Свой знаменитый «уголовный рассказ» «Шведская спичка» Чехов написал в двадцатитрехлетнем возрасте, будучи еще начинающим, газетным писателем, подписывающим свои произведения «Антоша Чехонте». «Огромнейший рассказ», как определял его сам Чехов, был написан им за довольно короткий срок, между 7 и 20 августа 1883 года (С. 2, 516517). «Суть» рассказа, как формулировал ее опять-таки сам писатель, заключалась в том, что это «пародия на уголовные рассказы». Однако подзаголовок «Шведский спички», заключенный Чеховым в скобки, гласит: «(Уголовный рассказ»). И если мы начнем внимательно его читать, то вначале действительно ничто не указывает нам на то, что это не «уголовный рассказ», а всего лишь пародия на него. Впрочем, вы можете убедиться в этом сами. 16 Рассказ начинается так: Утром 6 октября 1885 г. в канцелярию станового пристава 2-го участка С — го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса. — С кем я имею честь говорить? — спросил его становой. — Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик. (С. 2, 201) Единственное, что обращает на себя внимание в этом фрагменте, – это то, что у жертвы довольно забавная фамилия, но такое случается и в жизни. Правда, чин Марка Ивановича Кляузова, который он получил по выходе в отставку, тоже слишком уж невелик для немолодого уже, судя по всему, человека. Что наводит на мысль о том, что или он слишком уж недолго служил, или служил так, что ничего не выслужил. Но такое, в принципе, тоже, как это ни грустно, бывает. Что касается второго героя, то фамилия у него тоже немного комическая, а, судя по тому, что он представляется становому приставу как «агроном и механик», то или является специалистом в самых разных 17 областях, или не владеет как следует ни тем, ни другим ремеслом. Но и это вообще-то не редкость. J Далее следует сцена осмотра места преступления: Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ. — Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, — заметил при осмотре двери Псеков. (С. 2, 201) «Бледные, заплаканные физиономии» не должны поразить нас очень сильно, раз уж весть об убийстве исходит от героя, руки которого «дрожали и глаза были полны ужаса». Времяпреповождение «народа» во время «праздника» слишком уж придирчивого читателя могло бы навести на мысль о том, что он мог бы меньше доверять шальным слухам и проводить свободное время с большей пользой для себя. Однако мы ни в коем случае нехотим выглядеть в глазах нашего читателя читателем чересчур придирчивым. Соображение Псекова (обратим внимание, что пока что его высказывает не становой, а принесший известие об убийстве Псеков) не может поразить нас своей глубиной, но отказать герою, рассуждающему 18 так, что раз дверь заперта изнутри, то, значит, убийцы пробрались к жертве через окно, в полном отсутствии логики мы тоже не можем. Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню. — Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? — спросил становой. — Никак нет, ваше высокородие, — сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. — Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся! — Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, глядя на окно. — Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, — не слушался! Распутство не доводит до добра! (С. 2, 201 - 202) Деталь «Окно глядело мрачно, зловеще» соответствует мрачным предчуствиям Псекова и прочей честной компании. Правда, известие о том, что никто до сих пор даже не удосужился заглянуть в окно, могло бы заставить их несколько подождать с выводами. Однако этого не происходит, и становой, всего лишь «глядя на окно», но не заглядывая в него, пускается в укоризненные рассуждения о печальной судьбе корнета Кляузова, смерть которого он легко объясняет себе некоторыми слабостями «покойного». 19 — Спасибо Ефрему, — сказал Псеков, — без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом... Мысль сейчас мелькнула... Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней — шутка сказать! (С. 2, 202) Эта тирада Псекова внимательного читателя наводит на мысль о том, что, раз Марк Иванович Кляузов не так уж часто выходил из своей спальни, то обязанности управляющего на службе у него были не столь уж обременительными, а также на то, что среди слабостей покойного, по всей видимости, было не только «распутство». J — Да, бедняга... — вздохнул еще раз становой. — Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, — обратился становой к одному из понятых, — съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику — чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу. (С. 2, 202) 20 Судя по всему, становой, не желающий в одиночку даже осмотреть место преступления, не хочет брать на себя никакой ответственности. В его реплике относительно урядника «чего он там прохлаждается?» попутно промелькивает раздражение по поводу того, что кто-то из служащих может наслаждаться покоем, в то время как он тут в одиночку вынужден заниматься расследованием убийства. Ну а то, что он может потревожить их понапрасну (ведь трупа пока никто не видел), судя по всему, просто не приходит становому в голову. Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай. — Вот-с... — говорил он Псекову. — Вот-с... Дворянин, богатый человек... любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и... вот-с!.. убили. (С. 2, 202) Несколько неожиданное решение станового идти пить чай, посвоему, логично, раз уж он решил ничего не предпринимать, пока не приедут исправник, урядник и следователь. А звучащее уже в который раз в его устах убеждение в том, что человек, ведущий не самый благопристойный образ жизни, сам мостит себе дорогу на тот свет, «проницательного читателя» могло бы навести на мысль, что, должно быть, уж сам исправник человек самых безукоризненных моральных качеств. 21 Однако как мы увидим из концовки рассказа, художественный смысл, вложенный Чеховым в постоянные заочные моралистические назидания станового Кляузову, рассчитан на «глубину контекста» всего рассказа и отмечен убийственным сарказмом. Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести. (С. 2, 202) Фамилия следователя оказывается не менее комической, чем у жертвы, так что автор даже считает нужным в скобках подтвердить, что того действительно так зовут. Что касается его молодого «помощника и письмоводителя», то его фамилия, напротив, вполне серьезна и читателю ни о чем не говорит. Но к этому месту можно сделать небольшой комментарий. У Чехова в период создания рассказа был знакомый М.М. Дюковский, которому он даже подарил черновой текст рассказа, дошедший до наших дней (С. 2, 514). — Неужели, господа? — заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. — Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но! — Подите же вот... — вздохнул становой. 22 — Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил! Подите же вот... — вздохнул еще раз становой. Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю. (С. 2, 202) Явление следователя должно, судя по всему, удостоверить читателя прежде всего в том, что это человек не менее простодушный, чем становой. Ему кажется решительно невозможным, что Кляузова убили на основании того, что в прошлую пятницу он с ним пил водку. И эта последняя черта тоже достаточно многозначительна. Она также вносит небольшие коррективы в суровой приговор, произнесенный моральным качествам «покойного» становым. То, что становой два раза повторяет одну и ту же фразу, характеризует его как не слишком красноречивого и не слишком находчивого собеседника. Последняя же деталь – насчет чая – снова непрозрачно намекает нам на то, что, прибыв на место преступления, следователь и его помощник не так уж и поспешили его осмотреть. — Расступись! — крикнул урядник народу. Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому. 23 — Прошу, господа, лишних удалиться! — сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. — Прошу это в интересах следствия... Урядник, никого не впускать! (С. 2, 203) Зачем надо было так уж внимательно осматривать дверь, если она заперта изнутри, так и остается непонятным. Однако еще более удивительным оказывается то, что за бесконечным чаепитием становой и вовсе забыл, а следователь и не вспомнил о том, что можно было заглянуть, а, может быть, даже и влезть в спальню Кляузова через окно. И тогда взламывать дверь вовсе бы не потребовалось. Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел. — Мерзавцы! — пробормотал он, сжимая кулаки. — А где же Марк Иваныч? — тихо спросил Дюковский. 24 — Прошу вас не вмешиваться! — грубо сказал ему Чубиков. — Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, — обратился он к становому, понизив голос. — В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните... Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно... (С. 2, 203-204) Сама по себе картина спальной Кляузова производит только впечатление комнаты, в которой давно никто не наводил порядка и которая давно никем не убиралась. Однако же следователя она наводит на неожиданное и непонятно на чем основанное заключение о том, что жертву убили и вытащили его труп через окно. Попытка Дюковского поднять вопрос о том, что трупа все нет как нет, резко прерывается окриком Чубикова. Окрик этот, совершенно немотивированный ситуацией, по всей видимости, связан с устоявшимися отношениями между следователем и его помощником. Лишнее подтверждение этому можно видеть в том, что Чубиков после этого даже и обращается не к Дюковскому, а к становому. Внимание читателя останавливает на себе фамилия еще одной жертвы – жертвы другого, давнего преступления, которая производит комический эффект самим ее сочетанием с обозначением социального статуса ее носителя: «купца Портретова»… Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось. 25 — Отворяется, значит не было заперто... Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена... Кто-то лез оттуда... Нужно будет как следует осмотреть окно. — На полу ничего особенного не заметно, — сказал Дюковский. — Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой... — Ах... замолчите, пожалуйста! — махнул рукой следователь. — Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели! (С. 2, 204) Окно так-таки и оказывается незапертым, так что взлом двери точно был совершенно излишним. Впервые в этом пассаже звучит сочетание «шведская спичка», которое, конечно же, привлекает к себе особое внимание, поскольку оно же стоит в заглавии рассказа. Как мы узнаем впоследствии, эта «шведская спичка», обнаруженная Дюковским, действительно наведет его на след Кляузова и позволит ему если не раскрыть преступление (которого, как в конце концов выяснится, вовсе и не было), то найти самого Кляузова. Но как только он пытается обратить на нее внимание следователя, тот снова, как уже может ожидать и сам читатель, резко обрывает его. По осмотре постели Дюковский отрапортовал: 26 — Ни кровяных, ни каких-либо других пятен... Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же... Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба. — Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше... — Один сапог здесь, другого же нет налицо. — Ну, так что же? — А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как... — Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили? — На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина. — Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться... Это я и без вас сделаю. (С. 2, 204) В этом пассаже читатель убеждается, что Дюковский – точно так же как и Чубиков – не уступит тому пальму первенства по части выдвижения произвольных и ни на чем не основанных версий. Одна из деталей обстановки, которую Дюковский формулирует довольно забавным образом: «Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же...» – внутренне рифмуется с другой деталью, внимание к которой было привлечено ранее: 27 «Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок <…> и четверть водки». Что укрепляет читателя в представлении о том, как «жертва» преступления предпочитала проводить свой досуг. J Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти. — Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. — Желтый, парусинковый. — Отлично. Они, значит, были в синем. Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. (С. 2, 204-205) «Тонкие волоски темно-синей шерсти», найденные Дюковским под окном у самой стены, порождают у него несколько скоропалительное заключение о том, что одежда синего цвета была на преступнике. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей 28 степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил: — А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела! (С. 2, 205) Фамилия исправника тоже, разумеется, говорящая. «Свистаковский» вполне под стать и Кляузову, и Чубикову. Не выпадает из этого ряда, разумеется, и «Тютюев». Эта последняя фамилия происходит, конечно же, от слова «тютю», употребляемого в русском языке для обозначения исчезновения чего-то или кого-то. Если учесть что ее носит доктор, то она звучит не только комично, но и может навести на невеселые размышления о возможных результатах деятельности такого доктора, если он, на беду пациента, вполне ее оправдывает. J Такое предположение нисколько не развеивает то обстоятельство, что доктора Тютюева текущие политические события, по всей видимости, волнуют гораздо больше, чем что-либо другое. Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим 29 темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне. — Это давнишняя кровь! — сказал Дюковский, осматривая пятна. Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна. — Да, кровь, — пробормотал он. — Значит, не задушен, коли кровь! — сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского. — В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада. — Ну, а сапог? — Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся... — Сообразительность, посмотришь! — усмехнулся Чубиков. — Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью! (С. 2, 205-206) То, что доктор Тютюев «лениво, мельком» взглянул на пятна крови, только подтверждает первое впечатление читателя от него. 30 Что же касается полосы крови, тянувшейся от окна вглубь сада, то очень скоро она получит абсолютно четкое и, к сожалению, никак не связанное с каким-либо преступлением объяснение в рассказе камердинера Кляузова Николашки. Полоса эта, которая могла бы свидетельствовать об ином способе убийства (а не об удушении) Кляузова, возбуждает новые препирательства Чубикова с Дюковским. Как оказывается, того невозможно смутить ничем; настолько велика у него сила воображения. Дюковский тут же сочиняет все новые и новые подробности убийства Кляузова, совершенно позабыв о том, что труп его так пока и не обнаружен. По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились. — Часы, деньги и прочее... всё цело, — начал разговор Чубиков. — Как дважды два четыре, убийство совершено не с корыстными целями. — Совершено человеком интеллигентным, — вставил Дюковский. — Из чего же это вы заключаете? — К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это. — К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал? 31 — Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал. — Нечего выдумывать! Ешьте лучше! (С. 2, 206) О чем собравшаяся компания не забывает, так это, как выражался Винни-Пух, «вовремя подкрепиться». Каждый удобный и даже не очень удобный момент используется героями рассказа для чаепития, завтрака. За этими делами они главным образом и рассуждают о «совершенном» преступлении. Дюковский снова вспоминает о «шведской спичке», что могло бы быстрее привести к «разгадке» «свершившегося» «преступления». Однако тут же сам вновь переключается на развитие своих первоначальных фантазий о деталях «убийства». Нет ничего удивительного в том, что Чубиков снова прерывает его, и не в самых парламентских выражениях. — А по моему понятию, ваше высокоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, — пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка. — Весьма возможно, — сказал Псеков. — А кто этот Николашка? — Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, — отвечал Ефрем. — Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю... Кому же, как не ему? А 32 еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, из-за бабы... Была у него солдатка такая... Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он... известно, осерчал... На кухне пьяный валяется теперь. Плачет... Врет, что барина жалко... — А действительно, из-за Акульки можно осерчать, — сказал Псеков. — Она солдатка, баба, но... Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное... (С. 2, 208) Навет Ефрема на Николашку имеет расхожий характер: похвалялся, дескать, что барина убьет. Он заставляет вспомнить о Герваське, герое бунинского «Суходола» (1912), холопе и незаконном отпрыске хозяина имения «Суходол» Петра Кирилловича, не только грозившем убить его, но и в самом деле осуществившем свою угрозу. Другая параллель – причем которая, в отличие от первой, была хорошо знакома самому Чехову – это сравнительно недавно изданный тогда роман Достоевского «Братья Карамазовы» (1880). В отличие от написанной намного позже своеобразной «заупокойной» по помещичьей России Бунина и трагического семейного эпоса Достоевкого, у Чехова это всего лишь комический прием. Навет Ефрема, как мы узнаем из финала рассказа, был ложным и скорее всего объяснялся его личной неприязнью к Николашке. — Видал... Знаю... — сказал следователь, сморкаясь в красный платок. 33 Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. (С. 2, 208) Если Псеков более-менее прямо говорит о «привлекательности» Акульки, то Чубиков соглашается с ним, испытывая при этом явное замешательство. Это замешательство недвусмысленно указывает читателю на то, что и ему привлекательность Акульки известна не понаслышке. Далее следует череда самых разнообразных деталей, относящихся к невербальной коммуникации героев. Выражают все они одно и то же: попытку Дюковского, станового и исправника скрыть свое явное замешательство, которое у всех у них объясняется совершенно одинаковым образом. Картина в своем роде совершенно бесподобная: Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах. — Где барин? — спросил его Чубиков. — Убили, ваше высокоблагородие. Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. — Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где? 34 — Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали. — Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть? Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. — Не могу знать, ваше высокоблагородие, — сказал он. — Был выпимши и не помню. — Alibi! — шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки. (С. 2, 208) Чудесное распространение вокруг версий преступления, выдвигаемых прибывшими на место преступления следователями, – расхожий мотив детективных романов того времени. Остроумное замечание Дюковского, разумеется, нисколько не противоречит его усмешке и потиранию рук, так как именно на беспамятство ссылаются обыкновенно реальные преступники, у которых нет алиби, чтобы хоть как-то попытаться отвести от себе подозрения в виновности. — Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь? Николашка задрал вверх голову и задумался. — Скорей думай! — сказал исправник. — Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги... От этого самого и кровь. 35 Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно. — Alibi, — усмехнулся Дюковский. — И какое дурацкое alibi! (С. 2, 209) То, что Николашка каждый вечер режет кур в разных местах, довершает нарисованную ранее перед читателем картину разбросанных по саду сапогов. Она не вызывает ни умиления перед хозяйственным укладом жизни Кляузова, ни иллюзий по части особого трепета «баринова камердинера» перед своим барином. Замечание Дюковского насчет “alibi” на сей раз сделано серьезно: по крайней мере, возникновение кровавой полосы под окном у Кляузова рассказ Николашки действительно объясняет. — С Акулькой знавался? — Был грех. — А барин у тебя сманил ее? — Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было. Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова. (С. 2, 209) 36 Новая подробность из истории местной «Наны» не оставляет никаких сомнений в том, что со стороны Ефрема на Николашку это был чистый навет из личного недоброжелательства. Ведь если Ефрем опустил это важное и прекрасно ему известное промежуточное звено: переход Акульки из рук Николашки не прямо к Кляузову, а вначале к Псекову – то сделал он это явно намеренно. Синие панталоны Псекова тут же соединяются в пылком воображении Дюковского с этим вновь открывшимся обстоятельством из истории «Наны»-Акульки. Сама же Акулька, вызывая смутные ассоциации с Грушенькой из «Братьев Карамазовых» Достоевского, в то же время предвещает написанную через пару лет чеховскую «Драму на охоте», главная героиня которой Оленька так же будет переходить из рук в руки: от ее мужа, управляющего Урбенина, к следователю Зиновьеву, а от него – к графу Карнееву. — Ступай! — сказал он Николашке. — А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь? — Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем. — А потом? Псеков смутился и встал из-за стола. — Потом... потом... Право, не помню, — забормотал он. — Я много выпил тогда... Не помню, где и когда уснул... Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил! 37 — Где вы проснулись? — Проснулся в людской кухне на печи... Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю... — Вы не волнуйтесь... Акулину вы знали? — Ничего нет тут особенного... — От вас она перешла к Кляузову? — Да... Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич? (С. 2, 209) «Алиби» Псекова оказывается не менее мнимым, чем «алиби» Николашки. Он тоже «не помнит», что делал после ужина с Кляузовым. Его неуместная попытка попотчевать собравшихся гостей, вызванная, конечно же, замешательством, которое последовало за вопросом о его интимных отношениях с Акулиной–«Наной», в этой ситуации выглядит как стремление напомнить о приятельских чувствах к нему со стороны следователя, его помощника, исправника и станового. А ведь в самом начале рассказа становой спокойно выслушивал разнообразные предположения ныне подозреваемого в том числе и им Псекова о том, как было совершено убийство, и пил у него чай. Наступило молчание — тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь. 38 — Нужно будет, — сказал он, — сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний. (С. 2, 209) Все эти пять минут Псеков явно чувствовал себя, по меньшей мере, неуютно: Дюковский, похоже, осуществлял психологическую атаку на управляющего. Быть может, он рассчитывал, что тут-то Псеков во всем и признается. Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела. — Приношу прежде всего извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, — начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. — Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали... Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли... Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением... — Ах, не спрашивайте меня! — сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. — Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего... Что я могу? Ах, нет, нет... ни слова про брата! Умирать буду, не скажу! Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались. 39 — Чёртова баба! — выругался Дюковский, выходя из большого дома. — По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано... Постойте же, черти! Всё разберем! (С. 2, 209-210) Этот эпизод рассказа, кажется, так и остается до конца неясным, даже после того, как мы дочитываем весь текст до конца. Возможно, Марья Ивановна действительно знала, где прятался Кляузов, и тогда подозрения Дюковского совсем не безосновательны. Однако скорее это просто набожная и экзальтированная старая дева, склонная к истеричному поведению. И больше ничего… Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил: — Что Николашка причастен в этом деле, — сказал он, — non dubitandum est1. 1 И по роже его видно, что он за штука... Alibi выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, alibi и Акулька. (С. 2, 210) 1 Нет сомнения (латин.). 40 Эпитет «бледнолицый», употребленный здесь по отношению к луне, должно быть отзвук чтения Чеховым романов Фенимора Купера и других популярных литературных произведений об индейцах. Как нельзя лучше этот эпитет отвечает сюжетной ситуации: следователь и его помощник в сгущающихся сумерках возвращаются домой в шарабане. Дюковский все же не выдерживает молчания, поскольку его переполняет стремление составить полную картину преступления, связав воедино все разрозненные детали, вызвавшие у него подозрения, которые распространяются на самых разных героев рассказа. — Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх, вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, — значит и вы участник в этом деле? — У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но... я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве... Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли... Мстить захотелось. Потом-с... Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью — несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить 41 подушкой; они действуют топором, обухом... Душил кто-то третий, но кто он? (С. 2, 211) О том, что и следователь, и его помощник довольно близко знали Акулину-«Нану», читатель уже догадался. Однако здесь это озвучено самими героями. Характерно, что они не признаются в этом сами, а оба по очереди напоминают о связи с Акулькой своего собеседника. Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя. — Эврика! — сказал он, входя в домик и снимая пальто. — Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий? — Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать! Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал: — Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, — была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне! Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского. — Вы... не тово? Голова у вас... не тово? Не болит? (С. 2, 211) 42 В этом эпизоде у читателя появляется надежда, что «горячке» Дюковского наконец-то нашелся противовес в лице более опытного и хладнокровного Чубикова. Но, увы, скоро эта надежда развеивается: — Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки — хорошо! ладно! — так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник... Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом! — Ну, так что же? — Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста — и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу! (С. 2, 212) 43 В этом эпизоде обращает на себя внимание ссылка Дюковского в пылу спора на Достоевского, у которого, впрочем, о староверах почти нигде не говорится, и на Н.С. Лескова с П.И. Мельникова, писавшего под псевдонимом «Андрей Печерский», которые, хотя о староверах и писали, но об их преступлениях в последнюю очередь. В пылу спора Дюковский пускает в ход любые доводы, мало считаясь с их состоятельностью. Чубиков замотал головой и нахмурился. — Мы и сами умеем трудные дела разбирать, — сказал он. — А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, — вот ваше дело! Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел. — Умница, шельма! — пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. — Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить... (С. 2, 212) Данный эпизод, наконец, проливает свет на подлинный характер отношений Чубикова с его помощником. Постоянно упрекая того в горячности, Чубиков, однако, в глубине души восхищается способностью Дюковского к анализу, его умением тут же дать объяснение любому факту. И, оказывается, Дюковского вовсе в не действительности представляются фантастическими. 44 фантастические Чубикову версии такими уж Так что частые резкие одергивания Дюковского Чубиковым не лишены профессиональной ревности. А решение сделать ему подарок показывает, что несмотря на эти одергивания, он отнюдь не намерен серьезно ссориься со своим младшим vis-à-vis. Кто знает, какую стремительную карьеру Дюковский может еще сделать!.. На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание. — Был я выпимши, — сказал он. — До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я... глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» — крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли! В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок. (С. 2, 212-213) Роковым для Псекова и Николашки оказывается показание пастуха Данилки. Достаточно простого совпадения: по плотине шли два человека, чтобы оба они: и Псеков, и Николашка – оказались за решеткой. Ну, а спросить у Данилки, куда же делось это «что-то черное», или поискать его самим, следователи, конечно же, не удосужились. J 45 Молодой и горячий Дюковский все-таки «доехал» Чубикова, и тот капитулировал. 46 Глава третья РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПОИСКИ УБИЙЦЫ ПО ЧЕХОВУ «Шведская спичка». Продолжение следует Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Чехов. Шведская спичка Вторая главка рассказа, отделенная от первой временным промежутком, который обозначен, конечно же, не простой, а значимой цифрой («двенадцать»!), знаменует новый этап следственных действий Чубикова и Дюковского. II Прошло двенадцать дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. — Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. — Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли? 47 — Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится както... Улик настоящих нет, а всё какая-то философия... Фанатизм, то да се... — А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное... Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить. (С. 2, 213) Как мы видим, Дюковский не останавливается на достигнутом. В созданную в своем воображении картину коллективного убийства Кляузова он сам уже верит как в непреложный факт. Чубиков пытается сопротивляться, ощущая, что Дюковский приводит не столько улики, сколько мотивы для убийства, да и то сомнительные и, главное, не доказывающие сам факт убийства Кляузова Николашкой, Псековым и Марьей Ивановной. Тем более, что – на минуточку – тела ведь по-прежнему нет как нет, и, значит, даже то, что Кляузов вообще мертв, совсем пока еще не факт. Как ни комичен чеховский рассказ, его автор походя напоминает читателю о том, как легко следователи могут, сами того не желая, перепутать гипотезы с фактами. — О чем это вы? 48 — Про шведскую спичку-с... Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать... — Ну, ладно, садитесь... Давайте допрос делать. (С. 2, 213) Дюковский снова возвращается к чему-то реальному, найденному им на месте преступления. Однако не просто для того, чтобы выяснить, отуда в доме Кляузова взялась шведская спичка, а с уже готовой версией. Ее, якобы, держала в руках Марья Ивановна, а, значит, и она принимала участие в убийстве Кляузова. Конечно же, Марья Ивановна! Кто же другой?.. J Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги. — Ввести Николая Тетехова! — крикнул следователь. Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал. — Тетехов! — начал Чубиков. — В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму... Нам всё известно... На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели. 49 (С. 2, 213) Уже фамилия Николашки, впервые здесь озвученная, «обещает» нам такое поведение подозреваемого, которое тот и в самом деле демонстрирует. Тем более что для этого, судя по всему, довольно простодушного человека, сюрпризом является даже существование судебных протоколов о ранее совершенных им мелких преступлениях. — Ввести Псекова! — приказал следователь. Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия. — Садитесь, Псеков, — сказал Чубиков. — Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам... (С. 2, 214) Речь Чубикова – образец самых расхожих «следовательских» ловушек. Само собой, разумеется, «завтра» на самом деле ничего «поздно» не будет. К тому же она противоречит тому, что до этого Чубиков говорил Дюковскому. 50 Реплика «улик настоящих нет» в разговоре с младшим коллегой неожиданно превращается во «всю массу улик, говорящих против вас» в разговоре с подозреваемым. — Ничего я не знаю... И улик ваших не знаю, — прошептал Псеков. — Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду, Но далее... Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его... Перенесли через плетень... Потом пошли по дороге... Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами? Псеков, бледный, как полотно, поднялся и зашатался. 51 — Мне душно! — сказал он. — Хорошо... пусть... Только я выйду... пожалуйста. Псекова вывели. — Наконец-таки сознался! — сладко потянулся Чубиков. — Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал... (С. 2, 214-215) Как мы видим, допрашивая Псекова, Чубиков в основном рисует картину, созданную фантастическим воображением Дюковского. При этом он вставляет в нее собственные детали, вроде того, что труп «вытащили через окно». Поведение Псекова вполне объясняется его внутренним состоянием, которое легко читается во всем его внешнем облике. Двенадцать дней содержания под стражей в качестве подозреваемого в убийстве не прошли для него бесследно. Видя, что следователи не только не отказываются, но все более укрепляются в своих подозрениях, Псеков испытывает приступ удушья. Однако те толкуют его реакцию в выгодном для себя ключе – как признание: — И женщину в черном не отрицает! — засмеялся Дюковский. — Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду. Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает... 52 — Жила я только с вами, а больше ни с кем! — сказала она. (С. 2, 215) Акулина ведет себя, как настоящая Нана. Нет никаких сомнений, что каждому из своих многочисленных любовников она, божась, скажет, что тот был у нее единственным. Тем более следователю. Вот с кого надо было бы брать пример Николашке и Псекову. В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости. — Veni, vidi, vici!1 — сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. — Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, чёрт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое... не так ли? Я нашел четвертого или, вернее — четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но... слушайте... Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет... Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то... «Пондравилось ей... пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что 53 может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф... Ну, едем! (С. 2, 215-216) Сознание собственной «гениальности», переполняющее Дюковского, сказывается и в некоторой бесцеремонности, с которой он теперь обращается с Чубиковым («Слушайте, черт вас возьми совсем!..»). Кроме того, оказывается, что Дюковский не только горяч, но и влюбчив. Однако же то, насколько сильно его влечет к себе подозреваемая, нисколько не останавливает помощника следователя в том, чтобы без всяких колебаний и как можно скорее включить и ее в создавшуюся в его воображении «преступную группу», лишившую жизни несчастного Кляузова. Из этого его собственного пылкого монолога мы, наконец, узнаем биографию Дюковского. Оказывается, это всего лишь семинарист, не кончивший семинарии, и ставший следователем под влиянием детективных романов одного из отцов этого жанра в Европе – Эмиля Габорио. Вот и ключ к рассказу. Как мы увидим из следующей главы, Чехов и сам не так уж плохо знал романы Габорио. Правда, в отличие от Дюковского, он ими не восхищался, а относился к ним иронически. — Куда это? — К ней, к четвертой... Поспешить нужно, иначе... иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего 54 станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна — вот кто! Она купила ту коробку спичек! — Вы... ты... вы... с ума сошел? (С. 2, 216) Поскольку речь идет жене станового, то есть одного из участников расследования, Чубиков на сей раз не только не торопится согласиться с Дюковским, но впадает в такой ступор, что даже начинает заикаться и оговариваться. Когда ранее Дюковский доказывал, что в убийстве Кляузова участвовала также его сестра Марья Ивановна, Чубиков спросил у него: « – Вы… не тово? Голова у вас… не тово: Не болит?» (С. 2, 211). На этот раз он склонен допустить даже умопомешательство Дюковского. Причем от неожиданности начинает обращаться к нему то на «вы», то на «ты». В имени и отчестве станового «Евграф Кузьмич», возможно, есть тень пародии на легенду об Александре I, якобы отнюдь не скончавшемся, а удалившемся на покой в монастырь под именем Федора Кузьмича. На мотивы этой легенды впоследствии Л.Н.Толстым была написана повесть «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» (впервые опубликована в 1912 году). — Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она 55 клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте... Скорее, а то уже темнеет... Поедемте! — Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину! (С. 2, 216) На сей раз Дюковский рассуждает, в принципе, достаточно правдоподобно, опираясь при этом на действительные факты отношений Кляузова с Акулькой и Ольгой Петровной. Однако он по-прежнему пытается объяснить убийство, нимало не заботясь тем обстоятельством, что тела убитого так пока что никто и не видел. — Благородная, честная... Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас! Следователь махнул рукой и плюнул. — Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни! Дюковский стал на колени. — Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик! Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе. 56 — Ну, чёрт с тобой! — сказал он. — Едем. (С. 2, 216) Войдя во вкус и ведомый своей «гениальностью», Дюковский начинает бранить Чубикова на манер гончаровского Штольца, пенявшего Обломову его «халатом». Однао поскольку это не возымело действия, Дюковский становится на колени перед Чубиковым. Чашу весов в пользу решения Чубикова послушаться Дюковского, по-видимому, окончательно склоняют красочные картины роста следователя по служебной лестнице и его всероссийской славы, нарисованные перед ним Дюковским. При этом Дюковский снова переходит к брани по отношению к Чубикову («неразумный старик»). Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового. — Какие мы свиньи! — сказал Чубиков, берясь за звонок. — Беспокоим людей. — Ничего, ничего... Не робейте... Скажем, что у нас рессора лопнула. Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна. — Ах... очень приятно! — сказала она, улыбаясь во всё лицо. — Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома... У попа засиделся... Но мы и без него обойдемся... Садитесь! Вы это со следствия?.. 57 (С. 2, 217) Учитывая возраст и красоту героини, читатель начинает понимать, отчего при живом муже, «старце» Евграфе Кузьмиче, она могла интересоваться отставным «корнетом Кляузовым». Тем более, что Евграф Кузьмич, судя по всему, нередко отсутствовал дома, а чем занимался по вечерам «у попа», догадаться не так уж трудно… — Да-с... У нас, знаете ли, рессора лопнула, — начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло. — Вы сразу... ошеломите! — шепнул ему Дюковский. — Ошеломите! — Рессора... Мм... да... Взяли и заехали. — Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете! — Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! — пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. — Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай! (С. 2, 217) Этот диалог лишний раз прекрасно подчеркивает разницу в темпераментах между молодым и пожилым чеховскими «Порфириями Петровичами». — Да, рессора... — начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. — Мы заехали не для того, чтобы... эээ... ужинать и не к 58 Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили? — Что? Какой Марк Иваныч? — залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. — Я... не понимаю. — Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам всё известно! — Через кого? — спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского. — Извольте указать нам — где он!? — Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал? — Нам всё известно-с! Я требую именем закона! (С. 2, 217) Судя по всему, Ольга Петровна схватывает сказанное далеко не на лету. Услышав имя Кляузова, она краснеет от стыда за адюльтер, а обвинение в убийстве до нее, судя по всему, даже не доходит. Под стать этому Чехов начинает называть ее уже не «Ольгой Петровной», а «становихой». Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал: — Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы... — На что он вам? — К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены... Да, он убит и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас! 59 Становиха побледнела. (С. 2, 217-218) Так и остается неясным, доходит ли до Ольги Петровны смысл выдвигаемых против нее обвинений. Похоже, она настолько изумлена тем, что ее тайна (то, что она прячет любовника на своем собственном дворе, в бане) раскрыта, что все остальное пока вообще не воспринимает. — Пойдемте, — сказала она тихо, ломая руки. — Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет. Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями — маленький домик с покривившеюся трубой. — Это баня, — сказала становиха. — Но умоляю вас, не говорите никому! (С. 2, 218) Фразу «становихи»: «Он у меня в бане спрятан» – Дюковский понимают, конечно же, по-своему. Они полагают, что речь идет о трупе. 60 Чубиков и Двусмысленность этой фразы порождает замечательный комический эффект. Ее последующее упоминание в этом контексте «мужа», должно быть, кажется этим героям совершенной абракадаброй. Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок. — Приготовьте огарок и спички! — шепнул следователь своему помощнику. Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса. — Дальше! (С. 2, 218) Чубиков и Дюковский входят в баню как в усыпальницу, поэтому стол с самоваром и супником, конечно же, не соответствует их ожиданиям. Однако охваченные нетерпением увидеть, наконец, столь долгожданный труп, они ни на что не обращают внимания. Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки. — Но где же... этот? Где убитый? — спросил следователь. 61 — Он на верхней полочке! — прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая. Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп... (С. 2, 218) Еще один стол, на этот раз с выпивкой и с закуской, еще более настраивает читателя на игривый лад. Однако фраза Ольги Петровны: «Он на верхней полочке» намеренно выстроена Чеховым таким образом, чтобы, как бы нейтрализуя эту игривость, произвести на читателя жуткое впечатление, которое только поддерживает внутреннее состояние самой «становихи». Аналогичным образом «длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно…» могло бы быть и трупом. Однако «легкий храп» окончательно убеждает «проницательного читателя» в том, что концовка приуготовляется эпикурейская и комическая. И только следователи пока еще ни о чем не догадываются и ничего не понимают. — Нас морочат, чёрт возьми! — закричал Дюковский. — Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, чёрт вас возьми? Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. 62 — Кто это лезет? — спросил охрипший, тяжелый бас. — Тебе что нужно? (С. 2, 218-219) Движения и жесты описываемого здесь человеческого тела окончательно уничтожают какие-либо «макабрные» коннотации слов повествователя. И рассказ окончательно и уже бесповоротно переключается в комический регистр. Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова. — Вы... Марк... Иваныч?! Не может быть! Следователь взглянул наверх и замер... — Это я, да... А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами? (С. 2, 219) Первые же фразы Кляузова: «Какого дьявола…», «что еще за рожа» – составляют яркую речевую характеристику героя. Его речевой код не оставляет сомнений в том, что мы имеем дело с уже немолодым кутилой и бонвиваном. 63 А деталь: «черные, как смоль, усы, из которых один был ухарски закручен» – вполне объясняет, чем же так прельстил Кляузов «становиху». Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. — Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти-то-том... Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем! Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки. (С. 2, 219) То, что, не дожидаясь ответа на свои вопросы, Кляузов разливает водку по рюмкам, недвусмысленно показывает читателю, что для этого героя главное. А остальное ему в общем, по его собственному выражению, «все равно». — То есть, я тебя не понимаю, — сказал следователь, разводя руками. — Ты это или не ты? — Будет тебе... Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту... Чего смотрите? Пейте! (С. 2, 219) 64 В этом пассаже Кляузов пытается процитировать что-то из классической поэзии. Но судя по всему, он мало что помнит, как следует. Его слова, обращенные к «юноше Дюковскому», еще могут восприниматься как парафраза одновременно зачина известного стихотворения Катулла в переводе Пушкина: Пьяной горечью Фалерна Чашу мне наполни, мальчик… – и еще чего-то анакреонтического. Однако на второй фразе Кляузов окончательно сбивается, не договорив, судя по всему, слова «молодость». Очевидно, его смущает изумленный вид Дюковского и Чубикова. Скорее всего он хотел процитировать что-то из лампистских посланий Пушкина или его же переводов из Анакреона. Но вместо чего-нибудь вроде пушкинского «Мы уж утратим юность нашу Вместе с жизнью дорогой» Кляузов проговаривает что-то гораздо более расхожее и плоское. — Все-таки я не могу понять, — сказал следователь, машинально выпивая водку. — Зачем ты здесь? — Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо? Кляузов выпил и закусил ветчиной. — Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником... Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда... Уж надоело... 65 (С. 2, 219) Сравнение себя с «домовым», возможно, тоже дальний отзвук знакомства Кляузова – самого поверхностного, разумеется – с поэзией; о «домовом» нередко заходит речь в некоторых стихотворениях и поэмах Пушкина. Последние реплики Кляузова не оставляют сомнений в том, что если со стороны Ольги Петровны может иметь место сколько-нибудь серьезное увлечение, то для него это очередная связь из безчисленного множества других. В особенности замечательна в этом ряду фраза «Питаюсь». Она заставляет предполагать, что не только замечательная стать героини, но и ее кулинарные способности окончательно склонили Кляузова на это «приключение». Впрочем, свет на всю эту историю тут же проливает следующий ниже диалог, объясняющий Дюковскому местонахождение в саду сапога Кляузова. — Непостижимо! — сказал Дюковский. — Что же тут непостижимого? — Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад? — Какой сапог? — Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду. — А вам для чего это знать? Не ваше дело... Да пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим 66 сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе... Она приходит под окно и начинает ругаться... Знаешь, как бабы... вообще... Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом... Ха-ха... Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь... Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты? (С. 2, 219-220) Повторенная фраза Кляузова «питаюсь», а также его простодушная формула гедонистического существования: «любовь, водка и закуска» – в другой раз могли бы повеселить Чубикова и Дюковского, как веселят они читателя. Но сейчас обоим им яано не до смеха! L Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву». — Дела-то какие на белом свете! — сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. — Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом... Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся. 67 — Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, — а тебе... во веки веков не забуду! — Но... шведская спичка ведь! Мог ли я знать! — Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было! Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. — Пойду запью! — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. (С. 2, 220) Ни в чем не повинный доктор Тютюев со своим пресловутым помешательством на политике на сей раз попадает Чубикову под горячую руку. Однако то, как он обругал доктора, не идет ни в какое сравнение с гневной отповедью его Дюковскому. К полному и неожиданному разочарованию Дюковского, Лекока – сыщика из романов Габорио – из него не вышло. Собственно говоря, он мог бы до такой степени не убиваться. Ведь в конце концов «улика», обнаруженная им на месте преступления, помогла пролить свет на тайну этого «преступления». Правда, ни трупа, ни «преступления» на поверку не оказалось… J Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. — Зачем следователь приезжал? — спросил муж. 68 — Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены! — Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! — вздохнул становой, поднимая вверх глаза. — Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, — не слушался! (С. 2, 221) Конец поистине делу венец. Читатель отдает должное находчивости «становихи» и не перестает поражаться доверчивости мужей. Текст оказывается искусно закольцован Чеховым. Рассказ заканчивается такими же ламентациями станового по поводу «распутства» Кляузова, которые звучали в самом его начале. Однако теперь фраза станового звучит иначе. Из назидательной реплики постороннего она превращается в простодушную попытку отвлеченного морального суда потерпевшего, который сам даже не подозревает, что является таковым… J 69 Глава четвертая ЧЕХОВСКАЯ «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» В КОНТЕКСТЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ РОМАНОВ ЭМИЛЯ ГАБОРИО Если мы перечитаем хотя бы несколько романов Эмиля Габорио, то без труда обнаружим, что рассказ Чехова «Шведская спичка» написан как будто по сценарию некоторых из них. С той только разницей, что обычные детали «полицейского романа»: обнаружение и известие о преступлении, прибытие полицейских и сыщиков и разговоры их между собой, осмотр места преступления и трупа, шум среди местных жителей, вызванный слухами об убийстве, и т. п. – не воспроизводятся в нем прямо, а предстают в гиперболически преображенном, трансформированном виде. Так, например, дебютный роман Габорио «Дело вдовы Леруж» (L’Affaire Lerouge), впервые опубликованный в журнале в 1863 году, начинается так: В четверг 6 марта 1862 года, на второй день великого поста, в полицию Буживаля явились пять женщин из деревни Ла-Жоншер. Они заявили, что их соседку, вдову Леруж, одиноко живущую в домике на отшибе, вот уже два дня никто не видел. Несколько раз к ней стучались, но тщетно. Внутрь не заглянуть – дверь заперта, окна плотно закрыты ставнями. Заподозрив несчастный случай, а то и преступление, они попросили, чтобы 70 представители закона ради успокоения соседей соблаговолили взломать дверь и проникнуть в жилище вдовы. 15 У Чехова «в канцелярию станового пристава» (С. 2, 201) приходит только управляющий Кляузова Псеков – у Габорио «в полицию Буживаля» является целая манифестация из женщин. Впрочем, это различие мало о чем говорит. А вот дальше идут уже расхождения значимые: «Женщины из деревни Ла-Жоншер» заподозрили неладное после того, как вдову Леруж «вот уже два дня никто не видел». Обитатели Кляузовки спохватываются только после того, как Кляузов «не выходит из спальни» «целую неделю» (С. 2, 202). Впрочем, единственный, кто обращает на это внимание, – садовник Ефрем. Ни у управляющего Кляузова, ни у кого-либо другого исчезновение барина не вызывает ни малейшего беспокойства. У Габорио «внутрь не заглянуть – дверь заперта, окна плотно закрыты ставнями» (Леруж, с. 25), и потому комиссар полиции велит слесарю – даже не взломать дверь, а открыть ее с помощью отмычки. Впрочем, и это оказывается ненужным, так как дети замечают «в придорожный канаве огромный ключ», который подходит к двери жилища мадам Леруж. Между прочим, здесь мы имеем дело с важным элементом детективного романа, который будет в истории этого литературного жанра разрабатываться самым различным образом, от Эдгара По до Жоржа Сименона. Это так называемая «загадка закрытой комнаты». 16 71 Иногда с этой загадкой в детективных произведениях связана тайна совершения преступления, иногда – загадка исчезновения преступника. Так, например, в известном романе Гастона Леру «Тайна желтой комнаты» (1907) убийце каждый раз удается уйти с места преступления, несмотря на то, что у двери, в которой находится жертва, все время кто-то есть. Несмотря на то, что знакомство Леру с романом Чехова маловероятно, в какой-то степени эта книга – развитие художественных потенций «Драмы на охоте». Как и чеховский детектив, роман Леру также представляет собой одновременно и детектив, и пародию на него, причем пародию на Конан Дойла. У Чехова, в его «закрытой комнате» «угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню», однако этого никто не сделал. Жители Кляузовки – от страха (вспомним реплику садовника Ефрема: «Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!»), а прибывший становой – от того, что в ожидании исправника, урядника и следователя предпочел напиться чаю у управляющего Псекова, заявившего ему о преступлении. Когда же те, наконец, являются, то «приступлено было ко взлому», который, как выяснилось вскоре, был совершенно ни к чему, поскольку окно «не было заперто» (С. 2, 204). У Габорио известие о преступлении собрало немалую толпу: 72 Комиссар полиции остановился. По пути его свита изрядно пополнилась за счет окрестных ротозеев и бездельников. Окружало его уже человек сорок. (Леруж, с. 26) У Чехова, судя по всему, народу собирается еще больше: Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весь о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздичному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. (С. 2, 201) Кое-какие соответствия или расхождения между двумя этими произведениями мало значимы и поэтому вряд ли стоит на них останавливаться. Например, комиссар полиции «сначала отказывался выполнить просьбу женщин», зато потом отправился за ними, «вызвав бригадира жандармерии с двумя жандармами и прихватив слесаря» (Леруж, с. 25). Чеховский становой сразу отправляется с управляющим Кляузова Псековым, но за исправником, урядником и следователем посылает уже из Кляузовки. При этом в ожидании их он, как мы помним, отправляется пить чай к Псекову. 73 Это несколько напоминает если не поведение комиссара в «Деле вдовы Леруж» (тот все же составил протокол и записал свидетельские показания), то его отношение к делу: Комиссар, начавший уже тяготиться ответственностью, встретил следователя и двух полицейских как избавителей. (Леруж, с. 31). В обоих произведениях полиция расставляет охрану у места преступления (ср.: Леруж, с. 26 и С. 2, 202). Что же касается других значимых расхождений, то, разумеется, обращает на себя внимание следующее: если у Габорио преступление совершено в деревне Ла-Жоншер, неподалеку от известного пригорода Парижа Буживаля (в котором, заметим кстати, немного позднее будут жить Полина Виардо со своей семьей, а также Тургенев), то у Чехова оно происходит в имении Кляузова – Кляузовке. У Габорио с самого начала все полны самых мрачных предчувствий: Ключ подошел. Комиссар и слесарь переглянулись, полные самых мрачных предчувствий. – Худо дело, - проворчал бригадир, и они вошли в дом. У калитки, с трудом сдерживаемая жандармами, волновалась толпа; люди вытягивали шеи, влезали на стену, только бы хоть чтонибудь увидеть. Заподозрившие преступление, к несчастью, не ошиблись: едва ступив на порог, комиссар в этом убедился. Первая комната мрачно и 74 красноречиво свидетельствовала о том, что в ней побывали злоумышленники. Комод и два сундука были взломаны и разворочены. (Леруж, c. 26) У Чехова следователь с самого начала преисполнен самых гневных чувств в отношении преступников (которых в результате не оказывается): Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел. – Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки. (С. 3, 203) Впрочем, у Габорио комиссар полиции также восклицает: – Ох, негодяи! – пробормотал бригадир. – Не могли просто ограбить, обязательно нужно было убить! (Леруж, с. 27) – но это происходит не с бухты-барахты, а только когда он видит труп вдовы Леруж. У Чехова никакого трупа пока еще нет. Однако Чубиков с самого начала нахмуривается, краснеет, сжимает кулаки и ругает каких-то ведомых ему одному «мерзавцев». Впечатление такое, что не только Дюковский, но и Чубиков начитался романов Габорио. У Габорио комиссар и бригадир с самого начал слегка препираются: – Но куда же ее ударили? – спросил комиссар. – Я не вижу крови. 75 – Сюда, господин комиссар, между лопаток, - ответил жандарм. – Какие две раны, черт побери! Клянусь моими нашивками, она и охнуть не успела. Он нагнулся и притронулся к телу. – Да она совсем холодная! Окоченение, похоже, уже проходит – видимо, убийство произошло около двух суток назад. Комиссар, кое-как пристроившись на краешке стола, писал протокол осмотра места преступления. – Нужно не разглагольствовать, а искать виновных, – заметил он бригадиру. (Леруж, с. 27) Однако это замечание комиссара бригадиру у Габорио не идет ни в какое сравнение с бурной и постоянной перебранкой между чеховскими Чубиковым и Дюковским: – А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский. – Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол. (С. 2, 203), – Ах… замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели! <...> – Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбуто искать, вы бы лучше… <...> – Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили? <...> 76 – Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться… Это я и без вас сделаю. (С. 2, 204) Характер отношений между Чубиковым и Дюковским вообще воспроизводит довольно расхожее представление о соперничестве между следователем и его помощником. Аналогичную пару героев находим и в «Деле вдовы Леруж» Габорио: Начальником уголовной полиции в ту пору был прославленный Жевроль, которому еще предстоит сыгртать важную роль в драме наших героев. Человек он был несомненно способный, однако ему недоставало настойчивости, а кроме того, его частенько ослепляло невероятное упрямство. <…> Помощником Жевроля в ту пору был ставший на праведный путь бывший правонарушитель – великий пройдоха и весьма искусный в сыскном деле молодчик, к тому же люто завидовавший начальнику полиции, которого он считал посредственностью. Звали его Лекок. (Леруж, с. 31) Общаются между собой Жевроль и Лекок несколько напоминающим чеховских героев образом: – Черт побери! – вполголоса произнес Лекок. – А почему не позвали вы папашу Загоню-в-угол? – Ну и чем бы он нам помог? – возразил Жевроль, бросив на подчиненного неприязненный взгляд. 77 Лекок молча опустил голову, радуясь про себя, что задел начальника за живое. (Леруж, с. 34) И, безусловно, напоминает Дюковского сам этот Загоню-в-угол – папаша Табаре. Хотя он занимается полицейским сыском, не служа непосредственно в полиции, но делает это с таким энтузиазмом, который в полной мере присущ и чеховскому Дюковскому: Глазки у папаши Табаре разгорелись и сверкали, словно карбункулы. Лицо светилось от внутреннего ликования; казалось, оно лучится каждой морщинкой. Он выпрямился и стремительно ринулся во вторую комнату. Пробыв там около получаса, он также бегом вылетел обратно. (Леруж, с. 41) Впрочем, сходная черта присуща и другому следователю из этого романа – Дабюрону: Он не давал себе отдыха вплоть до дня, когда обвиняемый склонит голову перед уликами. Товарищ прокурора, смеясь, даже упрекал его, что он ищет не столько преступников. (Леруж, с. 30) Другая же его черта присутствует, напротив, в образе Чубикова: В прокуратуре о г-не Дабюроне отзывались: «Трусоват». А вск дело в том, что при одном воспоминании об известных судебных ошибках волосы у него вставали дыбом. Ему нужны были не внутренняя 78 убежденность, не предположения, пускай самые правдоподобные, а только самые непреложные доказательства, сколько невиновных. (Леруж, с. 30) Скажем a propos, что только в последующих романах Габорио главным его героем становится Лекок, который в «Деле вдовы Леруж» хотя и присутствует, но играет второстепенную роль. Как и герои «Шведской спички», полицейские в «Деле вдовы Леруж» склонны к игре воображения и скоропалительным выводам. Впрочем, когда одни из них их выдвигают, другие тут же безапеляционно эти выводы оспаривают, как это иногда происходит между Дюковским и Чубиковым: – Ого! Бедняжка стряпала, когда ей нанесли удар. Сковорода, ветчина, яйца – все на полу. Мерзавец не дождался ужина. Он, видите ли, торопился и убил натощак. Да, оправдаться тем, что за столом он выпил лишнюю рюмку, ему не удастся. – Все ясно, – обратился комиссар полиции к следователю. – Убийство совершено с целью ограбления. – Надо думать, – насмешливо ответил Жевроль. – Именно поэтому на столе и нет никакого серебра. – Глядте-ка, в этом ящике золотые монеты! – воскликнул Лекок, который тоже шарил по всем углам комнаты. – Целых триста франков. (Леруж, с. 33), – Ну что ж! – воскликнул начальник полиции. – Я знаю, где следует искать. 79 – В самом деле? – промолвил г-н Дабюрон. – Черт возьми, да это же яснее ясного. Нужно найти высокого брюнета в блузе. Водка и вино предназначались ему. Вдова ждала его к ужину. Вот он и пришел, любезный воздыхатель. – Однако, – осторожно вмешался явно несогласный с ним бригадир, она ведь была нехороша собой и довольно стара. Жевроль с насмешкой взглянул на четсного жандарма. – Да будет вам известно, бригадир, – сказал он, – что женщина при деньгах молода и мила всегда, когда ей это нужно. (Леруж, с. 31-32), Когда же выясняется, что они ошибаются, то, как и чеховские Дюковский и Чубиков, быстро находят себе оправдание и упорствуют в своей ошибке: – Вот те на! – протянул несколько сбитый с толку Жевроль, но быстро оправился от удивления и продолжал: – Он про них забыл. Иной раз и не такое случается. Я сам однажды видел преступника, который, совершивв убийство, настолько потерял голову, что забыл, зачем пришел, и убежал, так ничего и не взяв. Вероятно, наш молодчик разволновался. А, может, ему помешали? Кто-то мог, например, постучать в дверь… (Леруж, с. 33) Герои «Шведской спички», чеховские следователь и его помощник, не раз поражаются тому, как известия о преступлении и даже о версиях следствия тут же просачиваются к публике: 80 — Где барин? — спросил его Чубиков. — Убили, ваше высокоблагородие. Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. — Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где? — Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали. — Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне... Скверно. (С. 2, 208). Это же явление не раз подчеркиватся и в «Деле вдовы Леруж»: Короче, никто ничего не знал, и тем не менее все все знали. Пусть, встречающийся кто пожелает, феномен: попытается совершено объяснить преступление, часто приeзжают представители правосудия, окружив себя ореолом тайны; полиция еще почти ничего не знает, однако по городу уже кружат совершенно точные сведения. (Леруж, с. 221-222) Между прочим, как и роман Габорио, рассказ Чехова заканчивается глубоким разочарованием Дюковского в своих способностях как следователя и его намерением запить. Ср. совершенно иной, но типологически сходный финал «Дела вдовы Леруж»: Один лишь папаша Табаре ничего не забыл. Он долго верил в непогрешимость правосудия, зато теперь повсюду видит одни судебные ошибки. 81 Бывший сыщик-любитель усомнился даже в самом существовании преступления и, кроме того, утверждает, что свидетельство органов чувств ничего не доказывает. (Леруж, с. 337) Прочие особенности сюжета и образов «Шведской спички» могли быть навеяны другим романом Габорио – «Преступление в Орсивале» (Le Crime d’Orsival), также, как и «Дело вдовы Леруж», опубликованным отдельным изданием в 1866 году. «Шведскую спичку» напоминает одна существенная особенность его детективной фабулы: несмотря на то, что совершенное преступление имеет все признаки убийства супружеской четы – графа и графини, тело графа не ни сразу, ни позднее так и остается необнаруженным. Читателю чеховского рассказа крепко врезается в память, что становой, исправник, урядник и следователи не так уж торопятся приступить к следствию и при малейшей возможности прерываются на завтрак или чаепитие. Совсем не то герои «Преступления в Орсивале»: Было уже около трех. Папаша Планта заметил, что никто, вероятно, с самого утра не ел. И если все согласны продолжать расследование до ночи, не разумно ли будет наскоро перекусить? 82 Напоминание о столь низменных потребностях, присущих жалкому человеческому роду, крайне оскорбило чувствительную натуру мэра и более того – унизило его как человека и должностное лицо. Но поскольку все согласились с папашей Планта, г-н Куртуа решил последовать общему примеру. Однако, бог весть почему, у него совсем не было аппетита. И вот судебный следователь, мировой судья, доктор Жандрон и мэр уселись за стол, на котором еще не высохло пролитое убийцами вино, и принялись за наспех приготовленную трапезу. (Орсиваль, с. 39). Так же забывает о еде и Лекок, который в этом романе Габорио уже на первом плане: – Я как раз хотел попросить позволения откланяться, - откликнулся г-н Лекок. – У меня с утра маковой росинки во рту не было. (Орсиваль, с. 77) Надо отдать должное сыщикам, расследовавшим преступление в Орсивале, и прежде всего главному из них – папаше Планта. Они совсем не торопятся с выводами о том, что преступление вообще совершено: – Ну, хватит. Прежде чем продолжать допрос, неплохо б посмотреть, что за преступление совершено, и совершено ли оно. Пока мы не имеем никаких доказательств этого. 17 Впрочем, этого нельзя сказать обо всех из них: – Я знаю, в чем дело! – воскликнул мэр. – Я догадался! Нашли тело графа. 83 Почтенный мэр ошибся. (Орсиваль, с. 29-30), Тело графа между тем до сих пор не нашли, хотя парк прочесали самым тщательным образом – обыскали все заросли, не пропустили ни единого кустика. – Его бросили в воду, – высказал предположение мэр. (Орсиваль, с. 39). Что касается этой стороны полицейского романа Габорио, то загадка открывается самым расхожим для этого жанра образом: граф, как в конце концов выясняется, вовсе не убит – он сам убийца. Причем Лекок довольно рано начинает догадываться об этом: – А сейчас, да еще при уверенности, что целью поисков могли быть не только ценности, я весьма близок к тому, чтобы поверить: преступником является тот, чей труп безуспешно разыскивают, то есть граф Эктор де Треморель. В самой «Шведской спичке» такой остроумный ход развития сюжета не был и не мог быть реализован, учитывая пародийную природу этого произведения. Однако вспомним, что даже не предполагаемая жертва, а сам следователь оказывается в конце концов преступником в чеховской «Драме на охоте»! – И все же какой олух, какой болван! – воскликнул Лекок. – Ему и в голову не пришло, что странное совпадение между исчезновением его трупа и самоубийством мадемуазель Лоранс неизбежно привлечет 84 свидание. Трупы так просто не пропадают. Но высокродный граф решил: «Все поверят, что меня убили вместе с женой, а у правосудия будет преступник Гепен, так что особенно копаться в деле власти не станут». (Орсиваль, с. 103, 239). Чехов как бы идет вслед за своим первоисточником с той разницей, что заходит еще дальше: Кляузов (как, впрочем, и никто другой) вовсе не убит. То есть никакого преступления и не было. «Шведская спичка» Чехова – великолепная пародия на полицейский роман, один из героев которой, незадачливый помощник следователя Дюковский, «начитался Габорио». – писал в свое время исследователь В.Балахонов. 18 Но только ли пародия? Ощущая, что даже у молодого Чехова не все так однозначно, другие исследователи усматривают в рассказе некую двойственность: … Чехов воспроизводит схему детектива и пародирует ее. Впрочем, пародия здесь не самоцель. Пафос чеховского рассказа в утверждении сложной и многообразной действительности, которая не укладываемся в рамки любых стереотипов. Чехов персонифицирует беллетристический (детективный) стереотип в лице Дюковского, читателя и любителя криминальных романов, но бытовой материал рассказа явно избыточен с точки зрени только лишь целей пародии. 19 85 И не случайно самый комизм «Шведской спички» построен на некоторых элементах, которые составляют одни из основных моментов поэтики и одновременно «внутренней темы» зрелого Чехова. Как отмечала Э.А.Карелина, Герои «Шведской спички» совершенно не слышат друг друга, не понимают друг друга, и это особым образом организует сюжет, позволяет действию двигаться к своей чудовищно смехотворной развязке. <…> Однако возможность утверждения в действительности фантастического на правах реального, эта возможность проистекает из-за очень точно подмеченного психологического явления – способности людей слышать то, что они хотят слышать, и оставаться глухими к тому, что слышать не хочется, невозможно, нельзя, страшно и т.д. 20 В самом деле, знаменитые чеховские провалы коммуникации, составляющие одну из основных особенностей полилога в его пьесах, в полной мере представлены уже в «Шведской спичке». Только теперь, проделав это «литературоведческое расследование», мы можем оценить весь блеск и тщательность этой пародии, и одновременно несводимость рассказа только к этой его стороне. 86 Глава пятая НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУССКОМ «УГОЛОВНОМ РОМАНЕ» Как мы видели выше, чеховская «Шведская спичка» действительно во многом следует сценарию «полицейского романа» Эмиля Габорио, но взрывает его пародией. Собственно говоря, если мы зададимся вопросом о том, что именно пародируется в «Шведской спичке», то это скорее всего и будет «структура детективного жанра»: В чеховском рассказе воспроизводится структура детективного жанра; раскрытие преступления является основной темой. Однако все это направлено на создание пародии, причем пародии не на какой-то конкретный детектив. На наш взгляд, в этом рассказе пародируется структура детективного жанра. 21 Еще более сложно обстоит дело с написанным в 1885-1886 годах романом Чехова «Драма на охоте», в самом тексте которого то и дело звучат уже имена не только Габорио, но и «русского Габорио» – Александра Шкляревского. Первый раз это происходит еще в предисловии к «рукописи» Камышева «Драма на охоте (Из записок судебного следователя)». Именно так озаглавлена явно автобиографическая повесть посетителя редакции газеты, «бывшего судебного следователя» (С. 3, 243) Ивана Петровича Камышева, который вывел в этой повести самого себя под именем «Сергей Петрович Зиновьев» (С. 3, 256). 87 И вот как сам Камышев характеризует свою повесть в разговоре с редактором, предлагая ее к публикации: — Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но... в ней вы найдете быль, правду... Всё, что в ней изображено, всё от крышки до крышки происходило на моих глазах... Я был и очевидцем и даже действующим лицом. В ответ на это редактор говорит ему: – Дело не в правде... Не нужно непременно видеть, чтоб описать... Это не важно. Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. (С. 3, 244) В другой раз имя Александра Шкляревского появляется на страницах романа, когда Зиновьев осматривает «Оленькину библиотеку»: — Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты», — но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и «образовательном цензе» Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том 88 Лермонтова, Шкляревский, журнал «Дело», поваренная книга, «Складчина»... (С. 3, 272-273) И, наконец, в третий раз это происходит в финальной части «повести» Камышева: …читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях... Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляревского; и я готов оправдать ожидания читателя, но... одно из главных действующих лиц оставляет поле битвы, не дождавшись конца сражения, — его не делают участником победы; всё, что было им сделано ранее, пропадает даром, — и оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо — ваш покорнейший слуга. (С. 3, 401-402) Как видим, имя Шкляревского в романе Чехова звучит если иногда и не слишком комплиментарно, то во всяком случае в одном ряду с Габорио. Между тем историки западной детективной литературы зачастую склонны довольно пренебрежительно третировать Шкляревского по сравнению с западными авторами «полицейских романов». 89 Известен критический отзыв молодого Чехова о современной литературе в цикле своих заметок «Осколки московской жизни» (1884): Наши газеты разделяются на два лагероя: одни из них пугают публику передовыми статьями, другие – романами. Есть и были на этом свете страшные шутки, начиная с Полифема и кончая либеральным околоточным, но таких страшилищ (я говорю о романах, какими угощают теперь публику наши московские бумагопожиратели вроде Злых духов, Домино всех цветов и проч.) еще никогда не было… Читаешь и оторопь берет. Страшно делается, что есть такие страшные мозги, из которых могут выползать такие страшные «Отцеубийцы», «Драмы» и проч. Убийства, людоедства, миллионные проигрыши, привидения, лжеграфы, развалины замков, совы, скелеты, сомнамбулы… и чёрт знает чего только нет в этих раздражениях пленной и хмельной мысли. В завязке кровопролитие, в развязке тетка из Тамбова, кузина из Саратова, заложенное именье на юге и доктор с кризисом. Между прочим, финал этой тирады показывает, что, если говорить серьезно, то больше всего Чехова страшило в этих романах: (С. 16, 131) Впрочем, на этом Чехов не останавливается. Он приводит другие яркие примеры из современной ему газетной романной – правда, не только «уголовной», но и авантюрной – продукции: У одного автора герой ни с того ни с сего бьет по мордасам родного отца (очевидно, для эффекта), другой описывает «подмосковное» озеро с москитами, альбатросами, бешеными всадниками и тропической жарой у 90 третьего герой принимает по утрам горячие ванны из крови невинных девушек, но потом исправляется и женится без приданого… А вот здесь же под пером Чехова еще и анекдот из жизни тогдашних газетных редакций и «романистов-поденщиков»: – Кончайте поскорей ваш роман, М.Н.! – говорит один редактор своему романисту-поденщику. Романист сажает всех своих героев в кукуевский поезд и – трагическая развязка готова. Страшна фабула, страшны лица, страшны логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней… (С. 16, 131-132) Цитируя фрагмент из этого чеховского отзыва, В. Балахонов писал: В этих словах немало справедливого, некоторые упреки могли бы быть адресованы и Габорио, но все же, думается, инвективы Чехова направлены не столько против французского писателя, сколько против его бесталанных подражателей в России вроде популярного в свое время А. Шкляревского. 22 Позволим себе не согласиться. Как и многие исследователи западного детектива, В. Балахонов вряд ли был так уж хорошо знаком с русским «уголовным романом». 91 Как мы видим, слова критика противоречат в равной мере далекой от восхищения оценке обоих писателей самим Чеховым в «Драме на охоте». А в процитированных выше «Осколках московской жизни», представляющих своего рода хронику со 2 июля 1883 г. по 12 октября 1885 г. (С. 16, 412), то есть период, в который была написана «Шведская спичка» и печаталась «Драма на охоте» (4 августа 1884 – 25 апреля 1885 г. – С. 3, 589), приводится еще множество примеров «знания жизни», которое проявляли в своих произведениях некоторые из «романистов-поденщиков»: Становые ругаются по-французски с прокурорами, майоры говорят о войне 1868 года, начальники станций арестовывают, карманные воры ссылаются в каторжные работы, и проч… Построение подобных романов под пером Чехова выглядит так: В завязке кровопролитие, в развязке тетка из Тамбова, кузина из Саратова, заложенное именье на юге и доктор с кризисом. Что же касается прочих красок, то место «психологии» занимают дешевые мелодраматические штампы: Психология занимает самое видное место. На ней наши романисты легавую собаку съели. Их герои даже плюют с дрожью в голосе и сжимая себе «бьющиеся» виски… (С. 16, 131) Между прочим, совершенно аналогичные упреки ранее сам Шкляревский делал романам Габорио. «Деятельность их Лекоков» 92 представллась ему «сверхъестественной», и сами эти романы казались ему безжизненными и ходульными: Самый сюжет вовсе не заимствован из жизни, факты подтасованы и ходульны; занимательность есть, но ряд беспрерывных эффектов, неожиданностей и сюрпризов утомляет читателей; притом чуть не с половины романа в тридцать листов можно определенно сказать, кем и за что совершено преступление и что все кончится благополучно для невинно страждущих. По его мнению, произведения русских писателей «отличаются несравненно большею естественностью». 23 Вступаясь за своих отечественных собратьев по цеху, Шкляревский делал это вполне по праву. Его собственные произведения отличало как раз настоящее «знание жизни», которое обеспечивало им прочный успех у его читателей. Когда в 1881 году в Санкт-Петербурге началось издание «Собрания сочинений» А.А.Шкляревского его издатель П.Д.Подшиваловв своем послесловии отмечал: Что на произведения г-на Шкляревского в отдельных изданиях в публике существует значительный запрос, - служит доказательством распродажа в весьма короткий промежуток времени, в довольно большом количестве экземпляров брошюр с его произведениями. (Например, «Исповедь ссыльного», менее чем в год выдержала три издания, которые все и распроданы; тогда как сочинения других авторов, изданные тем же лицом, по одинаковой форме и по той же цене, не имела и третьей части успеха в одном издании). 24 93 Александра Шкляревского скорее можно было бы упрекнуть в том, за что Эмиля Габорио критиковал известный болгарский писатель и исследователь детективного жанра Богомил Райнов: Историки детективного жанра обвиняют Габорио в том, что он не сумел развить детективную сторону своих произведений из-за того, что очень уж стремился сочетать ее с психологическими и общественными проблемами. Но если, говоря о Габорио, Райнов был не так уж далек от справедливости, когда писал: В сущности, беда Габорио заключалась совсем не в том, что он ставил перед собой подобные задачи, а в том, что ему не хватало сил для их разрешения. Чуждый серьезной социальной проблематики и поверхностный психолог, Габорио удовлетворялся тем, что пичкал читателя утомительными рассказами о прошлом своих героев, предпочитая именно так, а не собственно детективным расследованием знакомить его с причинами и побудительными мотивами преступления. 25– то Шкляревскому каждый раз удавалось зацепить читателя не только увлекательной историей преступления, но и колоритной фигурой осуществившего его героя. Совсем неслучайно Александр Шкляревский, как и Эмиль Габорио, пользовался у читателей бурной популярностью… 94 Штрихи к портрету Александра Шкляревского Александр Андреевич Шкляревский прожил довольно короткую жизнь (1837 – 1883), и всю эту жизнь ему не очень везло. Некоторыми своими «неудачами» он «был обязан» своему отцу. Будучи «мещанином», тот учился в университете и должен был по окончании, в соответствии с тогдашним законодательством, получить дворянское звание. Однако он влюбился, женился и был вынужден бросить учебу. Правда, вскоре после этого Андрей Шкляревский поступил на службу учителем уездного училища. Если бы его сын Александр был рожден после этого, то оказался бы рожденным в дворянском звании. Однако все случилось ровно наоборот. Как и некоторые другие известные русские писатели: Николай Гоголь и Николай Гнедич – Шкляревский родился в Малороссии, в Полтавской губернии. Учиться ему было не на что, но поскольку отец сам служил учителем, сына его Александра приняли в Первую Харьковскую гимназию на казенное содержание. К несчастью, отец не отличался большой уживчивостью и из-за конфликта с начальством был переведен в Соответственно, сына с казенного содержания сняли. 95 другую губернию. Все это в конечном счете могло оказаться для будущего писателя и благом. Он рано начал служить: вначале в полиции, потом – в земском суде. Благодаря этому, Шкляревский уже в юном возрасте приобрел многие важные познания и получил впечатления, легшие впоследствии в основу его произведений. Однако как мещанин Шкляревский был военнообязанным, причем должен был начать службу простым солдатом. Вот почему в семнадцать лет он сдал экзамен на звание приходского учителя, дающее освобождение от воинской повинности. И в самом деле вскоре поступил на службу учителем в приходское училище города Павловска Воронежской губернии. Отттуда он начал присылать корреспонденции в «Воронежские губернские ведомости» и вскоре, благодаря содействию редактора этой газеты, перешел на службу в Воронеж – учителем приходского училища и женской прогимназии. Здесь Шкляревский начинает пробовать свои силы в литературе. Как раз в 1868 году в «Воронеже» начинает издаваться газета «Дон», и Шкляревский не проходит мимо возможости в ней печататься. Из опубликованных им в газете материалов отрывок из романа с многозначительным заголовком «Темное царство», недвусмысленно отсылающим к обличительным пьесам А.Н.Островского, «разоблачает проделки старого чиновника служаки, исповедующегося в тайнах своей прошлой, не совсем чистой комиссариатской деятельности». Второй роман Шкляревского, опубликованный на страницах «Дона», озаглавлен им совсем нетривиальным образом: «Шевельнулось теплое чувство» – и посвящен жизни провинциальной городской бедноты. 26 96 В 1867 году, когда в Петербурге печатаются первые переводы романов Габорио, Шкляревский дебютирует в петербургском журнале «Дело» повестью «Отпетый», которая имела определенный успех у читателей. В этом нет ничего удивительного. Вещь эта и сегодня читается с живым интересом. Ее герой, молодой чиновник Гренков, подавал на большие надежды на службе и собирался жениться на дочери своего начальника. Однако в один прекрасный день влюбился в «сиделку» питейного заведения Пашу, незаконнорожденную, подкинутую ребенком к «одной богатой вдове», а после ее смерти попавшей в публичный дом, а затем на содержание к одному из его посетителей. Гренков бросает службу, спивается и воспринимается всеми как «отпетый». Паша отказывается попробовать начать с ним новую жизнь. Она тоже начинает пить, вскоре заболевает чахоткой от побоев своего содержателя, который в конце концов выгоняет ее из кабака, и вскоре она умирает от чахотки. Узнав историю Гренкова, герой-рассказчик рекомендует его на частное место письмоводителя помещику Гусарову. И менее чем через год, скопив кое-какие деньги, совершенно преобразившийся Гренков уезжает в Москву «поступить в московский университет по медицинскому факультету», чтобы «быть полезным человечеству» и быть в состоянии лечить людей, многие из которых гибнут «в деревнях» «от недосмотра в гигиеническом отношении, от недостатка медицинских средств и докторов». 27 Как мы видим, заглавие повести имеет саркастический смысл, указывая на нередкую ошибочность сложившегося общественного мнения о 97 человеке. Впоследствии этот прием не раз использовал в заглавиях своих произведений Чехов. Если вспомнить литературный контекст той эпохи, нетрудно догадаться, что повесть Шкляревского представляет собой перенесенную в российские условия и в провинциальную демократическую среду историю «дамы с камелиями» – героини романа и одноименной пьесы французского писателя Александра Дюма-сына (опубликован в 1848 г., поставлена в 1852 г.), по мотивам которой была написана опера Джузеппе Верди «Травиата» (1853). Герой «Дамы с камелиями» Арман влюбляется в содержанку Маргариту Готье, которая, полюбив его, отказывается от своих богатых покровителей и начинает новую жизнь с Арманом. Однако поверив просьбе отца Армана о том, что его сестра не может составить хорошую партию, пока Арман компрометирует себя связью с «куртизанкой», Маргарита сама жертвует своим счастьем. Вскоре она умирает от чахотки, а Арман только после ее смерти понимает, почему она его оставила. У Шкляревского разработка этого сюжета лишена мелодраматических красок французского первоисточника – зато она более трагична и вместе с тем преисполнена веры в возможность «возрождения» «погибшего человека» – тема, как известно, чрезвычайно близкая Достоевскому, особенно в его создававшихся почти одновременно романах «Игрок» (1866) и «Идиот» (1868), которые также, между прочим, варьируют сюжет романа Александра Дюма-сына. 28 В 1869 году в надежде на литературный успех Шкляревский переезжает в Петербург, где к тому времени уже обосновался и успешно 98 занимался журнальной деятельностью его близкий приятель по Воронежу и будущий издатель Чехова А.С.Суворин. Некоторое время, благодаря протекции известного юриста А.Ф.Кони, Шкляревский служит поверенным-стряпчим удельного ведомства по Симбирской, Казанской и Пензенской губерниям. Служил он не так уж долго, но получил бесценный личный опыт. Выйдя в отставку, Шкляревский возвратился в Петербург, где стал жить на литературные гонорары. И только тогда он начинает писать цикл произведений, которые иногда, опираясь на подзаголовки некоторых сборников произведений писателя, 29 называют «Рассказы судебного следователя». При этом Шкляревский опирался на уже сложившийся в русской литературе конца 1860-х годов жанр – «записки следователя». Среди наиболее известных произведений этого рода того времени были «Острог и жизнь (Из записок следователя)» Н.Соколовского (1866) и «Правые и виноватые. Записки следователя сороковых годов» П.Степанова (1869. Т. 1 – 2).30 Как отмечал А.И.Рейтблат, стремясь избежать ассоциаций с презираемым критиками детективных романов, авторы книг о преступлениях, написанных в 1860-х – начале 1870-х гг., стремились подчеркнуть (даже в названии) документальный характер своих публикаций…31 Эти произведения привлекали читателей не только занимательностью, но и познавательностью. Из них они узнавали о том, какие бывают 99 преступления, что за люди следователи, как проходит расследование и многое из того, что не попадало на страницы газет, рассказывавших о громких уголовных процессах. Тесную связь произведений писателя с лежавшими в их основе уголовными делами хорошо ощущали, впрочем, его современники: Пользоваться Шкляревскому уголовными делами было очень легко, так как он около четырех лет занимался у А.Ф.Кони. Шкляревский отлично знал жизнь. Он вместе с А.С.Сувориным учительствовал в Воронежской губернии, затем служил и много путешествовал. 32 Впрочем, иногда полагают, что авторы книг о преступлениях, написанных в начале 1870-х гг. <…> действительно, они, как правило, не «сочиняли», а пересказывали случаи из жизни). 33 И такой взгляд представляется все же не совсем верным; тем более что любой пересказ случая из жизни влечет за собой, как мы хорошо знаем по многим мемуарным книгам, существенный элемент «сочинительства». Однако он представляет собой довольно распространенный среди исследователей предрассудок. Так, учитывая опыт службы Шкляревского поверенным-стряпчим, его произведения тоже иногда считают «воспоминаниями» из его «судебной практики». 34 Однако их автобиографический характер при таком взгляде оказывается все же несколько преувеличен. В следующих разделах настоящей главы нашей книги мы увидим, как многое в произведениях 100 Шкляревского связано также с расхожими литературными моделями его времени. Зато при нем справедливо отмечаются их отличия от детективной литературы: Однако и рассказанные от первого лица, они не строятся по закону уже существовавшего в это время в мире детективного жанра. Здесь нет «двойной завязки», «обратного хода действия», рассказ ведется о преступлении, но это скорее дневник расследования, рассказ очевидца, следователя. Таким образом, сам автор приближается в своем творчестве не к классикам детективного жанра, а к «credo» представителей «натуралистической школы», где писатель, по словам Э. Золя, «становится судебным следователем человеческой страсти. Такие установки были близки и русским натуралистам: Подобная точка зрения излагается и ведущим практиком и теоретиком «русского натурализма» П. Боборыкиным: по его утверждению, романист, пишущий «методом документального реализма», избирает предметом художественного воспроизведения современность, правдиво ее изображает (понимай «фиксирует»), поскольку является не судьей ее, а наблюдателем. 35 Что же касается французских «полицейских романов», то сам Шкляревский относился в ним, как мы видели выше, довольно критически. Естественно, никакого стремления к тому, чтобы стать «русским Габорио» у него не было. 101 Единственным писателем, которому он, по собственному признанию, подражал, был Достоевский. Об этом сам Шкляревский однажды написал в письме к самому Достоевскому: – Я принадлежу к числу самых жарких поклонников ваших сочинений за их глубокий психологический анализ, какого ни у кого нет из наших современных писателей. Это полное мое убеждение… Если я кому и подражаю из писателей, то вам… Ваше влияние слишком ясно даже отразилось в одном моем рассказе «Отчего он убил их (рассказ Следователя). 36 Достоевский в начале 1870-х годов был автором прежде всего недавно опубликованных романов «Преступление и наказание» и «Идиот», оба из которых представляют собой своего рода «историю одного убийства». Как мы увидим ниже, в действительности влияние его творчества сказалось на гораздо более широком круге произведений Шкляревского. Русские критики-современники не особенно баловали Шкляревского положительными отзывами о его произведениях. Близкий знакомый писателя А.А. Соколов в своих воспоминаниях констатировал: Прошла критика <…> мимо Шкляревского, не отметив ни одного его романа, а между тем все его романы, взятые из уголовных дел, были удивительно талантливо разработаны. 37 102 Впрочем, критика и не могла особенно высоко оценить литературные труды Шкляревского, поскольку жанр «уголовного романа» в то время не только не относился к серьезной литературе – произведения этого рода и печатались тогда в основном в газетах и иллюстрированных журналах. Вдобавок – и какой это укор нашему времени! – оплачивались они втрое, а то и вчетверо хуже, чем публикации в «толстых журналах». Судьба Александра Шкляревского, этого «литературного каторжника»: ощущение обиды и недооценки, «богемная жизнь» «гиганта питья» 38 и постоянное безденежье, болезни и ранняя смерть – по-видимому, отчасти обусловлена именно этим. 103 Шкляревский и Достоевский Личный облик писателя, его болезненное состояние и ранимость лучше всего характеризует эпизод визита Шкляревского к Достоевскому, рассказ о котором дошел до нас в мемуарном очерке В.В.Тимофеевой, год прослужившей корректором газеты «Гражданин», в издании которой Достоевский принимал непосредственное участие: Шкляревский летом однажды зашел к Достоевскому и, не застав его дома, оставил рукопись, сказав, что зайдет за ответом недели через две. Федор Михайлович, просмотрев рукопись, сдал ее, как всегда, в редакцию, где хранились все рукописи — и принятые и непринятые. О принятии рукописи известить автора Федор Михайлович не мог, так как Шкляревский, будучи всегда в разъездах и не имея в Петербурге определенного места жительства, адреса своего не оставлял никому. Прошло две недели. Шкляревский заходит к Федору Михайловичу — раз и два — и все не застает его дома. Наконец в одно утро, когда Федор Михайлович, проработав всю ночь, не велел будить себя до двенадцати, слышит он за стеной поутру какой-то необычайно громкий разговор, похожий на перебранку, и чей-то незнакомый голос, сердито требующий, чтобы его "сейчас разбудили", но Авдотья, женщина, прислуживавшая летом у Федора Михайловича, будить отказывается. — И наконец они такой там подняли гам, — рассказывал мне Федор Михайлович, — что волей-неволей я вынужден был подняться. Все равно, думаю, не засну. Зову к себе Авдотью. Спрашиваю: "Что это у вас там 104 такое?" — "Да какой-то, говорит, мужик пришел — дворник, что ли, — бумаги чтобы сейчас ему назад, требует. Сердитый такой — беда! Ничего слушать не хочет. И ждать не хочет. Непременно чтобы сейчас бумаги ему отдали". Я догадался, что это кто-нибудь от Шкляревского. Скажи, говорю, чтобы подождал, пока я оденусь. Я сейчас к нему выйду. Но только стал одеваться и взял гребенку в руки, — слышу, рядом, в гостиной, опять ожесточеннейший спор. Авдотья, видимо, не знает, что отвечать, а посетитель, видимо, дошел до белого каления, потому что не так же я уж долго одевался и причесывался, а он, слышу, кричит на весь дом: "Я не мальчишка и не лакей! Я не привык дожидаться в прихожей!.." А у меня, надо вам сказать, — пояснил Федор Михайлович, — мебель в гостиной на лето составлена в кучу и покрыта простынями, чтобы не пылилась, потому что летом некому ее убирать. Ну вот, услыхав, что мою гостиную принимают за прихожую, я не выдержал, поинтересовался узнать, кто именно, и приотворил слегка дверь. Вижу: действительно, не мальчишка, человек уже пожилой, небритый; одет как-то странно: в пальто и ситцевой рубахе, штаны засунуты в голенища, в смазных сапогах. Я все-таки почтительно ему кланяюсь, извиняюсь и говорю: "Не кричите, пожалуйста, на мою Авдотью, — Авдотья тут решительно не виновата ни в чем... Я запретил ей будить себя, потому что работал всю ночь. Позвольте узнать, что вам угодно и с кем имею удовольствие?.." — "Скажите прежде всего вашей дуре кухарке, что она не смеет называть меня "мужиком"!.. Я слышал сейчас собственными ушами, как она назвала меня "мужиком". Я не мужик, я — писатель Шкляревский, и мне угодно получить мою рукопись!" — "Великодушно прошу извинить Авдотью за то, что она по костюму приняла вас не за того, за кого следовало... А 105 относительно рукописи я вас прошу обождать пять минут, пока я оденусь. Через пять минут я к вашим услугам..." И представьте себе, он не дал мне даже договорить! — с удрученным видом продолжал Федор Михайлович. — Кричит свое: "Я не хочу дожидаться в прихожей! Я не лакей! Я не дворник! Я такой же писатель, как вы!.. Подайте мне сейчас мою рукопись!" — "Вашу рукопись, — говорю ему, — вы получите в редакции "Гражданина", куда она сдана уже две недели назад с отметкой, что пригодна для напечатания..." — "Я не желаю иметь дело с вашей редакцией "Гражданина"! Я отдал рукопись вам, а вы заставляете меня дожидаться в прихожей!.. Как вам не стыдно после всего, что вы написали!.. Вы — ханжа, лицемер, я не хочу больше иметь с вами дело!" Я было начал его просить успокоиться, — вижу, человек не в себе, — вышел следом за ним на лестницу. "Еще раз прошу извинения! — говорю ему вслед. — Не виноват же я, в самом деле, что вы мою гостиную принимаете за прихожую. Честью вам клянусь, у меня лучшей комнаты нет, я всех гостей моих в ней принимаю!.." Что же вы думаете? Он бежит бегом по лестнице и грозит мне вот так кулаком! "Подождите вы у меня! Я вас за это когда-нибудь проучу!.. Я это распубликую! Я вас разоблачу на весь свет!.. 39 И все это – Достоевскому, тому самому, которому Шкляревский совсем вскоре после этого признавался в том, что принадлежит «к числу самых жарких поклонников» его сочинений – единственному своему подлинному литературному кумиру. 106 Поскольку этот эпизод довольно широко известен через мемуарный очерк В.В.Тимофеевой (О. Починковской) и нередко служит основной пищей для формирования представлений о личности Александра Шкляревского, между тем в его изложение то и дело вкрадываются небольшие, но существенные разногласия, 40 давайте и относительно него проведем небольшое «литературоведческое расследование». Так ли все было? Почему Шкляревский пришел в такое негодование? И, главное, каковы были другие, в том числе и последущие отношения его с Достоевским? Из письма Шкляревского к А.С.Суворину от 23 февраля 1873 г. мы узнаем, что предыстория событий относится ко времени болезни писателя. Пожелание напечатать какой-нибудь рассказ Шкляревского в «Гражданине», кстати сказать, исходило от самого Достоевского (правда, до Шкляревского оно дошло через вторые руки). Впрочем, судите сами: Итак, в конце концов выходит, что мне нельзя в данный час выбраться Петербурга, невозможно и остаться; затем один исход: лечь в больницу. Его требует не только одна болезнь, но и другие расчеты, так как больница может поставить меня и в очень хорошее денежное положение. У меня есть несколько начатых рассказов, из которых один особенно удачен и почти готов. Я предполагаю его сдать в «СПб. ведомости»; для 107 того, чтобы его закончить и поправить, нужно не более четырех дней усидчивой работы, но, верите, вовсе не от лени; напротив, я теперь постоянно работаю,— я в продолжение трех или четырех недель не могу взяться за это: так сложились обстоятельства. Сначала черт поднес Траншеля с предложением продать все томы сочинений новой редакции и состав статей (которые я приготовил Турбе) — Печаткину. Печаткин проводил меня недели полторы, я ходил к нему каждый день, и дело не то чтобы разошлось, но и не сошлось, потому что Печаткин отложил до удобного для него времени. Затем тот же Траншель, в типографии которого печатается «Гражданин», передал мне, что Достоевский говорил ему, будто бы он с удовольствием принял бы от меня рассказ. Вследствие сего, польстившись на гонорар от восьми до десяти копеек строка, я дня в три из бывшего у меня напечатанного рассказа сделал новый, лучше сказать, не рассказ, а размышление присяжного поверенного, и отдал ему для передачи Достоевскому, с тем условием чтобы мне получить ответ на днях. Между тем, вот уже три недели я не добьюсь никакого толка, а я Мещерского никогда не застаю дома, на письма не отвечают и рукопись не возвращается, несмотря на неоднократные требования. Будь же она у меня, Маркс и Клюшников взяли бы ее с удовольствием и сейчас бы выдали гонорар вперед... 41 Удивительным образом облик писателя, возникающий перед нами сквозь строки этого письма, напоминает самого Достоевского, особенно в период его отношений с издателем Ф.Т. Стелловским, который в 1865 году выкупил право издания всего написанного писателем, а заодно и его нового романа, который тот должен был написать к поставленному сроку. 108 Впрочем, жизнь человека, жившего в то время на литературные гонорары, была все время наполнена сходными заботами. Таких людей (в особенности когда заходит речь о писателях вроде Шкляревского) нередко называют «литературными каторжниками». Однако, в сущности, ведь им на протяжении почти всей своей жизни был и Достоевский! Уже из этого письма ясно, что необыкновенно большая – даже по тем временам – задержка с получением ответа отчасти была связана с тем, что Шкляревский передал рукопись не прямо Достоевкому. Дальше к этому прибавилось еще много разных обстоятельств, о которых мы знаем из письма Шкляревского к самому Достоевскому. Написано оно уже после скандальной сцены в его доме, которая описана в мемуарном очерке В.В.Тимофееевой. Оговоримся, что это второе письмо Шкляревского в Достоевскому, написанное им после этой сцены (первое из них до нас не дошло): Я так нездоров и расстроен своею болезнею (!), что написать связно письмо для меня, в настоящую минуту, составляет нелегкий труд, который вызвало лишь мое глубокое уважение к вам, чувствуемое не на одних словах. Поэтому вы извините нескладицу этого письма ради моей болезни. Мое первое письмо, к сожалению, вам не вполне понято; сетуя, может быть, как больной, и в резких выражениях о длинной процедуре получения ответа о своей статье, весьма понятно, я вовсе не считал вас виновником, тем более, что, как справедливо вы и сами замечаете, я не вам передавал статью. 109 Отвечая на письмо мое к вам, кн. Мещерский благодарит меня за него и называет его л ю б е з н ы м в отношении к себе. С своей стороны и я помылаю свое согласие на помещение статьи в «Гражданине», сожалея только о происшедших между нами недоразумениях. Кроме того, нравственно я нисколько не виноват перед вами за недоставку своей статьи вам, потому что, во-первых, я о т д а л е е г. Т р а н ш е л ю д л я пе р е д а ч и и м е н н о в а м <…> Следовательно, я не особенно повинен, что г. Траншель саопроизвольно вместо вас передал рукопись кн. Мещерскому; а вследствие такой передачи я уже и не смел обращаться к вам до тех пор пока у меня не лопнуло всякое терпение мирным путем, хотя бы получить статью обратно… Главная причина недоразумения произошла чрез болезнь мою, помешавшую мне представиться вам лично: путем разговора мы бы, конечно, прекратили их, если бы мне удалось застать вас дома. К сожалению, и после моего письма к вам произошло два новых недоразумения: 1) не получая от вас ответа до 4 марта, я поручил, из своей квартиры, сходить к вам за ним, на другой день, 5-го числа, что и было исполнено утром этого же дня; между тем, когда посланная ходила к вам, я в то же время получил в клинике письмо кн. Мещерского, уведомившего меня, что рукопись моя будет напечатана в 11 № «Гражданина», на что я тотчас же и послал свое согласие; 2) заключается в разносодержании писем вашего и кн. Мещерского. Он пишет мне, что ответ мне не последовал потому, что рукопись моя была отдана вам на прочтение, вы же уведомляете, что «никогда не видели ее в глаза и понятия о ней не имеете…» Недоумеваю!.. Но, как бы то ни было, дело о рукописи уже кончено, и я бы искренне желал, чтобы оно не только осталось между нами, так как оно никому не известно, но чтобы и предано было всецело забвению. Теперь мне более всего важно то, что, судя по 110 вашему письму, вы считаете себя как бы обиженным. Серьезно, мне это больно, и я далек был от такой мысли, очень хорошо, даже, может быть, более других, понимая, что редактору недельного издания нет никакой надобности корпеть в редакции, а особенно человеку с вашим талантом. Кое-что вы еще можете прочесть и между строк моего письма… Что касается до моих чувств к вам, выраженных в конце предыдущего письма, то это не слова, а полнейшая правда, так как всему кругу моих знакомых известно, что я принадлежу к числу самых жарких поклонников ваших сочинений… Впрочем, эти строки мы уже приводили выше. А кончается письмо так: Обвинение ваше очень мне тяжело. Мое письмо к вам написано было, может быть, неудачно, но в смысле скорее жалобы, чем чего другого. 42 Коль скоро того, что хотелось Шкляревскому, не случилось, и забвению это дело предано не было, мы и привели здесь это его письмо, чтобы уж тогда читатель мог судить обо всей этой истории с обеих точек зрения: самого Достоевского, которая представлена (возможно, не без некоторых искажений) в мемуарном очерке В.В.Тимофеевой, и Шкляревского, которая изложена им самим. Рассказ Шкляревского «Накануне защиты преступника», о котором идет речь во всей этой истории, все же был в «Гражданине» напечатан. И связи его с Достоевским с тех пор не прерывались. До нас дошло еще пять писем Шкляревского к Достоевскому. Он посылал ему для публикации и другие свои произведения: статью «Сосновая школа, рассказ «Чрез преграды». 111 Отсылая Достоевскому последний, в постскриптуме к письму Шкляревский прибавил: Рассказу моему можете переменить заглавие по своему усмотрению. Вообще как хотите, так и поступайте с ним, потому что я вам беспредельно верю. Скончался Шкляревский, лишь на пару лет пережив Достоевского, бывшего на шестнадцать лет старше него. 112 «Отец русского детектива («Блеск и нищета» Александра Шкляревского) Когда знакомишься с произведениями Александра Шкляревского, бросается в глаза прежде всего то, что это действительно совсем не чистые детективы. И даже, может быть, совсем не детективы. Детектив, согласно определению Богомила Райнова, это произведение, в котором преступление рассматривается не как эпизод или повод для развития действия, а как основная тема, которой следуют и с которой в той или иной степени связаны все конфликты, драмы и события, введенные автором в повествование. 43 А у Шкляревского расследование преступления вообще зачастую занимает самое скромное место, а то и отсутствует вовсе. В этом плане суждение А.И.Рейтблата о том, что в 1870-е годы Шкляревский писал только книги детективного жанра и был даже прозван «русским Габорио» 44 – вообще-то не совсем точно. Прозвище «русский Габорио» и в самом деле скорее дезориентирует, чем что-либо проясняет. Вкратце разберем вопрос о том, детектив ли это, на примере рассказа Шкляревского «Как он принудил себя убить ее?», опубликованного в 1873 году в газете «Новое время». 113 Произведение это одновременно благодатный материал для того, чтобы рассмотреть его соотношение с реальной историей убийства, которая легла в его основу. В данном случае участники этой истории были не просто известны ему по материалам уголовного процесса, в котором он участвовал в прошлом сам или который был ему известен только по газетам. Это были хорошо знакомые ему люди. В основе этого рассказа лежит история гибели первой жены земляка Шкляревского, популярного журналиста Алексея Сергеевича Суворина, знаменитого тогда своими воскресными фельетонами в газете «СанктПетербургские ведомости», которые он печатал под псевдонимом «Незнакомец». Смерть его жены Анны Ивановны, тридцатитрехлетней женщины, матери пятерых детей, произошла 20 сентября 1873 г. Знакомый Сувориных Т. Комаров, молодой человек без определенных занятий, застрелил ее в отеле Бель-вю, а после сам покончил жизнь самоубийством. Очевидцев преступления не было и потому Шкляревский, как и все остальные, мог судить о нем только по голым фактам, которые были приведены в печати (в частности, в газетах «Новости» и «СанктПетербургские ведомости»). Вот первое из этих сообщений: 114 ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ОТЕЛЕ БЕЛЬ-ВЮ УБИЙСТВО Г-ЖИ СУВОРИНОЙ И САМОУБИЙСТВО Г. КОМАРОВА Мы потрясены страшным событием, случившимся вчера около двенадцати часов ночи, в отеле Бель-вю: двух жизней не стало – жизней, полных сил, надежд и упований на будущее. Один – самоубийца, человек едва вышедший из юного возраста, получивший высшее образование, другая – жена известного фельетониста «Санкт-Петербургских ведомостей» А.С.Суворина (Незнакомца), мать пятерых детей, женщина развитая и принимавшая деятельное участие в литературе. Происшествие, вроде того, которое случилось вчера ночью, всегда поражает своею неожиданностью, но на этот раз оно кажется еще более поразительным, вследствие характера действующих лиц. Т. Комаров, никогда не участвовавший в литературе, постоянно однако ж, вертелся среди литературных кружков, но не пользовался среди них особым голосом; на него смотрели скорее с любопытством, как на побочного сына одной знаменитости, от которой он унаследовал весьма порядочное состояние, прожитое им довольно скоро. <…> Трудно было хорошенько добиться, о чем он вечно хлопотал, пропагандировал достоинства и добродетели разных более или менее известных людей и вообще говорил какие-то невнятные речи, словом, это был довольно скучный малый, от которого вообще знакомые его, а их было немало, както сторонились. 115 С год, или несколько более тому назад, г. Комаров сдружился с г. Сувориным, у которого был принят как домашний человек. Здесь кончается проза и начинается поэзия, окончившаяся вчера ночью кровавою драмою. Что происходило между г-жою Сувориною и г. Комаровым – мы не знаем, да если бы и знали, то не признали бы возможным приподнять завесы над сердечною тайною двух несчастных жертв увлечения. К тому же мы глубоко сочувствуем горю г. Суворина – собрата нашего по литературе, а потому намерены ограничиться только передачею одного голого факта. 45 Дальнейшее приведем вкратце уже по статье «Санкт-Петербургских ведомостей»: Как женщина серьезная и прямая, Анна Ивановна менее всего могла предполагать какие-нибудь затаенные безумные замыслы у этого их знакомого. На текущей неделе Комаров объявил, что собирается будто бы в Вену, и пригласил Сувориных провести с ним последний вечер перед отъездом. Имея спешную работу, г. Суворин не мог поехать к Комарову, но, не желая отказать в настоящей просьбе человеку, навседа уезжающему из Петербурга, просил отправиться туда свою жену, намереваясь приехать за нею попозже. Когда Суворин, закончив работу, собрался за женой, то на лестнице ему встретился слуга, посланный за ним из «Бель-вю». В гостинице он застал Анну Ивановну еще в сознании, но уже безнадежной. 46 116 Из статьи в «Новостях» в общем следовало, что Суворина была убита ее любовником, из сообщения в «Санкт-Петербургских новостях», в которых Суворин печатался сам, – что она стала жертвой случая. В рассказе Шкляревского была представлена вторая версия просшедшего. Под его пером она выглядит так: «Мужчина средних лет» Владимир Платонович Цыгарев сблизился в Петербурге с семейством Александра Петровича Знаменского, «преподавателя одного из высших учебных заведений в Петербурге», и особенно с его женой – Надеждой Семеновной Знаменской. «Однажды, в половине августа, около двенадцати часов ночи, Цыгарев возвратился в свою квартиру в сопровождении госпожи Знаменской. <…> Вдруг, спустя некоторое время, в комнате раздались два, один за одним, выстрела, стоны и как бы падение чего-то тяжелого». Знаменская была тяжело ранена и через несколько часов скончалась, а Цыгарев, также раненый, «тяжело проболев около полугода, оправился» и «заключен был под стражу в городскую тюрьму, известную в Петербурге под именем Литовского замка». Цыгареву удается бежать из тюрьмы, на улице его находит героярассказчик. Цыгарев рассказывает ему историю своего безуспешных ухаживаний за Знаменской и то, как, наконец, он решил уехать в Берлин, а оттуда в Нью-Йорк. В ходе прощального свидания Знаменская была с Цыгаревым резка и откровенно говорила ему о его ничтожности, не веря в его угрозы убить ее. Так что Цыгарев в конце концов выстрелил в нее, а «шаги», раздавшиеся, «в коридоре» заставили его «быстро направить другой выстрел в себя». 117 Герой-рассказчик прощается с Цыгаревым «на вокзале николаевской железной дороги, при отправлении последнего поезда в Москву», а через несколько дней читает в газете сообщение, из которого понимает, что Цыгарев покончил с собой, бросившись под поезд. 47 Как мы видим, многое в расказе намеренно изменено, причем понятно почему именно таким образом. Цыгарев, в отличие от Комарова (заметим, что Шкляревский сохраняет акцентологическую структуру фамилии прототипа – прием, которым пользуются тогда, когда пишут «с натуры»), остается в живых после своего «самоубийства». И это сделано, конечно же, для того, чтобы единственный свидетель сцены и участник истории, то есть сам Цыгарев, мог рассказать, как все произошло. Что касается остального, то Шкляревский, лично знавший Комарова, считавший его ничтожным человеком и удивлявшийся тому, что тот был своим человеком в доме Суворина, занят психологическим объяснением этого парадокса. В его рассказе дело объясняется тем, что героиня, молодость которой проходит, испытывает вначале интерес к Цыгареву как к единственному человеку, присутствие которого нарушает устоявшийся прочный, но немного наскучивший ей порядок ее жизни). В то же время Шкляревский стремится изобразить эту историю в выгодном для своего хорошего знакомого (которому он, между прочим, многим был обязан) свете. И вот почему Знаменская в рассказе не только не любовница Цыгарева, но между ними и вообще ничего, кроме разговоров, не было. Как мы видим, Шкляревский сильно изменяет реальность в «сюжете» своей повести. У него получается смешение действительности с выдумкой, 118 и именно за это ему пенял впоследствии сам Суворин. В своем письме, написанном после выхода рассказа из печати, Шкляревский в ответ на письмо Суворина к нему, в частности, писал: Вам, главным образом, не нравится в моем рассказе: зачем я взял фон действительный и затем напутал небылиц. По Вашему мнению, нужно бы было или фантазировать совсем, или описать исторически… 48 Автор рассказа сосредоточен в нем на психологическом объяснении событий, и это видно уже по заглавию рассказа, в котором ставится довольно необычный с психологической точки зрения вопрос: «Как он принудил себя убить ее?». И, наконец, вопреки мнению некоторых исследователей, полагавших, что в 1870-е годы Шкляревский писал только детективы, хотя это и рассказ об уголовном преступлении и даже об убийстве, но совсем не детектив. Это не только не «рассказ следователя», но никакого «следователя» в нем вообще нет. Никакого расследования убийства в нем не происходит, так как преступник известен и найден в самом начале рассказа. Правда, о суде над Цыгаревым в нем сообщается, но герой-рассказчик на нем не присутствует и, в полной противоположности с реальным положением дел, никого из участников это истории лично не знает: … к сожалению, я не был знаком ни с одним из действующих лиц драмы и по своим обстоятельствам не мог даже присутствовать при разбирательстве этого дела в окружном суде. 49 119 Писать и тем более печатать рассказ, прототипы которой, легко угадываемые публикой, были близкими знакомыми автора, было, конечно же, со стороны Шкляревского не слишком деликатно. Тем более что до публикации Суворин с текстом не ознакомился. Он высказал такое желание, но, как оказалось, к тому времени рассказ был уже набран в газете. Обо всем этом мы знаем из письма Шкляревского к Суворину от 19 января 1874 г. Это тоже целый своего рода любопытный психологический этюд, весьма определенным образом характеризующий Шкляревского и как человека, и как писателя. Шкляревский пытается объяснить, почему он все же написал и напечатал этот рассказ, предвидя недовольство Суворина: я измучился и настрадался все это время, когда писал этот злополучный рассказ и когда он печатался. И хотя он признает, что «голод тут играл роль», все же главная причина написания этого рассказа вырисовывается, как нам представляется, из следующего признания Шкляревского: В это время, когда молва разбирала, опровергала и философствовала о статье в СПб. вед<омостях> и происшествии, я, бросив писать свой прошлый «Отчего она умерла» рассказ, потому что сюжет у меня так стушевался, что вовсе вылетел из головы, и я до сих пор не соберусь продолжить, шатался по Петербургу и прислушивался. И здесь-то у меня родилась мысль написать правдоподобный, хотя и не истинный (так как я ничего не знаю об этом происшествии) рассказ, который, столкнувшись бы 120 на одном пункте со взглядами публики (и тем угодив бы ей), в то же время иначе обрисовал бы взаимные отношения и характер действующих и фигурирующих в происшествии лиц. Этим я думал дать другой оборот сплетням и возбудить к несчастной жертве симпатию и т.п. 50 То есть в его стесненных материальных обстоятельствах Шкляревскому срочно надо было что-нибудь написать, но он не мог думать ни о чем, кроме только что случившегося убийства Анны Сувориной, пытаясь психологически осмыслить возможные его мотивы со стороны Комарова. Эта сосредоточенность Шкляревского прежде всего на психологической стороне преступления неожиданным образом открывает в нем писателя, во многом близкого Достоевскому. Пристальный взгляд на произведения Шкляревского вообще парадоксальным образом открывает в нем прежде всего прилежного подражателя автору «Преступления и наказания». Не случайно, говоря о своем рассказе «Отчего он убил их (рассказ Следователя)», опубликованном в 1871 году, сам Шкляревский признавал (причем в письме к самому Достоевскому), что его влияние «ясно даже отразилось» в нем. Однако это хорошо видно и во многих других произведениях Шкляревского. Так, его повесть «Русский Тичборн (Из уголовной хроники)» (первая публикация не установлена), заглавие которого отсылает к 121 нашумевшему судебному процессу, проходившему в 1871 году в Англии, посвящена убийству ростовщицы. Героиня Шкляревского, впрочем, не только не напоминает, но, напротив, по-видимому, осознанно противопоставлена им «старухе- процентщице» Достоевского, Алене Ивановне: Христина Кирсановна была ростовщица, но ростовщица в некотором роде замечательная и резко выделявшаяся из числа своих собратий. Она не брезгала никакими вещами и принимала под заклад решительно все: будь то старые тряпки, бутылки или изломанные утюги; притом, сравнительно с другими, она ссужала и большею суммою денег и брала незначительные проценты; кроме того, иным, в честности которых она была уверена, Позднякова даже ссужала деньги без залога и расписки. Христина Кирсановна, кажется, просто страдала манией к приобретению вещей и едва ли не любила их гораздо более самих денег. Наружность Поздняковой не имела ничего отталкивающего и скорее располагала в ее пользу. Несмотря на свои зрелые годы – под пятьдесят лет, - она была вполне сохранившаяся, здоровая, полная женщина, какие весьма часто встречаются в среде купечества; морщинки были чуть заметны, со щек не исчез румянец, а черные глаза стали редки и, местами, седые да на макушке головы образовалась пьешь, прикрытая постоянно чупчиком с рюшками. Кумушки и знакомые Христины Кирсановны были не прочь найти ей женишка, даже «настоящего амура», так как претендентов на ее руку было множество, разных возрастов и званий, но Позднякова сердилась при малейшем намеке на ее замужество. (Шкляревский 1993, с. 216) 122 Между прочим, финал этой повести отдаленно напоминает развязку романа Достоевского «Идиот» (<1868>). Пожилой помещик-самодур Масоедов в ответ на просьбу своего камердинера Ксенофонта женить его на служанке Христине делает ее своей любовницей. Ксенофонт пускается в бегство, убивает человека и успешно хозяйничает на юге России под чужой фамилией. Спустя много лет Масоедов встречает его, узнает и пытается доказать, что это его беглый холоп. Доказательство этому находится в одном из писем Ксенофонта к Христине. Поскольку ставшая ростовщицей Христина не желает отдать это письмо Масоедову, тот убивает ее и забирает письмо. Приговоренный к телесному наказанию Ксенофонт и «к ссылке на каторжную работу на заводах, на пятнадцать лет» (Шкляревский 1993, с. 280), Ксенофонт умирает, не выдержав наказания плетьми. Как видим, мотивы «Преступления и наказания» довольно причудливо соединились в этой повести Шкляревского с мотивами романа «Идиот». По существу, Масоедов убивает не старуху-процентщицу, а свою бывшую наложницу, чем скорее напоминает Рогожина. Разумеется, в «Русском Тичборне» совсем нет сложной религиозной и философской проблематики, раскрывающейся через повествование об убийстве, что составляет индивидуальное своеобразие Достоевского. У Шкляревского вместо этого мы находим довольно занимательную историю с расхожими обличительными мотивами. 123 Некоторые мотивы романа «Идиот» (и в то же время повести Герцена «Кто виноват?») варьируются в повести Шкляревского «Что побудило к убийству? (Рассказ следователя)», опубликованной спустя четыре года после выхода шедевра Достоевского. У одного из ее героев, отставного полковника Верховского, отдаленно напоминающиего героя «Идиота» Тоцкого, от гувернантки рождается незаконнорожденный сын, которого берет на воспитание его жена. Аналогичным образом отставной генерал Негров в повести Герцена делает наложницей дочь своего крестьянина, у нее родится дочь, а он сам вскоре после этого женится, и девочку по настоянию его жены берут на воспитание в их дом. Как и Шкляревский, Достоевский частично воспользовался в «Идиоте» сюжетной схемой повести Герцена (и в то же время романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями»). 51 Так что сходство в данном случае отчасти предопределено общими литературными источниками двух произведений. Что касается непосредственной связи между ними, то, поскольку у Шкляревского эпизод с гувернанткой имеет эпизодический характер, то она, в общем, минимальна. Тем более что гувернантка Шкляревского лишь в самом начале отдаленно напоминает неистовую Настасью Филипповну, но потом легко соглашается отдать своего сына и даже вступает в новую связь – с мужем хозяйки дома, в котором она служит. 124 Как мы видим, в отличие от Достоевского, Шкляревский изображает жизнь не в ее исключительных, а в более-менее расхожих проявлениях. Тем не менее, не исключено, что в его повести отозвались и некоторые мотивы «Преступления и наказания» (история службы сестры Раскольникова Дуни в доме Свидригайлова). Несомненно, однако, что сам Достоевский, в свою очередь, тоже не прошел мимо творчества Шкляревского. Это особенно хорошо видно на примере повести Шкляревского «Что побудило к убийству? (Рассказ следователя)». Сюжет ее – история убийства отставного полковника Верховского его незаконнорожденным сыном Ховским. Ведущего самый развратный образ жизни и проживающего в доме со своей женой и любовницей-француженкой Верховского его незаконнорожденный сын Ховский убивает в порыве гнева, став свидетелем избиения Верховским своей жены. Впоследствии повествователю, он сам знакомому признается с семьей в убийстве Верховских. следователюРуководствуясь сочувствием к Верховской, оказавшейся невольной соучастницей убийства (она тайно впустила Ховского в дом), следователь позволяет Ховскому скрыться. В своем сочувствии преступнику он заходит еще дальше, чем Порфирий Петрович из «Преступления и наказания». В финале повести мы читаем: 125 Я пожал плечами: – Вы хотите, чтоб следователь учил вас давать показания? Рукопись судебного следователя кончается на этом вопросе: дальнейшего хода дела мы не знаем. Но в конце рукописи приписано другою рукою следующее: «Безбожное дело это ничем не кончилось, потому что преступник очень ловко улизнул неизвестно куда, должно быть в Америку, где его искать никто не будет. Как мне доподлинно известно, Ховский убежал с деньгами, которые ему доставила мачеха его, ныне инокиня Агапия. Что касается судебного следователя, то он умер в холеру 1866 г. и погребен на Волковом кладбище. Человек он был хороший, бескорыстный, но слабый. Было у него слишком много того, что называется “чувством”, а судебному следователю этого не полагается». 52 Пусть и самым отдаленным образом, но все это напоминает роман Достоевского «Братья Карамазовы», причем различные сюжетные детали, относящиеся к Ховскому, предвещают – хотя и в самом общем плане – то Смердякова, то Дмитрия Карамазова (характером и темпераментом он, безусловно, ближе к последнему). 126 Так был ли Шкляревский «русским Габорио»? Так был ли Шкляревский «русским Габорио» и, если да, то в какой степени? Попытаемся ответить на этот вопрос, опираясь не на его литературную репутацию и суждения о нем критиков, а на сами произведения Шкляревского. Уже при самом беглом обзоре их можно заключить, что прозвище «русский Габорио» все же было дано ему не случайно. Так, сюжетная интрига «Русского Тичборна» и особенно его завязка напоминает роман Габорио «Дело вдовы Леруж». Ведь его героиня, вдова Леруж, тоже была убита в ее собственном доме, причем также с целью похищения у нее документа, доказывающего, что никакой подмены детей, задуманной графом де Коммареном, не было и что ее убийца, Ноэль Жерди, вовсе не сын графа. Правда, жертва преступления в романе Габорио, как и у Достоевского, вовсе не вызывает симпатии, которую вызывает ростовщица Шкляревского. Когда читаешь изображение обстановки комнаты, в которой была убита процентщица Шкляревского Христина Кирсановна Позднякова, коекакие частные параллели с романами Габорио напрашиваются сами собой: На полу, близ Поздняковой, валялась еще опрокинутая, поти вся сгоревшая, сальная свеча в высоком медном шандале, а далее, у комода, лежали в куче и разбросанными разные вещи: шали, платки, столовые и чайные ложки, ценное белье, часы, коробочки, футляры и тому подобное, 127 причем три первых ящика были выдвинуты… Как видно, убийца искал в них какую-то одну вещь и, нашедши ее в третьем ящике, четвертый и пятый оставил нетронутыми. (Шкляревский 1993, с. 218) Это описание похоже на беглый конспект описания обстановки в доме вдовы Леруж после ее убийства: У правой стены по обе стороны окна помещались два великолепных шкафа орехового дерева с бронзовыми накладками изящнейшей работы. Шкафы были пусты, их содержимое – скомканное платье и белье – валялось по всей комнате. В глубине у камина зиял распахнутый настежь стенной шкаф с посудой. По другую сторону камина стоял взломанный старинный секретер с треснувшей мраморной доской, в котором кто-то обшарил все до последнего уголка. Оторванная откидная полка болталась на одной петле, вытащенные ящики были брошены на пол. Слева находилась развороченная постель. Даже тюфяк был вспорот. (Леруж, с. 33) Следы еще более лихорадочных поисков демонстрирует изображение дома графа де Тремореля после совершенного в нем убийства: Следующей была спальня. Она подверглась ужасающему разгрому, от которого мороз продирал по коже. Любой предмет меблировки, 128 любая безделушка свидетельствовали о жестокой, отчаянной, беспощадной борьбе между убийцами и жертвами. Посреди комнаты – перевернутый лаковый столик, вокруг – куски сахара, позолоченные чайные ложки, осколки фарфора. (Орсиваль, с. 14) Разумеется, это последнее изображение сильно отличается: убийца графини постарался создать впечатление борьбы хозяев дома за свою жизнь и замаскировать поиски рукописи Соврези, в которой была рассказана история его отравления Бертой и графом де Треморелем. Тем не менее, слегка трансформированные Шкляревским сюжетные ходы романов Габорио, по-видимому, действительно реализованы им через видоизмененные им описания французского романиста. Напоминают Габорио и некоторые другие произведения Шкляревского. Так, например, в сюжетной основе его повести «Секретное следствие», впервые опубликованной в 1874 году, лежит история отравления Зинаиды Можаровской влюбленной в ее мужа, Аркадия Николаевича, Авдотьей Крюковской. Ранее, для того, чтобы выйти за него замуж за Аркадия Николаевича, пока он еще был не женат, Крюковская отравляет своего мужа. Однако Можаровский тем временем женится. Все это отчасти, конечно же, напоминает сюжет романа Габорио «Преступление в Орсивале», в котором жена Соврези Берта отравляет своего мужа, чтобы стать женой его друга и своего любовника графа де Тремореля. 129 Героиня Габорио пользуется при этом аконитином, в течение двух недель добавляя его в питье Соврези. Героиня Шкляревского ничуть не уступает Берте в изобретательности. Она колет Можаровскую отравленной булавкой с нанесенным на ее кончик ядом кураре. В обоих случаях речь идет о довольно экзотических ядах, действие которых в то время было очень трудно выявить. У Габорио вопрос этот проясняет доктор Жандрон, у которого аконитин был украден: Когда умирал Соврези, я работал с аконитом, так что отравлен он аконитином. – Аконитином? – удивился Лекок. – Впервые в своей практике встречаюсь с этим ядом. Что-нибудь новенькое? – Не совсем так, – улыбнулся доктор Жандрон. – Говорят, именно из аконита, или из волчьего корня, Медея варила свои страшные отравы, а в Древней Греции и Риме его использовали наравне с цикутой для приведения в исполнение смертных приговоров. – А я и не знал! Правда, у меня почти нет времени, чтобы заниматься этим. Но, вероятно, этот яд Мелеи, как и яд Борджа, утрачен? Мы уже столько утратили! – Успокойтесь, не утрачен. Правда, до сих пор мы были знакомы с ним только по опытам Маттиоли, которые он проводил в шестнадцатом веке над приговоренными к смерти, по трудам Эра, выделившего из него активное начало, то есть алколоид, и по нескольким статьям Бушарда, утверждающего… 130 Когда доктор Жандрон переходил на яды, его трудно было остановить… (Орсиваль, с. 236). В «Секретном следствии» Шкляревского тайну отравления Можаровской раскрывает военный врач Михайловский. Он догадывается, что жертва была отравлена ядом кураре, приводящим к параличу нервной системы, и рассказывает об этом яде следователю: – Вот откуда проникнул яд! – сказал утвердтельно Михайловский. – Теперь я, с полным убеждением, могу сказать вам, что Можаровская отравлена, и именно индейским стрельным ядом, известным в медицине под именем кураре. – Я все-таки недоумеваю, - возразил я ему, - где те источники, из которых вы черпаете ваши предположения и убеждения в отраве? – А о кураре вы имеете хоть какое-нибудь понятие? – Никакого. – Но вы слышали и знаете, что, например, дикие индейцы намазывают свои стрелы ядом. Он известен очень давно. Стрельный яд действует на организм слабый сильнее, смотря по странам, из которых он привезен. Показываемый нами в академии сорт яда был привезен из Парижа. Он состоит из твердых кусков темно-бурого цвета и легко растворяется в перегонной воде, оставляя черный осадок, состоящий только из растительных частей. Ядовитое начало курарина содержится в растворе. Главное действие кураре – полный паралич двигательных нервов, наступающий через несколько минут после отравления. Смерть 131 происходит оттого, что параличом поражаются и те нервы, которые заведывают дыхательными движениями (то есть подыманием и опусканием груди). Поэтому если тотчас по отравлении производить, по известным правилам, искусственное дыхание, то можно оживить отравленного; но если прошло уже несколько минут, то смерть неизбежна, ибо дыхание не может безнаказанно прекратиться на срок больший 10 – 15 минут… (Шкляревский 1993, с. 145-146; см. также: с. 147 - 150) Следователь-повествователь Шкляревского оказывается гораздо терпеливее Лекока, и Ковалевский рассказывает ему о яде кураре еще много разных историй, включая опыты по его испытыванию на самом себе своего товарища по академии Белоцерковского. Так что Шкляревский значительно трансформирует, а подчас и распространяет мотивы «полицейских романов» Габорио. И все же, несомненно одно: у современников, читавших как Габорио, так и Шкляревского, были основания для того, чтобы отчасти связывать между собой два этих имени. Как и в романах Габорио, в повестях Шкляревского, как правило, рассказывается отнюдь не о банальных убийствах ради ограбления, причем убийцами чаще всего оказываются не какие-то посторонние злодеи, а родственники или близкие знакомые жертвы. Так, в повести «Секретное следствие» следователю сразу становится понятно, что он столкнулся именно с подобным случаем: Кошелек был не тронут. В нем находились два кредитных билета, в десять и три рубля, мелочи на шестьдесят пять копеек и лотерейный 132 билет в полтинник. Значит, Пыльнева убита не с корыстною целью… Убийца был знаком с нею и знал ее жизненную обстановку. (Шкляревский 1993, с. 85) Как выяснится в дальнейшем, описываемое Шкляревским убийство несколько напоминает убийство вдовы Клодины Леруж. Если героиня этого романа Габорио была убита Ноэлем Жерди, кормилицей которого она была, то в «Секретном следствии» Пыльневу убивает ее сводная сестра. Эта общая типологическая близость Шкляревского к Габорио объясняет то обстоятельство, что в сознании Чехова оба писателя отчасти сливались и, соответственно, его пародия на детективную литературу метила одновременно и в того, и в другого. 133 Отзвуки произведений Шкляревского в чеховской «Шведской спичке» Перечитав вместе с читателем настоящего «литературоведческого расследования» некоторые произведения Шкляревского, мы теперь не можем не обратить внимания на то, что некоторые их особенности явно отозвались в чеховском рассказе. 53 Иные из них, впрочем, опять-таки дублируют отдельные мотивы романов Габорио. Так, например, главная улика, с помощью которой Дюковский стремится найти убийцу и в конце концов и в самом деле находит – правда, не убийцу, а предполагаемую жертву убийства, причем целой и невредимой: «шведская спичка» – соотносится с главной уликой «Секретного следствия» Шкляревского, в котором жертва задушена «ремнем изящной заграничной отделки». Следователь-рассказчик этой повести также предпринимает немалые усилия, чтобы найти, кем был куплен этот ремень, – не меньшие, чем те, что употребил Дюковский, чтобы найти покупателя «шведских спичек»: Незадолго перед получением для исследования дела об убийстве Пыльневой я читал один английский роман, в котором громадное воровство было открыто единственно по клочку бумажки, брошенной ворами, в который была завернута сальная свеча. Не поможет ли мне, раздумывал я, отыскать убийцу этот ремень? (Шкляревский 1993, с. 82-84) Впрочем, выяснение этого обстоятельства в «Секретном следствии» также вначале только запутывает и без того сложное дело. 134 Некоторые существенные детали у Чехова и Шкляревского соотносятся от противного, что совершенно естественно, учитывая пародийный характер чеховского рассказа. Так, если повесть Шкляревского «Что побудило к убийству? (Рассказ следователя)» начинается докладом полицейского пристава следователю о совершенном преступлении: – Ничего не знаю… Я видел только труп… Поедемте… (Шкляревский 1993, с. 15) – то в «Шведской спичке» ни станового, ни кого-либо другого с самого начала не слишком смущает, что трупа исчезнувшего Кляузова так пока никто и не видел. «Рассказ судебного следователя», впервые опубликованный в 1872 году, открывается изображением толпы, скапливающейся по случаю известия об убийстве: Вдруг обыденная физиономия Валдайской улицы приняла выражение крайнего любопытства: из ворот дома № 36, стоящего посредине улицы, выбежал дворник, средних лет мужчина, в небольшой русой бородке, в полосатой шерстяной рубахе и белом переднике, с сильно испуганным лицом, и закричал, напрягши все силы своего голоса: – Городово-ой! Городовой! Прохожие оглянулись на него с удивлением, умерили свои шаги, а некоторые, желавшие узнать причину такого крика, и совсем остановились. Городового же поблизости нигде не было видно. Дворник повторил свой зов еще несколько раз и, не получив ответа, бросился 135 бежать на угол пересекавшего улицу проспекта. Тут он повторил зов еще громче, и вскоре из виноторговли показался блюститель порядка, с бляхой и полусаблей. – Чего орешь? – откликнулось красное суровое солдатское лицр, с щетинистыми усами. – Бога ради, пожалуйста, дядюшка, поскорее к нам в дом: у нас в доме неблагополучно: жиличку кто-то удушил ночью! – проговорил растерянно и торопливо дворник. – Как так? – Не могим знать-с… Вот, пожалуйте, сами увидите… В участок, что ли, надо оповестить? – Беспримерно в участок… Кончив рапорт, дворник крупной рысью побежал обратно к своему дому, у которого уже собралась целая толпа, Бог весть откуда набравшаяся, состоявшая наполовину из детей, уличных ребятишек, мальчиков и девочек, больших охотников до всяких зрелищ. Вслед за ним, хотя немного и медленнее, припустил и городовой, подобрав полусаблю и на ходу ворча сквозь зубы: «Ну ж жизнь! Проклятая! Спокою никакого нет! За одну неделю три оказии: там повесилась, там зарезался, здесь задушили… Где бы жить себе поспокойнее, а они только тревожат нашего брата!» – Чего вы тут зеваете? – обратился он к толпе. – Что за диво такое? Ну, удушили. Что с того? Рано ли, поздно ли – всем умирать приходится, а как умрешь – про то никто не ведает. Эка невидаль какая. Разойдитесь, господа! – заключил философ. – Я вас прошу честно и благородно. – Пойдемте, сделайте милость! – торопил его дворник. 136 Толпа и не думала расходиться. – Вот народ! Ну что ты с ним поделаешь? – спросил самого себя городовой. – Ничего не поделаешь! – отвечал он затем, вздохнув, покачал головой и, хлопнув обеими руками по своей шинели, пошел за дворникмо в квартиру, где случилось происшествие. (Шкляревский 1993, с. 78) Мы намеренно привели столь обширный фрагмент из «Рассказа судебного следователя», чтобы дать понятие читателю о том, в чем была сила Шкляревского как писателя, которая действительно ставила его выше Габорио и других авторов «полицейских романов». Она – в яркости и живописности нарисованной им сцены, как будто бы подсмотренной на петербургской улице. Это почти «физиологический очерк» (популярный жанр русской беллетристики 1840 – 1860-х годов), с той разницей, что в нем не только дотошно изображена определенная социальная среда; наполняющие ее люди не просто присутствуют – они «живут» в этом тексте. Яркость словесных портретов и живописность деталей обстановки обличают в Шкляревском замечательного знатока и бытописателя русской жизни 1860-1870-х годов. 137 Глава шестая ЧЕХОВСКИЙ РОМАН “ДРАМА НА ОХОТЕ” В РЯДУ ЕВРОПЕЙСКИХ “ПОЛИЦЕЙСКИХ” И РУССКИХ “УГОЛОВНЫХ” РОМАНОВ Итак, как мы видели выше, «полицейские романы» Эмиля Габорио представляют собой, как правило, рассказанные от автора истории расследований каких-то необычных уголовных историй, которые проводит какой-то замечательный детектив. Русский «уголовный роман», и произведения Александра Шкляревского в этом смысле не исключение, – это, как правило, рассказанные самим, причем далеко не каким-то выдающимся и в основном безымянным, следователем истории запутанных преступлений, которые в конце обычно раскрываются, но это далеко не обязательно приводит к наказанию преступника. Так, например, герой-рассказчик повести «Что побудило к убийству? (Рассказ следователя)» сам позволяет Ховскому изменить показания, а потом и скрыться, а в «Рассказе судебного следователя» убийца своей сестры Ластова после сделанного ввиду предъявления ей неопровержимой улики признания, похитив эту улику, отказывается от своих слов и сама же обвиняет следователя в угрозах и преступных домогательствах. В этом плане чеховский роман «Драма на охоте (Истинное происшествие)», безусловно, принадлежит в первую очередь к отечественной традиции «уголовного романа» (напомню, что именно к ней же отсылает прежде всего и «Шведская спичка», имеющая подзаголовок «уголовный рассказ»). 138 Это ведь тоже повестовование от лица следователя о преступлении, которое он расследовал. Причем если этот следователь и сам был действенным участником всей этой приведшей к убийству истории и хорошо знал всех ее действующих лиц, включая жертву (Оленька) и главного подозреваемого (Урбенин), то в этом отношении роман Чехова ничуть не выпадает из ряда русских «уголовных романов»; достаточно вспомнить хотя бы повесть Шкляревского «Что побудило к убийству?». Чеховская «Драма на охоте» оказывается, впрочем, сложнее в повествовательном отношении, чем большинство русских «уголовных романов». Она включает в себя не только рассказ судебного следователя, также озаглавленный «Драма на охоте», только другим с подзаголовком «Из записок судебного следователя», но и предисловие от редактора газеты, ознакомившегося с нею и предлагающего вниманию публики, а также послесловие к нему от редактора, в котором поясняется характер публикации текста повести героя, а также рассказано о новой и последней встрече с ним. Таким образом, не только следователь-повествователь представлен у Чехова в двух ипостасях: как герой-рассказчик Сергей Петрович Зиновьев и реальное лицо, «Иван Петрович Камышев, бывший судебный следователь» (С 3, 243). В «Драме на охоте» текст собственно «уголовного романа» и, соответственно, точка зрения его автора сопровождается скептическими подстрочными редакторскими примечаниями к нему (подписанными собственными инициалами Чехова – А.Ч.), сдержанной оценкой этого произведения редактором газеты в предисловии и признанием его в том, что текст повести Камышева опубликован с существенными сокращениями в послесловии. 139 Впрочем, некоторые подступы к такой, более сложной повествовательной структуре и «игре» точками зрения содержали уже и некоторые из произведений Шкляревского. Так, например, «Рассказ судебного следователя» венчается его сообщением о том, что он был отстранен от следствия. Повесть же «Что побудило к убийству? (Рассказ следователя)» совершенно сходным образом с чеховской «Драмой на охоте» в финале оказывается рукописью следователя, которая обрывается на полуслове, а далее следует пояснение: Рукопись судебного следователя кончается на этом вопросе: дальнейшего хода дела мы не знаем. (Шкляревский 1993, 73) – и короткое послесловие автора, в котором сообщается о бегстве преступника и смерти следователя. Так что, по существу, в нарратологическом отношении Чехов лишь развил повествовательную структуру, намеченную в этой повести Шкляревского. Однако самым существенным отличием «Драмы на охоте» от повести «Что побудило к убийству?» и от всех остальных «рассказов следователя» Шкляревского, равно как и от полицейских романов Габорио, является то, что из рукописи «Записок…» Камышева становится понятно, а в послесловии редактор и прямо заявляет ему: действительным убийцей является не понесший наказание Урбенин, а сам Камышев. Таким образом, Чехов не только впервые сделал убийцей самого следователя (чего не было ни у Шкляревского, ни у Габорио и что стало достаточно расхожей развязкой, только начиная с «Тайны Желтой комнаты» (1907) Гастона Леру). 140 Одним из первых, если не впервые в истории европейского детективного романа, Чехов написал «Записки судебного следователя», которые не раскрывали, а, напротив, камуфлировали – впрочем, достаточно неискусно – истинного убийцу. 141 «Драма на охоте» Опыт «медленного чтения» и «интерпретативного комментария» Прочитаем вместе роман Чехова посредством «медленного чтения», которое рекомендовал как лучший способ понимания литературных произведений замечательный русский мыслитель Михаил Гершензон. При этом будем обращать внимание на места, важные для выяснения литературной ориентации и художественного своеобразия Чехова в этом произведении. А заодно и на места, важные для общей интерпретации произведения – элементы так называемого «интерпретативного комментария»: художественные рефрены, лейтмотивы, референциальные , сигналы интертекстуальной ориентации, смыслы интертекстуальности и т.п. Еще в предисловии к тексту «рукописи» Камышева сам герой утверждает не только ее четкую жанровую принадлежность, но, даже более того, «шаблонность» ее по отношению к русскому «уголовному роману»: – Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но… в ней вы найдете быль, правду… Все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах… Я был и очевидцем и даже действующим лицом. (С. 3, с. 244) 142 Это подчеркивание автобиографичности повести со стороны Камышева, очевидно, имеет характер указания на ее жизненность. Как мы видели выше, именно за то, что самый сюжет вовсе не заимствован из жизни, факты подтасованы и ходульны критиковал Габорио сам Шкляревский. Редактор газеты, от лица которого ведется повествование в предисловии, разумеется, сразу же понимает, к какого рода литературе относится повесть Камышева. Кстати сказать, называя свое произведение «повестью», Камышев также аттестует себя как последователя в первую очередь Шкляревского, а не Габорио, писавшего почти исключительно «романы». Однако сам редактор не хочет даже входить в эти различия. Для него все это один род литературы, и плох он именно тем, что сосредоточен исключительно на детективной стороне дела (что, впрочем, опять-таки было присуще в большей степени Габорио, чем Шкляревскому): – Дело в том, что наша бедная публика давно уже набила оскомину на Габорио и Шкляревском. Ей надоели все эти таинственные убийства, хитросплетения сыщиков и необыкновенная находчивость допрашивающих следователей. Публика, конечно, разная бывает, но я говорю о той публике, которая читает мою газету. (С. 3, 244) 143 При этом чеховский «редактор», несомненно, высказывает взгляд и на французский «полицейский» и на русский «уголовный» роман самого Чехова. Собственно рукопись Камышева начинается с обычного для повестей Шкляревского изображения состояния следователя перед тем, как его вызывают на дело. Сравним ее, например, с «рассказом следователя» «Что побудило к убийству?», начало которого содержит ряд близких к «Драме на охоте» мотивов. В частности, оба произведения начинаются в необыкновенно жаркую пору. В «Драме на охоте» даже в шестом часу вечера солнце стояло еще высоко и жгло с таким же усердием, как и три часа тому назад. До захода и прохлады оставалось еще много времени. <…> Ивану Демьянычу (попугаю героя повести Камышева – С.К.) было так же душно, как и мне. (С. 3, 246, 248). Что касается «Рассказа следователя», вышедшего из-под пера Шкляревского, то он открывается фразой: – Происшествие, которое я хочу вам рассказать, случилось в Петербурге в 186* году в сентябре, отличавшемся в тот год необыкновенными жарами, так что петербуржцы заставили свои окна двойными рамами лишь после Покрова. (Шкляревский 1993, с. 14) 144 У Шкляревского следователь живет в Петербурге, в меблированных комнатах, и его произведение начинается для русского «уголовного романа» довольно традиционно: Ночь под шестнадцатое сентября я промучился страшной бессонницей и заснул только в девять часов утра, когда прислуга уже распорядилась подать мне самовар; но и здесь мне не удалось подремать порядком: кто-то сильно стал стучать в мою дверь, против чего коридорный попытался робко протестовать замечанием, что я целую ночь не спал. – Ничего… По очень нужному делу, –– отвечал на это мужской голос и непосредственно отнесся ко мне: –– Господин следователь, отопритесь! Делать было нечего: я встал, отпер дверь и очутился лицом к лицу с полицейским приставом, мужчиною высокого роста, с большими русыми бакенбардами, одетым в полную форму. –– Сделайте милость, извините, что обеспокоил, – сказал он, – будьте добры, одевайтесь и поедемте сейчас со мною. В вашем участке случилось важное преступление… В квартире полковника Верховского совершено убийство… (Шкляревский 1993, с. 15) У Чехова «Записки судебного следователя» также начинаются с пробуждения следователя ото сна, но это происходит вечером: — Муж убил свою жену! Ах, как вы глупы! Дайте же мне наконец сахару! 145 Этот крик разбудил меня. Я потянулся и почувствовал во всех своих членах тяжесть, недомогание... Можно отлежать себе руку и ногу, но на этот раз мне казалось, что я отлежал себе всё тело от головы до пяток. Не укрепляющим, а расслабляющим образом действует послеобеденный сон в душной, сушащей атмосфере, под жужжанье мух и комаров. Разбитый и облитый потом, я поднялся и пошел к окну. (С. 3, 246) Чуть ниже эту особенность жизни не городского, а деревенского следователя комментирует его слуга Поликарп: – А в котором часу они просыпаются? — донесся до меня чей-то бас из передней... — Как когда! — отвечал голос Поликарпа. — Когда и в пять просыпается, а когда и до утра дрыхнет... Известно, делать нечего... (С. 3, 248) Между тем к Сергею Зиновьеву также пытаются прорваться гости – но не пристав и не по делу. Это посыльный живущего неподалеку графа Алексея Карнеева. Он прислал Зиновьеву письмо, в котором просит пожаловать к нему в гости. Причем из этого письма и комментариев Поликарпа сразу становится понятно, что раньше «следователь» ездил к графу не только не по какомулибо делу, а просто для участия в пьяных оргиях. Таким образом, уже зачин чеховской «Драмы…» содержит определенный, пока еще, впрочем, почти неощутимый налет пародии, 146 который успешно развивается и в дальнейшем (нам только еще предстоит ответить в дальнейшем на вопрос о том, на что прежде всего направлена чеховская пародия). Тем более что и очередной визит следователя к графу кончается кутежом с цыганами, в продолжение которого Зиновьев жжет кредитные билеты, а в конце бьет мужика веслом по голове. Такая «активность» чеховского следователя в сопоставлении с вечно озабоченными загадками очередного преступления следователями Шкляревского не может не заставить улыбнуться читателя, хорошо знакомого с русским «уголовным романом». Обратим внимание также на то, что не только буржуа, но и герои знатного происхождения действовали в большей части романов Габорио, и эту же особенность мы обнаруживаем в романе Чехова. Если же вспомнить, что слуга Зиновьева Поликарп, читающий все подряд, «из всей массы печатного и писанного» признает одни только страшные, сильно дейстующие романы с знатными «господами», ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил «чепухой». (С. 3, 251), очевидно, что острие чеховской пародии направлено не в меньшей мере и на французский «полицейский» и, шире, вообще на авантюрный роман. Что касается первого, то его присутствие в подтексте чеховского романа ощущается постоянно. Этому способствуют достаточно прямые авторские референциальные сигналы вроде, например, следующего: письмо графа Карнеева к следователю Зиновьеву, в котором граф приглашает его приехать к нему, начинается с фразы: 147 «Милый мой Лекок!...» (С. 3, 249). Если проанализировать дальнейшее развитие сюжета чеховской «Драмы на охоте», то нетрудно заметить, что это по преимуществу не столько «уголовный», сколько любовный роман. Не случайно сам Камышев определял сюжет своей «повести» как «Любовь, убийство…» (С. 3, 244). Так вот: на протяжении едва ли не больше, чем трех четвертей текста, речь в камышевской повести идет именно о «любви». 54 И только в самом конце происходит убийство и его расследование. Между прочим, в этом отношении чеховский роман также похож не столько на романы Габорио, сколько на повести Шкляревского, в которых многое, о чем рассказывается, не имеет такого уж прямого отношения к совершенному преступлению. произведение, которое иногда И напоминает также еще одно рассматривают как известное русский детективный роман: «Преступление и наказание» Достоевского. Замужество Ольги за Урбениным, ее связь с Зиновьевым, затем с графом… Только после эпизода с пикником, совершив своего рода круг, действие вновь возвращается к начальной точке. Вернувшегося с пикника Зиновьева, улегшегося в постель, будит Щур, пришедший с известием о том, что Надя Калинина отравилась. Их разговор прерывается стуком в дверь Зиновьева, возвещающем о приходе посыльного с письмом от графа Карнеева. В этом письме извещение об убийстве Ольги и просьба «сейчас же» (С. 3, 368) приехать. Строго говоря, все, что было между приездом 148 посыльного от графа в самом начале повести Камышева и приездом посыльного от графа в ее финальной части, для собственно «уголовного» сюжета необязательно и могло бы быть опущено. Только здесь повесть Зиновьева выезжает на рельсы русского «уголовного романа». Далее этот собственно «уголовный» сюжет развивается у Чехова стремительно, местами представляя собой беглый конспект-вариацию обязательных элементов русского «уголовного романа». Возможно, именно этим объясняется то, что, как заметил еще Ал.А. Измайлов, художественное достоинство романа резко падает с момента убийства героини… Обычный вкус, обычная бытовая меткость как бы изменяют Чехову, и весь конец «Драмы на охоте» несравненно ниже его дарования. 55 Приехав в дом графа, Зиновьев узнает, что «первыми вестниками», известившими об убийстве Ольги, были «старый лакей Илья» и затем ее муж Урбенин. Поскольку последний является из леса с «окровавленными руками», то, естественно, возбуждает всеобщее подозрение. Найденная еще в сознании Ольга до своей скорой смерти так и не называет имя своего убийцы. В присутствии других людей ее перед смертью допрашивает Зиновьев, намекая ей на то, что убийца «пойдет в каторжные работы» (С. 3, 378), и она отказывается назвать его. После допроса Урбенина Зиновьев распоряжается взять его под стражу. Мы помним, что в романах Габорио и повестях Шкляревского на место преступления, как правило, является сразу несколько полицейских 149 и следователей. В повести Камышева, по всей видимости, потому, что действие происходит в глуши, в сельской местности, помимо Зиновьева, туда вначале больше никто не является. И только «на другой или на третий день прикатил из города товарищ прокурора Полуградов» (С. 3, 389). Этот «товарищ прокурора» изображен Камышевым весьма критически. Однако читатель вполне может отнести это на счет критической оценки этим героем того, как до его приезда вел следствие Зиновьев: — Ну-с, — приступил он, наконец, к делу, перелистывая наши протоколы, — в чем дело? Я рассказал ему, в чем дело, не пропуская ни одной подробности... — А на месте преступления были? — Нет, еще не был. Товарищ прокурора поморщился, провел своей белой, женской рукой по свежевымытому лбу и зашагал по комнате. — Мне непонятны соображения, по которым вы еще там не были, — забормотал он: — это прежде всего нужно было сделать, полагаю. Вы забыли или не сочли нужным? — Ни то, ни другое: вчера ждал полицию, а сегодня поеду. — Там теперь ничего не осталось: все дни идет дождь, да и вы дали время преступнику скрыть следы. По крайней мере, вы поставили там сторожа? Нет? Н-не понимаю! И франт авторитетно пожал плечами. (С. 3, 389). 150 Протокол, составленный Зиновьевым, и протоколы врачей вызывают у Полуградова глубокий скептицизм, а осмотр места преступления ничего не дает: В полдень мы были на месте преступления. Шел проливной дождь. Конечно, не нашли мы ни пятен, на следов: всё было размыто дождем. Коекак удалось мне найти пуговицу, недостававшую на амазонке убитой Ольги, да товарищ прокурора подобрал какую-то красную мякоть, которая впоследствии оказалась красной табачной оберткой. Сначала мы было набрели на куст, у которого были надломаны две боковые веточки; товарищ прокурора обрадовался этим веточкам: они могли быть сломаны преступником, а потому указывали бы направление, по которому шел преступник, убив Ольгу. Но радость прокурора была напрасна: скоро мы нашли много кустов с поломанными ветками и ощипанными листьями; оказалось, что через место преступления проходил скот. Набросав план местности и расспросив взятых с нами кучеров о положении, в котором была найдена Ольга, мы поехали обратно, чувствуя себя не солоно хлебавши. Когда мы исследовали место, в движениях наших посторонний наблюдатель мог бы уловить лень, вялость... Быть может, движения наши отчасти были парализованы тем обстоятельством, что преступник был уже в наших руках и, стало быть, не было надобности пускаться в лекоковские анализы. (С. 3, 390) Новый допрос Урбенина – на сей раз не только Зиновьевым, но и Полуградовым, затем допрос графа Карнеева, убежденного, что Ольгу убил из ревности к ней не простивший ее ухода от него к графу Урбенин. 151 Затем следует эпизод обвинения крестьянами слуги графа, одноглазого Кузьмы, прислуживавшего на пикнике. Те заметили у него на одежде пятна крови, которые он пытался отмыть на реке, что случайно увидел объездчик Трифон (последний эпизод отдаленно соответствует в «Шведской спичке» свидетельству пастуха Данилки, купавшегося в реке и видевшего, как два человека шли по мосту и несли «что-то черное»). Сам Кузьма объясняет кровь на своей одежде следующим образом: Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться... — Чтобы мне сгинуть, ежели это я... Чтобы ни отцу, ни матери моей... Ваше благородие! Убей бог мою душу... — Ты уходил в лес? — Это правильно-с, я уходил... подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость; ударило мне в голову и захотелось полежать, пошел, лег и заснул... А кто убил и как, не знаю и ведать — не ведаю... Истинно вам говорю! — А зачем ты отмывал кровь? — Боялся, чтобы чего не подумали... чтобы в свидетели не забрали... — А откуда на твоей поддевке взялась кровь? — Не могу знать, ваше благородие. — Как же не можешь знать? Ведь поддевка твоя? — Это точно, что моя, но не могу знать: увидал кровь, когда уже был проснувшись. — Так, стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь? 152 (С. 3, 394-395) Подумав, он все же дает иное объяснение этому: — Чудное... словно, как во сне или в тумане... Лежу я на траве пьяный и дремлю, не то я дремлю, не то совсем сплю... Только слышу, кто-то идет мимо и ногами сильно стучит... открываю глаз и вижу, словно как бы в беспамятстве или во сне: подходит ко мне какой-то барин, нагинается и вытирает руки о мои полы... вытер о полы, а потом рукой по жилетке мазнул... вот так. — Какой же это барин? — Не могу знать; помню только, что это был не мужик, а барин... в господском платье, а какой это барин, какое у него лицо, совсем не помню. — Какого же цвета у него было платье? — А кто его знает! Может, белое, а может, и черное... помнится только, что это был барин, а больше ничего не помню... Ах, да, вспомнил! Нагнувшись, они вытерли свои ручки и сказали: «Пьяная сволочь!» — Это тебе снилось? — Не знаю... может, и снилось... Только откуда же кровь взялась? — Барин, которого ты видел, похож на Петра Егорыча? 396 — Словно как бы нет... а может быть, это и они были... Только они сволочью ругаться не станут. — Ты припомни... ступай, посиди и припомни... может быть, вспомнишь как-нибудь. — Слушаю. (С. 3, 395-396). 153 Далее следуют хорошо известные преимущественно по романам Габорио, а не по повестям Шкляревского (а также по «Шведской спичке» самого Чехова) трения между Полуградовым и Зиновьевым: Прилетал еще раз Полуградов. — Вот видите-с! — сказал он. — Осмотри вы место преступления тотчас же, то, верьте, теперь всё было бы ясно, как на ладони! Допроси вы тотчас же всю прислугу, мы еще тогда бы знали, кто нес Ольгу Николаевну, а кто нет, а теперь мы не можем даже определить, на каком расстоянии от места происшествия лежал этот пьяница! Часа два бился он с Кузьмой, но последний не сообщил ему ничего нового; сказал, что в полусне видел барина, что барин вытер о его полы руки и выбранил его «пьяной сволочью», но кто был этот барин, какие у него были лицо и одежда, он не сказал. — Да ты сколько коньяку выпил? — Я отпил полбутылки. — Да то, может быть, был не коньяк? — Нет-с, настоящий финь-шампань... — Ах, ты даже и названия вин знаешь! — усмехнулся товарищ прокурора... — Как не знать! Слава богу, при господах уж три десятка служим, пора научиться... Товарищу прокурора для чего-то понадобилась очная ставка Кузьмы с Урбениным... Кузьма долго глядел на Урбенина, помотал головой и сказал: 154 — Нет, не помню... может быть, Петр Егорыч, а может, и не они... Кто его знает! Полуградов махнул рукой и уехал, предоставив мне самому из двух убийц выбирать настоящего. (С. 3, 396-397). Наконец, Кузьма вспоминает, кто же был этот барин, вытерший свои окровавленные руки о его одежду, но некоторое время не решается сказать об этом Зиновьеву. Догадываясь, что Кузьма собирается назвать его самого, Зиновьев говорит Урбенину, что будто бы Кузьма вспомнил, что этим человеком был сам Урбенин. Якобы из опасений за здоровье Урбенина Зиновьев распоряжается пускать его «гулять по коридору днем и даже ночью». После одной из таких ночей Кузьма «найден в своей постели мертвым» (С. 3, 399). На допросе Урбенин сообщает Зиновьеву, что слышал, как кто-то вынул из двери моей ключ и отпер соседскую камеру. Минутки через две я услышал хрипенье, а потом возню. Думал я, что это сторож ходит и возится, а хрипенье принял за храп, а то бы я поднял шум. (С. 3, 401). И в этот момент, когда Зиновьев сделал все от него зависящее, чтобы отвести подозрение в убийстве от себя самого, не остановившись ради этого даже перед новым убийством, он принужден сообщить читателю, что принужден подать в отставку: На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или, вернее, приказ подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело... Моему увольнению много 155 способствовали также убийство в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги, и, если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело. Произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам. (С. 3, 402). Подобное объяснение своего отстранения от расследования данного дела и вынужденного ухода в отставку, само собой разумеется, не вызывает большого доверия у читателя. Однако дальнейшее расследование не приносит ощутимых результатов: Благодаря толкам и газетным корреспонденциям, поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля*. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп. (С. 3, 402). Кстати, эта деталь: отстранение следователя от следствия – встречается и в произведениях Шкляревского. Так, например, его «Рассказ судебного следователя» заканчивается именно так: 156 Нечего говорить, что меня устранили от следствия. Все улики были против меня, а не против Ластовой: я запер дверь, я сочинил ее признание с тем, чтоб заставить ее угрозами снизойти на преступную любовь мою, я выдумал какой-то будто бы найденный у нее в доме перстень, тогда как полицейский чиновник, делавший осмотр, просто взял первый попавшийся перстень, и тот, неизвестно куда, скрылся, если не предположить, что я украл его… (Шкляревский 1993, с. 134) Однако у Шкляревского действительно совершившая убийство героиня, сознавшаяся в своем преступлении в виду предъявления ей убийственного доказательства ее виновности, затем похищает это доказательство, отказывается от своего признания и обвиняет следователя в том, что все эти его обвинения были средством «заставить ее угрозами снизойти» на его «преступную любовь» (Шкляревский 1993, с. 134). Совсем другое дело – «Записки судебного следователя» Камышева, из которых, благодаря характеру повествования, также как и из авторских «примечаний» под их текстом, становится ясно, что настоящий убийца – сам Зиновьев-Камышев. Повесть Камышева заканчивается кратким рассказом о судебном процессе, на котором Урбенин был признан виновным в убийстве своей жены и приговорен к каторжным работам. Однако на этом роман Чехова отнюдь не заканчивается. Его венчает рассказ редактора газеты о своей последней встрече с Камышевым. В ходе этой встречи между ними, в частности, происходит такой диалог: 157 — Так-с... Ваша повесть мне нравится: она лучше и интереснее очень многих уголовных романов... Только нам с вами, по взаимному соглашению, придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения... — Это можно. Например, что вы находите нужным изменить? — Самый habitus1 романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, всё есть: преступление, улики, следствие, даже пятнадцатилетняя каторга на закуску, но нет самого существенного. — Чего же именно? — В нем нет настоящего виновника... Камышев сделал большие глаза и приподнялся. — Откровенно говоря, я вас не понимаю, — сказал он после некоторого молчания. — если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то... я уж не знаю, кого следует считать. Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но... если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты. — Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил! — Как же? — спросил Камышев, придвигаясь ко мне. — Не Урбенин! — Может быть. Humanum est errare — и следователи несовершенны: судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись? — Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться. — Простите, я вас опять не понимаю, — усмехнулся Камышев, — если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь 158 понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил? — Вы!! Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся. (С. 3, 410-411). Последний диалог редактора с Камышевым, как уже не раз отмечалось, почти дословно воспроизводит финал наиболее решительного разговора Порфирия Петровича с Раскольниковым. 56 И далее редактор сам рассказывает Камышеву, как все было на самом деле. Между прочим, он объясняет Камышеву и то, почему его художественное воплощение, Зиновьев, в написанной героем повести так плохо вел следствие: Следствие ведете вы безобразно... Трудно допустить, что вы, умный и очень хитрый человек, делали это не нарочно. Всё ваше следствие напоминает письмо, нарочно писанное с грамматическими ошибками, — утрировка выдает вас... Почему вы не осмотрели места преступления? Не потому, что забыли об этом или считали это неважным, а потому что ждали, чтобы дождь размыл ваши следы. Вы мало пишете о допросе прислуги. Стало быть, Кузьма не был вами допрошен до тех пор, пока его не застали за мытьем поддевки... Вам, очевидно, не было надобности впутывать его в дело. Почему вы не допросили гостей, кутивших с вами на опушке? Они видели окровавленного Урбенина и слышали крик Ольги, — допросить их следовало. Но вы этого не сделали, потому что хотя бы один из них мог бы вспомнить на допросе, что вы незадолго до убийства отправились в лес и пропали. Впоследствии, вероятно, они были допрошены, но это обстоятельство было ими уже забыто... 159 (С. 3, 410-411). Правило большинства «уголовных романов», которое соблюдается и в некоторых повестях Шкляревского, заключается, конечно же, в том, что преступник запирается до последнего, а то и переходит в контрнаступление. Впрочем, иногда нарушал это правило и сам Шкляревский, в повести которого «Что побудило убийство?» герой сам признается в совершенном им убийстве. В противоположность этому клише большинства русских «уголовных романов» и в полном соответствии с названной повестью Шкляревского, у Чехова Камышев признает правоту редактора и объясняет написание своих «Записок» следующим образом: — С тех пор прошло уже восемь лет, — начал он после некоторого молчания, — и восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это à propos. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не 160 мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя... Нам опять помешали. Вошел Андрей и принес на подносе два стакана чая... Я поспешил выслать его... — И теперь словно легче стало, — усмехнулся Камышев, — вы глядите на меня теперь как на необыкновенного, как на человека с тайной, — и я чувствую себя в положении естественном... (С. 3, 413-414). В ответ на вопрос редактора Камышев объясняет совершенное им убийство следущим образом: Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта. Вы вот в волнении мой стакан захватили вместо своего и курите чаще обыкновенного... Жизнь есть сплошной аффект... так мне кажется... Когда я шел в лес, я далек был от мысли об убийстве; я шел туда с одною только целью: найти Ольгу и продолжать жалить ее... Когда я бываю пьян, у меня всегда является потребность жалить... Я встретил ее в двухстах шагах от опушки... Стояла она под деревом и задумчиво 161 глядела на небо... Я окликнул ее... Увидев меня, она улыбнулась и протянула ко мне руки... — Не брани меня, я несчастна! — сказала она. В этот вечер она была так хороша, что я, пьяный, забыл всё на свете и сжал ее в своих объятиях... Она стала клясться мне, что никого никогда не любила, кроме меня... и это было справедливо: она любила меня... И, в самый разгар клятв, ей вздумалось вдруг сказать отвратительную фразу: «Как я несчастна! Не выйди я за Урбенина, я могла бы выйти теперь за графа!» — Эта фраза была для меня ушатом воды... Все накипевшее в груди забурлило... Меня охватило чувство отвращения, омерзения... Я схватил маленькое, гаденькое существо за плечо и бросил его оземь, как бросают мячик. Злоба моя достигла максимума... Ну... и добил ее... Взял и добил... История с Кузьмой вам понятна... Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения... Я отвернулся. — А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо. — Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что? — А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?» — А что же мне делать? Идти да сознаваться? — Полагаю. — Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и 162 такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы. — Вы мне гадки, — сказал я. — Это естественно... И сам я себе гадок... (С. 3, 415). Выделенные полужирным места в этом обширном фрагменте романа чрезвычайно важны, так как свидетельствуют о новом и необычном решении темы «преступления и наказания» в романе Чехова. Камышев предстает здесь «своеобразным антиподом Раскольникова».57 Любопытно, что, исповедуясь в финале повести редактору А. Ч., чеховский герой признается ему: восемь лет носил я в себе тайну. Но тайна и живая кровь в организме несовместимы; нельзя безнаказанно знать то, чего не знает остальное человечество. Все восемь лет я чувствовал себя мучеником. 58 О приговоре Раскольникова же в романе Достоевского сообщается: Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе второго разряда, на срок всего только восьми лет, во уважение явки с повинною и некоторых облегчающих вину обстоятельств. осужден на срок всего только восьми лет. 59 На этом основании А.Н.Гершаник делает заключение о том, что преступление первого (то есть Камышева – С.К.) совершается как раз тогда, когда завершается наказание другого. 60 Как отмечает Н.А.Карпов, 163 здесь исследователь допускает небольшую неточность: Раскольников, совершив свое преступление в июле 1865 г., осужден сроком на восемь лет. Камышев же убивает Ольгу раньше предполагаемого освобождения Раскольникова, в августе 1871 г.: к моменту написания рукописи, апрелю 1880 г., «прошло уже более восьми лет». 61 Однако это не так уж важно. Важно то, что осознанные или бессознательные сближения чеховского героя с Раскольниковым поддерживали основную художественную интуицию автора «Драмы на охоте» – о несовпадении внутреннего облика героя Достоевского, как он обрисован в его романе, с обликом человека, зарубившего топором двух женщин и не раскаявшегося в этом. Именно этот смысл несет в себе следующий диалог Камышева с редактором: Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления. «Взял и добил» — было сказано так же легко, как «взял и покурил». В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения... Я отвернулся. — А Урбенин там, на каторге? — спросил я тихо. — Да... Говорят, что умер на дороге, но это еще неизвестно... А что? — А что... Невинно страдает человек, а вы спрашиваете: «А что?» — А что же мне делать? Идти да сознаваться? — Полагаю. — Ну, это положим!.. Я не прочь сменить Урбенина, но без борьбы я не отдамся... Пусть берут, если хотят, но сам я к ним не пойду. Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и 164 такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину... Я не виноват, что они... глупы. (С. 3, 415) Как и повести Шкляревского, чеховский роман, содержащий целый пласт стилизации и пародии на произведения Достоевского и не в последнюю очередь на первый роман его «великого пятикнижия» (о чем речь пойдет в следующих главах), оказывается на поверку, несмотря на всю его пародийность, серьезным высказыванием писателя на эту тему. Как и будущие интерпретаторы «Преступления и наказания» в конце XIX – начале XX в.: Федор Сологуб в его романе 1894 года «Тяжелые сны» или Иван Бунин в напечатанном в 1916 году рассказе «Петлистые уши» – Чехов полемизирует с некоторой неестественностью и нетипичностью истории Раскольникова. Как и герой повести М. Горького «Трое» (напечатана в 1900 году) Илья Лунев, Камышев не только не раскаивается в совершенном преступлении, но и намерен бороться до конца за свою свободу. Мучили его не столько угрызения совести, сколько невозможность рассказать правду о совершенном преступлении и даже в какой-то степени стремление покрасоваться тем, какой он необыкновенный человек. Тем самым чеховский роман, несмотря на всю его пародийность, природу которой мы все же попытаемся выяснить в следующей главе, представляет собой вполне серьезное размышление на тему «преступления и наказания». В какой-то степени герой повести Камышева предвосхищает героевдекадентов из произведений Сологуба и Бунина, Леонида Андреева и Алексея Ремизова, судьба которых, вопреки судьбе Раскольникова, 165 представляла собой историю преступления, но без мук совести, а, может быть, и без наказания. Однако и в романе Сологуба «Тяжелые сны», и в повести Горького «Трое», как и в повести Андреева «Мысль» и в романе Ремизова «Пруд», полемика с Достоевским идет главным образом в сфере героев, в то время как сами повествователи далеко не разделяют их уверенности и оптимизма. Аналогичным образом обстоит дело и в «Драме на охоте», с той только разницей, что несогласие с героем (который в данном случае является одновременно и автором) выражено в ней еще более прямо и откровенно: В свою очередь, и меня охватило чувство злобы и омерзения. Роман «Драма на охоте» заканчивается так: Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно. Несмотря на всю внешнюю несерьезность избранной Чеховым жанровой формы, в своем романе он решает серьезные художественные задачи, которые в дальнейшем будет вновь и вновь ставить перед собой мировая и русская литература XX века. Чехов оспаривает, что настоящий убийца, может вызывать у читателя подлинную симпатию, как это происходит у Достоевского. 166 ЧЕХОВ ПРОТИВ ДОСТОЕВСКОГО Очередное и одно из самых доказательных, хотя и не самых научно-популярных, «литературоведческих расследований» Предуведомление Как мы видели выше, роман Чехова «Драма на охоте» (главным образом в своей финальной части) представляет собой не столько пародию, сколько искусную стилизацию – отчасти под «полицейские романы» Эмиля Габорио, но в большей степени под «уголовные» романы и повести Александра Шкляревского. Как же тогда быть с репутацией этого чеховского произведения как безусловного романа-пародии? 62 И здесь мы довольно неожиданным образом можем обнаружить, что «Драма на охоте» – это действительно роман-пародия. Только предмет у этой пародии совсем иной. Это не французский «полицейски» и русский «уголовный» романы. А тогда что же? 167 Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вначале бросить общий взгляд на отношения молодого Чехова с современной и предшествовавшей ему литературой, в первую очередь с руссой литературной классикой 1860 – 1880-х годов и прежде всего с Достоевским. 168 Чехов «за» и «против» Достоевского Общая полемичность раннего Чехова по отношению к Достоевскому выражена в известном письме Чехова к А.С. Суворину от 5 марта 1889 г.: – Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий. 63 Остается не до конца ясным, что именно Чехов видел в Достоевском «нескромного» и в чем усматривал сказавшиеся в его творчестве «претензии»? Претензии на что? Попытаемся ответить на этот вопрос. Хотя Чехов как будто бы высказывает в этом письме свое впечатление от своего первого знакомства с творчеством Достоевского: – Купил в Вашем магазине Достоевского и читаю. – есть все основания полагать, что в действительности Чехов читал Достоевского и раньше. Во всяком случае именно оно сказалось и в опубликованном еще в 1884-1885 годах романе «Драма на охоте». 64 169 Загадки текста и интертекста чеховской «Драмы на охоте» Любопытные наблюдения об интертекстуальной природе «Драмы на охоте» содержатся в недавней статье Е.Ю. Виноградовой: …сюжет играет разными литературными ассоциациями, и одна аллюзия уступает ведущую роль другой. Аллюзии в «Драме на охоте» сосуществуют в тесной взаимосвязи и часто представляют собой подвижный семантический ряд, в котором по ходу действия происходят иерархические перестановки. <…> Аллюзии в “Драме на охоте” необыкновенно (в сравнении с позднейшим творчеством) активны и влиятельны. Они многое определяют, на них ориентируются сюжет, герои. Их можно назвать ложными эпиграфами ко всей истории. 65 С нашей точки зрения, точнее было бы сказать, что эти аллюзии играют роль ложных версий следствия, запутывающих читателя. При этом исследовательница считает «характерным для “Драмы на охоте”» в большей степени, нежели пародию, явление пародичности, описанное Тыняновым. 170 Однако «пародичностью» Тынянов, как отмечает сама Е.Ю.Виноградова, называл «пародию, не направленную на конкретное литературное явление». 66 При этом он оговаривался, что эта направленность может относиться не только к определенному произведению, но и к определенному ряду произведений, причем их объединяющим признаком может быть – жанр, автор, даже то или иное литературное направление. 67 И вот если взглянуть с этой точки зрения на интертекстуальность «Драмы на охоте», то бросается в глаза, что она характеризуется как раз четкой направленностью на тех или иных авторов и даже на их вполне конкретные произведения. Так что скорее в чеховском романе имеет место как раз пародийность. Только это особая пародийность, которая, по Тынянову, направлена не только на произведение, но и против него. 68 Сложность и неоднозначность «случая» c «Драмой на охоте», однако, состоит в том, что сам сюжет романа развивается по модели то одного, то другого его претекста, а чаще всего одновременно по модели нескольких претекстов. Как мнимое, так и подлинное движение сюжетной коллизии происходит «по рельсам» то одних, то других литературных произведений. И тем не менее, в значительной степени роман представляет собой пародию – только не столько на уголовный роман Эмиля Габорио и Александра Шкляревского, а на наиболее актуальную в 1880-е годы русскую классическую литературу. Это прежде всего произведения Александра Островского и Ивана Тургенева, а также Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Александра 171 Пушкина, Николая Гоголя и др. Однако совершенно исключительную роль в «Драме на охоте» играют пародийные аллюзии на произведения Достоевского. Можно сказать, что в известной мере «Драма на охоте» – это вообще развернутая пародия Чехова на Достоевского, а пародийность по отношению ко многим другим русским и западно-европейским писателям (в том числе к Габорио и к Шкляревскому) играет в ней второстепенную роль. Уже во введении от редактора есть несколько деталей, в которых содержится намек именно на это. Во-первых, Камышев «чревычайно красив» (3, 242), чем, безусловно, напоминает прежде всего Ставрогина (хотя и не только его, конечно), а вовторых, характеристика его повести самим Камышевым: Сюжет не новый… Любовь, убийство – а затем и редактором газеты: В ней много длиннот, немало шероховатостей… Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам… <…> Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что называется sui generis. 2 (3, 244) – как нельзя лучше подходит к Достоевскому, хотя и, разумеется, опять-таки не только к нему. И, наконец, последняя ремарка редактора: Есть в ней и кое-какие литературные достоинства. 2 в своем роде – латин. 172 – в контексте дальнейших бесчисленных пародийных преломлений самых разных произведений Достоевского приобретает характер аллюзии на основной объект пародирования. С самой завязки сюжета отношения Камышева с прислуживающим ему Поликарпом, то и дело выговаривающим своему барину, обрисованы как сходные с теми, которые у «подпольного парадоксалиста» были с его «человеком» Аполлоном. 69 В свою очередь граф Карнеев отчасти напоминает князя К. из повести Достоевского «Дядюшкин сон». Правда, он намного моложе, но не менее изношен, и, в отличие от последнего, которого Москалева пока еще только пытается женить на своей дочери Зине, уже «окручен», как выяснится в финале романа, Созей и Пшехоцким. Портретное изображение Чеховым Пшехоцкого: Рядом с графом за тем же столом сидел какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженой головой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький губы сжаты, и глаза лениво глядят на небо… Черты лица расплылись, но, тем не менее, они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский. (С. 3, 255) – имеет пародийный характер по отношению к «офицеру» Грушеньки: Тот, который сидел на диване развалясь, курил трубку, и у Мити лишь промелькнуло, что это какой-то толстоватый и широколицый 173 человечек, ростом, должно быть, невысокий и как будто на что-то сердитый. (14, 465). Своей внешностью, жадностью и склонностью к картам Пшехоцкий напоминает многочисленных поляков Достоевского – прежде всего эпизодического героя «Братьев Карамазовых», которым была увлечена Грушенька. Причем дерзость Зиновьева с Пшехоцким с самого начала внутренне противопоставлена вежливости и уступчивости Дмитрия Карамазова по отношению к «офицеру» Грушеньки. Имя героя-рассказчика повести Камышева «Сергей», которого все время зовет к себе граф Карнеев, то же, что и у героя романа Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», в котором владелец Степанчикова Егор Ростанев также ждал к себе как избавителя своего племянника Сергея. Кутеж в доме графа Карнеева с цыганами, безусловно, напоминает «почти оргию, пир на весь мир» в Мокром в «Братьях Карамазовых» (глава «Бред»). Когда Зиновьев, которому граф не позволяет заплатить за цыган, начинает жечь кредитные билеты, то, в отличие от Гани Иволгина, Каэтан тушит огонь: – Я не понимаю! – говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. – Жечь деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма… лучше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню (С. 3, 286). 174 Это, конечно же, аллюзия уже на роман Достоевского «Идиот». 70 При этом совершенно правильные вещи говорит человек, от которого их совсем не ожидаешь. Но впоследствии он попросту присваивает эти деньги, хотя они ему, в отличие от Гани Иволгина, ни при каком раскладе не причитались. Далее сюжет начинает строиться как вариация на тему «Бесприданницы» Александра Островского, прямые отсылки к которому содержит гроза и разговор о ней Камышева с Оленькой в самой завязке его повести: – Вы боитесь грозы? – спросил я Оленьку. – Боюсь, – прошептала она, немного подумав. – Гроза убила у меня мою мать… В газетах даже писали об этом… моя мать шла по полю и плакала… Ей очень горько жилось на этом свете… Бог сжалился над ней и убил ее своим небесным электричеством. – Откуда вы знаете, что там электричество? – Я училась. Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от тяжелых родов попадают в рай. <…> Мне кажется, что и меня убьет гроза когда-нибудь и что я буду в раю… Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты… Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели… Страшный гром, знаете, и конец… (С. 3, 271) При этом упоминание Оленькой «электричества» вызывает также некоторые ассоциации с героем «Грозы» Островского Кулигиным. 175 У Островского гроза не убивает Катерину, а вызывает ее публичное признание в грехе. Чеховскую Оленьку «грех» нисколько не беспокоит – вряд ли она даже имеет о нем хоть какое-нибудь представление. Начиная с поездки с Оленькой на шарабане, в романе начинает складываться любовный треугольник, который напоминает отношения между Паратовым, Ларисой и Карандышевым: – Вы замуж… за Урбенина… – проговорил я, бледнея, сам не зная отчего. – Если это не шутка, то что же это такое? – Какие шутки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного… – проговорила – проговорила Оленька, надувая губки. (С. 3, 308) Ассоциации с Карандышевым при этом вызывает, конечно же, Урбенин, а Зиновьев (писательский псевдоним Камышева) скорее играет роль Паратова. Однако его подлинная фамилия «Камышев», созвучная с «Карандышев», выполняет снижающую роль, заставляя предполагать в нем также и некоторые черты последнего. Когда не накануне, а во время обеда по случаю ее замужества и не на пароходе, а в «пещере» Оленька становится любовницей ЗиновьеваКамышева, то, на первый взгляд, она начинает вести себя как Лариса Островского: Теперь мне, как говорится, море по колено! <…> Я тебя люблю и знать ничего не хочу. (С. 3, 325). 176 Однако как только Камышев проявляет совершенно чуждую Паратову решительность: – Сию минуту едем ко мне, Ольга! Сейчас же! <…> Я прижал к себе “девушку в красном”, которая фактически была теперь моей женой… (С. 3, 326) – выясняется, что чеховские Паратов и Лариса просто поменялись местами. Он выказывает готовность на все, а она совсем несвойственное Ларисе Островского благоразумие: И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут! (С. 3, 327) Однако очень скоро в Зиновьеве сказывается Камышев или скорее Карандышев с присущей ему переменчивостью и трусливостью (С. 3, 332). При этом становится ясно, что в действительности еще с той минуты, когда он убеждал Оленьку бросить все и уехать с ним, он начал вести себя как «подпольный» герой, который вначале убеждал Лизу бросить ее ремесло и дал ей свой адрес, а когда она пришла к нему, испугался: Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое я сделал ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, навсегда! (С. 3, 332) «Записки из подполья» становятся для Чехова каркасом еще одного эпизода «Драмы на охоте»: 177 Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза. – Зачем это? – Это я тебе плачу за сегодняшнюю любовь. Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением. – Есть, видишь ли, женщины, – пояснил я, – которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одолжений. Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит “продажные женщины”. (С. 3, 352) Впрочем, к пикнику она уже прозревает: – Таким тоном разговаривают с развратными и продажными женщинами, – проговорила она. – Ты меня такой считаешь… ну и ступай к тем, святым! <…> – Да, ты здесь хуже и подлее всех, – сказал я, – чувствуя, как мною постепенно овладевает гнев. – Да, ты развратная и продажная. – Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги… Тогда я не понимала значения их, теперь же понимаю. (С. 3, 359) 178 Напомним читателю, что у Достоевского Лиза бросает «синюю пятирублевую бумажку» на стол, которую «подпольный парадоксалист» вкладывает ей в руку, чтобы унизить ее, прежде чем выскочить из его квартиры. Трансформация этого мотива Чеховым вначале имеет саркастический характер как по отношению к Достоевскому, так и по отношению к природе женщины (Оленька настолько неразвита, что даже не понимает смысла поступка Камышева). Однако в конце концов и чеховская героиня оказывается способна если не на достойный ответ, то на возмущение. Этот мотив у Чехова менее непосредственно восходит также и к «Игроку» Достоевского и к вторичным источникам, к которым он в свою очередь восходит у Достоевского – романам «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына и «Манон Леско» аббата Прево. Черты «подпольного парадоксалиста», впрочем, причудливо соединяются у Чехова в образе Камышева с деталями поведения Дмитрия Карамазова. Так, будучи «обруган» Поликарпом, Камышев валится на постель и рыдает, как мальчишка: – Ааа… ты еще смеешь говорить мне дерзости! – задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. – Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! И не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в постель и зарыдал, как мальчишка. (С. 3, 346) 179 В «Братьях Карамазовых» Дмитрий плачет неоднократно и в последний раз особенно неуместно – в присутствии своего соперника, польского офицера: – О, идите мимо, проходите, не помешаю!.. – И вдруг он совсем неожиданно для всех и, уж конечно, для себя самого бросился на стул и залился слезами, отвернув к противоположной стене свою голову, а руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая ее. (14, 466-467) Держа над головой Оленьки венец в качестве шафера на ее свадьбе, Камышев ведет диалог с «бесенком», сидящим «на дне» его «души», который упрекает его в «грехе» такого противоестественного брака и «шепчет» о том, что ее можно было спасти. Откуда могут быть такие мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и несомненной ошибки? – А кто знает! – шепчет бесенок. – Тебе это лучше знать! <…> – Тут не сожаление, – шепчет бесенок. – Ревность… Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку в красном?... (С. 3, 316). В этом эпизоде Камышев выглядит как пародийный Иван Карамазов (вряд ли случайно и это созвучие фамилий) в главе «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича». Спору Карамазова с «чортом» на метафизические темы здесь у Чехова соответствует разговор с «бесенком» о «спасении». Чеховский сарказм таится в том, что в действительности речь идет не о «спасении», а, напротив, о соблазнении девушки. 180 Параллельно различные детали этого романа пародийно преломляются в других его образах. Так, заинтересовавшись Надей Калининой, граф Карнеев говорит: Сравнивать ее с моими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью которых я пользовался, невозможно. (С. 3, 349) Имя и фамилия этой героини сходны с фамилией «Лизы Калитиной. Не случайно сходные с этим наиболее известным воплощением типа «тургеневской девушки» ассоциации Надя Калинина вызывает и у графа Карнеева: Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли… Чудная девушка! (С. 3, 349). Не случайно она и сама сопоставляет себя с пушкинской Татьяной, с образом которой в сознании Достоевского был неразрывно связан образ Лизы Калитиной (вспомним знаменитую «пушкинскую речь» Достоевского). Несколько напоминает чеховская Надя Калинина также и Зину Москалеву из «Дядюшкиного сна». Это актуализирует сюжетный параллелизм между целым рядом образов Чехова и Достоевского. «Граф – Надя – ее отец, мировой – Созя» функционально соответствуют группе персонажей «Дядюшкиного сна»: «Князь – Зина – Москалева – Степанида». 181 Однако в отличие от Зины Москалевой, которую уговаривает выйти замуж за старого князя К. ее мать, Надя Калинина с успехом убеждает себя сама: Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но… что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело… Жутко жить, не зная цели… Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни… Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать… Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком. – И так далее и так далее, – сказал я. – Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела… (С. 3, 356) При этом одновременно, как мы увидим ниже, в этом ее намерении пародийно преломляется идея «деятельной любви», которую в «Братьях Карамазовых» развивал старец Зосима как верный рецепт обретения веры. 71 Первая реплика Сози: – А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала… – парадоксальным образом почти дословно воспроизводит диалог не кого иного, как «бабушки» с «генералом» из «Игрока» Достоевского: Ну, где же эта рулетка? <…> Ну так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Иванович! – Как, неужели, тетушка, вы даже и не 182 отдохнете с дороги? – заботливо спросил генерал. <…> А чего мне отдыхать? Не устала; и без того пять дней сидела. (5; 258-259) Это актуализирует сходство Сози и присутствующего здесь же Каэтана (« – А это – брат моей жены… – продолжал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого» – С. 3, 361), разумеется, не с самой «бабушкой», а с четой авантюристов в романе Достоевского – Бланш и де Грие. Как в «Игроке» тайна загадочных отношений Де-Грие с «генералом» окончательно проясняется только ближе к концу романа, так и в «Драме на охоте» лишь почти в самом финале повести Камышева читателю становится понятен характер отношений Пшехоцкого с «графом»: Приезд жены, убийство…. Бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не видел? – Видел. Она с Пшехоцким чай пьет. – С братцем, значит… Пшехоцкий – это шельма! Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался… Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо! (С. 3, 374) Ср. реплику «генерала» в «Игроке»: – Уехал! У него все мое в закладе; я гол как сокол! <…> Он погубил меня, – говорил он, – он обокрал меня, он меня зарезал! Это был мой кошмар в продолжение целых двух лет! (5; 287, 309) 183 Все это, разумеется, актуализирует сходство с «генералом» графа Карнеева, состояние которого также отходит к Созе и Пшехоцкому: В восемь лет изменилось многое… Граф Карнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он теперь беден и живет на мой счет. (С. 3, 394) Очень может быть, кстати, что Пшехоцкий и Созя такие же родственники графу Карнееву, как Бланш и Де-Грие «генералу». То, что финальные эпизоды «Драмы на охоте»: «судебный процесс, особенно “риторическая” защита адвоката и также согласие присяжных в суровости приговора, пародийны по отношению к аналогичным сценам в “Братьях Карамазовых”», уже отмечалось и в особой аргументации не нуждается. 72 Таким образом, Чехов отсылает в основном к актуальным для читателя того времени текстам, а иногда и прямо называет объект своей пародии. Как загадка убийства, так и загадка происхождения большинства сюжетных ходов и характерологических деталей «Драмы на охоте» разгадывается перед читателем самим автором. Однако в целом «интертекстуальный детектив», который представляет собой роман, занимает внимание читателя, может быть, даже дольше, чем детектив криминальный. Ведь только при повторном неоднократном прочтении становится понятна весьма замысловатая система соотношения текста «Драмы на охоте» с его источниками и самих этих источников между собой. 184 И «уголовный роман» Чехова неожиданно и в самом деле обретает черты уголовного преступления. Только это совсем особенное преступление. Оно заключается в покушении писателя на идейный пафос большинства русских классиков того времени. Какие ценности утверждает Чехов вместо отрицаемых им в «Драме на охоте» – с этим нам предстоит разобраться в следующей главе. 73 185 Глава шестая ОТ “ДРАМЫ НА ОХОТЕ” К “ИВАНОВУ” Продолжение интертекстуального детектива Как было отчасти показано еще Р. Г. Назировым, 74 роман «Драма на 75 охоте» представляет собой роман-пародию 76 (или точнее, гипертекст с элементами не только пародии, но и стилизации) — только не на уголовный роман Э. Габорио и А. А. Шкляревского, а на наиболее актуальную в 1880-е годы русскую классическую литературу. 77 Это прежде всего произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 78 А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и др. Однако совершенно исключительную роль в «Драме на охоте» (<1884–1885>) играют пародийные аллюзии на произведения Достоевского. Можно сказать, что в известной мере «Драма на охоте» — это вообще развернутая пародия Чехова на Достоевского как наиболее популярного в 1880-е годы русского писателя, а пародийность по отношению ко многим другим русским и западно-европейским писателям играет в ней второстепенную роль. Одновременно это полемическая интерпретация Чеховым художественного мира Достоевского. 79 Во многих произведениях более зрелого Чехова: прозаика и драматурга — также имеет место, хотя и, как правило, в более скрытом виде — не только ориентация на автора «великого пятикнижия», но и отталкивание от него. 80 В настоящей работе речь пойдет прежде всего о такой скрытой полемике Чехова в пьесе «Иванов» (<1889>; первая 186 редакция — <1887>) с некоторыми главнейшими художественными идеями вершинного и итогового создания Достоевского — романа «Братья Карамазовы» (<1879 — 1880>). Художественная полемика с этим произведением составляет существенный слой «Драмы на охоте». Так, Камышев в целом ряде эпизодов выглядит как пародийный Дмитрий Карамазов. Каэтан Пшехоцкий своей внешностью, 81 жадностью и склонностью к картам напоминает многочисленных поляков Достоевского — прежде всего «офицера» из «Братьев Карамазовых», которым была увлечена Грушенька. 82 Прямо ориентированы на роман Достоевского экспозиция и развязка «Драмы на охоте». 83 187 Удивительная история происхождения чеховской пьесы «Иванов» Кое-что существенное из этой внутренней полемики с «Братьями Карамазовыми» перешло и в пьесу «Иванов». 84 Иначе, впрочем, и не могло быть. Ведь сама по себе эта пьеса представляет собой в значительной — причем, в гораздо большей, чем это отмечалось ранее, — степени как бы драматургическую «перелицовку» романа «Драма на охоте». Более или менее четкое соответствие прослеживается между главными и даже многими второстепенными героями двух произведений: Камышев — Иванов, Щур — Львов, Лебедев — граф Карнеев, Надя Калинина — Саша Лебедева, отец Нади Калинин — Боркин. Соответствие это подтверждается не только общей принадлежностью названных пар героев к одним и тем же типажам: слабохарактерный протагонист, все время осыпающий укоризнами друг-соперник, спивающийся и теряющий человеческое лицо старший друг, чистая и наивная девушка, влюбленная в протагониста, садящийся ему на голову слуга или служащий у него и т. п. Это сходство проявляется и в их отношениях с другими героями, и в целом ряде автореминисценций. Ср. «ключевой монолог» Камышева: Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры рассказывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впоследствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что то, что 188 теперь считают за него, есть только его тень, отражение прошлого… Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я (С. 3; 276) — и единственное внятное объяснение Иванова того, что с ним произошло, которое он дает Лебедеву: У меня был рабочий Семен, которого ты помнишь. Раз, во время молотьбы, он захотел похвастать перед девками своею силой, взвалил себе на спину два мешка ржи и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты… Веровал я не так, как все, женился не так, как все, горячился, рисковал, деньги свои, сам знаешь, бросал направо и налево, был счастлив и страдал, как никто во всем уезде. Все это, Паша, мои мешки… Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула. В двадцать лет мы все уже герои, за все беремся, все можем, и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся (С. 12; 52). Совершенно аналогичны — с поправкой на то, что Сарра (Анна Петровна) нелюбимая теперь жена Иванова, а Надя Калинина девушка, за которой ухаживал и которую оставил Камышев, — отношения этих героинь, соответственно, с Ивановым и Камышевым. Обе они мечтают о том, чтобы вернуть прошлое. Ср. слова Нади Камышеву: Мне все кажется, что вас… отделило от меня какое-то недоразумение, каприз… Мне кажется, что выскажись мы — и все пойдет по-старому… Если бы мне так не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам 189 вопрос, который вы сейчас услышите…Я, Сергей Петрович, несчастна… Вы должны это видеть…Жизнь моя не в жизнь… Вся высохла… (С. 3; 330) — и реплику Сарры Иванову: Коля…. А то остался бы! Будем, как прежде, разговаривать…<…> Отчего ты изменился? <…> я — как брошенная… (С. 12; 19, 20). Несмотря на то, что Надя Калинина предпочитает Щуру Камышева, первый для второго самый близкий приятель: Павел Иванович — единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души… Мы с ним приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга… (С. 3; 291). Аналогичную предрасположенность Иванов испытывает — по крайней мере, в первой половине пьесы — ко Львову: И в а н о в. Нас могут услышать, пойдемте, пройдемся. (Встают.) Я, милый друг, рассказал бы вам с самого начала, но история длинная и такая сложная, что до утра не расскажешь.<…> Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею право вам советовать (С. 12; 13, 16). 190 Впрочем, Львов также очевидным образом неравнодушен к жене Иванова, как Щур к Наде Калининой. В результате и Щур, и Львов постоянно обращаются, соответственно, к Камышеву и Иванову со своими нравственными «сентенциями». Ср., например, упрек Щура Камышеву: Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы… вы пожаловались, посмеялись! За что? Что она вам сделала? (С. 3; 302) — и реплику Львова Иванову: В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уже о словах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия… Близкий вам человек погибает оттого, что он вам близок, дни его сочтены, а вы… вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться…<…> К чему же вы торопитесь? Почему вам нужно, чтобы ваша жена умерла теперь, а не через месяц, через год?.. (С. 12; 17, 54). Разумеется, Львов несколько другой психологический тип (всеобщий обличитель — «второй Добролюбов», по словам Шабельского (С. 12; 33)) и потому разговаривает с Ивановым гораздо более требовательно. Его постоянные обличения, в отличие от «сентенций» Щура Камышеву, скоро надоедают Иванову. Однако функционально соотношение этих пар героев совершенно сходно. Отношения Камышева с графом Карнеевым и, соответственно, Шабельского с Лебедевым — это отношения старых приятелей, из которых 191 один позволяет себе иногда обращаться к другому довольно пренебрежительно. Ср. диалог Камышева и графа Карнеева: — А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я. — Не бросил, Сережа! — Ну. Хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Противно (С. 3; 257) — почти дословно повторяющийся в «Иванове»: Л е б е д е в. Гаврила! Ш а б е л ь с к и й. Ты уж и так нагаврилился. Погляди, как нос насандалил! Л е б е д е в (пьет). Ничего, душа моя… не венчаться мне ехать. (С. 12; 83). Отношения Камышева с его слугой Поликарпом в какой-то степени напоминают отношения Иванова с Боркиным, который, будучи управляющим его имения, разговаривает с ним довольно бесцеремонно. И точно так же как Камышев, сделав попытку выгнать Поликарпа, тут же проявляет слабость: — Ааа… ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не было, негодяй! Вон! 192 И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился на постель и зарыдал, как мальчишка (С. 12; 346). Иванов не плачет перед Боркиным, но, также как и Камышев, не в силах осуществить свое намерение: И в а н о в. Негодяй вы этакий! Ваши подлые проекты, которыми вы сыплете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным человеком! У нас нет ничего общего, и я прошу вас сию же минуту оставить мой дом! (Быстро ходит.). Б о р к и н. Я знаю, все это вы говорите в раздражении, а потому не сержусь на вас. Оскорбляйте сколько хотите… (Поднимает сигару.) А меланхолию пора бросить. Вы не гимназист… (С. 12; 60–61). Если Калинин говорит графу Карнееву: — Имей я такие средства, как у его сиятельства, я показал бы как надо жить! (С. 3; 311) — то, в сущности, то же самое Боркин повторяет Иванову на протяжении всей пьесы, начиная со второго акта первого действия: Хороший вы человек, умный, но в вас не хватает этой жилки, этого, понимаете ли, взмаха. Этак бы размахнуться, чтобы чертям тошно стало… 193 (С. 12; 10). Надя Калинина испытывает к Камышеву «влеченье — род недуга», которое не в силах выбить из нее любые демонстрации пренебрежения к ней с его стороны. Когда же она убеждается в том, что Камышев ее не любит, она решает выйти замуж за графа Карнеева. При этом она руководствуется самыми благородными побуждениями: Вы скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, но… что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью очень тяжело… Жутко жить, не зная цели… Когда же этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет задача жизни… Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать… Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его человеком (С. 3; 356). 85 Аналогичный характер имеют намерения относительно Иванова Саши Лебедевой, которая готова спасти его, пусть даже против его собственной воли. 194 «Деятельная любовь» среди «идеальных» представлений героев Чехова и Достоевского Последний мотив имеет особое значение для разрешения проблемы, поставленной в заглавие настоящей статьи. Поэтому на том, как он развит в «Иванове», стоит остановиться более подробно. Тем более что в печатной редакции пьесы появляются некоторые новые формулировки этой идеи, которых не было ни в «Драме на охоте», ни в «Иванове» редакции 1887 года: С а ш а. Мужчины многого не понимают. Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, потому что каждую соблазняет любовь деятельная... Понимаешь? Деятельная. Мужчины заняты делом, и потому у них любовь на третьем плане. Поговорить с женой, погулять с нею по саду, приятно провести время, на могилке поплакать — вот и все. А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобою на край света... Ты на гору, и я на гору; ты в яму, и я в яму. Для меня, например, было бы большим счастьем всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудил кто-нибудь, или идти с тобою пешком верст сто. Помню, года три назад, ты раз, во время молотьбы, пришел к нам весь в пыли, загорелый, измученный, и попросил пить. Принесла я тебе стакан, а ты уж лежишь на диване и спишь как убитый. Спал ты у нас полсуток, а я все время стояла за 195 дверью и сторожила, чтобы кто не вошел. И так мне было хорошо! Чем больше труда, тем любовь лучше, то есть она, понимаешь ли, сильней чувствуется. И в а н о в. Деятельная любовь... Гм... Порча это, девическая философия, или, может, так оно и должно быть... (Пожимает плечами.) Черт его знает! (С. 3; 58–59). Впрочем, постоянные колебания Иванова доводят Сашу до того, что, когда он вновь предлагает ей отказаться от свадьбы уже в самый ее день, она говорит ему: С а ш а. Ах, Николай, если бы ты знал, как ты меня утомил! Как измучил ты мою душу! Добрый, умный человек, посуди: ну, можно ли задавать такие задачи? Что ни день, то задача, одна труднее другой... Хотела я деятельной любви, но ведь это мученическая любовь! (С. 3; 72). Любопытно, что выражение «деятельная любовь» представляет собой точную цитату из «Братьев Карамазовых». Причем в романе Достоевского оно несет особую смысловую нагрузку. Именно такой рецепт обретения веры исповедует старец Зосима: «деятельная любовь». Его адресует Зосима госпоже Хохлаковой в ответ на ее религиозные сомнения: « — <…> Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастие! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно! 196 — Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно. — Как? Чем? — Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. Это испытано, это точно» В ответ на этот совет Зосимы госпожа Хохлакова, с одной стороны, декларирует напоминающую восторженные тирады Саши Лебедевой готовность к любым трудностям, а с другой — готова на них только в случае безотлагательного получения благодарности: — Деятельной любви? Вот и опять вопрос, и такой вопрос, такой вопрос! Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Lise и идти в сестры милосердия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными руками, я была бы сиделкой у этих страдальцев, я готова целовать эти язвы...<…> — Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? — горячо и почти как бы исступленно продолжала дама. — Вот главнейший вопрос! <…> И вот — представьте, я с содроганием это уже решила: если есть 197 что-нибудь, что могло бы расхолодить мою “деятельную” любовь к человечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним словом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить! Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив, с вызывающею решимостью поглядела на старца. 86 Старец Зосима напоминает тут госпоже Хохлаковой о том, что легко любить человечество вообще, но гораздо труднее любить конкретных людей и что «деятельная любовь» дается непросто: Если же вы и со мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до чего не дойдете в подвигах деятельной любви; так все и останется лишь в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет как призрак (14; 53). Намеченное здесь противопоставление «деятельной любви» «любви мечтательной» Зосима развивает и дальше: Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. <…> Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого 198 и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, — в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную силу господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего (14; 54). Не последнее место занимает идея «деятельной любви» и в «беседах и поучениях старца Зосимы», оставшихся после его смерти: Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок (14; 289). 199 Как «пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна», воспринимает Зосима «ад и адский огонь» в своем «рассуждении мистическом» об этих предметах» (14; 293). Возможно, мотив «деятельной любви», хоть он и не принадлежит к числу расхожих мотивов, встречается в художественной литературе, доступной Чехову в период работы над «Ивановым», не только в «Братьях Карамазовых». Однако последние в то время представляли собой одно из самых актуальных и одновременно самых нашумевших произведений русской литературы. К тому же они вышли из-под пера Достоевского, отталкивание от которого имело решительное значение для самоопределения молодого Чехова как писателя. 87 В контексте приведенных выше строк «Братьев Карамазовых» попытка Саши спасти Иванова посредством «деятельной любви» может выглядеть как неудавшаяся, поскольку эта любовь на поверку оказывается, в терминах старца Зосимы, не «деятельной», а как раз, напротив, «мечтательной». Некоторые основания для такого умозаключения дает характер переработки этого образа для новой редакции пьесы: Добавления в роли Саши отчетливо выявили в ее характере черты “эмансипированной” девицы, проницательной Жорж Санд, “гения”, ее рассудочную экзальтированность и предвзято книжные представления о ”деятельной” любви и о “герое”, которым является для нее Иванов (д. II, явл. 3, 13; д. III, явл. 7 и др.) (С. 12; 326 (примеч.)). 200 В промежуточном варианте Саша вообще признавалась Иванову в том, что в действительности не любит его и не появлялась в финале. Недовольному этим А. С. Суворину Чехов писал: Так и надо <…> Ведь не может же она броситься Иванову на шею и сказать: “Я вас люблю!”. Ведь она не любит и созналась в этом. Чтобы вывести ее в конце, нужно переделать ее всю с самого начала» (П. 3; 98). Поскольку Суворин настаивал, Чехов согласился, но решил еще более ясно прописать свое отрицательное отношение к героине: «Вы хотите во что бы то ни стало, чтобы я выпустил Сашу. <…> извольте, сделаю поВашему, но только уж извините, задам я ей, мерзавке! (П. 3; 104). Наконец, в следующем письме Чехов прояснял, с чем именно связано у него достаточно ироническое отношение к ее «жертвеннической философии»: Саша — девица новейшей формации. Она образованна, умна, честна и проч. <…> Едва Иванов пал духом, как девица — тут как тут. Она этого только и ждала. Помилуйте, у нее такая благодарная, святая задача! Она воскресит упавшего, поставит его на ноги, даст ему счастье… Любит она не Иванова, а эту задачу (П. 3; 114). 88 Тем не менее, в окончательном тексте второй редакции нет ничего такого, что бы давало нам основания определенно заключить: Саше не хватает «выдержки» и готовности к долгой «работе». Дело, конечно, не в этом, а в том, что Иванов опустошен, у него нет сил для новой любви, а 201 никого нельзя спасти против его воли. Именно об этом пытается сказать он Саше, но она не слышит его: С а ш а. Постой… Из того, что ты сейчас сказал, следует, что нытье тебе надоело и что пора начать новую жизнь!.. И отлично!.. И в а н о в. Ничего я отличного не вижу. И какая там новая жизнь? Я погиб безвозвратно! Пора нам обоим понять это. Новая жизнь! (С. 12; 71). Чеховский сарказм в пьесе «Иванов» заключается не в том, чтобы оспорить идеал «деятельной любви» (тем более что у Чехова вовсе не идет речь о нем как о пути к Богу), а в том, чтобы показать, что она бывает неуместной и тогда может не спасти, а, напротив, довести до самоубийства. Чехов уточняет: рецепт «деятельной любви» помогает только при определенных условиях, и уж во всяком случае не вопреки желанию самого человека! По отношению к одному из центральных мотивов «Братьев Карамазовых» пьеса Чехова «Иванов» оказывается своего рода полемическим палимпсестом. Рецепты Достоевского для Чехова слишком декларативны. По Чехову, путь к Богу длиннее и сложнее: он проходит через множество жизненных уроков и требует правильного их усвоения. 89 202 О происхождении лисы Алисы и кота Базилио Есть в «Иванове» еще одна прямо не явленная интертекстуальность, которая, однако, оказывается также весьма значимой. Она связана с романом Достоевского «Игрок» (<1866>). Тесные связи с этим романом отчетливо просматриваются в «Драме на охоте», герои которой Созя и Каэтан Пшехоцкий — явные реинкарнации M-lle Blanche и Де-Грие. Вообще эти две пары отъявленных мошенников, один в женском, а другой в мужском варианте, – отчасти явные литературные прообразы лисы Алисы и кота Базилио из сказки А.Н.Толстого «Золотой ключик» (1935) – не столько перевода, сколько самостоятельного произведения по мотивам «Приключений Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди. Хотя все они в какой-то мере восходят к их фольклорным архетипам в народной сказке. Параллелизм между Созей и Каэтаном, с одной стороны, и M-lle Blanche и Де-Грие, с другой, в свою очередь, актуализирует сходство с «генералом» графа Карнеева, состояние которого — также как и «генерала» Достоевского к M-lle Blanche — отходит к Созе и Пшехоцкому, и, самое главное: общую внутреннюю тему «Игрока», раскрывающуюся в XIV — XV главах романа, в которых Полина приходит в комнату к Алексею Ивановичу и проводит у него ночь. 203 Однако утром она уходит от него, и это происходит не только потому, что она начинает понимать: любовь к ней в сердце Алексея Ивановича начинает вытеснять его страсть к игре. Дело еще и в том, что Полина не может простить Алексею Ивановичу, что он, хотя и непроизвольно, также (как и ранее Де-Грие — С. К.) дает основания для того, чтобы ее приход к нему выглядел как не свободный от материальных соображений. 90 В «Иванове» эта внутренняя тема проходит через всю пьесу. Судя по всему, и в своей женитьбе на Сарре, и в своей любви к Саше Иванов руководствовался отнюдь не материальными соображениями. Однако первая выглядит подозрительной в глазах окружающих, поскольку он не получил никакого приданого, а затем быстро ее разлюбил. А вторая внешне еще более небезукоризненна (и недаром смущает даже отца Саши Лебедева) тем, что перед свадьбой Иванов остается должен деньги ее матери. Тут уж приходится согласиться с Зинаидой Савишной — при том, что все ее другие суждения отнюдь не вызывают доверия: Если он, по-вашему, честный, путевый человек, то он бы, прежде чем предложение делать, заплатил бы долг… (С. 11; 275 — первая редакция). В результате все действия Иванова воспринимаются большинством окружающих в ложном свете, и одними осуждаются, другими восхваляются, но при этом и теми, и другими понимаются превратно. Драматическая коллизия в пьесе строится на понятии невольной вины. — писал по этому поводу А. П. Скафтымов. — <…> Все движение 204 пьесы развертывается в двух планах: при нагнетении внешней, видимой виновности героя, тут же рядом, в освещении этого героя изнутри (в словах его самого, в словах Саши, Анны Петровны), эта виновность снимается. <…> Подбором сюжетно-конструктивных деталей здесь сильнее выдвигается кажимость виновности с тем, чтобы потом ее снять, т. е. объяснить положение причинами, выходящими за пределы индивидуальноволевой направленности. 91 Однако в действительности дело обстоит не так просто. То, что Иванов не предпринимает никаких действий для того, чтобы его поведение не вызывало подозрений и пересудов: не выгоняет Боркина, не отказывается от свадьбы с Сашей — по крайней мере, до того момента, как перестанет быть материально зависимым от ее семьи, — хотя и мотивировано в пьесе его слабохарактерностью и «сломленностью», но вовсе не снимает с него вины, несмотря на лестные отзывы о нем Сарры и Саши. Полина Достоевского, искренно полюбившая Де-Грие, которого она воспринимала как спасителя своего отца, в конце концов не просто оставлена им, но и получает непрошеный подарок: зная, однако же, что легкомысленный отчим наш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему пятьдесят тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных за его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком (5; 290). Поступок Де-Грие, разумеется, только внешне благороден, поскольку, как он сам сообщает выше Полине: 205 я уже дал знать в Петербурге моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажею заложенного мне имущества». Следовательно, все имущество генерала, как мы узнаем из позднейшего признания генерала: «Он погубил меня, — говорил он, — он обокрал меня, он меня зарезал! (5; 309) — так и так отойдет Де-Грие, а Полина все равно не сможет получить что-либо со своего отчима, даже если бы и решилась подать в суд на него. Получается, что Де-Грие, в действительности ничего не сделав для Полины, как бы расплачивается с ней за ее любовь и тем самым бросает тень на ее репутацию, порождая в ней самой сомнения в том, что ее любовь к нему была вполне бескорыстной. Предлагая Полине пятьдесят тысяч франков сразу после проведенной ею с ним ночи, Алексей Иванович проявляет удивительную психологическую глухоту и бестактность, которые можно объяснить только тем, что все его мысли все еще заняты выигрышем. Однако Полина Достоевского не наступает на те же грабли второй раз. Она не только отказывается от денег, но и не может простить Алексею Ивановичу того, что он ей их предложил. Иванов же наступает: умом он понимает, что ему не следует — в силу целой массы причин — «принимать предложение» руки и сердца, которое ему делает Саша, но остановить ее ему не хватает воли — вплоть до самого, уже трагического конца. Таким образом, пьеса содержит внутреннюю связь с главнейшей темой «Игрока». 206 Герои Чехова и Достоевского поступают различным образом, но при этом в обоих произведениях воплощается сходная художественная интуиция. Так что на сей раз соотношение между двумя произведениями имеет не диссонансный, а унисонный характер. Причем здесь имеет место не столько интертекстуальность, сколько, если можно так выразиться, своего рода «интерсмыслуальность», не выраженная прямо в каких-то аллюзиях или референциях (впрочем, явные трансформации образов M-lle Blanch и Де-Грие есть в «Драме на охоте»). Вслед за Достоевским Чехов как бы говорит нам: отношения между любящими должны быть выстроены настолько безукоризненно, чтобы их не могли коснуться никакие подозрения в расчете на материальную выгоду. Впрочем, в «Иванове» дело, конечно, не только в этом. У Чехова показано (хотя и прямо нигде не высказано), что герой, не отдавший должного, а иногда и бывавший жестоким по отношению к своей умирающей жене, не может, даже если бы хотел, наутро начать «новую жизнь» с другой женщиной. Опустошенность Иванова усугубляет его чувство вины перед умершей женой. Тем не менее, говоря о соотношении художественной интуиции Чехова и Достоевского в решении выше обозначенной важной темы, которая открыто поставлена и имеет центральное значение в «Игроке», а в «Иванове» звучит лишь в подтексте, можно констатировать, что чеховская пьеса оказывается как бы неполемическим палимпсестом или своего рода унисонным гипертекстом «Игрока». 207 Как мы видели выше, художественный мир раннего Чехова строится как полемически противопоставленный художественному миру Достоевского. Однако чтобы в полной мере понять первый, необходимо выявить, в каком отношении он противопоставлен второму. Для этого нужен детальный интертекстуальный анализ: особенности художественного мира Чехова утверждаются писателем не столько через прямые высказывания героев, сколько через смыслы интертекстуальности. Ориентация и одновременно отталкивание раннего Чехова от Достоевского не только уже обещает нам художественный мир зрелого Чехова, но и намечает противостояние двух важнейших направлений в развитии русской литературы XX века: чеховского — с тем, которое было связано с именем Достоевского.92 В дальнейшем оно проявилось в творчестве многих писателей — в частности, таких, как М. М Зощенко, Ф. Н. Горенштейн, С. Д. Довлатов 93 и многие другие. 208 Глава девятая ЧЕХОВСКАЯ «ДРАМА НА ОХОТЕ» В ПЕРСПЕКТИВЕ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Чехов и дальнейшая судьба европейского детектива В настоящее время считается более или менее прочно устоявшимся мнением то, что Чехов детективных произведений не писал, но нередко их пародировал. В академическом собрании сочинений Чехова на сей счет сказано так: Распространена была в те годы и пародия на уголовные романы и мелодрамы. Чехов отдал дань пародиям («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь», «Ненужная победа»…) (С. 3, 590) О «Драме на охоте» здесь говорится: Жанр этого своеобразного произведения остается до сих пор предметом серьезного обсуждения. В середине 30-х годов в литературоведении утвердилось мнение, что роман Чехова является пародией. (С. 3, 590 – 591) Однако это продолжалось невечно: 209 Позднее возникла другая традиция истолкования «Драмы на охоте» как произведения в духе массовой литературы, «газетного романа», включающего вместе с тем в себя, насколько это возможо вообще в рамках данного жанра, и постановку серьезных проблем. 94 Что касается собственно «детективного» жанра в творчестве Чехова, то менее однозначную и более близкую мне точку зрения высказал И.Н.Сухих, который отмечал, что Чехов воспроизводит схему классического детектива, одновременно пародируя ее («Шведская спичка»), обнаруживает и нарушает одну из важных аксиом этого жанра – следователь не может одновременно быть убийцей («Драма на охоте»), наконец, пародирует сюжетное мышление вообще; разрушает классическую структуру фабульного повествования. 95 Как мы видели выше, «Шведская спичка» – это все же прежде всего пародия, причем не столько на «полицейские романы» Габорио, сколько на «уголовные рассказы» Шкляревского и др. Недаром в подзаголовке у Чехова стоит: «уголовный рассказ». А пародия, разумеется, как правило, воспроизводит сюжетную схему пародируемого жанра. Что касается «Драмы на охоте», то здесь дело обстоит более сложным образом. Это действительно роман-пародия, но не столько на романы Габорио и повести Шкляревского, сколько на русскую литературную классику и, прежде всего, как мы видели выше, на Достоевского. Одновременно «Драма на охоте» – это детективный роман, в значительной степени стилизованный 210 опять-таки не столько под «полицейские романы» Габорио, сколько под «рассказы следователя» Шкляревского и многих других русских писателей 1870-1880-х годов. Это становится особенно очевидным, если поставить роман Чехова в контекст дальнейшего развития детективного жанра в Европе. В этом случае ясно, что Чехов одним из первых сделал следующий шаг: написал детективный роман, который содержит и некоторые элементы пародии на него. Вслед за Чеховым в европейской литературе затем это сделал Гастон Леру – в своем известном романе «Тайна желтой комнаты» (1907): С определенной точки зрения – это не совсем обычный детективный роман. В нем есть прямые отсылки к предшественникам Леру – Э. По и Конан Дойлу, и внимательный читатель обнаружит здесь и отчетливые иронические интонации и прямую пародийность. У сыщиков, созданных воображением разных писателей, сложилась традиция поругивать и дружески критиковать приемы и методы друг друга. Шерлок Холмс не очень лестно отзывался о Дюпене и Лекоке, Рультабийль – о Шерлоке Холмсе и о том же Лекоке и т.д. В «Тайне Желтой комнаты» Леру идет даже несколько дальше в заочном состязании детективов: если более пристально вглядеться в изображенного им знаменитого сыщика Ларсана, то обнаружится, что он многим напоминает Шерлока Холмса; это – тонкая и вместе с тем несомненная пародия на героя Конан Дойла, пародия тем более жестокая, что, как мы узнаем в конце романа, Ларсан одновременно и сыщик и преступник, которого этот сыщик разыскивает. 96 В каком-то отношении Чехова, наверное, можно считать создателем той формы, из которой в современной литературе развился так называемый 211 «иронический детектив» (во всем его многообразии – от Иоанны Хмелевской до Дарьи Донцовой и Татьяны Устиновой). Впрочем, сопоставление «Драмы на охоте» с «Тайной Желтой комнаты», а также с «Убийством Роджера Экройда» (1927) Агаты Кристи выявляет еще одно существенное значение чеховского романа в истории детективного жанра. Именно Чехов предвосхитил эти будущие классические детективы, причем в двух разных отношениях: в первом из них преступником в конце концов оказывается сыщик, а во втором – повествователь. Чеховский роман в этом отношении для детективной литературы XIX и даже отчасти XX века совершенно уникален: «Драма на охоте» – едва ли не единственный детективный роман XIX века, в котором убийца – и следователь, и повествователь (по крайней мере, в камышевских «Записках судебного следователя», входящих в роман Чехова «Драма на охоте (Истинное происшествие)» по принципу «матрешки»). 97 Как мы видели выше, камышевские «Записки судебного следователя» написаны так, что даже и без редакторских «примечаний» и послесловия, в котором преступником прямо объявлен сам Камышев, читателю становится ясно, что убийца он сам. Об этой особенности своей «повести» в послесловии к ней от редактора говорит и сам Камышев: И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя... (С. 3, 414) 212 Эта черта чеховского детектива тоже, разумеется, подлежала дальнейшему развитию. И вот, в «Убийстве Роджера Акройда» дело обстоит уже не так: По сути дела, убийца в своих записках не допускает никакой лжи – и в этом еще одно достоинство книги, – но, разумеется, не делает и никаких признаний. Иногда, правда, отдельные замечания почти выдают его, но в каждом из них заключена настолько хорошо вымеренная двумысленность, что большинству читателей даже в голову не приходит растолковать подлинный смысл этих замечаний. В своей спокойной самоуверенности доктор Шеппард доходит до того, что незадолго до эпилога романа отдает свою рукопись Пуаро. Но детектив узнает истину не из рукописи – это было бы катастрофой для подобной интриги, – а лишь находит в ней подтверждение своим собственным умозаключениям. «Теперь вы понимаете, почему я говорил, что вы были слишком сдержанны в ваших записках?.. То, что там написано, – правда, но вся ли правда там написана, мой друг? 98 И еще одно. Как мы видели выше, чеховский «судебный следователь» отнюдь не герой. Скорее он антигерой и в этом отношении напоминает антигероев романов и повестей Достоевского: «Записок из подполья» (подпольный парадоксалист), «Бесов» (Ставрогин). В английских, французских и даже американских детективах XX века это тоже, конечно же, случается. И в том отношении, что сыщик оказывается жестоким и беспощадным, и в том, что он менее всего похож на сыщика. В «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи мы находим именно такой вариант: 213 Обладая всеми сыщицкими достоинствами Холмса, этот щуплый детектив предстает перед нами не в торжественно-скучном облике своего предшественника, а в его, так сказать, комическом варианте. Поначалу, во всяком случае, незврачная, сомнительной элегантости внешность Пуаро, его духи, усики, театральная ганатность, смешная самонадеянность, склонность к декламации и дидактике вызывают у нас не только непочтение, а презрительную усмешку. Если Холмс – герой, то Пуаро – антигерой, антигерой до такой степени, что даже после того, как мы воочию убедились в его необыкновенной проницательности, к нашему восхищению продолжает примешиваться усмешка. 99 Скорее всего ни Гастон Леру, ни Агата Кристи не были знакомы с романом Чехова, но, объективно говоря, они двигали вперед развитие детективного жанра в фарватере, проложенном русским классиком на самом старте его бурной литературной карьеры. 214 «Драма на охоте» в перспективе русской литературы XX века Однако «Драма на охоте» была не просто детективным романом, но и довольно любопытным произведением русской литературы 1880-х годов. Из нее, как из зерна, проросли не только некоторые будущие драматургические произведения Чехова (что было показано в восьмой главе настоящего литературоведческого «расследования»). Вышли из нее и многие будущие чеховские шедевры в крупных повествовательных жанрах (например, повесть «Дуэль», 1891). Совсем небезосновательно предположение Л.И.Вуколова о том, что Чехов, маскируя «Драму на охоте» под газетный роман-фельетон, пробовал свои силы в жанре романа; вступая а перекличку с русской классической литературой. 100 Однако проба оказалась довольно удачной, и, как это ни удивительно на первый взгляд, развитие некоторых нарратологических, интертекстуальных и других стратегий молодого Чехова в его первом романе мы находим впоследствии во многих замечательных произведениях русской и западно-европейской литературы XX века. Когда герой-рассказчик романа В.В.Набокова «Отчаяние» Герман, обращаясь к прославленному создателю Шерлока Холмса, восклицает: Конан Дойль! Как чудесно ты мог завершить свое творение, когда надоели тебе герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукал! Ведь ты мог написать еще один последний рассказ – заключение всей Шерлоковой эпопеи, эпизод, венчающий все предыдущие: убийцей в нем должен был бы оказаться <…> сам Пимен все криминальной летописи, сам доктор Ватсон, – чтобы Ватсон был бы, так сказать, виноватсон… 101 215 то, как отметили исследователи, эта его идея уже реализовалась в «Убийстве Роджера Экройда» Агаты Кристи, 102 а еще ранее – в чеховской «Драме на охоте». 103 При этом сюжетная ситуация в «Убийстве Роджера Экройда» выявляет больше параллелей именно с «Драмой на охоте», нежели с набоковским романом: оба повествователя-преступника, выступающих в роли свидетелей, скрывают правду до тех пор, пока в финале некий прозорливый персонаж (Пуаро у Кристи и редактор А.Ч. у Чехова) не заставляет их сознаться. 104 Сопоставляя Германа с Камышевым, Н.А.Карпов верно отмечает существенную разницу между ними: И Герман, и Камышев преследуют и собственно литературные задачи, но они носят разный характер. Герой Набокова стремится создать образец высокого искусства, выдающееся художественное произведение, по ходу повествования постоянно рассыпаясь в похвалах своему недюжинному, как ему представляется, писательскому дару. Роман и начинается как раз с одного из таких панегириков в собственный адрес: «Если бы я не был совершенно уверен в своей писательской силе, в чудной своей способности выражать с предельным изяществом и живостью…» (с. 397). Чеховский же персонаж никаких претензий на гениальность не заявляет, вполне объективно оценивая свой скромный талант и сознательно ориентируясь на «уровень среднего читателя» (III, 414). Поэтому не 216 случайно Герман как писатель терпит провал, а Камышев поставленных целей вполне достигает. 105 Однако при этом исследователь справедливо обращает внимание на то, что повествовательная структура обоих произведений выстроена по принципу «рассказа в рассказе», или, по удачному определению С. Давыдова, «текста-матрешки». Мы имеем дело с обрамляющим повествование авторским текстом и вложенным в него текстом героя. Правда, в «Отчаянии» повесть Германа вербально совпадает с романом Набокова. Однако в германовской рукописи незаметно для самого ее создателя проступают черты «филигранного сиринского почерка, вступающего в своеобразную полемику с текстом героя». В кругу нарратологических проблем набоковедения одно из важнейших мест занимает проблема так называемого ненадежного повествователя. Набоковские «ненадежные повествователи» – это, как правило, «фантазеры, лжецы, обманщики, безумцы, слову которых нельзя полностью доверять, ибо они стремятся утаить или исказить правду, смешать воображаемое и действительное, чтобы навязать читателю собственную версию происходящего». Характерным примером такого рода повествователя и служит герой «Отчаяния». Пожалуй, самая типичная черта Германа – его пристрастие ко лжи: Дня не проходило, чтобы я не налгал, – так рассказывает герой о своем детстве. <…> Однако художественная зоркость изменяет Герману, и он сам допускает «faux pas», совершает ошибки, сводящие на нет все его писательские притязания, его блистательный замысел теопит провал. <…> 217 Нетрудно заметить, что Камышев тоже является своего рода «ненадежным повествователем» – в том плане, что его рассказ не вызывает доверия со стороны вдумчивого читателя, каким в романе предстает редактор А.Ч. 106 Герой Набокова и герой Чехова являются «ненадежными повествователями» в разных отношениях: В отличие от Германа, камышевская ненадежность связана не столько с собственно писательскими просчетами (их, конечно, достаточно, но герой и так прекрасно осознает, что его литературный талант невелик), сколько со стремлением в рассказе об убийстве Ольги, а затем и одноглазого Кузьмы исказить факты, утаить истинные обстоятельства преступления. Но Камышеву далеко до «соловьиной лжи» Германа, более того, он и не является лжецом в точном смысле слова. Ведь героя, как это ни парадоксально, подводит именно излишняя и неуместная в данном случае правдивость. Рассказывая о проведенном им следствии, Камышев без утайки описывает все свои действия. Странность их не укрывается от глаз прозорливого редактора, снабжающего текст героя колкими примечаниями. Именно елогичность поступков повествователя и приводит в результате редактора к мысли об истинном убийце. Безусловно, Камышев вполне мог приврать, устроив своему alter ego в повести безупречное алиби, но он этого не делает и тем самым разоблачает себя. С одной стороны, открыто сознаться в преступлении герой не может и не хочет, но мучающая его «страшная тайна» заставляет «оставлять следы» – вычеркивать страницы, проговариваться, быть искренним настолько, насколько это допустимо. Роль этого психологического груза, давящего на Камышева, 218 оказывается в чем-то аналогична роли «автора-вредителя» в романе Набокова. 107 В приведенном изложении названным исследователем причин, существующих для того, чтобы чеховский герой невольно выдавал себя в своей «повести» как действительный убийца, произошла небольшая аберрация. Камышев выдает себя не потому, что он мучается, а потому что он хочет потешить свое тщеславие. Ему хочется, чтобы хотя бы один человек в целом мире понял, какой он необыкновенный человек. Напомню читателю уже цитированные в связи с этим собственные слова героя: Не совесть меня мучила, нет! Совесть — само собой... да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости. Когда рассудок не работает, я заглушаю ее вином и женщинами. У женщин я имею прежний успех — это à propos. Мучило же меня другое: всё время мне казалось странным, что люди глядят на меня, как на обыкновенного человека; ни одна живая душа ни разу за все восемь лет пытливо не взглянула на меня; мне казалось странным, что мне не нужно прятаться; во мне сидит страшная тайна, и вдруг я хожу по улицам, бываю на обедах, любезничаю с женщинами! Для человека преступного такое положение неестественно и мучительно. Я не мучился бы, если бы мне приходилось прятаться и скрытничать. Психоз, батенька! В конце концов на меня напал какой-то задор... Мне вдруг захотелось излиться чем-нибудь: начхать всем на головы, выпалить во всех своей тайной... сделать что-нибудь этакое... особенное... И я написал эту повесть — акт, по которому только недалекий 219 затруднится узнать во мне человека с тайной... Что ни страница, то ключ к разгадке... Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли... Когда я писал, я брал в соображение уровень среднего читателя... (С. 3, 413-414) Таким образом, психологические основания невольно-намеренного признания Камышева в преступлении оказываются в его «повести» еще более близки к роману Набокова, в котором отношения между автором и героем носят еще более сложный характер. Притом, что дистанция между автором-Набоковым и его персонажем, бездарным графоманом и убийцей-эстетом, поистине огромна, утверждать, что между ними нет совершенно ничего общего, было бы ошибочно. Так, некоторые рассуждения героя (вспомним хотя бы издевательство над Достоевским и «достоевщиной»), что нельзя не заметить, выдержаны вполне в духе и стиле самого Набокова. Пытаясь объяснить этот парадокс, Н.Мельников сделал довольно смелое, хотя и не бесспорное, предположение о том, что в Германе Набоков карикатурно изобразил самого себя, спародировал характерные черты своей «литературной маски». 108 Приведенные здесь интересные сопоставления между героями романов Набокова и Чехова Н.А.Карпов, к сожалению, завершает чересчур робкими и не слишком основательными выводами: Изложенные наблюдения позволяют сделать вывод о близости двух произведений, которая прослеживается на различных уровнях – повествовательном, мотивном, персонажном. Однако утверждать, что в тексте «Отчаяния» есть очевидные аллюзии именно на «Драму на охоте», 220 было бы, наверное, несколько опрометчиво. В то же время нельзя исключать, что при работе над романом Набоков помнил о той, неудачной, на его взгляд, чеховской попытке. 109 То, что Набоков не просто помнил, а перечитывал «Драму на охоте» в период создания своего «Отчаяния» не только нельзя исключить – это более чем вероятно. И дело здесь не в аллюзиях, а в том, что, создавая свой роман, Набоков отчасти явно ориентировался на повествовательную стратегию Чехова в «Драме на охоте» как на некое зерно, из которого произросла его собственная, куда более сложная нарратологическая структура. Могли в этом отношении быть у «Отчаяния» и другие образцы, но то, что среди них не последнее место занимает чеховский роман, выражаясь словами героя «Шведской спички» Дюковского, «non dubitandum est» (С. 2, 210). Более того, если сопоставить уже не Камышева, а Зиновьева с Германом, то в нем отчетливо ощущается, наряду со многими другими (Смердяков Достоевского,110 чеховский Беликов etc.), один из несомненных литературных прототипов набоковского Германа. 221 Глава десятая ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Предварительные итоги Итак, место в истории детективной литературы Чехов занимает по праву. Причем, как мы выяснили, работал он сразу в двух наиболее популярных жанрах русского детектива: «уголовного рассказа» и «записок следователя». То, что и в «Шведской спичке», и в «Драме на охоте» одновременно присутствовали существенные черты пародии на эти жанры (в первом из них более, а во втором из них менее значительные) места этого не зачеркивает. Тем более что в детективной литературе XX века гибридное смешение детектива и пародии на него – обычное дело. Нам остается только сказать несколько слов о дальнейшей судьбе чеховских произведений в литературе, театре и кино. Рассказ «Шведская спичка» еще при жизни Чехова был переведен на датский, немецкий, польский, румынский, сербскохорватский и чешский языки. Прижизненные переводы «Драмы на охоте» неизвестны. Возможно, их и не было, а появились ли они после смерти писателя – предмет для еще одного «литературоведческого расследования». Опубликовав в газете этот свой первый опыт в крупном повествовательном жанре, Чехов сам к нему никогда больше не возвращался. И переиздавать его поэтому стали только после смерти писателя. Но, может быть, в данном случае он был не так уж и прав. 222 Вещь в своем роде замечательная! И если такого мнения, возможно, и не разделяла Агата Кристи (не потому что не ценила, а потому что скорее всего не читала), то Владимир Набоков определенно хотя бы отчасти разделял. Неудивительно, что оба чеховских произведения продолжили свою жизнь на большом экране. «Шведская спичка» была довольно скрупулезно воспроизведена в фильме Константина Юдина (1954), сценарий для которого написал сам Николай Эрдман. В фильме нашлись роли для двадцати артистов (правда, для этого, конечно, пришлось кое-что дописать). И каких артистов! Чубиков сыграл Грибов, Дюковского – Андрей Попов, Евграфа Кузьмича Михаил Яншин, Псекова Николай Гриценко. Можно ли после этого сомневаться, что фильм и сейчас можно смотреть, причем не без удовольствия. И пусть историк советской комедии, написанной в советскую же эпоху, подчеркивал социально-критическую сторону этой экранизации: В фильме «Шведская спичка» насмешливо, но точно воссоздана атмосфера провинциальной России 80-х годов: непролазная гряз прослочных дорог, сонная одурь присутственных мест, сытость власти… Все это передано с подлинно чеховской интонацией, с мягкой усмешкой и неоычайной наблюдательностью. 111 Однако зритель, думается, ценит ее за другое: великолепный чеховский юмор – и «пародию на детектив», которая в фильме считывается безошибочно. 112 223 И это далеко не единственная экранизация «Шведской спички»! Еще в 1914 и 1922 годах по нему были поставлены немые фильмы (реж. А.Уральский; реж. Лесь Курбас), а всего рассказ выдержал целых шесть экранизаций. 113 Еще больше повезло «Драме на охоте», которая была экранизирована в 1918, 1970, 1978, 1986 годах, и дата еще одной экранизации требует уточнений. Речь идет об одноименном фильме французского режиссера Ива Чампи, а последняя по времени упомянутая экранизация, 1986 года, была сделана в Венгрии (реж. Карой Эстергайош). Из отечественных экранизаций наибольшей известностью и популярностью пользуются две: двухсерийный телеспектакль Бориса Ниренбурга с Юрием Яковлевым в роли Камышева, Александром Кайдановским – графом, Ниной Руслановой – Тиной и другими актерскими удачами. Правда, к чеховскому тексту в этой работе можно было бы отнестись и с большим пиететом. Еще в большей степени это относится к мелодраме молдавского режиссера Эмиля Лотяну (1970), которая даже участвовала в программе Каннского кинофестиваля 1978 года. Впрочем, ее и нельзя считать экранизацией – фильм снят скорее по мотивам чеховского романа. Актерский ансамбль в фильме не менее замечательный (Камышев – Олег Янковский, граф Карнеев – Кирилл Лавров, Урбенин – Леонид Марков, Тина – Светлана Тома). Но все же фильм больше знаменит вальсом композитора Евгения Доги, исполнявшимся на открытиях Олимпиад в Москве (1980 г.) и Сочи (2014 г.). Чеховские детективы до сих пор живы. И в последнее время уже и сами все чаще и чаще становятся предметом «литературоведческих расследований». 224 Убежден, что написанное мной – не последнее. 225 СОДЕРЖАНИЕ К читателю Приглашение в докторы Ватсоны Глава первая, вводная «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДЕТЕКТИВ» От Эдгара По к Уилки Коллинзу и Эмилю Габорио Рождение российского детектива Глава вторая ОТ ЧЕГО ЗАГОРАЕТСЯ «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»? «Дело» об убийстве отставного корнета Кляузова Глава третья РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПОИСКИ УБИЙЦЫ ПО ЧЕХОВУ «Шведская спичка». Продолжение следует Глава четвертая ЧЕХОВСКАЯ «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» ПОЛИЦЕЙСКИХ РОМАНОВ ЭМИЛЯ ГАБОРИО 226 В КОНТЕКСТЕ Глава пятая НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУССКОМ «УГОЛОВНОМ РОМАНЕ» Штрихи к портрету Александра Шкляревского Шкляревский и Достоевский «Отец русского детектива» («Блеск и нищета» Александра Шкляревского) Так был ли Шкляревский «русским Габорио»? Отзвуки произведений Шкляревского в чеховской «Шведской спичке» Глава шестая ЧЕХОВСКИЙ РОМАН «ДРАМА НА ОХОТЕ» В РЯДУ ЕВРОПЕЙСКИХ «ПОЛИЦЕЙСКИХ» И РУССКИХ «УГОЛОВНЫХ» РОМАНОВ «Драма на охоте». Опыт «медленного чтения» и «интерпретативного комментария» Глава седьмая ЧЕХОВ ПРОТИВ ДОСТОЕВСКОГО Очередное и одно из самых доказательных, хотя и не самых научно-популярных, 227 «литературоведческих расследований Чехов «за» и «против» Достоевского Загадки текста и интертекста чеховской «Драмы на охоте» Глава восьмая ОТ «ДРАМЫ НА ОХОТЕ» К «ИВАНОВУ» Продолжение интертекстуального детектива Удивительная история происхождения чеховской пьесы «Иванов» «Деятельная любовь» среди «идеальных» представлений героев Чехова и Достоевского О происхождении лисы Алисы и кота Базилио Глава девятая ЧЕХОВСКАЯ «ДРАМА НА ОХОТЕ» В ПЕРСПЕКТИВЕ РУССКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Чехов и дальнейшая судьба европейского детектива «Драма на охоте» в перспективе русской литературы XX века 228 Глава десятая ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Предварительные итоги 229 ПРИМЕЧАНИЯ 1 См.: Что побудило к убийству? (Рассказы следователя). Подготовка текста, составление, вступительная статья, комментарии А.И.Рейтблата. М.: Издательство «Художественная литература», 1993. 2 Семкин А.Д. Чехов. Зощенко. Довлатов: В поисках героя. СПб.: Островитянин, 3 Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – 2014. начало XX века) // От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрание, 2009. С. 295 – 296. 4 Рубакин Н.А. Этюды о русской читающей публике. СПб., 1895. С. 244 – 245. 5 Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века). С. 298. 6 Рейтблат А. Уголовный роман: между преступлением и наказанием // Уголовный роман. А.Амфитеатров. Казнь. М.Ордынцев-Кострицкий. Тмйна негатива. А.Шкляревский. Рассказ судебного следователя. В.Александров. Медуза. Сост.. и автор вступ. Ст. А.Рейтблат. М., 1992. С. 6. 7 Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века) // Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века). С. 305. 8 Там же. С. 300. 9 Там же. С. 306. 10 Рейтблат А. Уголовный роман: между преступлением и наказанием. С.6. 11 Там же. 12 Там же. С. 7. 13 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 188. 14 Набоков В.В. Русский период // Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 2000. Т. 3. 15 Эмиль Габорио. Дело вдовы Леруж. Гастон Леру. Духи Дамы в черном. Морис С. 471. Леблан. Арсен Люпен – джентльмен-грабитель. Романы. Пер. С франц. М., 1990. С. 25. 230 Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках краткого обозначения заглавия романа: “Леруж” - и номера страницы. Здесь и далее выделено полужирным мной – С.К. 16 Адамов А. Мою любимый жанр – детектив. Записки писателя. М., 1980. С. 27. 17 Эмиль Габорио. Преступление в Орсивале: Французский классический детектив. Л.: Лениздат, 1990. С. 12. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках краткого обозначения заглавия романа: “Орсиваль” - и номера страницы. 18 Балахонов В. От Лекока до Люпена // Эмиль Габорио. Дело вдовы Леруж. Гастон Леру. Духи Дамы в черном. Морис Леблан. Арсен Люпен – джентльмен-грабитель. Романы. Пер. с франц. М., 1990. С. 8. 19 Кудинова Е.П. «Шведская спичка» А.П.Чехова как пародия на структуру детективного жанра // Целостное изучение художественного произведения в ВУЗе и школе. Саратов, 1989. С. 69. 20 спичка» Карелина Э.А. О ранних повестях А.П.Чехова «Зеленая коса» и «Шведская (Вопросы сюжетосложения) // Проблема традиции и новаторства в художественной литературе. Сб. науч. Трудов. Горький, 1978. С. 114. 21 Кудинова Е.П. «Шведская спичка» А.П.Чехова как пародия на структуру детективного жанра. С. 66. 22 Там же. С. 9. 23 Шкляревский А. А. Князь Амалат-Бек. С. 34 – 35. 24 Шкляревский А.А. Собрание сочинений. Изд. П.Д.Подшивалова. СПб., 1881. С. 25 Райнов, Богомил. Черный роман. Пер. с болгарского. М., 1970. С. 32 – 33. 396. 26 Антюхин Г.В. Печатное слово России. История журналистики Черноземного центра страны XIX века. Воронеж: Издательство Воронежского университета. С. 137 – 139. 27 Шкляревский А.А. Отпетый // Сочинения А.Шкляревского. Повести и рассказы. М.: Издание книгопродавца Манухина, 1871. С. 15, 27-28. 28 См. об этом: Кибальник С.А. Проблемы Достоевского. СПб.: ИД «Петрополис», 2013. С. 248 -256. 231 интертекстуальной поэтики 29 См., например: Шкляревский А.А. 1/ Рассказы судебного следователя. I. Рассказ судебного следователя. II. Как люди погибают. III. В сильном подозрении. IY. Женский труд; 2/ Что побудило к убийству? Рассказ следователя. Изд. Кн. В.В.Оболенского. СПб.: Типография кн. В.В.Оболенского, 1879; 3/ Что погубило! Рассказы судебного следователя. I. Прогрессист II. От нитки к иголке. М., 1880; 4/ Как люди погибают. Рассказы судебного следователя. I. Святая веревка. II. Крапивкин. М., 1880. 30 Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века). С. 298. 31 Там же. С. 298. 32 Соколов А.А. Из моих воспоминаний (Фрагмент) // Шкляревский А. Что побудило к убийству (Рассказы следователя). С. 294. 33 34 Там же. Кустова О. Забытый жанр русской литературы // Шкляревский А. Секретное следствие; Гейнце Н. Цветы и слезы (Под чужой волей). СПб.: Лира, 1992. С. 5. 35 Там же. 36 Ф.М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 429. 37 Соколов А.А. Из моих воспоминаний (Фрагмент). С. 294. 38 Там же. С. 291 – 292. 39 Тимофеева В.В. Год работы с знаменитым писателем (Фрагмент) // Шкляревский А. Что побудило к убийству (Рассказы следователя). С. 293 – 295. 40 Так, например, Л. Ланский излагал его следующим образом: «В начале 1873 года популярный автор “уголовных”романов Александр Андреевич Шкляревский переслал в редакцию “Гражданина” через владельца типографии Траншеля какое-то свое произведение с просьбой вручить его Достоевскому. Вскоре он получил от соредактора Достоевского князя В.П.Мещерского благодарность за присланную статью и обещание вскоре же отдать ее в печать. Несмотря на это, статья долго не появлалсь в “Гражданине”, и у Шкляревского, по его словам “лопнуло терпение”» (Ланский Л. Утраченные письма Достоевского // Вопросы литературы. 1971. № 11. С. 211). Однако из письма самого 232 Шкляревского к Достоевскому следует, что он долгое время не получал от князя Мещерского никакого ответа. 41 Ф.М.Достоевский. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Т. 86. С. 428. 42 Там же. С. 429. 43 Райнов, Богомил. Черный роман. М.: Прогресс, 1975. С. 20. 44 Рейтблат А. Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века). С. 298. 45 Новости. 1873. 21 сентября (№ 260). Без подп. Цит. по: Сурина Н.Н. Окололитературная жизнь Санкт-Петербурга в письме А.А.Шкляревского А.С.Суворину // Русская филология. Ученые записки. Смоленский гос. Пед. Ун-т. Т. 8. Смоленск, 2004. С. 392 – 393. 46 Хроника // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 21 сентября (№ 260). Без подп. Цит. по: Сурина Н.Н. Окололитературная жизнь Санкт-Петербурга в письме А.А.Шкляревского А.С.Суворину. С. 393. 47 Шкляревский А.А. Как он принудил себя убить ее? // Шкляревский. Собр. соч. Изд. П.Д.Подшивалова. СПб., 1881. С. 203-205, 207, 342. Повесть перепечатана в Петербургские пауки. Антология русского уголовного романа. СПб.: Лира, 1994. 48 Цит. по: Сурина Н.Н. Окололитературная жизнь Санкт-Петербурга в письме А.А.Шкляревского А.С.Суворину. С. 392. 49 Шкляревский А.А. Как он принудил себя убить ее? С. 211. 50 Там же. С. 395. 51 См. об этом: Кибальник С.А. Морфология романа Достоевского и современные проблемы теориии интерекстуальности // Dostoevsky Studies. The Journal of the International Dostoevsky Society. New Series. Vol. XX, 2016 (в печати). 52 Шкляревский А. Что побудило к убийству (Рассказы следователя). С. 74-75. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках: Шкляревский 1993 – и номера страницы. 233 53 Вопрос о влиянии Шкляревского на Чехова был впервые поставлен в статье Л.П.Громова «Чехов и Шкляревский» (Сб. статей и материалов. Вып. 5. Ростов/н/Д., 1969. С. 135-142. 54 Возможно, с этим связана общность повестовательных приемов, использованных в «Драме на охоте», с совсем другими произведениями Чехова. См. об этом: Оверина К.С. «Зеленая коса» и «Драма на охоте» А.П.Чехова (Особенности повествовательной структуры) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2014. № 8. Ч. 1. С. 139 – 142. 55 Измайлов Ал. А. Чехов. Биография. М., 2003. С. 150. 56 Отмечено, в частности: Карпов Н.А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на охоте» Чехова // Homo Universitatis. Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937 – 2005). Сб. статей. Ред. А.А.Карпов. СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Пеербургского государственного университета, 2009. С. 258. 57 Там же. С. 264. 58 Там же. 59 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. Т. 6. С. 412. 60 Гершаник А.Н. Раннее творчество А.П.Чехова (Некоторые дискуссионные вопросы творческой эволюции писателя). Автореф. Дис…. Канд. Филоо. Наук. Л., 1986. С. 11. 61 Карпов Н.А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на охоте» Чехова. С. 264. 62 См., например: Назиров Р.Г. Пародии Чехова и французская литература // Назиров Р.Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сборник статей. – Уфа: РИО БашГУ, 2005. С. 150-158; Виноградова Е.Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 305-306. 63 Тихомиров С.В. Чехов и Достоевский // Чеховская энциклопедия. М., 2011. С. 430-431. 64 Назовем лишь немногие, наиболее существенные специальные работы, посвященные этому чеховскому произведению: Александров Б.И. О жанрах чеховской 234 прозы 80-х годов // Ученые записки Горьковского педагогического института, 1961; Бориневич-Бабайцева З.А. Роман А.П.Чехова «Драма на охоте» // Труды Одесского государственного университета. – Т. 121. – Серия филологических наук. – Вып. 5. – 1956; Охотина Г. Литературные пародии А.П.Чехова // Дон. 1959. № 11; Вуколов Л.И. Чехов и газетный роман («Драма на охоте» // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974. С. 208217; Де Пруайяр Ж. Гордый человек и дикая девушка: (Размышления над повестью «Драма на охоте») // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 113 – 116. 65 Виноградова Е.Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 305-306. 66 Там же. С. 307, 297. 67 Тынянов Ю.Н. О пародии // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 68 Чехов А.П. Драма на охоте // Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: в 12 т. Т. 289. 3. С. 111. М., 1988. Далее цитаты из произведений и писем Чехова приводятся по этому изданию (М.: Наука, 1974-1983. Соч.: В 18 т.; Письма: В 12 т.) с указанием тома и страницы арабскими цифрами в скобках. 69 См. об этом: Кононова Н.О. «Гончаровские аллюзии в «Драме на охоте» Чехова // Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И.А.Гончарова. Szombathely, 2013. C. 295 – 317. 70 Назиров Р.Г. Пародии Чехова и французская литература. С. 154. 71 Как уже отмечалось, открыто соотнесены с «Братьями Карамазовыми» (также как и с «Преступлением и наказанием») эпизоды преступления, день сразу после него в доме графа, его расследования и суда. См. об этом: Назиров Р.Г. Пародии Чехова и французская литература. С. 150-158; Виноградова Е.Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 301-302. 72 Виноградова Е.Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий. С. 73 На тему «Чехов и Достоевский» см., в частности: Громов М.П. Скрытые цитаты: 301. (Чехов и Достоевский) // Чехов и его время. М., 1977. С. 39-52; Полоцкая Э.А. Человек в 235 художественном мире Достоевского и Чехова // Полоцкая Э. О поэтике Чехова. М., 2000. С. 135-192 и др. 74 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия // Назиров Р. Г. Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход. Исследования разных лет: Сб. статей. Уфа, 2005. С. 159–168. 75 Что касается жанровой природы «Драмы на охоте», то сам Чехов ее не обозначил, а его брат Михаил, ведавший по его поручению делами с газетой «Новости дня», в которой она печаталась, называл ее «романом» (см.: C. 3; 590). Так же поступают и большинство исследователей и комментаторов «Драмы на охоте». См.: Там же. С. 590– 592; Вуколов Л. И. Драма на охоте // А. П. Чехов. Энциклопедия. Сост. и науч. ред. В. Б. Катаев. М., 2011. С. 85–87; Бориневич-Бабайцева З. А. Роман А. П. Чехова «Драма на охоте» // Труды Одесского гос. ун-та. Сер. филолог. наук. 1956. Т. 146. Вып. 5. С. 23–40 и др. 76 Представление о пародийной природе «Драмы на охоте» было высказано еще в середине 1930-х годов Ю. Соболевым и А. Амфитеатровым (см.: С. 3; 591–592). 77 Это — впрочем, без констатации пародийной природы данной связи — отмечал еще Л. И. Вуколов. См.: Вуколов Л. И. Чехов и газетный роман // В творческой лаборатории Чехова («Драма на охоте»). М., 2007. С. 214. 78 «Драма См.: Пруайар Ж. Гордый человек и дикая девушка: (Размышления над повестью на охоте») // Чеховиана. Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 113–116; Виноградова Е. Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 296–307. 79 Там же. 80 См.: Полоцкая Э. А. Человек в художественном мире Достоевского и Чехова // Достоевский и русские писатели. М., 1971. С. 184–245; Громов М. П. Скрытые цитаты: Чехов и Достоевский // Чехов и его время. М., 1977. С. 39–52; Овчарова П. И. Чехов — читатель Достоевского // Литературная учеба. 1982. № 3. С. 183–192; Тихомиров С. В. Чехов и Достоевский // Чеховская энциклопедия. М., 2011. С. 430–431. 81 См. подробнее об этом: Кибальник С. А. Чехов против Достоевского («Драма на охоте» как роман-пародия) // Новый филологический вестник. 2015. № 1 (32). С. 18–31. 236 82 Ср.: Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия С. 162. 83 «Судебный процесс, особенно “риторическая” защита адвоката и также согласие присяжных в суровости приговора — пародийны по отношению к аналогичным сценам в “Братьях Карамазовых”». – пишет о развязке «Драмы на охоте» Е.Ю.Виноградова (Виноградова Е.Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 301–302). 84 Так, целую «систему параллелей из романов Достоевского» С. Ю. Николаева обнаружила в первой чеховской пьесе «Безотцовщина»: «Количество реминисценций, прямых соответствий столь велико, что позволяет говорить не только о глубоко осознанной Чеховым преемственности, но и о своеобразном литературном эксперименте — переводе романов Достоевского на язык драмы» (Николаева С. Ю. Чехов и Достоевский (проблема историзма). Учебное пособие. Тверь, 1991. С. 31). 85 Впрочем, Камышев воспринимает их иронически: « — И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела…» (С. 3; 357). 86 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1976. Т. 14. С. 52–53. Далее ссылки на это издание (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Т. 1–30) в настоящей главе даются в тексте с указанием тома и страницы. 87 Скептическое развитие Чеховым мотива «деятельной любви», очевидно, могло быть связано и с его критическим отношением к народническому движению и в этом смысле оно получило продолжение, в частности, в рассказе Чехова «Дом с мезонином» (<1896>). 88 Кстати, не исключено, что образ Саши также отчасти полемически направлен против героини романа Достоевского «Идиот» Аглаю Епанчину, которая склонна именно к такого рода любви и также в конечном счете обманывается в выборе объекта для нее. 89 Этот общий смысл «достоевской интертекстуальности» в «Иванове», если так можно выразиться, Чехов впоследствии формулировал более открыто в своих письмах: «Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, — т. е. не угадывало бы, не 237 искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре» (Письмо С.П. Дягилеву от 30 октября 1902 г. // П. 11; 106). 90 Подробнее об этом см.: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского // Русская литература. 2014. № 1. C. 146 и др. 91 Скафтымов А. П. Пьеса Чехова «Иванов» в ранних редакциях // Скафтымов А. П. Собр. соч. Самара, 2008. Т. 3. С. 422–423. 92 См. о нем, в частности: Богданова О. А. Под созвездием Достоевского. Художественная проза рубежа XIX–XX веков в аспекте жанровой поэтики русской классической литературы. М., 2008. 93 См. об этом: Семкин А .Д. Чехов. Зощенко. Довлатов: В поисках героя. СПб., 94 Карпов Н.А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на 2014. охоте» Чехова // Homo Universitatis. Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937 – 2005). Сб. статей. Ред. А.А.Карпов. СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Пеербургского государственного университета, 2009. С. 268. См., например: Вуколов Л.И. Чехов и газетный роман («Драма на охоте» // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974. С. 208217; Гершаник А.Н. Раннее творчество А.П.Чехова (Некоторые дискуссионные вопросы творческой эволюции писателя). Авторефер. дис… канд. филолог. наук. Л., 1986; Ильюхина Т.Ю. Вопрос о романе в раннем творчестве А.П.Чехова: Автореф. Дис…. Канд. Филолог. наук. СПб., 1994. 95 Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова СПб.: Филологический факультет Санкт- Пеербургского государственного университета, 2007. С. 98. 96 Балахонов В. Господин Лекок и другие // Преступление в Орсивале. Французский классический детектив. Эмиль Габорио. Гастон Леру. Морис Леблан. Пер. с франц. Л., 1990. С. 636. 97 См. о подобных произведениях: Давыдов С. “Тексты-матрешки” Владимира Набокова. СПб., 2004. 98 Адамов А. Мой любимый жанр – детектив. Записки писателя. С. 71-72. 99 Там же. С. 70-71. 238 100 Вуколов Л.И. «Драма на охоте» // А.П.Чехов. Энциклопедия. М.% «Просвещение», 2011. С. 86. 101 Набоков В.В. Русский период // Набоков В.В. Собр. соч.: В 5 т. СПб., 2000. Т. 3. 102 Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. СПб., 2004. С. 100-101. 103 Карпов Н.А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на С. 471. охоте» Чехова // Homo Universitatis. Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937 – 2005). Сб. статей. Ред. А.А.Карпов. СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Пеербургского государственного университета, 2009. С. 258. 104 Там же. С. 258. 105 Там же. С. 258. 106 Там же. С. 260 – 261. 107 Там же. С. 261. 108 Там же. С. 263. 109 Там же. С. 269. 110 См.: Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 2004. Глава «Набоков, Достоевский и достоевщина». С. 206. 111 Юренев Р. Советская кинокомедия. М., 1964. С. 111. 112 Смирнова А.П. Чехов и кино // А.П.Чехов. Энциклопедия. М., 2011. С. 611. 113 Там же. 239