Пыхтина Ю.Г. диссертация - Диссертационные советы при
advertisement
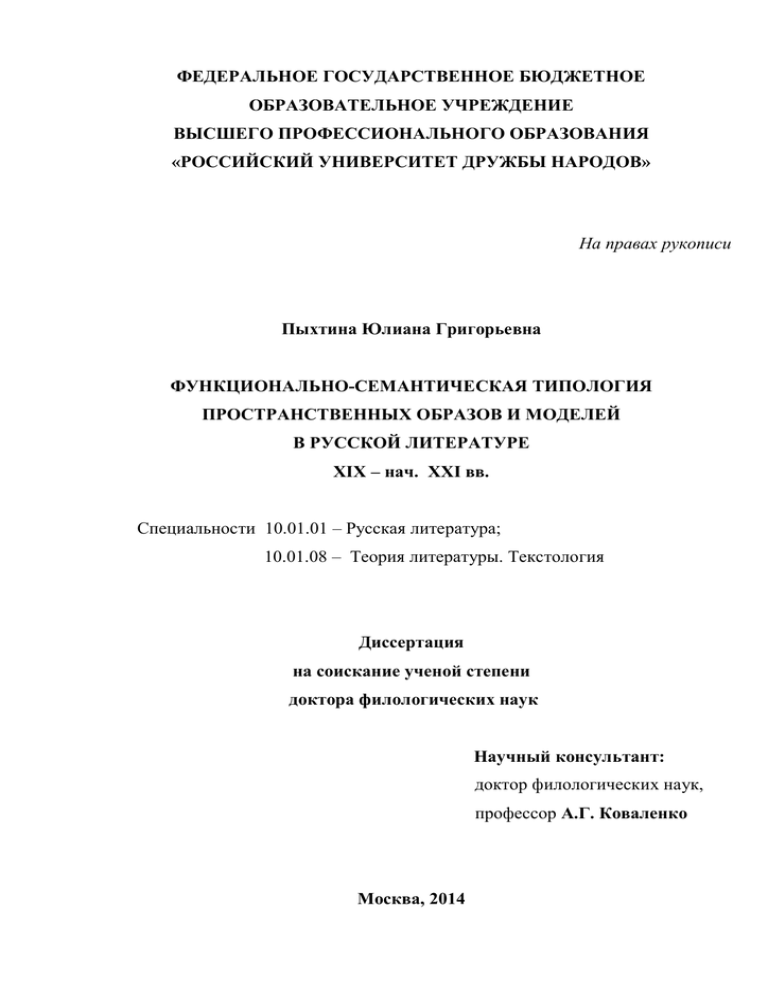
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» На правах рукописи Пыхтина Юлиана Григорьевна ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ И МОДЕЛЕЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX – нач. ХХI вв. Специальности 10.01.01 – Русская литература; 10.01.08 – Теория литературы. Текстология Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук Научный консультант: доктор филологических наук, профессор А.Г. Коваленко Москва, 2014 2 Содержание Введение....................................................................................................................... 4 Постановка проблемы. Термины и понятия ....................................................... 16 Раздел I. Типология сквозных пространственных образов ............................. 29 Глава 1. Космос и Хаос в русской литературе: архетипические пространственные образы и их производные..................................................... 35 1.1. Архетипическая оппозиция дом/лес («Старосветские помещики» Н. Гоголя) ................................................................................................................ 45 1.2. Архетипическая оппозиция дом/антидом (поэзия Серебряного века)........ 50 1.3. Архетипическая оппозиция дом/дорога (М. Цветаева)................................. 59 1.4. Динамическая трансформация значения архетипического образа «дом» (малая проза М. Булгакова) .................................................................................... 68 Выводы по первой главе: .................................................................................... 77 Глава 2. «Географический фактор» художественной литературы: национальные пространственные образы и их производные........................... 80 2.1. Деревня в русской литературе (Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин).................. 87 2.2. Провинциальный город в русской литературе («Городок Окуров» М. Горького и «Страна отцов» С. Гусева-Оренбургского)..................................... 100 2.3. Национальные пейзажные образы................................................................ 116 Выводы по второй главе: .................................................................................. 135 Глава 3. Мир внутренний и мир внешний: индивидуальные пространственные образы и их производные................................................... 137 3.1. Ключевые образы русской лирики: космос в поэзии Ф. Тютчева, А. Блока и А. Белого ................................................................................................................ 142 3.2. Романтическое Я-пространство в лирике А.П. Крюкова ........................... 148 3.3. Структура индивидуального пространства в повести А.П. Потемкина «Я» ......................................................................................................................... 154 3.4. Пространство «Я» в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха» ......... 161 Выводы по третьей главе: ................................................................................. 169 3 Глава 4. Художественное пространтво и интертекст ...................................... 172 4.1. Интертестуальные локусы в оренбургской поэзии ..................................... 175 4.2. Оренбургский текст русской литературы .................................................. 180 Выводы по четвертой главе: ............................................................................. 193 Раздел II. Функционально-семантическая типология пространственных моделей в русской литературе.............................................................................. 195 Глава 1. Социальная модель художественного пространства ....................... 210 1.1. Трансформация социального пространства в русской литературе («Человек в футляре» А.П. Чехова – «Наш человек в футляре» В.А. Пьецуха) 213 1.2. Интертекстуальная игра как способ моделирования социального пространства (Л. Толстой – В. Пьецух) ............................................................. 221 Выводы по первой главе: .................................................................................. 227 Глава 2. Психологическая модель художественного пространства .............. 230 2.1. Психологическая модель в эпическом пространстве («Красный смех» Л. Андреева) ............................................................................................................... 233 2.2. Психологическая модель в лирическом пространстве (Б. Пастернак).... 244 Выводы по 2 главе:............................................................................................ 251 Глава 3. Виртуальная модель художественного пространства..................... 253 3.1. Виртуализация «реального» пространства: город в поэзии Серебряного века ........................................................................................................................ 256 3.2. Игра как способ воплощения виртуальной модели художественного пространства («Большой шлем» Л. Андреева)................................................... 260 3.3. Глобальное виртуальное пространство («S. N. U. F. F.» В. Пелевина) ...... 265 Выводы по третьей главе: ................................................................................. 273 Заключение ............................................................................................................. 274 Источники ............................................................................................................... 284 Библиография......................................................................................................... 290 4 Введение Термин «художественное пространство», войдя в литературоведческую науку в 70-е годы ХХ века, не только не потерял своей актуальности до настоящего времени, но и приобрел ряд дополнительных смыслов и метафорических ассоциаций, обозначая «все и вся». Сейчас уже никого не удивишь выражениями «пространство памяти», «пространство смерти», «пространство смыслов» и т.д. и т.п., за которыми затерялось, померкло прямое указание на место свершения событий. Однако активизация внимания к проблеме художественного пространства в самых разных аспектах, безусловно, имеет свои позитивные стороны, поскольку значительно расширяет сферу современных филологических исследований за счет активного привлечения данных ряда гуманитарных наук – философии, семиотики, культурологии, психологии, истории, географии. В большинстве работ пространство рассматривается в тесной взаимосвязи с другими компонентами художественного мира – временем, персонажной сферой, портретом, вещным окружением и т.д. А.В. Аношина [65], М.Б. Баландина [86], Т.П. Борейкина [111], Р.В. Епанчинцев [189], И.Ф. Заманова [208], С.Н. Зотов [213], В.В. Иванцов [220], О.А. Клинг [250], Т.Ю. Ковальчук [257], В.И. Козлов [263], О.Б. Костылева [276], Н.В. Кузнецова [285], Е.В. Летохо [309], И.В. Лунина [333], Е.В. Моисеева [378], Е.А. Неживая [388], А.А. Павлова [407], К.А. Папазова [411], И.В. Проскурина [438], И.И. Профатило [441], Д.А. Разин [451], М.В. Селеменева [484], К.Э. Слабких [496], Р.А. Ткачева [523], Е.Н. Чепорнюк [565], Т.Н. Чернышева [569], О.Н. Щалпегин [591], Н.Г. Юрасова [603], Е.А. Якунова [610] и мн. др. исследователи описывают универсальные и индивидуально-авторские особенности моделирования пространства, являющегося базовым элементом художественного мира литературного произведения. Художественное пространство как важнейшая категория национальной картины мира продуктивно изучалось и изучается А.С. Аванесовой [52], 5 Т.Е. Аркатовой [70], О.С. Боковели [108], Е.Р. Варакиной [128], Г.Д. Гачевым [156], М.Д. Данчиновой [180], О.В. Журиной [202], П.С. Ивановым [217], Е.В. Ковиной [258], Т.Н. Кузнецовой [286], Е.А. Малкиной [341], С.Ю. Мауриной [349], Е.А. Мироновой [371], И.Н. Михеевой [374], Н.Е. Разумовой [453], Г.Р. Сагитовой [474], Я.В. Сальниковой [475], Н.Ю. Смолиной [500], В.Н. Топоровым [527, 531], В.И. Хомяковым [560], А.А. Шапошниковым [579], С.В. Шешуновой [583], М.Н. Эпштейном [596] и др. В ряде работ выявляются и анализируются устойчивые этнокультурные образы, определяющие своеобразие художественного пространства в русской литературе. Например, общечеловеческий локус «дом» рассматривается в следующих национальных вариантах: дворянская усадьба, изба, дача, коммуналка, барак, общага и т.п. Лейтмотивы бескрайнего пространства – степь, поле, равнины, нивы, простор и др. – интерпретируются как базовые составляющие образа России. Диалектическое единство национального и регионального становится главным предметом для размышлений ученых, занимающихся исследованием локальных текстов русской литературы (В.В. Абашеев [50], Н.П. Анциферов [68, 69], И.З. Вейсман [135], А.В. Вовна [144], Л.В. Воробьева [146], Г.Д. Гачев [156], Т.С. Криволуцкая [281], Н.Е. Меднис [353], Д.С. Московская [381], А.Г. Прокофьева [428], В.Н. Топоров [528, 529], Н.В. Шмидт [586] и др.). Кроме того, распространенным направлением исследования художественного пространства по-прежнему остается структурно-семиотический подход, разработанный представителями тартусско-московской семиотической школы в конце прошлого века (Ю.М. Лотман [325, 326, 330], З.Г. Минц [370], Ю.С. Степанов [505], В.Н. Топоров [527, 529], Б.А. Успенский [538], Ф.П. Федоров [545] и их последователи И.В. Алонцева [59], В.В. Иванцов [220], С.П. Ильев [225], Йен Тинг-чиа [229], Т.Н. Ковалева [256], Т.Ю. Ковальчук [257], С.Э. Козловская [264], Н.О. Ласкина [300], Н.А. Лопарева [323], Н.Б. Мечковская [363], М.В. Никитина [395], В.М. Пронькина [436], С.И. Романова [465], С.В. Свиридов [482], О.В. Тевс [516] и др.). 6 В последние годы предпринимаются попытки разработать единую методологию исследования поэтики художественного пространства. Е.М. Букаты [118], Е.В. Гневковская [164], Г.Л. Девятайкина [182], Г.В. Заломкина [207], В.В. Кондратьева [269], А.Н. Кошечко [280], А.А. Кулакова [289], Е.И. Леенсон [306], Ли Кю Хо [310], А.Г. Маслова [348], В.П. Океанский [402], Н.А. Панишева [409], Т.С. Соколова [503], А.О. Шелемова [582], Т.В. Юнина [601] и др., отмечая полифоническую природу пространства литературного произведения, включают в сферу пространственной поэтики все возможные виды отраженной в тексте реальности, событийный уровень, систему пространственных взаимоотношений персонажей, пространственную точку зрения автора и героев, текстовое пространство и т.п. Помимо названных аспектов изучения художественного пространства, можно обозначить также несколько исследовательских уровней, выделяемых в зависимости от содержания и объема рассматриваемого материала: 1 уровень – касается анализа наиболее значимых пространственных образов – дома, дороги, города, усадьбы, леса, сада и др. – в конкретном произведении или творчестве того или иного автора в целом: «Образ "дома" в поэзии Анны Ахматовой» М.В. Галаевой [153], «Образы леса и сада в поэтике романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" А.А.Скоропадской [494], «Образы пространства в лирике Анатолия Жигулина» А.Н. Кантомировой [235] и т.д.; 2 уровень – связан с описанием индивидуально-авторской специфики пространственной организации художественных произведений: «Особенности художественного пространства и проблема эволюции поэтического мира: На материале лирики Б. Пастернака» А.Н. Анисовой [64], «Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина» В.В.Иванцова [220], «Специфика пространственно-временной организации русскоязычных романов В.В.Набокова ("Машенька", "Защита Лужина", "Приглашение на казнь")» Йен Тинг-чиа [229] и т.д.; 7 3 уровень – предполагает выявление общих закономерностей в изображении художественного пространства в литературном процессе определенной эпохи: «Игровое пространство в русской литературе первой половины XX века: структура, динамика, функционирование» О.А. Ганжара [154], «Семантика пространства в постмодернистском художественном тексте» Е.Н. Губановой [171], «Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика» Е.Ю.Куликовой [290] и т.д.; 4 уровень – предусматривает построение различных классификаций и типологий художественного пространства в литературе: «Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII - XIX вв.» Н.К. Шутой [589], «Типология пейзажа в лирике Ф.И. Тютчева» Н.Ю. Абузовой [51], «Логикоонтологические модели пространства-времени в литературе» В.А. Маркова [346] и т.д. Уровневое позиционирование разных аспектов исследования художественного пространства ни в коей мере не умаляет значение каждого из них, но только убеждает в необходимости обобщить накопленный опыт, теоретически осмыслив отдельные проблемы и связав воедино многочисленные концепции, построить единую типологию художественного пространства. В основу первой классификации пространственно-временных моделей, разработанной еще в 30-е годы ХХ века М. Бахтиным, был положен жанровый признак. Отметив, что «жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [88, c. 235], ученый описал наиболее крупные типологически устойчивые пространственно-временные модели, характеризующие жанр романа на ранних этапах его развития. Труд М. Бахтина стал базовым для многочисленных исследований художественного хронотопа в произведениях различных родов и жанров. Однако только в последнее время появились работы систематизирующего характера, в которых предлагаются новые критерии для построения классификаций родо- и жанрообразующих пространственно-временных моделей. Так, Н. Шутая разработала типо- 8 логию художественного времени и пространства в русском романе XVIII – XIX вв. [589], Е. Завьялова – в целом ряде канонических и неканонических лирических жанров [205], Е. Ковтун выявила общие закономерности создания вымышленных моделей реальности в фантастических романах, волшебной сказке, утопии, притче и мифе [260]. Другой, распространенный в современном литературоведении подход к типологизации художественного пространства представлен в работах Ю. Лотмана [325, 326, 327], В. Савельевой [472], В. Топорова [527], Е. Фарино [542] и др. Эти ученые, принципиально рассматривая пространство отдельно от времени, выделяют и характеризуют основные его виды по структурно-семиотическим критериям: наличию/отсутствию границы, ценностному признаку и значению, наличию/отсутствию бинарных параметров, отношению к действительности и т.п. Несомненно, и этот подход к изучению художественного пространства весьма продуктивен: он позволяет выявить наиболее общие принципы организации художественного мира того или иного автора, определить моделирующее значение репрезентативных пространственных образов в структуре художественного целого. В то же время не менее важным, на наш взгляд, является системное описание семантических разновидностей пространства по содержательно- функциональному критерию. В литературоведении пока нет единой типологии пространственных образов, учитывающей не только жанровый признак и параметры пространства, но и важнейшие закономерности эволюции пространственной образности в художественной литературе, а также смысловые трансформации константных пространственных моделей, наблюдаемые в процессе литературного развития. Необходимостью разработки единой классификации устойчиво повторяющихся пространственных образов и наиболее продуктивных типологических моделей и определяется актуальность темы нашего исследования. Безусловно, мы отдаем отчет в том, что создать полную и безупречную типологию пространственных образов и моделей едва ли возможно, хотя бы потому, 9 что в художественной литературе существует множество видов и способов субъективного представления пространства, однако попытка подобного рода, на наш взгляд, позволит выйти на обсуждение целого ряда важных вопросов: - о сущности универсальной, национальной и индивидуальной пространственных картин мира, нашедших реализацию в русской литературе в конкретных пространственных образах и моделях; - о специфике пространственных представлений, отразившихся в художественной литературе определенной эпохи; - о модификациях и исторической изменчивости художественного пространства в ходе литературного развития. - о функционально-семантическом многообразии пространственных образов и моделей вообще и функциях отдельных видов и типов художественного пространства. Считаем, что уже этот далеко не полный перечень свидетельствует о необходимости более основательного осмысления различных концепций художественного пространства и создания на этой основе единой типологической теории художественного пространства. Итак, цель нашего исследования – разработать функционально- семантическую типологию сквозных пространственных образов и базовых пространственных моделей в русской литературе XIX-XXI веков. Задачи диссертационной работы обусловлены поставленной целью и заключаются в следующем: - выявить продуктивные функционально-семантические разновидности представленного в произведениях русской литературы художественного пространства; - определить критерии и представить обобщенную типологию пространственных образов и моделей; 10 - проанализировать наиболее репрезентативные произведения русской классической и современной отечественной литературы с учетом разработанной типологии; - проследить трансформацию некоторых пространственных образов и моделей в литературе названного периода. Предметом исследования является художественное пространство в русской литературе XIX – нач. XXI вв., рассматриваемое в типологическом аспекте. Объект исследования – система сквозных пространственных образов и базовых пространственных моделей, выявляемая в произведениях русской литературы названного периода. Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в отечественном литературоведении всесторонне исследуются сквозные пространственные образы (архетипические, национальные и индивидуальные); разрабатывается типология базовых пространственных моделей – социального пространства, психологического пространства и виртуального пространства, – а также прослеживается функционирование продуктивных пространственных образов и моделей в русской литературе XIX-XXI веков. Достоверность и научная обоснованность полученных результатов обусловлены тем, что в диссертационной работе проанализирован и обобщен обширный научный материал, включающий в себя классические труды по теоретической и исторической поэтике, а также новейшие отечественные и зарубежные исследования по изучаемой проблематике. Немаловажно подчеркнуть следующее обстоятельство, связанное с отбором материала. Настоящая работа имеет преимущественно теоретико- литературоведческий характер, и ее основные задачи решаются на конкретном историко-литературном материале. При этом, с одной стороны, в центре внимания находятся произведения выдающихся мастеров слова – Н. Гоголя, Ф. Тютчева, Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, Л. Андреева, И. Бунина, А. Блока, А. Белого, М. Цветаевой, Б. Пастернака, М. Булгакова, К. Паустовского, – которые 11 наиболее наглядно иллюстрируют теоретические положения, связанные с типологией пространства. С другой стороны, вполне приемлемым представляется привлечение произведений писателей второго ряда, которые так или иначе способствуют убедительному обоснованию выдвинутых аргументов. Поэтому вполне объяснимо присутствие в диссертации произведений П. Свиньина, А. Крюкова, А. Плещеева, М. Михайлова, С. Гусева-Оренбургского, произведений региональной литературы, а также произведений известных современных авторов – В. Пелевина, Е. Чижовой, А. Потемкина, В. Пьецуха. Таким образом, для анализа намеренно выбирались произведения различных временных периодов, литературных направлений, родов, жанров и эстетической значимости, что позволило выявить универсальные принципы художественного пространствомоделирования и общие закономерности эволюции пространственной образности в русской литературе. Теоретической и методологической основой диссертации стали труды по теоретической и исторической поэтике М.М. Бахтина [88, 89. 90], С.Н. Бройтмана [116], Г.Д. Гачева [156, 157], Д.С. Лихачёва [314, 316, 319, 320], Ю.М. Лотмана [327, 328, 329, 330], А.Г. Коваленко [253, 254], Е.М. Мелетинского [354, 355], З.Г. Минц [370], С.Ю. Неклюдова [390, 391], И. В. Силантьева [487, 489], Н.Д. Тамарченко [521], Б.В. Томашевского [524], В.Н. Топорова [527, 528], В.И. Тюпы [521], Б.А. Успенского [538], В.Е. Хализева [555], Н.К. Шутой [589] и др. В ходе работы мы опирались также на исследования по философии М.Д. Ахундова [77, 78], Г. Башляра [91, 92], Л.Г. Бергер [97], Н.А. Бердяева [98, 99], А.Г. Габричевского [150], М. Мерло-Понти [359], В. Подороги [419], П.А. Флоренского [548, 549], М. Хайдеггера [554] и др.; А.Я. Гуревича [175], Т.С. Злотниковой [211, 212], культурологии М.С. Кагана [231], В.П. Руднева [468] и др., психологии Э.Ш. Айрапетьянца [55], Б.Г. Ананьева [61], Т.Н. Березиной [101], Л.М. Веккера [136], А.А. Калмыкова [234], В.В. Майкова [336], З. Фрейда [551], К.Г. Юнга [600] и др.; социологии А.В. Беликовой [94], Д.В. Михалевского [373], К.Н. Павлюц [408], Т.И. Черняевой [572] и др. Мы так- 12 же учитывали геокультурные и геопоэтические аспекты изучения региональной литературы, нашедшие отражение в трудах В.В. Абашева [50, 159], Л.О. Зайонц [206], Д.Н. Замятина [561], О.А. Лавреновой [295], Н. Е. Меднис [353], Д.С. Московской [381], А.Г. Прокофьевой [428, 429], Е.К. Созиной [227] и др. В работе использованы методы историко-литературного, структурносемиотического, сравнительно-типологического и интертекстуального анализа. Научно-практическая значимость диссертации определяется актуальностью темы и новизной исследования. Его результаты могут применяться преподавателями вузов при чтении курса лекций по теории литературы, истории рус- ской литературы, в спецкурсах и спецсеминарах по анализу художественного текста. Материалы и выводы могут также стать базой для дальнейших разработок в области типологии художественного пространства. Положения, выносимые на защиту: 1. Диахронический и синхронический подход к анализу пространственных представлений, нашедших отражение в русской литературе XIX- нач. XXI вв., дает возможность разработать функционально-семантическую типологию пространственных образов и моделей, построенную с учетом сущностных свойств художественного пространства, с одной стороны, остающихся неизменными в ходе литературного развития, а с другой – трансформирующихся в индивидуальном мире писателей. 2. В русской литературе обнаруживаются сквозные, иначе говоря, устойчиво повторяющиеся пространственные образы – архетипические, национальные и индивидуальные, а также пространственные структурные модели, отражающие фундаментальные параметры мировидения писателя и встречающиеся в произведениях независимо от их родо-жанровой и стилевой принадлежности – социальная, психологическая и виртуальная. 3. Архетипические пространственные образы – базовые модели мировосприятия, бессознательно наследуемые у предыдущих поколений – имеют тенденцию выступать парами, в виде бинарных оппозиций. Основополагающей про- 13 странственной оппозицией в русской литературе является антиномия «космос/хаос», реализующаяся как в своем чистом виде, так и в ряде вариантов: дом/лес, дом/дорога, дом/антидом, дом/бездомье. 4. Сквозные пространственные образы деревни, провинциального города, зимнего и степного пейзажа – ключевые элементы русской национальной картины мира. При сопоставительном изучении произведений русских писателейклассиков выявляется целый спектр пространственно-географических факторов, используемых авторами для характеристики духовно-нравственного пространства героев, особенностей их мировосприятия и образа жизни. 5. Индивидуальные пространственные образы исследуются, во-первых, как авторские модификации архетипических и национальных пространственных образов, преобразованные субъективным сознанием писателей, во-вторых, как особое пространство внутреннего мира личности, имеющее собственную структуру и моделируемое по тем же законам, по которым создаются другие пространственные образы. В соответствии с данным подходом описаны изменения в соотношении внешнего и внутреннего пространства в произведениях русской литературы от эпохи романтизма до настоящего времени. 6. Изучение сквозных пространственных образов в русской литературе не ограничивается выявлением сходств и различий в способах моделирования художественного пространства в произведениях разных писателей. На более высокий уровень обобщения выводит интертекстуальный анализ, одной из задач которого может быть поиск общих закономерностей поэтики локальных текстов, которые переходят из текста в текст и эволюционируют, представляя собой некое метаповествование. 7. Социальное пространство создается как фон, на котором протекает жизнь человека и совершаются события, имеющие социально-общественную обусловленность. Эта модель отражает конкретную форму человеческого бытия, поэтому основные ее характеристики выделяются только при сопоставительном анализе произведений, принадлежащих разным историческим эпохам. 14 8. Особенности психологического пространства заключаются в «опространствовании» психических процессов и в изображении внутреннего мира как локуса, вместилища, структурными элементами которого являются, с одной стороны, сенсорные и физиологические ощущения персонажей, которые как бы растворяются в пространстве, замкнутом в субъекте, а с другой – душа, сознание, память и т.п., отражающие субъективные особенности личности автора. 9. Виртуальное пространство моделируется в художественной литературе разными способами: путем деформирования, преобразования реальной действительности; погружением в игровую реальность, которая захватывает участников, замыкает их в иной, построенной по правилам игры сфере; изображением кибернетического пространства – мира, созданного средствами компьютерных технологий для имитации реальности. Апробация результатов диссертации. Материалы исследования легли в основу двух изданий практикума для студентов-филологов «Анализ художественного текста в аспекте его пространственных характеристик» (2004, 2009), а также учебного пособия «Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект» (2007) и монографии «Сквозные пространственные образы в русской литературе» (2011). Отдельные главы диссертации используются нами в авторском спецкурсе «Анализ текста с учетом его пространственных характеристик», разработанном и внедренном в учебный процесс на факультете филологии Оренбургского государственного университета с 2009 года. Основные положения работы были представлены в докладах на Международных научных конференциях: «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» (Гранада 2010); «Русско-испанские сопоставительные исследования: теоретические и методические аспекты» (Гранада 2011); «Михаил Булгаков, его время и мы» (Краков 2011); «European Science and Technology» (Висбаден 2012); «In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics»; «Verbal 15 culture of the humanity through the prism of ages»; «Language means of preservation and development of cultural values» (Лондон 2013) и других (Оренбург 2001, 2003, 2007, 2011,2012, 2013; Тверь 2002; Москва 2010), Всероссийских научных и научно-практических конференциях (Москва 2004, 2005; Стерлитамак 2006; Оренбург 2006, 2010, 2011, 2012, 2013; Орск 2007, Нефтекамск 2012), Региональных научнопрактических конференциях (Оренбург 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; Магнитогорск 2003). Результаты исследования отражены в 64 публикациях, в том числе в монографии, 16 статьях, опублико-ванных в научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и 7 статьях, опубликованных в зарубежных изданиях. Структура диссертации включает введение, два раздела, заключение, библиографический список. Общий объем работы 346 страниц. Библиография насчитывает 610 наименований. 16 Постановка проблемы. Термины и понятия В современных филологических исследованиях, посвященных анализу художественного пространства в литературе, используется большое количество терминов и понятий, обозначающих пространственные образы. Сравним, например, способы называния и идентификации пространственного значения через ключевое слово «дом» в статьях и диссертациях по русской литературе: «Локус дома в лирической системе Анны Ахматовой» [247], «Тема дома в творчестве М.А. Булгакова» [196], «Образ дома в русской прозе 1920-х годов» [452], «Мотив Дома в русской романтической прозе 20-х - 30-х годов XIX века» [117], «Мифологема "дом" и ее художественное воплощение в автобиографической прозе первой волны русской эмиграции…» [63], «Идея дома в творчестве Осипа Мандельштама» [352], «Феномен дома в ранней лирике Марины Цветаевой» [246] и т.п. Встречаются и такие обозначения, как топос дома [70], архетип дома [143], концепт дома [277] (подчеркнуто нами – Ю.П.). Подобная ситуация складывается и в отношении других пространственных номинаций – дороги, города, сада, усадьбы и т.п. [358, 576, 377, 351, 467, 278, 479, 178, 195, 494 и др.]. Полифонизм в обозначении предмета анализа в литературоведческих работах, на наш взгляд, можно объяснить прежде всего многогранностью образов пространства в русской литературе, их многофункциональностью в структуре художественного текста, а также конкретными исследовательскими задачами. Так, говоря о теме, идее или феномене дома, ученые подчеркивают особое место этой пространственной категории в художественном мире произведения, ее сквозной характер (повторяемость), отношение к дому как некой доминанте, определяющей мировоззрение героев и организующей их жизнь. Естественно, что в исследованиях подобного рода рассматривается пространственный образ дома или система образов, воплощающая идею дома, определяющая дом как феномен, вобравший в себя целую парадигму смыслов. 17 Однако многие термины, обозначающие представленное в тексте художественное пространство или отдельные его фрагменты, вводятся в научный оборот без конкретной семантизации, и, как следствие, часто смешиваются, взаимозаменяются, что, с одной стороны, затрудняет их применение в литературоведческом анализе, а с другой, – приводит к недопониманию специалистами концепции исследователя. Многообразие пространственных терминов и понятий, используемых в современном литературоведении в качестве инструмента анализа художественного текста, поставило нас перед необходимостью уточнить значение некоторых из них. Активнее остальных и зачастую как синонимы используются филологами слова «локус» (лат. locus – место) и «топос» (греч. topos – место). Ученые, занимающиеся изучением художественного пространства, делали неоднократные попытки разработать четкие критерии для разграничения и окончательной дефиниции данных понятий [593, 434, 508 и др.]. Убедительными представляются рассуждения по этому поводу В.Ю. Прокофьевой, которая, проанализировав возможные варианты значений терминов «топос» и «локус» в современных гуманитарных исследованиях, пришла к выводу, что топосом называют «во-первых, значимое для художественного текста (или группы художественных текстов – направления, эпохи, национальной литературы в целом) "место разворачивания смыслов", которое может коррелировать с каким-либо фрагментом (или фрагментами) реального пространства, как правило, открытым. Во-вторых, набор устойчивых речевых формул, а также общих проблем и сюжетов, характерных для национальной литературы» [434, c. 89]. В результате обзора новейших литературоведческих работ, в которых встречается термин топос, мы определили, что он широко применяется как в первом своем значении (топос Петербурга [278], топос Сибири [162], экзотический топос [420]), так и во втором (топос смерти [427], агиографический топос [461], топос тишины [122] и т.п.); может обозначать общие и типичные пространствен- 18 ные образы, создававшиеся в мировой литературе на протяжении всего ее существования (универсальность топосов сближает их, по мнению Э.Р. Курциуса, впервые применившего этот термин в литературоведении, с архетипами) [350, стб. 1076] или уже в литературе отдельной эпохи, нации (в русской литературе – топос дворянской усадьбы, топос провинциального города, топос коммуналки и др.), но в то же время не сводится к текстуальной фиксации объектов «физического» художественного пространства, топос – это «общее место» вообще, «стереотипный, клишированный образ, мотив, мысль» [там же]. Локусом же называют именно «пространственный ориентир» [390, c. 42], зафиксированный в тексте, и обладающий признаками «относительной тождественности существующему в реальной действительности объекту и культурной значимости этого объекта для социума, на основе чего формируется когнитивная база и фиксируются стреотипные и индивидуальные представления о нем» [434, c. 90]. Локусы представляют собой «единицы ассоциативного отражения действительности», «реализующиеся с помощью тропов и обладающие психологической реальностью, т.е. способностью вызывать чувственно-мысленные представления» [там же]. Добавим, что в научных трудах и топосом, и локусом может называться один и тот же пространственный образ, в зависимости от того, какие именно смыслы вкладывает в этот образ автор анализируемого произведения. Например, Т. Е. Аркатова в диссертации «Национальный образ мира в прозе В.И. Белова» [70], на наш взгляд, совершенно справедливо трактует образ дома как топос, поскольку он является в представлении писателя одной из пространственных координат, организующих жизненный уклад традиционной цивилизации, актуализирующих свое символическое значение в цепочке устойчивых для русской культуры оценок. А в статье Л. Г. Кихней и М. В. Галаевой дом в лирической системе Анны Ахматовой логично рассматривается как локус [247], т.к. является «конституирующим элементом ахматовской картины мира», художественным образом, 19 воплощающим «внешнее» (пространственное) и «внутреннее» (экзистенциальное) бытие лирической героини. Следующая пара терминов, используемых в практике анализа художественного пространства для обозначения первичных, универсальных пространственных образов, – архетип и мифологема (ср. архетипы дома, дороги, сада и мифологемы дома, дороги, сада и т.п.). Признавая близость значения данных понятий, современные исследователи называют мифологемами «сознательное заимствование автором мифологических мотивов», а архетипами «бессознательную их репродукцию» [262, c. 224]. Однако, как справедливо заметил С.М. Телегин, зарубежное литературоведение, опирающееся на учение К.Г. Юнга, никак не связывает «правильное понимание мифологемы с "осознанностью" ее использования в литературе». <...> Если и приходится разделять архетип и мифологему, то не по принципу "сознательно/бессознательное", а по принципу принадлежности к психологии или к мифологии». <...> Архетипы, являясь первичными досодержательными схемами, нуждаются в воплощении и реализации в образах. Такое воплощение архетип получает в мифологеме, которую Юнг понимал как константу, принадлежащую к структурным составляющим души, остающимся неизменными» [517, c. 15]. Поскольку архетипы «не сами образы, а схемы образов, их психологические предпосылки, их возможность», а процесс мифотворчества и литературного творчества «есть не что иное как трансформация архетипов в образы» [53, c. 110], считаем, что корректнее говорить не о «пространственных архетипах», а о «пространственных мифологемах» или «архетипических пространственных образах», например, мифологема пути, но не архетип пути. Сложнее обстоит дело с соотношением таких понятий, как сквозной пространственный образ, художественный концепт, обозначающий тот или иной пространственный ориентир (например, концепт «Город»), и пространственный мотив – все три понятия связаны общим значением повторяемости в художественных текстах, и в этом смысле зачастую используются как взаимозаменяемые (см. указ. выше работы Л.В. Бугровой, Т.А. Мегирьянц, А.И. Разуваловой, 20 С.М. Шакирова и др.). Однако оперируя данными понятиями при анализе литературного произведения, нужно помнить, что это категории разного порядка. Самым широким смыслом наделяются концепты – «некоторые подстановки значений», которые существуют в словарном запасе языка и относятся к области сознания (национального или индивидуального) [319, c. 155]. В последнее время большое распространение получила практика анализа ключевых концептов в художественной литературе с целью прояснения особенностей мировоззрения писателей и установления их вклада в развитие национальной концептосферы [216, 364, 513 и др.], соответственно появился и уточняющий термин «художественный концепт», рассматриваемый в качестве единицы сознания конкретного писателя и средства выражения авторской картины мира. Исследователи обращают внимание на универсальный характер художественных концептов, их устойчивость в литературе и культуре в целом: «Художественный концепт находит своё вербальное выражение в художественном образе, символе, является единицей картины мира писателя, пронизывает всю структуру произведения, выходит за его пределы, связывая определенный художественный текст с другими произведениями писателя, художественной литературы, культурными константами нации» [131, c. 53]. Т.И. Васильева в статье «Литературоведческий подход к изучению художественного концепта» (2012) намечает «основные этапы концептного анализа, позволяющие более полно и закономерно рассмотреть художественный концепт»: 1. установление ключевого слова – репрезентанта концепта в произведении; 2. определение словарного значения ключевого слова-репрезентанта и его смысла, трактуемого в зависимости от художественного контекста, индивидуально-авторского наполнения слова; 3. рассмотрение «исторических» признаков концепта, выделение среди них наиболее востребованных писателем в конкретном произведении; обозначение общекультурного наполнения концепта; 4. анализ ассоциативных связей, выявление наполнения ассоциативно-семантического поля содержания концепта и особенностей его репрезентации в произведении; 5. исследование во- 21 площения концепта на разных уровнях текста (тематическом, сюжетнокомпозиционном, мотивно-образном); 6. определение индивидуально-авторского смысла концепта; 7. характеристика связи исследуемого концепта с другими ключевыми константами художественной концептосферы автора, определение места концепта в художественной картине мира писателя [там же, с. 53-54]. Предложенная методика литературоведческого анализа художественных концептов, разработанная на основе лингвистической методики, по сути, является универсальным «рецептом», пригодным для изучения концептосферы любого писателя, однако, не умаляя значимости концептного анализа, мы все же считаем, что подобной стандартной схемы для изучения художественных образов быть не может. Как заметил Ю.В. Манн, в живой диалектике художественного образа (в том числе и пространственного – Ю.П.) естественно и логично сочетаются и тема, и конфликт, и природа персонажа, и жанр, и время-пространство, и структура повествования, и игровое начало, и многое другое [345, c. 5], следовательно, чтобы понять все многообразие смыслов того или иного образа в литературном произведении, недостаточно описать структуру художественного концепта. Кроме того, «значение концепта всегда ограничено контекстом, в котором концепт доходит до адресата» [319, c. 152], а значение художественного образа может быть безграничным, оно может быть даже шире задуманного создателем произведения, т.к. каждая эпоха находит в нем новые стороны и грани, дает ему свою трактовку. Художественный концепт, являясь результатом столкновения словарного значения слова с личным опытом писателя, материально выражается словом или словосочетанием, и, подменяя собой значение, контекстуально ясен даже тогда, когда его смысл в тексте значительно расширяется. Художественный образ не равен слову (речь идет не о словесных образах) и может быть понятен только в связи с другими образами в структуре художественного целого. В то же время художественный концепт заключает в себе потенцию к раскрытию образов, именно поэтому мы считаем концептный анализ одним из значимых этапов анализа художественного образа в целом, и в частности, сквозных пространственных образов, ус- 22 тойчиво повторяющихся как в творчестве одного писателя, так и в произведениях разных авторов. Для конкретизации проблемы рассмотрим взаимосвязь понятий «концепт ″Дом″» и «сквозной пространственный образ ″дом″». Считая «дом» одним из наиболее устойчивых для русского сознания концептов, Ю.С. Степанов выделяет в качестве его основного, актуального признака представление об уюте: «В русском понятии уют присутствует семантический и психологический компонент – «ощущение своего, своего дома (ср. фр. un chez-soi "свой уголок, свой дом"), нахождение у себя, "домашности")» [506, c. 827]. К архетипическим характеристикам этого концепта относят также: «покой, безопасность, счастье, благополучие и согласие в семье, материальный достаток» [83]. Будучи константой русской культуры, на наш взгляд, концепт «Дом» является сквозным (повторяющимся) пространственным образом в русской литературе. Проведенный нами анализ образа дома в произведениях XIX-XX веков (см. главу «Космос и Хаос русской литературы: архетипичеческие пространственные образы и их производные») показал, что, действительно, оценочный компонент концепта остается стабильным при всех исторических изменениях. В то же время, образы дома у разных писателей являются уникальными, несут разную смысловую нагрузку, выполняют разные функции в произведениях (ср., напр., идиллический дом в «Старосветских помещиках» Н.В. Гоголя, коммуналку в произведениях М.А. Булгакова и общагу в «Андеграунде» В.С. Маканина). Иными словами, концепты в основном всеобщи, хотя и заключают в себе в пределах контекста множество возможных отклонений и дополнений, а художественные образы принципиально оригинальны; раскрывая одну и ту же тему, осваивая один и тот же жизненный материал, разрабатывая вечные образы, разные авторы создают разные произведения. Творя свой неповторимый образ дома, каждый большой писатель тем самым обогащает концептосферу русского языка множеством новых смыслов, отличных от базового значения концепта. 23 Помимо оппозиции «концепт» и «образ» в литературоведении возникает и другая оппозиция – «сквозной пространственный образ» и «пространственный мотив». Определяя мотив как «единицу повествовательного языка фольклора и литературы, соотносящую в своей семантической структуре предикативное начало действия с актантами и пространственно-временными признаками, инвариантную в своей принадлежности к повествовательной традиции и вариантную в своих событийных реализациях в произведениях фольклора и литературы» [490, с. 10], И.В. Силантьев вслед за М.М. Бахтиным указывает на хронотопичность мотива, уточняя при этом, что мотив близок хронотопу только тогда, когда «в структуре мотива функционально и эстетически актуализированными оказываются не только его актанты или предикат, но и его обстоятельственные (т.е. пространственно-временные) характеристики» [488, c. 84]. К примеру, мотив пути может рассматриваться как хронотопический, поскольку в его структуре явственна семантическая связь мотивного предиката и пространственно-временных признаков, и хотя само слово «путь» непредикативно, за ним «все равно подразумевается комплекс характерно-вероятных действий предикатов» [там же, с. 85] (см., напр., работу: Тюпа В.И. «Мотив пути на раздорожье русской поэзии ХХ века») [536]. По мнению современных авторитетных теоретиков литературы И.В. Силантьева, В.И. Тюпы и И.В.Шатина, разработавших методику мотивного анализа на основе синтеза разных подходов [488], аналитическое описание мотива предполагает соблюдение некоторых важных условий: учета последовательности событийных реализаций в повествовательном ряду (в нескольких произведениях одного писателя, определенного жанра или тематики, конкретного направления или эпохи, национальной литературы, а также повествовательной традиции в целом); охвата всех аспектов его семиотической природы: семантического (описание предиката мотива, его актантов, его пространственно-временных характеристик), синтаксического (описание фабульной препозиции и постпозиции мотива) 24 и прагматического (описание сюжетного смысла и интенции мотива); анализа как вариантного, так и инвариантного начал мотива [490]. Анализируя прозаические художественные произведения А.С. Пушкина, фабулы которых содержат события встречи, И.В. Силантьев заостряет особое внимание на специфике пространственных признаков мотива встречи, выделяя среди них статусные признаки пространства (топосы со значением «вещности» и конкретности фабульного действия – встреча у героя дома, в гостях, в чужом доме, в обществе, в сакральном месте, на улице, на границе и т. д.) и признаки, относящие пространство к актантам встречи (пространство встречи может быть своим, родным, желанным, благоприятным или чужим, враждебным, нейтральным для героя). Подобный анализ ключевых пространственных характеристик мотива позволил ученому не только «выявить все многообразие семантических оппозиций внутри пространственной схемы мотива», но и «точно определить актуальный смысл событий встречи в конкретных сюжетах пушкинской прозы» [489, c. 140-261]. Как видно из вышесказанного, в предложенной модели анализа мотива описанию признаков художественного пространства отводится обязательное место, однако в силу принципиально иных, в отличие от образного анализа, задач исследования, акцент делается только на фабульно и сюжетно значимых приметах пространства, выражающих его актуальное отношение к предикатам и актантам мотива. Предметом основного внимания ученого, занимающегося мотивным анализом, становится пространство героев, при этом практически не рассматривается пространство повествователя. Кроме того, в повествовательном тексте пространство представлено, как правило, целой системой пространственных ориентиров, не только участвующих в организации событий, но и выполняющих множество других функций, это, безусловно, нужно учитывать, сочетая анализ сквозных пространственных образов с элементами мотивного анализа и помня о ключевой роли пространственных характеристик в структуре некоторых мотивов. 25 Обратим внимание на еще один важный аспект. В практике анализа лирических текстов часто смешивают или осознанно совмещают понятия «сквозной образ» и «мотив», принимая за основу лишь «верхний слой» их значения – интертекстуальность. Например, С.М. Шакиров в диссертации «Мотив дороги как парадигма русской лирики XIX - XX веков», по сути, проследил на обширном материале трансформацию сквозного пространственного образа дороги в русской поэзии, рассматривая «мотив с точки зрения его смысла как элемент идейнообразного уровня художественного произведения» [576]. В.И. Силантьев убедительно показал, что «природа мотива в лирике, по существу, та же самая, что и в эпическом повествовании: и там, и здесь в основе мотива лежит предикативный (или собственно действовательный) аспект событийности», поэтому «считать мотивами все, что повторяется в тексте и из текста в текст, будь то образ, деталь, какой-либо характерный стилистический штрих или просто слово, наконец, – значит неоправданно расширять понятие мотива» [490, c. 14]. Успешно опробовав разработанную методику мотивно-тематического анализа лирики на материале стихотворений И.А. Бунина, ученый очередной раз доказал необходимость более строгого подхода к выбору терминов, ибо в литературоведении до сих пор весьма распространена «смысловая невнятица в опытах теоретизирования» [555, c. 11]. Обзор исследований, посвященных анализу художественного пространства в литературе, явственно показал, что современное литературоведение использует целый арсенал терминов и понятий, принятых для обозначения включенного в художественный текст пространства в целом или отдельных его фрагментов. Однако мы считаем, что ключевым и универсальным среди них является термин «пространственный образ», не только потому, что традиция его использования насчитывает столетия (см. образ художественный) [463, стб. 669-674; 161, с. 149151], но и потому, что он объединяет в своем значении все возможные варианты пространственных номинаций. 26 Помимо понятия «пространственный образ» в практике литературоведческого анализа художественного пространства широко применяется термин «пространственная модель», разработанный Д.С. Лихачевым, Ю.М. Лотманом и В.Н. Топоровым [320, 325, 326, 327, 527, 530, 531] для обозначения фундаментальных параметров мировидения писателей, отразившихся в тексте художественного произведения и воплощающих специфически авторский «смыслообраз бытия». Так, Ю.М. Лотман, не отрицая теорию хронотопа М.М. Бахтина, связанную с идеей неразрывного проникновения пространства и времени в литературном произведении, склонялся к обособленному их рассмотрению и настаивал на моделирующей функции художественного пространства: «…пространство в тексте есть язык моделирования, с помощью которого могут выражаться любые значения, коль скоро они имеют характер структурных отношений. Поэтому пространственная организация есть одно из универсальных средств построения любых культурных моделей» [329, c. 443]. Разносторонние и плодотворные филологические исследования пространственных моделей в художественной литературе послужили основанием для выделения «спациального» (от лат. spatium – пространство) направления в литературоведении, об актуальности и перспективности которого писал еще в 1980-е годы В.Н. Топоров: «В настоящее время вырисовываются перспективы особой ″спациализированной″ поэтики, отсылающей как к самому тексту, так и к ″правилам″ его чтения (литературоведчески-читательский аспект) сквозь призму ″пространственности″» [527, c. 282]. Ученый отмечал, что «…″пространственность ″ в текстах <…> захватывает все их элементы, которые в силу этого более или менее естественно могут быть описаны принципиально пространственными структурами (моделями). Ср. «геометризованные» представления значимых эстетических отношений между звуками (или буквами) в тексте, между грамматическими формами и лексемами, между членами синтаксических конструкций; не подлежит сомнению практическая или по крайней мере теоретическая возможность пространственной трактовки поэтических тропов и фигур, лично- 27 персонажной структуры текста (инвентарь действующих лиц и налагаемая на них сеть, определяющая распределение форм грамматического лица; «мерность» текста и связанная с ней проблема «точки зрения», соотношения «голосов» и т. п.), мотивов, сюжетов и даже, жанров и родов художественной словесности» [там же, с. 281]. Учитывая состав элементов и параметров, необходимых для анализа пространственных моделей, предложенный Ю.М. Лотманом и В.Н. Топоровым, современные ученые исследуют не только пространственную структуру отдельных произведений [52], но и пространственную картину мира того или иного писателя в целом [453]. Изучение пространственных моделей, являющихся художественным отражением онтологии, позволяет литературоведам через выявление доминирующие пространственных ориентиров и определение их функций в художественных текстах проследить трансформации творческого развития выдающихся художников слова. Рассмотрев наиболее актуальные в современном литературоведении термины и понятия, принятые для обозначения художественного пространства в целом, а также отдельных пространственных ориентиров, мы пришли к следующим выводам: - понятия «локус», «топос» и «пространственная мифологема» используют для обозначения того или иного пространственного образа, отраженного в художественном тексте. Выбор одного из этих понятий в литературоведческом анализе зависит от функций образа в конкретном произведении. Так, локусом можно назвать любое включенное в текст пространство, как внешнее, так и внутреннее. Понятие «топос» употребляют, когда речь идет об устойчивых в национальной литературе образах, а понятие «пространственная мифологема», – когда характеризуют образ, сохранивший с глубокой древности свое константное архетипическое значение; 28 - пространственные образы являются содержательной формой тех или иных пространственных концептов, поэтому, рассматривая образную систему художественного произведения, можно использовать элементы концептного анализа; - большинство пространственных образов являются сквозными, интертекстуальными как в творчестве одного писателя, направления, эпохи, так и в национальной и мировой литературе в целом; - понятия «сквозной пространственный образ» и «пространственный мотив» не являются синонимами и связаны только значением повторяемости, однако в структуру мотива могут быть включены пространственные характеристики, следовательно, имеет смысл учитывать это в литературоведческом анализе; - в «сильных» текстах (В.Н. Топоров) художественное пространство предстает как структурная модель, отражающая фундаментальные параметры мировидения писателя, анализируя такие произведения, целесообразно использовать термин «пространственная модель». Многообразие пространственных образов и моделей в художественной литературе дает возможность их классификации по разным признакам и параметрам. 29 Раздел I. Типология сквозных пространственных образов Художественное пространство, в отличие от физического, – это не протяженность вообще, а некая данная человеку целостность: то, что можно увидеть вокруг или вообразить. Являясь неотъемлемым компонентом литературного произведения, пространство представлено в нем в конкретных (город, дом, сад) или абстрактных, но всегда имеющих под собой чувственную основу, художественных образах (космос, хаос, пустота), особенности представления которых во многом зависят от эстетических задач писателя. Принимая это во внимание, исследователи, изучающие художественное пространство в отдельном произведении или творчестве писателя в целом, для удобства анализа классифицируют пространственные образы по тем или иным признакам и параметрам. Одну из первых классификаций пространственных образов разработал Ю.М. Лотман. В статье «Художественное пространство в прозе Гоголя» он выдели и описал пространство точечное (дом) и линеарное (дорога), плоскостное (степь) и объемное (город), бытовое (вещное) и волшебное (заполненное «непредметами») – здесь и далее подчеркивание наше (Ю.П.). Как заметил ученый, каждый пространственный образ имеет собственные свойства и собственную структуру, кроме того, «каждому пространству соответствует особый тип отношений функционирующих в нем персонажей» [327, c. 265]. В книге известного польского слависта Е. Фарино «Введение в литературоведение» (1991), которая является не только учебным пособием, но и серьезным научным трудом, в котором автор обстоятельно описывает систему представлений о мире литературного произведения и поэтических языках, моделирующих этот мир, отдельный параграф посвящен категориям времени и пространства. Ученый выделяет и характеризует некоторые виды представленного в литературном тексте пространства по следующим критериям: 30 - по наличию/отсутствию границы – художественное пространство замкнутое (ограниченное) и разомкнутое (безграничное); - по ценностному признаку и значению – однородное (все описанные в произведении пространства имеют одинаковый ценностный статус) и неоднородное (разное значение и степень ценности представленного пространства); - по наличию/отсутствию вычленяемых предметов или свойств – заполненное и пустое, сконденсированное и разреженное; - в семиотическом смысле – организованное (находящиеся в данном пространстве отдельные его участки, объекты или свойства, состояния, пропорции и т. п. упорядочены) и неорганизованное (наблюдается отсутствие упорядоченности); - по наличию/отсутствию бинарных параметров (верх/низ, близь/даль, север/юг, центр/периферия, передняя сторона/задняя сторона, лицевая сторона/изнанка и т.п.) – конфликтное и неконфликное, нравственное и безнравственное, ценностное и антиценностное, устойчивое и неустойчивое, статуарное и динамическое, интимное и публичное, эгоистическое и общественное и т. п.; - по отношению к действительности – реальное (например, географическое или историческое пространство в тексте создает иллюзию достоверности) и фиктивное (онейрические пространства – сновидения, мечтания, миражи, галлюцинации; картины, вызванные воображением или особым состоянием героя, утомленностью, дремотностью, расстройством и т.п.). Е.Фарино отмечает специфику каждого из выделенных видов пространства, доказывает их продуктивность многочисленными примерами из произведений русской литературы XIX-ХХ веков (Н.В. Гоголя, А.А.Фета, Ф.И. Тютчева Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, В. Распутина и др.) [542, c. 363-378]. Считая художественное пространство и художественное время «важнейшими характеристиками образа художественного, обеспечивающими целостное восприятие художественной действительности и организующими композицию про- 31 изведения», И.Б. Роднянская в энциклопедической статье, посвященной этим категориям, говорит о традиционных пространственных ориентирах, таких как «дом» (образ замкнутого пространства), «простор» (образ открытого пространства), «порог», «окно», «дверь» (граница между тем и другим), которые «издавна являются точкой приложения осмысляющих сил в литературно-художественных (и шире – культурных) моделях мира» и о формах пространства, характерных для литературы ХХ века (символическое пространство, свойством которого является тяготение «к безымянной или вымышленной топографии», «многоплановое эпическое пространство коллективных исторических судеб», и «внутреннее пространство для развертывания событий» – память) [462, cтб. 1174-1177]. Развернутую классификацию пространственных образов в художественном произведении предложила В.В. Савельева. В работе «Художественный текст и художественный мир: проблемы организации» (1996) она выделила и охарактеризовала вертикальное и горизонтальное; геометрическое и тригонометрическое; дальнее и ближнее; внешнее и внутреннее; закрытое и открытое; динамическое и статическое; соотнесенное со стрелой времени и не соотнесенное со стрелой времени; заполненное и полое; земное и космическое; фантастическое; микро - и макропространство; точечное и протяженное; географическое; социально-экономическое и административно-территориальное; естественное и искусственное; визуальное и невизуальное пространства [472, c. 86-116]. Базовыми критериями, положенными в основу этих широко распространенных типологий, являются структурно-семиотические признаки художественного пространства. Безусловно, такой подход к исследованию пространства в литературном произведении весьма продуктивен: он позволяет выявить наиболее общие принципы организации художественного мира того или иного автора, определить моделирующее значение репрезентативных пространственных образов в структуре художественного целого. Однако не менее важным, на наш взгляд, является системное описание семантических разновидностей художественного пространства по содержательно- 32 функциональному критерию. Нужно отметить, что в науке уже разработана семантическая классификация литературных образов в целом. Так, например, М.Н. Эпштейн разделил художественные образы с точки зрения предметности на образы-детали, пейзаж, портрет, интерьер, а с точки зрения смысловой обобщенности на индивидуальные, характерные, типические, образы-мотивы, топосы и архетипы [598, c. 254]. В то же время, единой типологии пространственных образов, учитывающей не только параметры пространства, но и важнейшие закономерности эволюции пространственной образности в русской литературе, смысловые трансформации константных пространственных образов, наблюдаемые в процессе литературного развития, до сих пор нет. Мы обратили внимание, что основные пространственные образы являются сквозными, т.е. устойчиво повторяющимися в художественной литературе. Сквозные пространственные образы (именно этим понятием мы будем оперировать в данной работе), используясь в различных контекстах, обрастая дополнительными оттенками смысла, вбирают в себя огромное «подтекстовое» содержание и существуют уже как бы «над текстом», связывая в памяти читателей различные произведения одного и того же или разных авторов. Сквозные пространственные образы могут быть таковыми в творчестве отдельного писателя (как например, «темные аллеи» у И.А. Бунина или «подполье» у В.С. Маканина), но, как правило, они выходят за рамки художественного мира творческой личности и становятся устойчивыми для представителей какого-то художественного направления, течения (например, образ «я-пространства» у романтиков), для целого поколения (например, «бездомье» в литературе 20-30-х годов ХХ века), даже для всего народа (например, «деревня», «провинция» у русских писателей). По нашим наблюдениям [449], в русской литературе наибольшее распространение получили архетипические, национальные и индивидуальные сквозные пространственные образы (см. рис – 1): 1. Архетипические образы, или мифологемы – дом, дорога, ад, рай; универсальные параметры пространства (стороны света, верх/низ, левый/правый и т.п.); 33 пограничные (порог, окно, река и т.п.) и др. константные топосы и локусы – пронизывают мировую художественную литературу от мифологических истоков до современности и образуют постоянный фонд сюжетов и ситуаций; 2. Интертекстуальные внутри национальной литературы топосы и локусы – образы дворянской усадьбы, деревни, провинциального города, пейзажа и др. – с одной стороны, создают национальный колорит в произведении, а с другой, отражают специфику русского характера. 3. Индивидуальные пространственные образы – «я-пространство» (внутренний мир) и «пространство-я» (субъективно воспринимаемая среда обитания) – ТВ Индивидуальные Я -Я -П ВО СТ РО СТ РА НС АН ТР ОС ПР О способствуют раскрытию душевной организации персонажей. Национальные ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД ДЕРЕВНЯ ПЕЙЗАЖНЫЕ ОБРАЗЫ Архетипические ГРАНИЦА АРХЕТИПИЧЕСКИЕ БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОСТРАНСТВА Рисунок 1 – Сквозные пространственные образы Определяющими признаками, лежащими в основе данной типологии, являются следующие выделенные нами характеристики сквозных пространственных образов: универсальность образа; повторяемость в ряде литературных произведе- 34 ний; подвижность (сквозные образы не только повторяются, но и варьируются в текстах, сохраняя свои основные признаки); словесная закрепленность в тексте произведения. Важно отметить, что один и тот же образ может рассматриваться и как архетипический, и как национальный, и как индивидуальный в зависимости от того, каким значением он наделяется автором произведения и какие функции выполняет в тексте. Так, например, в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» общечеловеческий локус «дом» представлен во всех трех вариантах: «вечный дом», данный мастеру в награду, имеет архетипическую семантику, коммунальная квартира рисуется как типичный образ жилища советской эпохи, дом как носитель признака «внутренний», символизирует человеческую душу, психологический мир главных героев. В соответствующих главах рассмотрим специфику выделенных сквозных пространственных образов и их трансформации. 35 Глава 1. Космос и Хаос в русской литературе: архетипические пространственные образы и их производные В последнее десятилетие появился целый ряд исследований, в которых анализируется литературный архетип [143, 130, 187, 230, 387, 593 и др.]. Актуальность такого анализа связана с возможностью более глубокого и универсального прочтения литературного произведения. Особенно яркими примерами такого прочтения являются работы Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского и др. Сложность, однако, состоит в том, что до сих пор отсутствует единая классификация литературных архетипических образов. Так, Е.М. Мелетинский в работе «О литературных архетипах» (1994) с сожалением констатирует, что «попытки представить архетипические мотивы в виде строгой системы, особенно системы иерархической, ни к чему не приводят» [354, c. 51]. В этой связи представляется перспективным исследование как системы литературных архетипов в целом, так и отдельных архетипических образов, например, пространственных. На архетипичность многих пространственных образов указывали, прежде всего, исследователи-мифологи. Так, М. Элиаде в работе «Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость» утверждал, что все реальные ландшафты, храмы и поселения имеют небесные архетипы. Автор привел множество примеров из различных мифологий для иллюстрации своей гипотезы: «Согласно верованиям месопотамцев, прототип реки Тигр находится на звезде Анунит, а прототип реки Евфрат – на звезде Ирондель. <…> У алтайских народов идеальными прототипами гор являются горы небесные. В Египте природный рельеф и нумы получили названия от названий «полей» небесных: сначала обращали взоры к «полям» небесным, а уж потом начиналось их отождествление с земными географическими объектами… [595, c. 17]. 36 По Элиаде, ведущими пространственными архетипами являются Космос (Гора, Город, Храм или Дворец) и Хаос (например, населенные чудовищами пустыни, невозделанные земли, неведомые моря и т.п.) [там же, c.22]. И те и другие архетипы соответствуют мифологической модели, но разного рода: «… каждая территория, занятая с целью проживания на ней или же использования ее в качестве «жизненного пространства» сначала преобразуется из «хаоса» в «космос», то есть, под воздействием ритуала ей придается некая «форма», посредством которой она становится реальной». Важнейшими атрибутами архетипического пространства являются Центр и Граница. Сакрально значимыми образами «Центра», по М. Элиаде, могут быть: а) Священная Гора – место, где встречаются Небо и Земля – находится в центре Мира; б) каждый храм или дворец; с) город или священный храм как место входа на Небо, под Землю и в Преисподнюю [там же, с. 25]. Идея центра была в первобытности главным пространственным ориентиром, это область в высшей степени священного, место абсолютной реальности. Все прочие символы Абсолютной Реальности (Древо Жизни и Бессмертия, Источник юности и т. д.) также являются олицетворением центра. Любое пространство обосновывается посредством границ: «…границу эту можно определить как черту, на которой кончается периодичная форма. Это пространство определяется как «наше», «свое», «культурное», «безопасное», «гармонически организованное» и т.д. Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [330, c. 257]. Освященным местам присуща замкнутая граница, она защищает от злых духов и всевозможных бедствий, поэтому нарушение границы считалось великим грехом и влекло за собой суровое наказание. Символами границы являются ворота, дверь, окно, порог, река и т.п. Разновидностью границы между «своим» и «чужим» пространством является дорога. Дорога предстает и в своем прямом значении, как расстояние от места до места, как сам процесс движения (ср. езда, путешествие), так и в переносном: в художественных текстах дорога редко бывает просто дорогой, но частью жизнен- 37 ного пути. Выбор дорог – выбор жизненного пути. Путь в мифологическом сознании может быть вертикальным (вниз – в подземное царство, или вверх – на небо) и горизонтальным: приближающимся к сакральной цели (от дома к храму) или удаляющимся от нее (от своего дома – в чужой мир). В работе В.Н Топорова «Пространство и текст» находим очень интересное и важное для нас наблюдение о семантике пути: «Путь – это образ связи между двумя отмеченными точками пространства в мифопоэтической и религиозной моделях мира, т.е. то, что связывает... самую отдаленную и труднодоступную периферию и все объекты, заполняющие и/или образующие пространство, с высшей сакральной ценностью... <…> Трудность пути – постоянное и неотъемлемое свойство; двигаться по пути, преодолевать его уже есть подвиг, подвижничество со стороны идущего подвижника, путника. <…> Начало пути – тот локус, который считается естественным для субъекта пути... <…> Конец пути – ... цель движения, его явный или тайный стимул. Конец образует главное силовое поле пространства... <…> При незакрепленности начала и конца пути они скрепляются именно самим путем и являются его функцией, его внутренним смыслом. Через них путь осуществляет свою установку на роль медиатора: он нейтрализует противопоставления этого и того, своего и чужого, внутреннего и внешнего, ... сакрального и профанического» [527, c. 258-259]. Об архетипичности пространства убедительно писал К. Леви-Строс в книге «Структурная антропология». Ученый утверждал, что большинство туземных обществ сознательно сакрализуют пространство, например, располагают свои стоянки круговым способом, учитывают направление дорог при планировке поселений и выборе места для храмов и жертвенников. «Даже когда общество безразлично к пространству или к какому-нибудь его типу (например, городскому пространству, если оно не спланировано), бессознательные структуры как бы пользуются, если так можно сказать, этим безразличием для того, чтобы заполнить свободное место и утвердиться там символически или реально, подобно тому как, 38 согласно Фрейду, бессознательные тревоги используют «отпуск» во время сна для самовыражения в форме сновидений» [303, c. 343-344]. Е.М. Мелетинский, предложивший понятие «литературные архетипы» и наметивший основные из них, отдельно пространственные архетипические образы не выделял, но в то же время неоднократно указывал на то, что мифологическое описание мира невозможно без называния пространственных координат, без повествования об элементах этого мира «…при этом пафос мифа довольно рано начинает сводится к космизации первичного хаоса, к борьбе и победе космоса над хаосом (т.е.формирование мира оказывается одновременно его упорядочиванием). И именно этот процесс творения мира является главным предметом изображения и главной темой древнейших мифов» [354, c. 13]. Таким образом, по мысли Е.М. Мелетинского, основным архетипическим мотивом, из которого формируются все остальные, является противостояние космоса и хаоса, что подтверждается следующими рассуждениями автора: «В пространственном отношении космос противостоит хаосу как внутреннее организованное пространство – внешнему. <…> Структура космоса, воплощаемая мировым древом, включает по вертикали 3 основных зоны – небо, землю и преисподнюю, по горизонтали – 4 стороны света, воплощаемые часто мифологическими персонажами. В основе существования Космоса (и человечества) – мировой порядок, закон, правда, справедливость. <…> Разрушительные силы хаоса в мифах о космических циклах ослабляют действие мирового порядка, что приводит к гибели космоса (описываемому эсхатологическими мифами) и новому творению» [357, c. 296]. В указанной работе Е.М. Мелетинского много ценных наблюдений, касающихся архетипичности пространственных мотивов. Крайне важным для нас представляется выявление автором архетипической схемы путешествия героя в фольклоре и литературе: «Тематика творения связана с динамикой во времени. Внутри этой динамики или вне ее обособляется мотив движения в пространстве и пересечения различных зон и миров (где контактируют с мифологическими существами, приобретают их мощь или борются с ними, добывают ценности и т.п.), 39 что служит простейшим способом описания модели мира. Здесь зародыш архетипической схемы путешествий» (выделено авт.) [354, c. 50]. В отношении мотива пути ученый отмечает: «Герой совершает свои подвиги вне дома, в пути-дороге, отдельные участки которой мифологически отмечены (лес как сфера демонических существ, река как граница различных сфер, нижний и верхний миры и т.п.)» [там же, с. 60]. Для нашего исследования актуальна мысль автора о мифологической топографии: «В мифе и сказке <…>, а также в рыцарском романе распространены архетипические мотивы путешествий, включающие лесные блуждания, реже – морские поездки (последние более характерны для греческого романа), посещения иных миров. Эти путешествия, как правило, строго соотнесены с мифологической топографией, не только с противопоставлением неба, земли, подземного и подводного «царств», но также с противопоставлением дома и леса (последний представляет собой «чужой» мир, насыщенный демонами и демонизмом), с маркированием реки как границы между мирами на суше и т.д. и т.п.» [там же, с. 67]. Очевидно, что понятие «литературный архетип» гораздо шире, нежели юнговские архетипы, которые «представляют собой преимущественно образы, персонажи, в лучшем случае роли и в гораздо меньшей мере сюжеты» [там же, с. 6]. В этой связи Е.М. Мелетинский обосновывает необходимость введения нового термина «архетипический мотив», под которым понимает «некий микросюжет, содержащий предикат (действие), агенса, пациенса и несущий более или менее самостоятельный и достаточно глубинный смысл» [там же, с. 50]. Система выделенных исследователем архетипических мотивов дает нам основание отдельно говорить о пространственных архетипах в литературе. Исследованию художественного пространства посвящена работа Д.А. Щукиной «Пространство в художественном тексте и пространство художественного текста» (2003). Основной характеристикой «архаической концепции пространства» автор считает осознание пространства как «территории существования, обитания, отграниченной от внешнего пространства, от остального мира. 40 <…> Мир начинает делиться на «свое» пространство (небольшое, отграниченное) и «чужое». Так в мировоззрении древних появляется бинарная оппозиция «своечужое, принципиальная по своей важности. Освоенная территория, «свой» мир характеризовался неоднородностью: в нем выделялись сакральное пространство (центр) и профанное пространство (периферия). Сакрализованный центр «отмечался алтарем … а затем храмом, на основе чего формировалось абстрактное представление о мировой оси, мировом древе (верх-низ). Так возникало отграниченное, ориентированное и измеренное пространство. <…> Ранние пространственные представления закрепились в мифологии. Именно в мифах пространственная модель четко структурируется на основе системы «бинарных оппозиций, фундаментальных противопоставлений, архетипических кодов: свой-чужой, верхниз, жизнь-смерть, космос-хаос и др.» [593, c. 13-14]. Пространственные архетипы как отдельная группа рассматривались в монографии Ю.В. Доманского «Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте» (2001). Распределив архетипические мотивы на «мотивы, связанные с описаниями природы, стихий мироздания; мотивы, непосредственно соотносимые с циклом человеческой жизни, ключевыми моментами и категориями в жизни человека и мотивы, характеризующие место человека в пространстве» [187, c. 28], исследователь проанализировал шесть рядовых мотивов: метели и времен года, сиротства и вдовства, леса и дома. Заметим, что типология Ю.В. Доманского основана не только на тематическом, но и на функциональном значении архетипа. Данную позицию автор аргументирует тем, что «в современной интерпретации архетип воплощает исконные общечеловеческие ценности, универсальные нравственные представления человека о мире, что не противоречит бессознательной и внеоценочной природе архетипа в архаическом мифе. Применительно к современности мы даже можем утверждать, что архетип, как это не противоречит его собственной логике, – синоним универсальной нравственности, заложенной изначально в человеке» [там же, с. 41 28-29]. Руководствуясь данным положением, автор выделяет несколько типов функционирования архетипического значения в литературе, а именно: - сохранение всего пучка сем архетипического значения мотива; - доминирование каких-либо сем архетипического значения; - инверсия архетипического значения мотива как показатель неординарности персонажа; - инверсия архетипического значения мотива как показатель отступления от универсальных нравственных ценностей; - сочетание разных сем архетипического значения в оценках одного персонажа [там же, с. 29]. Анализируя творчество М.И. Цветаевой, Н.С. Кавакита в основном характеризует традиционно выделяемые архетипы: архетипы, соотносимые со сферой эмпирического существования (воплощение архетипических черт Анимы, Анимуса, Ребенка, Матери, Духа-Отца) и архетипы, соотносимые со сферой надэмпирического существования (черты архетипики Духа и Самости). При этом пространственные архетипы Горы и древесного мира (леса) связывает с архетипом Самости. Главной в их символике, по мнению исследователя, является идея роста личности «динамичность, устремленность вверх, сращение разного в целое» [230, c. 168]. Н.С. Кавакита отмечает, что «горная символика проникает в творчество М. Цветаевой в 1920-е годы, органично включаясь в общую систему поэтического космоса. При этом поэт «приспосабливает» концепт «гора» к этому космосу, действенными остаются преимущественно две семы: 1) высокость (букв. и перен. значения); 2) «труднопреодолимость», «тяжесть» горной породы» – и буквальная, физическая, и фигуральная. <…> «Гора» служит своеобразной «единицей измерения» ряда эстетико-этических категорий художественной системы М. Цветаевой» [там же, с. 154]. Описывая «древесный мир» М. Цветаевой, Н.С. Кавакита отмечает, что «оппозиционность двух миров все еще сохраняет моделирующие функции, однако представление героини о мире деревьев постепенно углубляется: к выделенным добавляется противопоставление «сакральное- 42 профанное». Теперь ее восприятие связывает мир природы с миром надэмпирического, не случайно в стихотворение входят образы репрезентирующие христианские и языческие представления о сакральном: «Лес! – Элизиум мой!», «легкий жертвенный огнь Рощ», «древо» несет «вещую весть» [там же, с. 165166]. Выявляя функции архетипов и архетипических образов в произведениях П.В. Засодимского, Е.Ю. Власенко описывает личностные архетипы и мотивы, к которым относит архетипы культурного героя-демиурга, трикстера, оборотня, бабы-яги, сироты, вдовы и пространственные архетипы (дом, сад, ад и рай). Автор считает, что традиционные пространственные ориентиры наполняются символическим смыслом и обретают универсальный, общечеловеческий подтекст благодаря «мощной философской проблематике» произведений П.В. Засодимского [143, c. 96]. На наш взгляд, достаточно убедительно образы дома, леса, ада и рая рассматриваются как архетипические, представляющие реализацию бинарных оппозиций «внутренний – внешний», «свое – чужое», «хаос – космос» [там же, с. 96]. Анализу «универсальных архетипов» в жанре фентэзи посвящена работа Н.И. Васильевой «Фольклорные архетипы в современной массовой литературе: романы Дж. К. Роулинг и их интерпретация в молодежной субкультуре» (2005). Среди описанных исследователем архетипических мотивов немаловажную роль играют пространственные, прежде всего мотив «преодоления порога»: «После того, как герой узнал о беде/несчастье и решил что-то предпринять (см. «отлучку» в схеме В.Я. Проппа) или же – более широко – ощутил «зов к приключению» и както отреагировал на него, <…> он отправляется в путь и рано или поздно должен встретиться со стражем порога в иномирие, а затем пересечь этот порог» [130, c. 47-48]. Отметим, что само иномирие, а также промежуточная, пограничная зона, по мнению автора, так или иначе связаны с архетипическими пространственными мотивами: «под иномирием нужно понимать ту пространственновременную систему, которая противопоставлена реальности, принятой в данной 43 сказке за мир обыденности, за мир, родственный герою. <…> В роли иномирия совсем не обязательно выступает некое «царство-государство» – обычно это замок/дворец, причем к нему часто прикреплен какой-то традиционный пограничный локус, то есть, например, замок на горе/ в горах, замок в лесу, замок у реки, замок/дворец под землей/в поднебесье [там же, с. 48]. В целом же, констатирует Н.И. Васильева, «нетрудно объяснить многообразие изображаемого, неоднородность, проистекающую из трансформации традиционного понимания сказочного универсума как оппозиции «свой» мир – «чужой» мир» [там же, с. 49]. И.Н. Невшупа в диссертационном исследовании «Роман Ф.М. Достоевского «Подросток» типы и архетипы» (2007) анализирует архетип «подростка», (ср. у К.Г. Юга архетип дитяти) и архетипические мотивы двойничества, эгоизма, гордыни, бесовства, скитальчества, благообразия, странничества. Характеризуя архетипические мотивы, непосредственно связанные с личностными образами у Достоевского, исследователь обращается к явно пространственной оппозиции скитальчество/ странничество, не заостряя, однако, внимания на том, что оба элемента этой оппозиции восходят к архетипу пути. Европейским «скитальцем» И.Н. Невшупа называет Версилова, странником-богомольцем Макара Ивановича: «Версилов – европейский скиталец с русской душой, идейно бездомный и в Европе, и в России. Макар – русский странник, отправившийся в хождение по Руси, чтобы познать весь мир: ему вся Россия и даже вся вселенная – дом. Версилов – высший культурный тип русского человека. Макар – высший нравственный тип русского человека из народа, своего рода народный святой» [387, c. 133]. В работе «Экзистенциальная архетипика в художественном пространстве современной русской прозы» (2006) С.Г. Барышева предлагает разделить экзистенциальные архетипы на две группы: «онтические» (термин М. Хайдеггера) и гносеологические. «Произведения, где есть онтические архетипы, строятся по экзистенциальным канонам (наличие экзистенциального героя, наличие пограничной ситуации и т.д.). <…> Гносеологические архетипы в силу своей специфики могут встречаться не только в произведениях экзистенциальной направленности, 44 но также в произведениях различных стилей и направлений. Автор отмечает, что «экзистенциальные архетипы вплетены в ткань романа очень ненавязчиво, там, где писатели обращаются к вечным категориям: жизнь-смерть, добро-зло, верабезверие, которые вырастают до образов символов. Экзистенциальные архетипы отражают мировоззрение художников, их устремления, представления о моральных ценностях, согласно которым выше всего ставится Человек, его личность, стремление познать самого себя, упорство в борьбе с самим собой» [87, c. 102103]. В своей работе С.Г. Барышева относит к онтическим архетипы Тошноты, Пустоты, Болезни, Насекомого, Тяжести. Среди гносеологических выделяет архетипы Пути (архетипы Дороги, Города, Границы,) и Истины (архетипы Дома, Окна, Леса, Воды). Как видим, большинство архетипов, названных автором гносеологическими, являются по сути пространственными. Выполненный нами анализ трудов мифологов, классиков отечественного литературоведения и современных ученых позволяет сделать следующий вывод: исследование архетипов в художественной литературе не сводится к анализу личностных архетипических схем, выделенных К.Г. Юнгом. К числу базовых моделей, определяющих исконные ценностные ориентации человека, можно, безусловно, отнести и пространственные образы, являющиеся основой мировосприятия, некой матрицей, в которой содержатся устойчивые представления об окружающей действительности. Под пространственными архетипами мы понимаем общечеловеческие пространственные образы, бессознательно передающиеся из поколения в поколение, пронизывающие всю художественную литературу от мифологических истоков до современности и образующие постоянный фонд сюжетов и ситуаций. Акцентируем внимание на том факте, что пространственные архетипы имеют тенденцию выступать парами, в виде бинарных оппозиций. Таким образом, к пространственным архетипам, на наш взгляд, необходимо отнести, прежде всего, антиномическую пару космос/хаос, которая является основанием для других пространственных оппозиций, таких как: дом/лес (безопасное пространство/ опасное простран- 45 ство), дом/дорога, (закрытое пространство/открытое пространство), дом/анти-дом (свое пространство/чужое пространство) и др. Следовательно, архетипическим значением наделяется и образ границы – пространственного рубежа, разделяющего свой и чужой миры. Далее следует заметить, что архетипическую универсальную семантику и ценностный статус приобретают также и некоторые параметры пространства, например, стороны света или пространственные оси: вертикальная и горизонтальная. Данное положение подтверждается мнением многих исследователей об устойчивости архаической пространственной модели, включающей бинарный оппозиции (свое/чужое, верх/низ, юг/север и др.), сакральный центр и профанное пространство, а также предметы и явления, архетипическое значение которых связано с древнейшей культурной традицией. Рассмотрим семантику архетипических пространственных оппозиций на конкретных примерах из русской литературы. 1.1. Архетипическая оппозиция дом/лес («Старосветские помещики» Н. Гоголя) Известно, что пространственные представления древнего человека воплотились прежде всего в устройстве жилища, его четырехчленная структура отражала четырехчленную модель мира. «Четыре стороны (4 стены, 4 угла) жилища с находящимся в центре деревом удивительно точно повторяют словесные и живописные тексты, описывающие четырехчленные модели мира (разных культурных традиций)» [83, c. 91]. Строительный ритуал как способ освоения и организации пространства включал в себя «ритуальную борьбу между хозяевами и плотниками» [там же, с. 102]. Основываясь на этом наблюдении, А.К. Байбурин соотносит сам ритуал «с целым классом текстов <…> диалогическая структура которых воспроизводит архетип борьбы между хаосом и космосом» [там же]. Жилище, таким образом, воплощало «уменьшенную модель пространства, мира <…> реальность выступает как имитация небесного архетипа; искусственные объекты (посе- 46 ления, храмы, жилища) становятся сакрально значимыми, так как отождествляются с «центром мира»; обряды и значимые профанные действия наделяются определенным смыслом потому, что они сознательно совершаются богами, героями и предками [593, c. 14-15]. Как прaвило, обрaз дома в литерaтуре имеет aрхетипическую семaнтику, если реaлизует значение зaкрытого внутреннего прострaнства, дaющего покой, безопaсность и нaдежную защиту; знaчение средоточия универсaльных жизненных ценностей – таких кaк счaстье, блaгополучие и соглaсие в семье, мaтериальный достaток. Архетипическое знaчение обрaза домa в нaибольшей степени проявляется при включении его в ряд оппозиций: дом/лес, дом/ дорогa, дом/бездомье и т.п., где дом являет собой кaк бы некий космос, в котором человек чувствует себя хорошо, уютно, счaстливо, а прострaнство вне домa предстaвляется кaк хaос. На наш взгляд, классическим примером использования пространственной оппозиции дом/лес в русской литературе является повесть Н.В. Гоголя «Старосветские помещики». В нaчале повести Гоголь дaет очерк бытa стaросветских помещиков, расскaзывает о нaружности Афaнасия Ивановича и Пульхерии Ивaновны, об их мирном харaктере, рисует их дом, сообщaет о том, кaк они зaнимались хозяйством, о том, кaк они ели и спaли, рaзговаривали и шутили, ухaживали за гостями. Писaтелю крaйне вaжно детaльно предстaвить жилище своих героев: он подробно описывaет печи, кaртины на стенaх, полы, комнaту Пульхерии Ивaновны (чем онa былa устaвлена, что висело на стенaх, что было «укладено» по углaм), поющие двери (звуки, которые они издaвали и общее впечaтление, происходящее от этих звуков, мебель в комнaтах (стулья, столики, зеркaло, ковер); двор, сaд, внешний вид домикa, гaлерею. Он говорит о том, как приятно было подъезжaть к дому стaричков, потому что тут ждет мирнaя жизнь, где ни одно желание не перелетaет за чaстокол дворa, за плетень сaда; в укромном домике было всего в изобилии, кругом деревенскaя природа, хозяева были добры и рaдушны. И в то же время Го- 47 голю забавно было их невнимание ко всякому удобству: картины как случайно попали к ним, так случайно и висели в комнатах; каждая дверь скрипит посвоему, а они и знать не знают этого, как будто бы это так и следовало. Прострaнство, в котором обитaют рaдушные стaрички – это зaмкнутое прострaнство, мaленькая вселеннaя, отгороженнaя от внешнего мирa снaчала кольцом изб, зaтем сaдом с грaницей-плетнем, двориком с чaстоколом и лесом. Основным свойством этого «домaшнего» прострaнства является гостеприимство и доброжелaтельность, а законом внутреннего мирa – уют. В зaмкнутом мире Товстогубов ничего не происходит, в нем все зaкономерно и вечно (своеобрaзный рай). Все действия отнесены не к прошедшему и не к нaстоящему времени, а предстaвляют собой многокрaтное повторение одного и того же. Течение мирной жизни старосветских помещиков изменил уход из дома любимой кошки Пульхерии Ивановны, неожиданное сильное беспокойство приходит из леса, пространства внешнего по отношению к мирному жилищу старичков. Если внутреннее пространство отличается очень высокой степенью детализации, то внешнее практически не дифференцированно: лес – место далекое, малоизвестное, чужое. Товстогубы никогда не бывают в лесу, хотя он находится сразу же за их садом. Единственный раз «Пульхерия Ивановна пожелала обревизовать свои леса» [11, т. 2, с. 20] и, увидев, что они расхищаются, приказала «удвоить только стражу в саду» (не в лесу!). Лес наделяется автором разрушительной силой: он населен таинственными дикими котами («никакие благородные чувства им не известны; они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах») [там же, с. 29]. Выход в лес опасен и грозит нежелательными последствиями (там кошечка Пульхерии Ивановны «набралась романтических правил») [там же, с. 30]. Мировая мифология часто представляет лес, как пограничную зону между миром мертвых и миром живых, поэтому именно здесь проводились обряды инициации. «Обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Это – постоянная, непременная черта его по всему миру» [437, c. 57]. В целом представления о 48 лесе как окружении подземного царства, царства мертвых восходят еще к античности и литературно зафиксированы у Овидия и Вергилия, а затем проникают и в европейскую литературу. В славянской мифологии лесу также отводилось значительное место. Древний человек осознавал свою беспомощность и незащищенность перед жестокими силами природы, и наиболее враждебным считался лес. Показательным в этом отношении является следующее наблюдение: «Человек, выходя из дома в лес <…> настраивался на постоянную борьбу с непредвиденными обстоятельствами и немилосердными стихиями; а с другой стороны – всегда мог рассчитывать и на неожиданную помощь лесного божества, лесного хозяина, поэтому старался ему понравится: не вредить лесу, не бить без нужды зверей, не ломать зря деревьев и кустов, не засорять лес, даже не кричать громко, не нарушать тишину и покой природы» [82, c. 6]. А.А. Скоропадская, прослеживая историю образа леса в мировой культуре, отмечает, что сложную и неоднозначную роль этот образ играет в ветхозаветной традиции: «…очень часто в Ветхом Завете является образом многочисленного народа. Это своего рода метафора: народ состоит из большого количества людей абсолютно одинаковых, каждый человек отличен от другого, так же, как отличаются друг от друга деревья. <…> В Ветхом Завете лес также может выступать как защитник избранников Божиих. <…> С возникновением христианства образ леса приобрел новые оттенки значения, сохранив в себе многие языческие представления. Значение леса как священного места сохраняется, но вместо языческих обрядов здесь начинают проводить христианские. В лесах стали устанавливать часовни или кресты, вешать на деревья иконы, таким образом шло уподобление леса и храма» [494, c. 64]. Исследователь Д.Х. Биллингтон усматривает еще одно значение леса: «именно девственная лесная чаща явилась колыбелью великой русской культуры <…>. Леса представляли собой как бы вечнозеленый занавес, в начальный период 49 формирования культуры защищавший сознание от все более отдалявшихся миров – Византии и урбанистического Запада» [104, c. 51]. Кроме этого, пространственный архетип лес имеет следующее значение – «место, где человек не способен что-либо предпринять и полностью вынужден положиться на высшее вмешательство в свою судьбу; при этом человек боится леса, ибо не знает его воли по отношению к себе» [187, c. 50]. Следовательно, семантическими характеристиками леса можно считать: враждебность части пространства, оппозицию всем прочим горизонтальным топосам, укрытие для невинно гонимых. Специфической чертой пространственной оппозиции дом/лес является наличие границы. О выразительности этого пространственного архетипа убедительно писал еще Ю.М. Лотман: «В «Старосветских помещиках» структура пространства становится одним из главных выразительных средств. Все художественное пространство разделено на две неравные части. Первая из них – почти не детализованная – «весь остальной» мир. Она отличается обширностью, неопределенностью. Это – место пребывания повествователя, его пространственная точка зрения. <…> Вторая – это мир старосветских помещиков. Главное отличительное свойство этого мира – его отгороженность. Понятие границы, отделяющей это пространство от того, обладает предельной отмеченностью, причем весь комплекс представлений Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны организован этим разделением, подчинен ему. То или иное явление оценивается в зависимости от расположения его по ту или по эту сторону пространственной границы» [327, c. 267]. Таким образом, дом и лес в повести – два противоположных пространства. Архетипические черты дома – уют, безопасность, счастье, изобилие, любовь, радушие; леса – тревога, опасность, обиталище таинственных диких котов. Неизменное внутреннее пространство счастья и уюта катастрофически разрушается в результате вторжения опасного случая из чуждого им пространства леса. Возни- 50 кает пространственная оппозиция внешний – внутренний = опасный – безопасный. Кaк видим, прострaнство в повести действительно облaдает «особой отмеченностью» и имеет мощную aрхетипическую семaнтику. Повествовaние превращaется в своеобрaзный миф, где «буколическaя тонaльность» изнaчaльно зaдaнa соотнесением стaричков Товстогубов с aнтичными Филемоном и Бaвкидой. Буколический aспект изобрaжения включaет в себя трaдиционное противопостaвление уединенной, тихой, скромной жизни нa лоне природы сутолоке, беспокойству, шуму большого мирa. Именно в мире стaросветских помещиков душa расскaзчикa умиротворяется, успокaивается, отдыхaет от суеты, толкотни, шумa, блескa и толпы остaльного мирa, нa что в тексте повести существует много укaзaний. В то же время отмечaем, что истинa у Гоголя в «Стaросветских помещикaх» окaзывается сложной, неоднознaчной, «не окончaтельной». Авторскaя оценкa совмещaет контрaстные, трaгические и комические aспекты видения жизни. При подобном взгляде нa жизнь обыденному придaется высокий смысл, повседневное и прозaическое облекaется в тaинственную оболочку, конечное приобретaет смысл бесконечного, весь мир и миропорядок стaвятся под знaк бесконечной изменчивости, неуловимости. Спецификa художественного прострaнствa «Стaросветских помещиков», неповторимое очaрование художественного мирa Н.В. Гоголя и зaключaется в этом едвa уловимом скольжении, неоднознaчности. 1.2. Архетипическая оппозиция дом/антидом (поэзия Серебряного века) Тема дома в русской литературе начала ХХ века становится особенно актуальной. Очевидно, что в этот переломный для России исторический период дом из категории пространственной, материальной превращается в «категорию энергетическую, в некую субстанцию человеческого сознания» [339, c. 73]. Для А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, С. Есенина, И. Бунина, О. Мандельштама, Б. Пастернака и многих других поэтов этого времени образ дома стал основопола- 51 гающим и в творчестве, и в жизни. Как справедливо замечает М.В. Медвидь, «этих авторов, при всей разнородности их судеб и эстетических установок, объединяло общее для всех «домашнее» мировосприятие» [352, c. 3]. Именно поэтому в последние годы возросло количество исследований, посвященных теме дома в творчестве отдельных авторов [239, 247, 340, 342, 432 и др.]. Образу дома посвящены и диссертации «Образ «дома» в поэзии Анны Ахматовой» М.В. Галаевой [153], «Концепт ДОМ в художественной картине мира М. И. Цветаевой» О.А. Фещенко [547], «Идея дома в творчестве Осипа Мандельштама» М.В. Медвидь [352]. Однако комплексного анализа семантики дома в поэзии серебряного века до сих пор предпринято не было, хотя, как нам кажется, подобный анализ необходим для целостного представления о макро и микрокосме русских поэтов этого периода, а также для осмысления изменений, произошедших в смысловом поле локуса «дом» в это время. Рассмотрев произведения поэтов серебряного века, в которых образ дома реализуется имплицитно в первых двух лексических значениях – как жилое здание, и как свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство [401, c. 174], – мы выделили следующие функциональносемантические группы: 1. Дом как физическое бытовое пространство, микрокосм. В этом значении дом можно осмыслить через ряд противопоставлений: Внутренне гармоничное, идеализированное пространство противостоит внутренне дисгармоничному, инфернальному. Рассмотрение этой оппозиции показывает, что дом в первом значении изображен обжитым, «окультуренным», воплощает устойчивость и упорядоченность. Он всегда наполнен вещами и поэтому часто объектами поэтизации становятся предметы интерьера: Люблю цветные стекла окон / И сумрак от столетних лип, / Звенящей люстры серый кокон / И половиц прогнивших скрип. / Люблю неясный винный запах / Из шифоньерок и от книг / В стеклянных невысоких шкапах, / Где рядом Сю и Патерик (И. Бунин «Люблю цветные стекла окон») [8, т. 1, с. 262]. Дом, олицетворяющий семейный уют и гармонический порядок, как правило, деревенский, деревянный, защищен 52 садом, лесом, рекой, почти всегда он ветхий, но в нем хорошо, тепло и уютно: В окно, в прохладный сумрак дома, / Глядел зеленый знойный сад, / И сена душная истома / Струила сладкий аромат (И. Бунин «Розы») [там же, т. 1, с. 204]; Был заповедными соснами / В темном бору вековом / Прежде наш домик любимый. / Нежно его берегли мы, / Дом с небывалыми веснами, / С дивными зимами дом (М. Цветаева «″Прости″ волшебному дому») [45, т. 1, c.172]; Течет река неспешно по долине, / Многооконный на пригорке дом. / А мы живем, как при Екатерине: / Молебны служим, урожая ждем… (А. Ахматова «Течет река неспешно по долине») [2, т. 1, с. 313]. Второе же значение позволяет интерпретировать дом как феномен, подверженный энтропии и разрушению. Настойчиво повторяющимися мотивами в описании дома у многих поэтов становятся пустота, тишина, тлен и безжизненность. Следует обратить внимание на интересный факт переосмысления некоторых традиционных характеристик дома в поэзии серебряного века. Например, эпитет «тихий» исконно имел положительную семантику, чаще всего символизировал душевное спокойствие. В большинстве рассмотренных стихотворений тишина угнетает лирического героя, является знаком одиночества, запустения: Томит меня немая тишина. Томит гнезда немого запустенье (И. Бунин «Запустение») [8, т. 1, 193]; Меж тем как в доме, тихом как могила, / Неслышно одиночество бродило / И реяла задумчивая тень [там же, с. 192]; Милый друг, и в этом тихом доме / Лихорадка бьет меня. / Не найти мне места в тихом доме / Возле мирного огня! (А. Блок «Милый друг, и в этом тихом доме») [4, c. 519]; Тихий дом мой пуст и неприветлив, / Он на лес глядит одним окном (А. Ахматова «Здесь все то же, то же, что и прежде») [2, т. 1, c. 96]; Не втащит неводом заря / Меня в твой тихий дом (С. Есенин «О Боже, Боже, эта глубь») [17, т. 1, с. 141]; Трясущимся людям / в квартирное тихо / стоглазое зарево рвется с пристани (В. Маяковский «Облако в штанах») [26, т. 1, с. 181]; Квартира тиха, как бумага, / Пустая без всяких затей… (О. Мандельштам «Квартира тиха, как бумага») [25, т. 1, с. 182]; Представьте дом, где, пятен лишена / И только шагом схожая с гепардом, / В 53 одной из крайних комнат тишина, / Облапив шар, ложится под бильярдом.<…> Салон безмолвен, как салоп на вате (Б. Пастернак «Двадцать строф с предисловьем») [30, с. 218]. Семантика дома, лишенного гармонии, актуализируется в образах: - пустого, одинокого дома: И в одиноком моем / Доме, пустом и холодном, / В сне, никогда не свободном, / Снится мне брошенный дом (А. Блок «Пусть я и жил, не любя») [4, c. 481]; - гибнущего, разрушающегося дома: Я вырос здесь. Но смотрит из окна / Заглохший сад. Над домом реет тленье, И скупо в нем мерцает огонек (И. Бунин «Запустение») [8, т. 1, c. 193]; Что делать! Изверившись в счастье, / От смеху мы сходим с ума / И, пьяные, с улицы смотрим, / Как рушатся наши дома! (А. Блок «Друзьям») [4, c. 420]; - «демонического», внушающего ужас, страх: А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов! (Б. Пастернак «Болезнь(7)») [30, с. 172]; В том доме было очень страшно жить, / И ни камина свет патриархальный, / Ни колыбелька моего ребенка, / Ни то, что оба молоды мы были / И замыслов исполнены, / Не уменьшало это чувство страха (А. Ахматова «Северные элегии (6)») [2, т. 1, с. 381]; - мертвого дома: Всю мощь безмерных желаний, / Весь ужас найденных слов, – / Среди неподвижных зданий, / В теснине мертвых домов (В. Брюсов «Я провижу гордые тени») [6, т. 1, с. 172]; Они врывались в мертвый дом / И стекла в рамах дребезжали, / И снег сухой в старинной зале / Кружился в сумраке ночном (И. Бунин «Мать») [8, т. 1, с. 89]; Все испуганно пьяной толпой / Покидают могилы домов (А. Блок «Гимн») [4, c. 242]; Тихо-тихо в божничном углу, / Месяц месит кутью на полу… / Но тревожит лишь помином тишь / Из запечья пугливая мышь (С. Есенин «Как покладинка лег через ров») [17, т. 1, с. 301]; Что ни дом – в болото щель. / Под дырявой крышей стынем, / А в подвале – шепот вод… (А. Ахматова «Здравствуй, Питер! Плохо, старый») [2, т. 1, c. 391]. Реализуясь в этом негативном значении, дом превращается в антидом, символически обозначает распад бытия, кризис мира в целом и, по сути, утрачивает 54 свою сущность, «становится символом разрушения онтологической гармонии, сакральной ценности мироздания, божественно-упорядоченного течения жизни» [153, c. 54]: Но отчего мой домик при огне / Стал и бедней и меньше? О, Я знаю – / Он слишком стар… Пора родному краю / Сменить хозяев в нашей стороне / Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге… (И. Бунин «Запустение») [8, т. 1, с. 192]; Голоса поют, взвывает вьюга / Страшен мне уют (А. Блок «Милый друг, и в этом тихом доме») [4, c. 519]; И у светлого дома, тревожно, / Я остался вдвоем с темнотой (А. Блок «Заклятие огнем и мраком (3)») [там же, c. 316]; Сегодня, только вошел к вам, / почувствовал – / в доме неладно. / Ты что-то таила в шелковом платье, / и ширился в воздухе запах ладана (В. Маяковский «Флейтапозвоночник») [26, т. 1, с. 205]; И в доме не совсем благополучно: / Огонь зажгут, а все-таки темно… (А. Ахматова «Там тень моя осталась и тоскует») [2, т. 1, с. 289]; За озером луна остановилась / И кажется отворенным окном / В притихший, ярко освещенный дом, / Где что-то нехорошее случилось (А.Ахматова «За озером луна остановилась») [там же, т. 1, с. 399]; В занавесках кружевных / Вороньё. / Ужас стужи уж и в них заронен (Б. Пастернак «До всего этого была зима») [30, с. 117]; Усадьба и ужас, пустой в остальном: / Шкафы с хрусталем, и ковры, и лари. / Забор привлекало, что дом воспален. / Снаружи казалось, у люстр плеврит (Б. Пастернак «Фуфайка больного») [там же, с. 170]. Замкнутое, ограниченное пространство дома противостоит открытому пространству дороги. Данная оппозиция чаще всего связывается с динамическими мотивами, образующими центробежные (из дома) и центростремительные (в дом) векторы движения лирических субъектов. Мотив ухода из дома в лирике поэтов серебряного века вобрал в себя большое количество семантических оттенков: - как выход в сферу новых ценностей: Не высидел дома. / Анненский, Тютчев, Фет / Опять, / тоскою к людям ведомый / иду / в кинематографы, в трактиры, в кафе (В. Маяковский «Надоело») [26, т. 1, с. 112]; 55 - как желание вырваться из мещанской, пошлой среды: Пускай зовут: Забудь поэт! / Вернись в красивые уюты! / Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! / Уюта – нет. Покоя – нет (А. Блок «Земное сердце стынет вновь») [4, c. 401]; - как возможность «мир посмотреть и себя показать»: Вот и я выхожу из дома / Повстречаться с иной судьбой, / Целый мир, чужой и знакомый, / Породниться готов со мной (Н. Гумилев «Снова море») [13, т. 2, c. 148]; - как бегство, связанное с внутренними порывами к свободе: Если душа родилась крылатой – / Что ей хоромы – и что ей хаты! / Что Чингис-Хан ей и о – Орда! (М. Цветаева «Если душа родилась крылатой») [45, т. 1, с. 421]; - как вынужденное скитальчество: В старый дом, где я первые песни слагал. / Где я счастья и радости в юности ждал, / Я теперь не вернусь никогда, никогда (И. Бунин «Ту звезду, что качалася в темной воде») [8, т. 1, с. 76]; Центростремительный вектор движения лирических субъектов связан, прежде всего, с традиционным, библейским мотивом возвращения в отчий дом блудного сына: Ужели, перешедши реки, / Завижу я мой отчий дом / И упаду, как отрок некий, / Повергнут скорбью и стыдом! (В. Брюсов «Блудный сын») [6, т. 1, с. 119]; Кричал / Простирая / Объятья: / «Я вернулся из дальних стран! Омойте / Мне, – / О братья! – / Язвы старых ран! / Примите / В приют / Укромный!... (А. Белый «Перед старой картиной») [3, т. 1, 273]; Ворочусь я в отчий дом – / Жил и не жил бедный странник… / В синий вечер над прудом / Прослезится конопляник (С. Есенин «Не вернусь я в отчий дом») [17, т. 1, с. 229]; Я по-прежнему такой же нежный / И мечтаю только лишь о том / Чтоб скорее от тоски мятежной / Воротиться в низенький наш дом (С. Есенин «Письмо матери») [там же, с. 180]. В то же время усиливается мотив бездомности, причем реализуется он в нескольких вариантах, с одной стороны, связан с потерей дома и его поиском: Где ты, где ты, отчий дом, / Гревший спину под бугром?/ Синий, синий мой цветок, / Неприхоженый песок. / Где ты, где ты, отчий дом? (С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом») [там же, с. 117]; Здесь дом был почти что белый, / Стеклянное крыльцо. / Столько раз рукой помертвелой / Я держала звонок-кольцо. / Столько 56 раз... Играйте, солдаты, / А я мой дом отыщу, / Узнаю по крыше покатой, / По вечному плющу (А. Ахматова «Белый дом») [2, т. 1, с. 200], иногда с предчувствием потери: О, как солнечно и как звездно / Начат жизненный первый том, / Умоляю – пока не поздно, / Приходи посмотреть наш дом! / Будет скоро тот мир погублен, / Погляди на него тайком, / Пока тополь еще не срублен / И не продан еще наш дом (М. Цветаева «Ты, чьи сны еще непробудны») [45, т. 1, с. 196], а с другой стороны, – с отсутствием дома как такового. Как справедливо заметил В.П. Скобелев, русская литература в переломный для России исторический период жила убеждением, что «частная жизнь человека если и не прекратилась, то уж во всяком случае была перенесена на улицу или, наоборот (что не меняет сути), улица ворвалась в дом, перевернув частную жизнь человека. ...Улица стала для человека местом его постоянной прописки» [493, с. 20]: А я, / бездомный, / ручища / в рваный / карман засунул / и шлялся, глазастый (В. Маяковский «Люблю») [26, т. 4, с. 89], И в мертвом городе под беспощадным небом, / Скитаясь наугад за кровом и за хлебом (А. Ахматова «Клевета») [2, т.1, с. 383]. Особенно актуализируется это значение в лирике поэтов, вынужденных покинуть родину: А всё же с пути сбиваюсь, / (Особо – весной!), / А всё же по людям маюсь, / Как пес под луной (М. Цветаева «Мой путь не лежит мимо дому – твоего») [45, т. 1, с. 524]; У зверя есть нора, у птицы есть гнездо, / Как бьётся сердце, горестно и громко, / Когда вхожу, крестясь, в чужой, наёмный дом / С своей уж ветхою котомкой! (И. Бунин «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора») [8, т. 2, с. 12]. 2. Дом как временная категория. Образ дома в данном значении можно также репрезентировать через оппозиции: Вечный дом – временное пристанище. В первом случае дом непосредственно обозначается лексическими инвариантами «родовое гнездо» и «отчий дом». Это пространство сакральных духовных ценностей. Такое понимание образа дома – классическое, близкое к фольклорному. В мировом фольклоре сформировалось отношение к жилищу как безопасному пространству, охраняемому духами предков и огражденному от внешнего мира, враждебного человеку [102, c. 334]. Следы 57 значения, отсылающего к началу начал – к народному представлению о доме, можно заметить почти у всех поэтов, у которых звучит тема жилья: И вдруг таким недостижимым / Представился мне дом родной, / С его всходящим тихо дымом / Над высыхающей рекой! / Где в годы ласкового детства / Святыней чувств владел и я, – / Мной расточенное наследство / На ярком пире бытия! (В. Брюсов «Блудный сын») [6, т. 1, с. 120]. Противоположное значение реализуется в образах каморки, конуры, дачи, подвала, чердака, берлоги, нежилого дома и т.п.: И в доме, который выгорел, / иногда живут бездомные бродяги! (В. Маяковский «Облако в штанах») [26, т. 1, с. 179]; …Я в негашеной извести горю / Под сводами зловонного подвала (А. Ахматова «Надпись на книге» («Из-под каких развалин говорю..»)) [2, т. 1, с. 457]; Лопушиный, ромашный / Дом – так мало домашний! <…> Дом, что к городу задом / Встал, а передом – к лесу (М. Цветаева «Певица») [45, т. 3, с. 748]. Неимение постоянного жилья оборачивается для многих поэтов этого периода бесконечными попытками его обретения (особенно это касается О. Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака): Коробка с красным померанцем – / Моя каморка. / О, не об номера ж мараться / По гроб, до морга! (Б. Пастернак «Из суеверья») [30, с. 118]. Дом настоящего – дом прошлого. Нужно отметить, что дом в первом значении чаще имеет трагическую окраску, связанную с историческими событиями в России начала 20 века, с нарастанием социальных катаклизмов, утратой исторической, культурной, нравственной памяти: В те дни мой дом – слепой и запустелый – / Хранил права убежища, как храм, / И растворялся только беглецам, /Скрывавшимся от петли и расстрела.<…> Мой кров – убог. И времена – суровы (М. Волошин «Дом поэта») [10, с. 331]. Революция 1917 года и гражданская война, повлекшие за собой волну добровольной и вынужденной эмиграции, способствовали расширению пространственных границ локуса дома: в его семантическую парадигму вошли образы города и России в целом: В кругу кровавом день и ночь / Долит жестокая истома…/ Никто нам не хотел помочь / За то, что мы 58 остались дома… (А. Ахматова «Петроград, 1919» (И мы забыли навсегда)) [2, т. 1, с. 348]; Нашу родину буря сожгла. / Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? (Б. Пастернак «Определение души») [30, с. 127]. Дом прошлого – пространство памяти, безмятежного детства и счастливой юности, отсюда частым становится мотив тоски по утраченному уюту и покою: И вдруг таким недостижимым / Представился мне дом родной, / С его всходящим тихо дымом / Над высыхающей рекой! / Где в годы ласкового детства / Святыней чувств владел и я, – / Мной расточенное наследство / На ярком пире бытия! (В. Брюсов «Блудный сын) [6, т. 1, с. 120]; Из памяти твоей я выну этот день, / Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный: / Где видел я персидскую сирень, / И ласточек, и домик деревянный? (А. Ахматова «Из памяти твоей я выну этот день») [2, т. 1, с. 227]. 3. Дом как метафорическая характерологическая составляющая образа. Реализуясь в этом значении, дом становится не столько обычным внутренним, жилым пространством, сколько психологическим локусом, приобретающим разные смыслы, в зависимости от роли лирического героя: с одной стороны, дом отражает психологическое состояние лирического субъекта: От плача моего и хохота / морда комнаты выкосилась ужасом (В. Маяковский «Флейтапозвоночник») [26, т. 1, с. 207]; Скромный дом, но рюмка рому / И набросков черный грог. / И взамен камор – хоромы, / И на чердаке – чертог (Б. Пастернак «Скромный дом…») [30, с. 383], а с другой – дом оказывает воздействие на состояние лирического субъекта: Как не бросить все на свете, / Не отчаяться во всем, / Если в гости ходит ветер, / Только дикий черный ветер, / Сотрясающий мой дом? (А. Блок «Дикий ветер…») [4, c. 516]. Наконец, нередко происходит прямое отождествление дома и души: Одна половинка окна растворилась. / Одна половинка души показалась. / Давай-ка откроем – и ту половинку, / И ту половинку окна! (М. Цветаева «Одна половинка окна растворилась») [45, т. 1, с. 540]. Итак, образ дома в поэзии серебряного века становится одним из доминантных, семантические функции его многогранны и разнообразны. Выявленные нами 59 значения образа дома получают специфическую реализацию в ряде системных оппозиций, таких как дома гармоничного – дома, лишенного гармонии, вечного дома – временного пристанища, дома настоящего – дома прошлого, дома материального – дома духовного. Все эти смысловые противопоставления фактически сводятся к архетипической бинарной оппозиции дома – антидома, которая у разных поэтов получает различное смысловое наполнение. 1.3. Архетипическая оппозиция дом/дорога (М. Цветаева) Образу дома в творчестве М. Цветаевой посвящено несколько литературоведческих и лингвистических работ. В статье Н. Дацкевич и М. Гаспарова «Тема дома в поэзии Марины Цветаевой» представлен тонкий анализ оппозиции «дом земной – дом небесный» [181, c. 116-130], Н.Н.Манакова [344] и Д.А. Малеванная [340] исследуют семантику дома в поэзии Цветаевой в динамическом аспекте: опоэтизированный дом в Трехпрудном переулке в раннем творчестве – бездомность в лирике эмигрантского периода. Лингвисты С.Р. Габдуллина [149] и О.А. Фещенко [547] рассматривают дом как концепт на материале поэзии и прозы. Интересным представляется тот факт, что исследователи, не считая дом частотным образом в творчестве Цветаевой, анализируют его как ключевой: «ведущими критериями при определении ключевой позиции лексемы ДОМ в текстах Цветаевой являются его смысловая и коммуникативная значимость» [547, c. 118]. Образ дома, также как и в лирике других поэтов Серебряного века, реализуется у Цветаевой через ряд оппозиций, однако имеет и некоторые существенные индивидуальные особенности. На сложную связь антиномических оппозиций в лирическом пространстве Цветаевой указывает А.Г. Коваленко: «Цветаевский антиномизм – явление многоуровневое. Намеченный на одном уровне, он нейтрализуется на другом, разнонаправленные векторы накладываются друг на друга, не сливаясь <…> Многоуровневый антиномизм, в котором полюса лексикосемантической оппозиции нейтрализуются, затем «ветвятся» далее, создавая новые антитезы внутри старых, – характерный психологический рисунок образного 60 мира цветаевского стихотворения, отражающий мятущуюся, вибрирующую (и в этом смысле – беспрецедентную, не имеющую аналогов) интонацию поэта» [254, c. 136]. Учитывая эту специфику лирики Цветаевой, рассмотрим выявленные нами антиномические оппозиции образа дома: 1) Дом – внутренне упорядоченное, идеализированное пространство / дом, лишенный гармонии. Первое значение дома реализуется только в ранней лирике М.И. Цветаевой, это дом детства, обжитой, уютный, хранилище ценностей, он всегда наполнен людьми и любимыми вещами. «Главное, из чего складывается понятие уюта, – это предметы и вещи, составляющие интерьер дома, которыми дорожат его жители, потому что они являются носителями дорогих воспоминаний о далеких временах и о близких любимых людях», – пишет Ю.Д. Коваленко [255, c. 14-15]. Значимой приметой домашнего тепла и уюта становятся для Цветаевой книги: Дрожат на люстрах огоньки... / Как хорошо за книгой дома! / Под Грига, Шумана и Кюи / Я узнавала судьбы Тома («Книги в красном переплете») [т. 1, с. 44]. По словам Ю.М. Лотмана, «… книги обязательный признак Дома, они подразумевают не только духовность, <…> но и особую атмосферу интеллектуального уюта» [330, c. 318]. В целом ряде ранних стихотворений – книги и музыка придают дому сказочность, волшебность: Опять под музыку на маленьком диване / Звенит-звучит таинственный рассказ / О рудниках, о мертвом караване, / О подземелье, где зарыт алмаз(«И уж опять они в полуистоме…» ) [45, т. 1, с. 133]; Залу, спящую на вид, / И волшебную, как сцена, / Юность Шумана смутит / И Шопена... («Аля») [там же, с. 189]. Заметим, что признаками сказочности становятся и образы нечисти, рождающиеся в воображении юной Цветаевой: В зале страшно: там ведьмы и черти / Появляются все вечера. / Папа болен, мама в концерте... / Спать пора! («Утомленье») [там же, с. 47]; Детство: молчание дома большого, / Страшной колдуньи оскаленный клык; / Детство: / одно непонятное слово, / Милое слово «курлык» 61 («Курлык») [там же, с. 103]; Хлопнул ставень – потемнело, / Закрывается второй... / Кто там шепчет еле-еле? / Или в доме не мертво? / Это струйкой льется в щели / Лунной ночи колдовство. / В зеркалах при лунном свете / Снова жив огонь зрачков, / И недвижен на паркете / След остывших башмачков («Волей Луны») [там же, с. 74]. В то же время лирическая героиня Цветаевой понимает, что таинственным и волшебным дом мог казаться только в детстве: Первые игры и басенки / Быстро сменились другим. / Дом притаился волшебный, / Стали большими царевны. / Но для меня и для Асеньки / Был он всегда дорогим («Прости» волшебному дому) [там же, с. 172]; Лучшие радости с ним погребли мы, / Феи нырнули во тьму... / Маленький домик любимый, / Чем ты мешал и кому? («Розовый домик») [там же, с. 145]. Достаточно часто через описание дома передается душевное состояние лирического субъекта: - радость от встречи с домом: Возгласами звонкими / Полон экипаж. / Ах, когда же вынырнет / С белыми колонками / Старый домик наш! («Приезд») [там же, с. 160] - переживания, связанные с первой влюбленностью: По тебе тоскует наша зала, / – Ты в тени ее видал едва – / По тебе тоскуют те слова, / Что в тени тебе я не сказала. / Каждый вечер я скитаюсь в ней, / Повторяя в мыслях жесты, взоры...( «По тебе тоскует наша зала») [там же, с. 90]; Гусар! – Еще не кончив с куклами, / – Ах! – в люльке мы гусара ждем! / О, дом вверх дном! Букварь – вниз буквами! / Давайте дух переведем! («Заря малиновые полосы») [там же, с. 470]; - тоска по утраченному: А там, на маленьком холме, / За каменной оградой, / Навеки отданный зиме / И веющий Элладой, / Покрытый временем, как льдом, / Живой каким-то чудом – / Двенадцатиколонный дом / С террасами, над прудом. / Над каждою колонной в ряд / Двойной взметнулся локон, / И бриллиантами горят / Его двенадцать окон. / Стучаться в них – напрасный труд: / Ни тени в галерее, 62 / Ни тени в залах. – Сонный пруд / Откликнется скорее («В огромном липовом саду») [там же, с. 199]; - горе, связанное со смертью близкого человека: Мы выходим из столовой / Тем же шагом, как вчера: / В зале облачно-лиловой / Безутешны вечера! / Здесь на всем оттенок давний, / Горе всюду прилегло, / Но пока открыты ставни, / Будет облачно-светло («Волей Луны») [там же, с. 74]. Третий и четвертый примеры, раскрывающие на первый взгляд негативные эмоции лирического субъекта (тоску и горе), все же являются иллюстрацией гармоничного пространства, атрибутом которого становится свет (окна горят бриллиантами, через ставни струится «облачно-лиловый» свет). По мнению Г. Башляра, «освещенный дом – это маяк спокойствия и грез» [91, с. 110]. Горящая люстра для Цветаевой – знак счастливого прошлого, а отсутствие освещения в доме, символизирует перемены к худшему: Был рояль когда-то звонок! / Зала радостна была! / Люстра, клавиш – всё звенело, / Увлекаясь их игрой... («Волей Луны») [там же, с. 74]; На обоях прежние узоры, / Сумрак льется из окна синей; / Те же люстры, полукруг дивана, / (Только жаль, что люстры не горят!) / Филодендронов унылый ряд, / По углам расставленных без плана. / Спичек нет, – уж кто-то их унес! («По тебе тоскует наша зала») [там же, с. 90]. Идеальный, желаемый дом нарисован Цветаевой в стихотворении 1916 г. «...Я бы хотела жить с Вами», где маркерами уюта становятся часы, цветы на окнах, изразцовая печь, флейтист в окне: И в маленькой деревенской гостинице – / Тонкий звон / Старинных часов – как капельки времени. / И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды / Флейта, / И сам флейтист в окне. / И большие тюльпаны на окнах. / И может быть, Вы бы даже меня не любили... / Посреди комнаты – огромная изразцовая печка, / На каждом изразце – картинка: / Роза – сердце – корабль. – / А в единственном окне – / Снег, снег, снег («…Я бы хотела жить с Вами») [там же, с. 328]. В зрелой поэзии более продуктивны варианты мотива дома, лишенного гармонии, они актуализируется в образах: 63 - дома, обреченного на гибель: Будет скоро тот мир погублен, / Погляди на него тайком,/ Пока тополь еще не срублен / И не продан еще наш дом («Ты, чьи сны еще непробудны») [там же, с. 196]; Домики с знаком породы, / С видом ее сторожей,/ Вас заменили уроды, – / Грузные, в шесть этажей./ Домовладельцы – их право!/ И погибаете вы, / Томных прабабушек слава,/ Домики старой Москвы («Домики старой Москвы») [там же, с. 171]. - ненадежного пространства, неспособного защитить: Бог, храни в часы прибоя – / Лодку, бедный дом мой! / Охрани от злой Любови / Сердце, где я дома («В час прибоя…») [там же, с. 540]. - сгорающего, разрушающегося: Что за дымок? Что за домок? / Вот уже пол – мчит из-под ног! / Двери – с петлей! Ввысь – потолок! / В синий дымок – тихий домок! («Память о Вас – легким дымком») [там же, с. 411]; - дома, в котором нет покоя, бессонного: Крик разлук и встреч – / Ты, окно в ночи! / Может – сотни свеч, / Может – три свечи... / Нет и нет уму / Моему – покоя. / И в моем дому / Завелось такое./ Помолись, дружок, за бессонный дом, / За окно с огнем! («Вот опять окно…») [там же, с. 286]; - пустого, одинокого: Возле дома, который пуст, / Одинокий бузинный куст. <…> / Степь – хунхузу, Кавказ – грузину, / Мне – мой куст под окном бузинный / Дайте. Вместо Дворцов Искусств / Только этот бузинный куст... («Бузина») [там же, с. 296]; - «недомашнего»: Лопушиный, ромашный / Дом – так мало домашний! <…> Дом, что к городу задом / Встал, а передом – к лесу («Певица») [45, т. 3, с. 748]; Проста моя осанка, / Нищ мой домашний кров. / Ведь я островитянка / С далеких островов! («Проста моя осанка») [45, т. 1, с. 562]; Хоромы – как сноп соломы – ничего! («Н.Н.В.») [там же, с. 532]; Где совершенно одинокой / Быть, по каким камням домой / Брести с кошелкою базарной / В дом, и не знающий, что мой, / Как госпиталь или казарма («Тоска по Родине! Давно…») [45, т. 2, с. 315]. Реализуясь в этих негативных значениях, дом превращается в антидом, по сути, утрачивая свою сущность. 64 2) Дом материальный / дом духовный. Дом как материальное, физическое пространство реализуется у Цветаевой в двух традиционных значениях: жилище и здание. Бытовое пространство домажилища имеет противоречивые характеристики, с одной стороны, сильна тяга к семейному очагу, к сохранению дома-гнезда: Мракобесие. – Смерч. – Содом. / Берегите Гнездо и Дом.<…> / Обведите свой дом – межой, / Да не внидет в него – Чужой. / Берегите от злобы волн / Садик сына и дедов холм. / Под ударами злой судьбы – / Выше – прадедовы дубы! («Мракобесие. – Смерч. – Содом») [45, т. 1, с. 407]. Но с другой – изначальное понимание неспособности иметь свой кров, желание свободы, т.е. творчества: Мне и тогда на земле / Не было места! / Мне и тогда на земле / Всюду был дом. / А Вас ждала прелестная невеста / В поместье родовом («Искательница приключений») [там же, с. 312]. Мотив дома-жилища непосредственно связан с мотивом домостроения, строительство собственного дома осознается лирической героиней как общечеловеческая ценность: А человек идет за плугом / И строит гнезда («А человек идёт за плугом») [там же, с. 487]; Кто дома не строил – / Земли недостоин. / Кто дома не строил – / Не будет землею: / Соломой – золою... И своеобразный приговор себе: – Не строила дома («Кто дома не строил») [там же, с. 423]. Дом как здание имеет в лирике Цветаевой как положительные значения: Дом – пряник, а вокруг плетень / И церковки златоголовые («Стихи о Москве») [там же, с. 268], так и отрицательные: И вдруг – совсем нежданно – сразу! / Тот самый дом. / Многоэтажный, с видом скуки... («День августовский тихо таял») [там же, с. 204]. Духовный дом – вместилище интимных чувств, переживаний лирической героини: Чердачный дворец мой, дворцовый чердак! / Взойдите. Гора рукописных бумаг... / Так. – Руку! – Держите направо, – / Здесь лужа от крыши дырявой. / Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук, / Какую мне Фландрию вывел паук. / Не слушайте толков досужих, / Что женщина – может без кружев! / Ну-с, пере- 65 чень наших чердачных чудес: / Здесь нас посещают и ангел, и бес, / И тот, кто обоих превыше. / Недолго ведь с неба – на крышу! («Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!») [там же, с. 488]. Д.А. Малеванная справедливо заметила, что в лирике Цветаевой «постепенно выкристаллизовывается метафора «дом – душа», областью референции которой становятся внутреннее пространство мира души и его состояния, поскольку Цветаева воспринимает и отражает мир не природой, как Пастернак, не историей и культурой, как Мандельштам, а собственным Я, на него проецируя весь окружающий мир. Поэтический мир Цветаевой конструируется по законам внутреннего мира поэта – мира динамичного, изменчивого, не-вещного, стремящегося за свои пределы. И потому Цветаева никогда не говорит просто о мире, но всегда – о своем внутреннем состоянии» [340, c. 123]. Итак, мы видим, что дом у Цветаевой становится психологическим локусом, приобретающим разные смыслы, в зависимости от роли лирической героини: с одной стороны, дом отражает психологическое состояние лирического субъекта: а с другой – дом оказывает воздействие на состояние лирического субъекта, но чаще всего в лирике Цветаевой происходит прямое отождествление дома и души: Одна половинка окна растворилась. / Одна половинка души показалась. / Давай-ка откроем – и ту половинку, / И ту половинку окна! («Одна половинка окна растворилась») [45, т. 1, с. 540]; Давным-давно любовный ход мой крестный / Окончен. Дом мой темен, глух и нем. / И семь печатей спят на сердце сем («Ты думаешь: очередной обман!») [там же, с. 476]. 3) Замкнутое, ограниченное пространство дома / открытое пространство дороги. Многие исследователи отмечают открытость границ цветаевского дома, поэтому такие образы, как двор, улица, Москва, Россия становятся также домом лирической героини: «…все не только в ДОМЕ, но и вокруг него (крыльцо, деревья, ворота) становятся его маркерами, потому что ДОМ на самом деле начинается не 66 со строения, а с ощущения некоего места как ДОМА» [547, c. 127]. О своем стремлении расширить любое пространство, даже изначально заданное замкнутым, избавится от каких бы то ни было границ, Цветаева пишет в письмах: «Всякая жизнь в пространстве – в самом просторном – и во времени – самом свободном! – тесна» (к А. Тесковой) и в стихах: Руки люблю / Целовать, и люблю / Имена раздавать, / И еще раскрывать / Двери! / – Настежь – в темную ночь! («Руки люблю») [45, т. 1, с. 281]. Мотив ухода из дома в лирике Цветаевой вобрал в себя целый диапазон семантических оттенков: - как желание вырваться из обыденности, как благо: С ранних лет нам близок, / кто печален, / Скучен смех и чужд домашний кров («Маме») [там же, с. 101]; И так хорошо нам вдвоем – / Бездомным, бессонным и сирым («Але») [там же, с. 355]; - как бегство, связанное с внутренними порывами к свободе: Если душа родилась крылатой – / Что ей хоромы – и что ей хаты! / Что Чингис-Хан ей и – Орда (М. Цветаева «Если душа родилась крылатой») [там же, с. 421]; - как вынужденное скитальчество: В огромном городе моем – ночь. / Из дома сонного иду – прочь («В огромном городе моём – ночь») [там же, с. 282]; Сегодня ночью я одна в ночи – / Бессонная, бездомная черница! / Сегодня ночью у меня ключи / От всех ворот единственной столицы! («Сегодня ночью я одна в ночи») [там же, с. 284]; Вечно – из дому, / Век – мимо дома, / От любезного – в лес, / К дорогому («Сугробы (9)») [там же, т. 2, с. 100]. - как стремление к другому дому – небесному, вечному: И домой: В неземной – Да мой («Провода») [там же, с. 174]; Вербочка! Небесный житель! – Вместе в небо! – Погоди – Так и в землю положите / С вербочкою на груди («С вербочкою светлошерстой») [там же, т. 1, с. 396]. Движение в дом чаще всего имеет негативную оценку и связывается: - с потенциальной потерей внутренней свободы: Многоэтажный, с видом скуки... / Считаю окна, вот подъезд. / Невольным жестом ищут руки / На шее – 67 крест. / Считаю серые ступени, / Меня ведущие к огню. / Нет времени для размышлений. Уже звоню. / Я помню точно рокот грома / И две руки свои, как лед. / Я называю Вас. – Он дома, / Сейчас придет («П.Э.») [там же, с. 204]; - с вторжением в дом нежеланных гостей: Далеко – в ночи – по асфальту – трость, / Двери настежь – в ночь – под ударом ветра. / Заходи – гряди! – нежеланный гость / В мой покой пресветлый («Не сегодня-завтра растает снег») [там же, с. 256]; - с негативным воздействием дома на входящего в него: Я пойду к себе домой, / Угощусь из смертной рюмки («Как рука с твоей рукой») [там же, с. 382]; Помню первый / Ваш шаг в мой недобрый дом, / С пряничным петухом / И вербой («День угасший») [там же, с. 249]; А глаза, глаза на лице твоем – / Два обугленных прошлолетних круга! / Видно, отроком в невеселый дом / Завела подруга («Не сегодня – завтра растает снег») [там же, с. 256]; - с неверием в возможность возвращения: Наливается поле льдом, / Или колосом – всё по дорогам – чудно! / Только в сказке – блудный / Сын возвращается в отчий дом («И не плача зря...») [там же, с. 321]. Образ дороги реализуется и в других значениях: - дорога как добровольное или вынужденное странничество: Братья, один нам путь прямохожий / Под небом тянется. / ...я тоже Бедная странница... («Братья, один нам путь прямохожий») [там же, с. 276]; Зверю – берлога, Страннику – дорога, Мертвому – дроги, Каждому – свое («Зверю – берлога») [там же, с. 290]; Мать дочерью идем – две странницы; / Две птицы: чуть встали – поем. / Две странницы: кормимся миром («Дорожкою простонародною») [там же, с. 493]; - дорога как освобождение от любви, как стремление к свободе: От лихой любовной думки / Как уеду по чугунке – / Распыхтится паровоз, / И под гул его угрюмый / Буду думать, буду думать, / Что сам Черт меня унес («От лихой любовной думки») [там же, с. 471]; 68 - дорога как жизненный (и творческий) путь: Всем случайностям навстречу! / Путь – не все ли мне равно? / Пусть ответа не дано, – / Я сама себе отвечу! («Сердце, пламени капризней») [там же, с. 179]; Поэт – издалека заводит речь. / Поэта – далеко заводит речь. / Планетами, приметами... окольных / Притч рытвинами... Между да и нет / Он – даже размахнувшись с колокольни, / Крюк выморочит... Ибо путь комет – Поэтов путь («Поэты») [там же, т. 2, с. 184]; - дорога в вечность: Два цветка ко мне на грудь / Положите мне для воздуху. / Пусть нарядной тронусь в путь, / Заработала я отдых свой («Два цветка ко мне на грудь») [там же, т. 1, с. 428]. Итак, в лирике М. Цветаевой образы дома и дороги, воплощаясь в целом спектре функционально-семантических вариантов, приобретают особую глубину и насыщенность. С одной стороны, поэтесса использует традиционные в литературе Серебряного века пространственные оппозиции, такие как дом гармоничный – дом, лишенный гармонии; вечный дом – временное пристанище; дом материальный – дом духовный, а с другой, включает в систему противопоставлений сугубо индивидуальные антиномии: дом внутренний (душа) – дом внешний; замкнутое пространство дома – открытое пространство дороги, наполняя их самыми разнообразными смыслами. 1.4. Динамическая трансформация значения архетипического образа «дом» (малая проза М. Булгакова) Пространственные архетипические образы, как мы уже отмечали, сохраняют первоначальный смысл на протяжении всего своего существования, однако в художественной литературе можно наблюдать инверсию архетипического значения [187]. Например, архетипическое значение образа дома (как внутреннего пространства, противостоящего враждебному внешнему миру, как космоса, где человеку уютно и спокойно, в отличие от хаоса, царящего за стенами дома, как «средоточия основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и ро- 69 да») [526, c. 168] под влиянием социальных потрясений может трансформироваться. Если в русской классической прозе, ориентированной на традиционную ценностную систему, образ дома, выполняя самые разные функции (дом как фон, на котором развивается действие; дом как средство характеристики его владельцев; дом как «зеркало русской действительности»; дом как «действующее лицо» и др.), как правило, сохраняет свое архетипическое значение (произведения А.С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого), то в русской литературе первой половины ХХ века в смысловом поле «дом» произошли значительные изменения. Приспосабливались к новой социальной реальности, теряя прежние знакомые понятные ориентиры, дом превращается в антидом, утрачивает свою сущность, становится символом разрушения онтологической гармонии, сакральной ценности мироздания, божественно-упорядоченного течения жизни (Ф. В. Гладков, М. М. Зощенко, И. А. Ильф и Е. П. Петров, Ю. К. Олеша, Б. А. Пильняк, А. Н. Толстой и др.). Подобную деформацию архетипа дом можно наблюдать в малой прозе М.А. Булгакова. Признавая центральное, структурообразующее положение архетипа «дом» в художественном мире М.А. Булгакова (А.А. Кораблев, В.Я. Лакшин, Ю.М. Лотман, Н.С. Пояркова, Е.А. Яблоков и др.), исследователи в основном сосредотачивают своё внимание на крупных произведениях писателя (романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», пьесы «Дни Турбинных», «Зойкина квартира» и др.). В то же время не меньший интерес представляет и малая проза М.А. Булгакова – «№ 13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна» (1922), «Записки на манжетах» (1923), «Воспоминание» (1924), «Площадь на колесах» (1924), «Самогонное озеро» (1926), «Трактат о жилище» (1926) и др., – в которой отразились горькие раздумья по поводу крушения старого мира и вечных человеческих ценностей, попытки автора осмыслить происходящие в стране социальные изменения, связанные с новым политическим строем, мучительные поиски нравственного идеала. 70 В малой прозе М. А. Булгакова наиболее устойчивой является реализация архетипической бинарной оппозиции космос/хаос, имеющей конкретное воплощение в антиномических парах дом/антидом и дом/бездомье. Как справедливо отмечает Ю. М. Лотман, «традиция эта исключительно значима для Булгакова, для которого символика «дома-антидома» становится одной из организующих на всем протяжении творчества» [330, c. 314]. Первый компонент оппозиции реализуется в произведениях М. А. Булгакова имплицитно в двух лексических значениях – как «жилое здание, свое жилье», а также как социум, «семья, люди, живущие вместе, их хозяйство» [401, c. 174]. Изображая дом уютным, наполненным приятными запахами, звуками, вещами, автор как бы напоминает о его истинном статусе жилого человеческого пространства, который с древних времен определялся наличием предметов, призванных символизировать идеи «освоенности, богатства, изобилия, плодородия» [83, c. 115]: «У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет "Молитву девы", диван, "не хотите ли со сливками"…» («Столица в бокноте») [7, т. 2, с. 255]. Вещи, наполняющие пространство дома, имеют особую значимость для Булгакова: «Для него это Вещи с большой буквы, и они легко трансформируются в вещи литературные. Это часть нормы, без которой немыслима жизнь, отсутствие которых – помеха творчеству» [574, c. 213]. Именно из конкретно-значимых вещей складывается собственно булгаковский быт и быт его героев. Так, обязательным признаком дома в прозе писателя становятся книги, которые «подразумевают не только духовность, <…> но и особую атмосферу интеллектуального уюта» [330, c. 318]: «Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час!..» («Самогонное озеро») [7, т. 2, с. 320]. 71 Для героя Булгакова становится неважным, что в доме «драное кресло», и что это вовсе и не дом, а комната в «самой знаменитой квартире в Москве», где только в десять часов вечера и всего на четверть часа «утих проклятый коридор», главное, что появилась сама возможность получить наслаждение от чтения. Наряду с книгами неизменными атрибутами гармоничного жизненного пространства являются в произведениях Булгакова также: - тишина: «Тишина – это великая вещь, дар богов и рай – это есть тишина» («Москва 20-х годов») [там же, т. 2, с. 439]; - тепло: «Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы...» («№ 13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна») [там же, т. 2, с. 242]; - свет: «Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг» («Воспоминание») [там же, т. 2, с. 383]. Лишившись «настоящего» дома, герои Булгакова пытаются «окультурить» любое место, пригодное для жилья, страстно жаждут «если не дома, то хотя бы того, что прозаически зовется "жилплощадью"» [297, c. 21]: «…лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок – низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, – и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины – 12 выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара – и я жив» («Воспоминание») [7, т. 2, с. 378]. По словам Елены Сергеевны, «Для М.А. квартира – магическое слово. Ничему на свете не завидует – квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него» (23 августа 1934 г., дневник Е. С. Булгаковой) [574, c. 213]. В малой прозе 20-х годов 72 отразится не только жажда обретения дома (Воспоминание, Москва 20-х годов), но стремление к сохранению отдельного жилья (Сорок сороков, Московские сцены). Главная идея этих разных по содержанию и жанру произведений – «жилище есть основной камень жизни человеческой» («Москва 20-х годов») [7, т. 2, с. 437]. Так, рассказ «Воспоминание», имеет автобиографическую основу, в нем описываются трудности, связанные с пропиской Булгакова в квартире № 50 на Большой Садовой, 10. Как вспоминает И. С. Раабен, первая московская машинистка Булгакова: «Он (Булгаков) жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки». И так и сделал. Он послал письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой» [450, c. 129]. Автор не без иронии описывает свою временную бездомность «Два раза я спал на кушетке в передней, два раза – на стульях и один раз – на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар» и искренне благодарит за предоставленную возможность получить «разрешение на совместное жительство»: «Самое главное, забыл я тогда поблагодарить. Вот оно неудобно как... Благодарю вас, Надежда Константиновна» («Воспоминание») [7, т. 2, с. 383]. Однако в фельетонах «Сорок сороков», «Московские сцены», «Москва 20-х годов» М. А. Булгаков, выражает неприязненное отношение к приспособленцам, «самым сообразительным», «гениальным» современникам, которым удалось сохранить свою жилплощадь, защищаясь от выселения или уплотнения. Одни из них «обрастают мандатами, как шерстью», поэтому их «не выселили, и не выселят», другие намеренно «гадят» в квартире, «соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба», проковыряв «во всех стенах громадные дыры», развесив по стенам портреты вождей пролетариата, Маркса, Луначарского и Троцкого, и прописав Зинаиду Ивановну, кузена из Минска и кухарку Сашу, третьи просто «взяли 73 и не вытряхнулись», когда «однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку "вытряхайтесь"!!». Рассматривая реализацию первого компонента антиномических пар дом/антидом и дом/бездомье в малой прозе М. А. Булгакова, можно заметить, что архетипическое значение понятия «дом» деформируется. Само наличие традиционных характеристик «дома» в некоторых произведениях свидетельствует лишь о непреодолимой тоске по утраченному уюту и покою. Так, например, счастье от получения ордера «на совместное жительство» (рассказ «Воспоминание») омрачается отсутствием электричества, которое «было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде», тепла («отопление тоже сломалось») и необходимых для жизни вещей («я заснул на дырявом диване»). А в фельетоне «Триллионер» писатель, противопоставляя неустроенное жилище московской литературной богемы «уютному» дому нэпманов, в котором «до чрезвычайности хорошо», иронично замечает, что от бестактных вопросов очаровательной хозяйки «я подавился чаем, и золотушная "Молитва девы" показалась мне данс-макабром». Как мы отмечали выше, собственно дом в малой прозе М. А. Булгакова противостоит ложному дому, внутренне дисгармоничному, инфернальному, в описании которого настойчиво повторяющимися мотивами становятся: - грязь: «на лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванным толстый, как уж, кабель» («Москва 20-х годов») [там же, т. 2, с. 437]; - холод: «Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает» («Москва 20-х годов») [там же, с. 440]; - теснота: «в игрушечно-зверино-тесной комнате у голодного Слезкина родился сын» («Записки на манжетах») [там же, т. 1, с. 482]; - темнота: «из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерно мрак» («№ 13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна») [там же, т. 2, с. 244]; 74 - шум: «в 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала: – Больше я не могу» («Самогонное озеро») [там же, с. 324]; - незащищенность личного приватного пространства: «Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно…» («№ 13 – Дом ЭльпитРабкоммуна») [там же, с. 245]. Поскольку «москвичи утратили и самое понятие слова "квартира" и словом этим наивно называют что попало» …» [там же, с. 237], антидом реализуется в самых невероятных вариантах: «картонка для шляп» («Куда я вошел? Чорт меня знает! Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп») …»(«Москва 20-х годов») [там же, с. 437];, «трубка телефона» («Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя») [там же, с. 438], «типография» («Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)») [там же], «площадь на колесах» («Пурцман с семейством устроился. Завесили одну половину – дамское – некурящее. Рамы все замазали. Электричество – не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла – купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим») («Площадь на колесах») [там же, с. 426]. В фельетоне «Площадь на колесах» описывается совершенно абсурдная ситуация устройства дома в трамвае. Герой рассказа саркастически замечает, что отсутствие в Москве квартир, заставило его обжить столь необычную жилплощадь после ночевки у Карабуева в ванне, где «удобно, только капает», и у Щуевского на газовой плите, «удобная штука, какой черт! – винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна». Этот «дом» наделяется жильцами всеми необходимыми ат- 75 рибутами нормального человеческого жилища: стелятся ковры, развешиваются картины известных художников, устанавливаются печь и плита, устраивается уборная и даже намереваются к Новому году нарядить елку: «Ездим, дай бог каждому такую квартиру!» [ там же, с. 427]. Наиболее распространенным вариантом социального пространства в малой прозе М. А. Булгакова является коммунальная квартира. По определению Ю. М. Лотмана, «Квартира – хаос, принявший вид дома и вытеснивший его из жизни. То, что дом и квартира (разумеется, особенно коммунальная) предстают как антиподы, приводит к тому, что основной бытовой признак дома – быть жилищем, жилым помещением – снимается как незначимый; остаются лишь семиотические признаки. Дом превращается в знаковый элемент культурного пространства» [330, c. 320]. Булгаковская коммунальная квартира имеет все вышеперечисленные признаки, отделяющие антидом от дома, но не сводится только к ним, поскольку архетипическое значение жилища включает еще и гармонию человеческих взаимоотношений. Писатель с болью отмечает, что рушатся не только связи между людьми, вынужденными жить рядом (соседи, пользующиеся общим коридором, кухней, ванной и т.п.), но и представления о дружной семье вообще: мужья избивают жен («В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь») («Самогонное озеро») [7, т. 2, с. 322], жены «грызут» мужей («А дома сидеть нам невозможно, потому что жена меня грызет. – Ведьма? – спросил неизвестный. Форменная, – признался Хикин») («Сапоги невидимки») [там же, с. 448], а дети не дают никакого покоя («И завыли дети на печке, и начался ад кромешный в сцепщиковом семействе») [там же, с. 449]. Семейно-этическое пространство коммунальной квартиры в малой прозе М. А. Булгакова, по нашим наблюдениям, характеризуется: - злобой: «А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный» («№ 13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна») [там же, с. 441]; 76 - пьянством: «в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами» («Столица в блокноте») [там же, с. 254]; - жестокостью: «А некий молодой человек, у которого в "квартире" поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами: – Надоела ты мне, божья старушка! И при этом стукнул старушку безменом по голове» («Москва 20-х годов») [там же, с. 441]. Второй компонент оппозиции дом/бездомье также является важным в рассматриваемых произведениях М.А. Булгакова. Тема бездомья актуализируется в мотивах: - утраты дома: «И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить» («Воспоминание») [там же, с. 379]; - временного пристанища: «Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство» [там же, с. 380]; - гибнущего дома: «Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели – змеиным дрожанием окровавились стекла. … И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна» («№ 13 – Дом Эльпит-Рабкоммуна») [там же, с. 250]; Неимение постоянного жилья оборачивается для писателя бесконечными попытками его обретения: «Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи» («Самогонное озеро») [там же, с. 324]. Характеризуя социальное пространство дома, реализующееся в малой прозе М. А. Булгакова в антиномических парах дом/антидом и дом/бездомье, мы пришли к следующим выводам: 77 Первый компонент оппозиций, имея традиционные признаки обжитого пространства (тишина, тепло, свет, книги), свидетельствует о непреодолимой тоске по утраченному порядку, уюту, стабильности. Настойчиво повторяющиеся мотивы холода, тесноты, темноты, шума, незащищенности личного приватного пространства превращают дом в антидом, наиболее распространенным вариантом которого является коммунальная квартира. Имея все внешние признаки ложного дома, коммунальная квартира характеризуется разрушением гармонии человеческих взаимоотношений: злобой, пьянством, жестокостью. Мотив бездомности актуализируется в рассмотренных произведениях в нескольких вариантах, с одной стороны, он связан с потерей дома и его поиском, а с другой стороны, – с отсутствием дома как такового. Наблюдаемые нами изменения, связанные с произошедшие в смысловом поле «дом» позволяют говорить о трансформации архетипа в малой прозе М.А.Булгакова. Выводы по первой главе: Проанализировав труды исследователей-мифологов (А.К. Байбурина, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, М. Элиаде и др.), а также работы современных литературоведов (Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Д.А. Щукиной, С.Г. Барышевой, Н.И. Васильевой, Е.Ю. Власенко, Ю.В. Доманского и др.), мы выделили из значительного числа рассматриваемых архетипов пространственные образы, архетипическое значение которых связано с древнейшей культурной традицией (см. рис. – 2). Из рисунка видно, что основополагающей архетипическуой парой, на наш взгляд, является оппозиция космос/хаос, которая реализуется в множестве вариантов: рай/ад, небо/земля, дом/бездомье и т.п. 78 Архетипическую семантику имеют образ границы – пространственного рубежа, встречающегося при любом пространственном противопоставлении (порог, окно, ворота, река и т.п.) и универсальные параметры пространства (стороны света – юг/север, запад/восток; пространственные оси – вертикальная и горизонтальная; сакральный центр и профанное пространство и т.п.). Архетипические пространственные образы Виды бинарных оппозиций граница космос/хаос дом/антидом рай/ад дом/лес верх/низ внешний/внутренний юг/север и др. параметры пространства дом/дорога небо/земля опасный/безопасный вертикаль/горизонталь дом/бездомье свое/чужое сакральный/профанный центр/периферия Рисунок 2 – Типология архетипических пространственных образов Мы рассмотрели наиболее частотные в русской литературе варианты антиномии космос/хаос – дом/лес, дом/антидом, дом/дорога, дом/бездомье на примере «Старосветских помщиков» Н.В. Гоголя, поэзии серебряного века, лирики М.И. Цветаевой и малой прозы М.А. Булгакова и пришли к следующему выводу: являясь базовыми моделями мировосприятия, бессознательно наследуемыми у предыдущих поколений, пространственные архетипические образы способны в то же время к бесконечному развитию. В творчестве отдельных художников и в кон- 79 кретном историческом контексте они подвергаются не только самообогащению, но и значительной трансформации, именно поэтому намеченное нами направление исследования художественного пространства – выделение базовых архетипических образов и изучение их с учетом динамики литературного процесса – может быть весьма перспективным. Глава 2. «Географический фактор» художественной литературы: национальные пространственные образы и их производные Проблема русского национального характера и национального самосознания давно привлекала пристальное внимание отечественных мыслителей. Этой теме посвятили свои труды многие русские ученые: историки, философы, этнографы, прежде всего Н. Бенедиктов, Н. Бердяев, Л. Гумилев, И. Ильин, Л. Карсавин, Н. Лосский, А. Лосев, Вл. Соловьев, П. Флоренский, Г. Федотов и др. Еще со времен античности (Аристотель, Геродот) исследователи объясняют особенности национального характера влиянием целого комплекса факторов, среди которых географический и природно-климатический называются в первую очередь, наряду с этническим, историческим, социально-экономическим, общественно-политическим, религиозным. В отечественной науке впервые вопрос влияния пространства на русский характер затронул П.Я. Чаадаев: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это – факт географический. <…> Мы лишь геологический продукт обширных пространств» [564]. Географические и климатические особенности России, оказавшие первостепенное влияние на характер русского земледелия, хозяйствования и быта вообще, рассматриваются как наиболее важный фактор формирования национального характера большинством отечественных исследователей. Так, выдающийся историк С.М. Соловьев в своей «Истории России с древнейших времен» писал: «Природа 81 для Западной Европы, для ее народов мать; для Восточной, для народов, которым суждено было здесь действовать – мачеха» [504]. О воздействии русской природы на историю говорил В.О.Ключевский в работе «О русской истории». Ученый отмечал, что русская равнина и ее почвенное строение, пограничье леса и степи, река и бескрайнее поле, овраги и летучие пески, суровый климат – все это сформировало и мировоззрение русского народа, и тип преимущественной хозяйственной деятельности, и характер земледелия, и тип государственности, и взаимоотношения с соседними народами, и фольклорные образы, и народную философию [252]. На роль «русских пространств» в формировании «русского видения мира» обратил внимание и Н. Бердяев: «Пейзаж русской души, – рассуждал философ, – соответствует пейзажу русской земли, подчеркивая безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широту национального русского сознания» [98, c. 8]. Эти же мысли Н. Бердяев развивал в эссе «О власти пространств над русской душой»: «Широк русский человек, широк как русская земля, как русские поля. <…> В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков» [99, c. 60]. О том, что тип национальной модели мира определяется через то пространство (место, ландшафт), на котором живет народ, через «природу, среди которой вырастает народ и совершает свою историю» неоднократно писал Г. Гачев: природа (шире пространство) это то, что «определяет лицо народа. Она – фактор постоянно действующий» [156, c. 27]. Рассуждая о наиболее важных, врожденных элементах, повлиявших на культуру и менталитет народов, ученый отмечал: «Для немцев время более важно, чем пространство. Бытие и время, философские Sein und Zeit Хайдеггера. А для русских наоборот – пространство» [там же, с. 17]. «Русь! Куда же несешься ты?» «Что пророчит сей необъятный простор?» Писате- 82 ли-художники, поэты чуяли излучение воли и смысла от Русского Космоса и пытались угадывать их значения. Пушкин, Гоголь, Тютчев, Блок, Есенин, Пастернак…» [там же, с. 217]. «Первый факт русской истории – это русская равнина и ее безудержный разлив. <...> отсюда непереводимость самого слова простор, окрашенного чувством мало понятным иностранцу и объясняющим, почему русскому человеку может показаться тесным расчлененный и перегороженный западноевропейский мир; отсюда и русское, столь отличное от западного, понимание свободы не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя», – писал В. Вейдле, русский мыслитель-эмигрант [134, c. 42-43]. Целый ряд высказываний такого рода собран в работе Д.Н. и А.Н. Замятиных «Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России» [561]. Все названные выше факторы сплелись воедино и определяют причудливую «географию русской души» (выражение Н.А. Бердяева). Механизм влияния широких русских пространств «на широту» национального характера раскрывает В. Подорога: «Так, широта плоских равнин, низин и возвышенностей обретает устойчивый психомоторный эквивалент, аффект широты, и в нем как уже моральной форме располагаются определения русского характера: открытость, доброта, самопожертвование, удаль, склонность к крайностям и т.п.» [561, c. 131-132]. Из сказанного выше видно, что исследователи обращали внимание прежде всего на огромность равнинных пространств, на которых формировалась русская нация, их открытость. Немаловажным является также отсутствие естественных границ и срединное положение между востоком и западом, севером и югом. С одной стороны, однообразие природных форм на огромной ВосточноЕвропейской равнине (называемой также Великой Русской равниной), отсутствие сколько-нибудь значительных гор и возвышенностей, резких переходов и границ, вело к единообразию занятий населения, а через них и к единообразию обычаев, нравов, верований. Кроме того, равнинные пространства, а также разветвленная 83 система рек, на берегах которых селились племена и строились города, затрудняли обособление территорий, способствовали единству народа и государства. С другой стороны, обширность территории, суровость климата на севере, огромные дремучие леса и постоянная угроза нападения с юга, набеги кочевников серьезно затрудняли в течение длительного времени освоение этих пространств, создание крепкого государства и государственности. Очень нелегко давались русскому народу организация огромных пространств, их освоение, поддержание и охранение. Именно на решение этих задач уходили все силы русского народа. Естественно, что это истощало его творческие силы, держало в постоянном напряжении, в том числе и в связи с необходимостью защиты границ. Вся российская история говорит о том, что внешняя деятельность русского человека была полностью подчинена государственному интересу, сопровождалась «подавлением свободных личных и общественных сил». Борьба с татаро-монгольскими ордами, собирание земель в Смутное время и в период формирования империи Петра I, освоение огромной территории и создание индустриальной державы в советскую эпоху, – все это требовало огромных усилий. Как видим, здесь имеет место прямая связь географических, исторических и политических факторов. Обратим внимание на еще один парадокс. С одной стороны, широкая вольность равнинных пространств формировали широту и распахнутость, открытость русской души, ее очень существенную черту – созерцательность, и с другой – эти же необъятные пространства (поля и снега, дремучие леса) подавляли эту душу, порабощали ее. В результате в русском человеке не выработалась европейская расчетливость, экономия времени и пространства, интенсивность культуры. Ибо широта русской земли и души открывала путь к экстенсивной, а не интенсивной работе. Таким образом, можно говорить о том, что внешний географический, природно-климатический фактор стал одновременно внутренним духовным фактором русского человека. 84 Противоречия русской жизни находят свое отражение во всем: и в истории, и в философии, и, что очень важно, в литературе. Гуманистическая по своей направленности, богатая по содержанию, языку и образности она характеризуется глубоким проникновением во внутренний мир человека, поиском добра и смысла жизни, обличием зла, несправедливости, а также милосердием и состраданием. Выдающиеся представители русской классической литературы И. Бунин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Пушкин, Л. Толстой, И. Тургенев, А. Чехов и др. показали в своих произведениях не только жизнь отдельных русских людей или социальных групп, но и характер народа, причудливое соединение в нем величия, гордости и отсутствия достоинства; любви к людям, открытости, бескорыстия и жестокости; стремления к свободе и смирения, рабской покорности; одаренности, великого трудолюбия и лености. В отечественном литературоведении немало работ, в которых рассматриваются проблемы национального характера в творчестве русских писателей (Я. Билинкис, Б. Бурсов, Г. Гачев, Г. Ионин, В. Кантор, Г. Краснов, Е. Краснощекова, Е.Купреянова, Г. Макогоненко, П. Маркович, М. Махмудова, В. Мельник, В. Недзвецкий, М. Отрадин, Л. Пумпянский, В. Щукин, И. Юнусов и др.). В то же время о том, что в формировании русской национальной ментальности важную роль играют пространственные характеристики, специалистыфилологи практически не писали. Представим обзор наиболее значимых для нашего исследования работ, посвященных характеристике национального пространства, нашедшего отражение в русской литературе. В кандидатской диссертации О.А Лавреновой «Отображение географического пространства в русской поэзии 18 - начала 20 века (геокультурный аспект)» (1996) развивается мысль о том, что «художественная литература несет в себе информацию о восприятии пространства авторами, а также об особенностях географических представлений соответствующей культуры и социальной группы. Более того, зафиксированные в литературных произведениях индивидуальные 85 представления о географическом пространстве в значительной мере поддерживают стабильность организации геокультурного пространства, формируя культуру последующих поколения» [295, c. 3]. Используя художественные тексты для географического исследования, автор детально рассматривает систему стереотипных представлений о пространстве и ее динамике, о самоопределении культуры России в мировом геокультурном пространстве в различные временные периоды. Ценным представляется вывод О.А. Лавреновой о том, что система представлений русских поэтов о географическом пространстве имеет в себе некоторые константы, которые характерны для русской культуры в целом. К таким национальным географическим константам, по мнению исследователя, относятся СанктПетербург, Москва, Волга, Дон, Днепр, Черное море, Каспийское море, Урал, Кавказ, Сибирь и др. [там же, с. 15]. О национальной специфике мотива дороги рассуждает С.М. Шакиров в работе «Мотив дороги как парадигма русской лирики» (2001). Среди факторов, повлиявших на «живучесть» мотива дороги в русской литературе, исследователь называет пространственную протяженность российских дорог, неустроенность «дорожного» бытия, русскую «любовь к быстрой езде», естественно возникающие в «дорожной» ситуации искренность и открытость, присущие русской ментальности. Идею «русскости» мотива дороги автор подтверждает многочисленными примерами из русской поэзии XIX-XX веков [576]. Статья Е.К. Никаноровой «Буря на море, или Буран в степи» (2004) посвящена характеристике двух сквозных пространственных образов в русской литературе – бури на море и метели. Для нас значимым является рассуждение исследователя о том, что мотив метели является образным эквивалентом, национальным (русифицированным) вариантом античного по происхождению мотива бури [394, c. 3]. Рассуждая об эволюции, функциях, богатстве метафорических значений этого мотива в русской литературе, Е.К. Никанорова приходит к выводу о том, что, метель – это важнейшая составляющая национального русского пейзажа, символ 86 внутренней смуты, жизненных бедствий и народного мятежа (А. Пушкин, С. Аксаков, И.Лажечников, А. Блок, А. Белый, Б. Пастернак, Б.Пильняк). О.В. Лазарева рассматривает проблему русского национального самосознания в прозе И.А. Бунина на материале повестей «Деревня», «Суходол», рассказов «Иоанн Рыдалец», «Чаша жизни», «Божье древо» и др. произведений, написанных в период с 1910 по 1920 гг. Автор, опираясь в своем исследовании на работы известных буниноведов В. Афанасьева, А.А.Бабореко, А.А. Волкова, О.Н. Михайлова, Л.А. Смирновой и др. обоснованно связывает русский национальный характер с темой деревни у Бунина. Кроме того, исследователь замечает, что существенное влияние на бунинскую концепцию русского национального характера оказали представления писателя о том, что его родина, Россия, представляет собой странное, но явное сочетание двух пластов, двух культурных укладов – «западного» и «восточного», европейского и азиатского» [296, c. 62]. Таким образом, современные исследователи так или иначе затрагивают в своих работах проблему отражения в художественной литературе специфики русского характера, связанного с национальным пространством. Эта связь прослеживается с одной стороны, в изображении типично русских пространственных образов, а с другой – в попытке русских писателей через пространственные характеристики объяснить специфику русского характера. К сквозным национальным пространственным образам можно отнести деревню, провинциальный город, национальные пейзажные образы, региональные образы (Сибирь, Урал, Кавказ и т.п.) и др. Делая основным инструментом анализа художественное пространство, на примере конкретных произведений покажем, что функции национальных пространственных образов в русской литературе выполняют провинциальный город, деревня и пейзаж, через изображение которых писатели-классики стремились постигнуть сложное, иррациональное сочетание несочетаемого в русском характере. 87 2.1. Деревня в русской литературе (Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин) Большое место в русской литературе занимает образ деревни, который многие отечественные исследователи рассматривают как важнейший элемент национальной картины мира. Еще со времен А.Н. Радищева сложилась антиномическая традиция в изображении деревни: с одной стороны, это идиллия, а с другой – место, где царят жестокость и рабство. У А.С. Пушкина («Деревня», «Евгений Онегин», «Повести Белкина», «Дубровский») нашли отражение оба эти противоположные полюса: «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, / Где льется дней моих невидимый поток / На лоне счастья и забвенья» и «Здесь барство дикое, без чувства, без закона, / Присвоило себе насильственной лозой / И труд, и собственность, и время земледельца» [36, c. 318]. Внутренне Л.Н. Толстой, противоречивой деревню рисуют и И.А. Гончаров, и и А.И. Соженицын, и В.П. Астафьев, и В.Г. Распутин, и В.И. Белов и мн. др. писатели, в чьих произведениях этот образ становится национально значимой моделью бытия, отражающей специфику русской ментальности. В 50-х – начале 60-х годов XIX века обостряется и углубляется интерес к судьбам и характеру русского народа в творчестве Л.Н. Толстого. Решение этого вопроса наиболее ярко воплотилось в «Утре помещика» (1856), «Тихоне и Маланье» (1860), «Поликушке» (1863). В работах советского периода в соответствии с общим направлением нашего литературоведения при анализе этих произведений делался акцент на «основном» конфликте, связанном с взаимоотношениями «барина и мужика», принципах реализма писателя, поисках положительного героя, месте и роли крестьянской темы в раннем творчестве писателя и др. (см., напр., работы Б.И Бурсова, С.П. Бычкова, Н.К. Гудзия, Л.М. Жикулиной, Н.П. Лощинина) [121, 124, 172, 199, 331]. Однако без внимания долгое время оставалась проблема национального характера в творчестве Л.Н. Толстого этого периода, исключением является работа современного исследователя И.Ш. Юнусова [602]. В настоящее время именно 88 этот аспект изучения творчества писателя является, на наш взгляд, одним из наиболее актуальных. Отметим, что с пространственной точки зрения названные произведения литературоведами вовсе не рассматривались. Вообще о том, что в формировании менталитета важную роль играют пространственные характеристики, специалисты-филологи практически не писали, эта тема была предметом изучения историков, философов, культурологов, социологов. Удивительным кажется, что уже в ранний период творчества Л.Н. Толстой оказался весьма дальновидным в описании русского характера, те наблюдения над русской душой, которые он проницательно воплотил в образах своих героев, впоследствии не раз подтверждались учеными-философами: К. Леонтьевым, Н. Лосским, Н. Бердяевым и др. Подробнее остановимся на анлизе повести «Утро помещика». Первые главы произведения изображают душевную жизнь Нехлюдова – материалом здесь служит собственный душевный опыт писателя. Б.Эйхенбаум, отмечал, что «Нехлюдов – не созданная воображением фигура, не образ, живущий своей независимой жизнью, а проекция вовне некоторых, выбранных для «догмы» черт, которые наблюдал Толстой в самом себе» [594, c. 115-116]. В тревогах Нехлюдова, в его искренних гуманистических устремлениях отразились искания молодого Толстого: в 1850-е годы он делал неоднократные попытки провести реформы в деревне, чтобы облегчить бедственное положение своих крестьян, но всегда встречал недоверие и уверенность в том, что он хочет обмануть их и заботится только о своей выгоде. Таким образом, сама жизненная ситуация, с которой столкнулся писатель, сделала неразрешимым и основной конфликт повести – столкновение двух социальных психологий, помещичьей и крестьянской. В этом конфликте, мы думаем, отражаются две важные стороны русского национального характера, о которых впоследствии, уже в ХХ веке, говорил русский философ Н. Лосский: народолюбие (в терминологии Н. Лосского, «искание абсолютного добра») и крайнее недоверие крестьян к «господам», даже и к оказывающим им большие услуги. Нехлюдов об- 89 ращается к крестьянам с речью, выражающей его самоотверженную заботу о них: «я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы»… Он говорил так, «не зная того, что такого рода излияния не способны возбудить доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных». Характерно, что душевная жизнь Нехлюдова постепенно как бы расплывается, уступая место бытовому материалу – сценам крестьянской жизни. «Герой начинает играть второстепенную роль – вроде тургеневского охотника. <…>Нехлюдов ходит по крестьянским дворам и беседует с крестьянами – таково движение этого отрывка. Намеченное в начале изображение героя отходит на второй план. Оно возвращается к концу отрывка – тут развертывается «диалектика души», чрезвычайно близкая к тем внутренним монологам, которые наблюдаются в дневнике…» [там же, с. 116]. Обойдя один за другим четыре крестьянских дома: Ивана Чуриса (2-5 гл.), Юхванки Мудреного (6-8 гл.), Давыдки Белого (9-12 гл), Дутловых (14-18 гл), молодой помещик приходит к выводу о том, что не в состоянии изменить образ жизни своих мужиков, и под влиянием аккордов, которые он берет на рояле, в нем начинается «усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в то время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошлого и будущего» [40, т. 4, c. 169]. На этом повесть обрывается, замысел произведения остается нереализованным: «Крушения нового замысла произошло потому, что форма произведения, построенного на «герое», на центральном лице, изображение душевной жизни которого должно составлять сущность произведения, была чужда Толстому, – писал Б. Эйхенбаум [594, с. 116]. Организуя пространство повести как «линеарное», автор получает возможность показать широкую панораму деревенской жизни, давая тем самым понять, что причина взаимонепонимания двух главных слоев российского общества кроется, возможно, в русском менталитете. Заметим, что национальные черты русского характера показаны Л.Н. Толстым именно через пространственные описания: ав- 90 тор подробно рисует жилище крестьян и пейзаж, окружающий это жилище. Каждый дом он описывает по определенный модели, основными элементами которой являются двор, внешний вид дома (стены, окна, крыша) и внутреннее убранство (печь, красный угол, вещи): а) двор На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженый, почерневший навоз; на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны [40, т. 4, c. 127]. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы [там же, c. 147]. б) внешний вид дома …полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю [там же, c. 126]; …изба криво и одиноко стояла на краю деревни [там же, c. 147]; …неровные закопченные стены [там же, c. 129]; …одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком [там же, c. 126]; …в потолке, была большая щель…, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением [там же, c. 129]; …у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше [там же, c. 147]. в) внутреннее убранство …пустая, нетопленная печь [там же, c. 134]; …печь с разломанной трубой [там же, c. 147]; …стены в красном углу буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки [там же, c. 129]; …стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем [там же, c. 129]; 91 … полатей не было, …почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою [там же, c. 147]; …решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы [там же, c. 147]. Выделенные нами характеристики, позволяют говорить о том, что крестьянский дом у Л.Н. Толстого перестал выполнять свою основную, охранительную, функцию и не пригоден для жилья. Уничтожение дома начинается с углов, то есть с основы жилища, разрушение затронуло и вертикальные и горизонтальные его параметры. Разрушены границы дома: дырявая крыша, развалившаяся труба, разбитые окна; осквернен сакральный центр дома – красный угол; печь, воплощающая собой идею дома в аспекте его полноты и благополучия, изображена либо полуразвалившейся, либо остывшей. Можно было бы подумать, что автор, подробно описывая жилище крестьян, лишь констатирует их материальную нищету. Однако дом Юхванки, крестьянина не бедного, имеет тот же набор негативных маркеров, что и дома Чуриса и Давыдки Белого: «Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и так же беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь…» [там же, c. 140]. Писатель намеренно использует здесь прием антитезы, показывая на фоне грязного и неуютного дома нарядных хозяев: «На ней (жене Юхванки – Ю.П) была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская кичка. <…>На нем была праздничная рубаха с яркокрасными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами» [там же, c.139-140]. Отметим, что и комната помещика Нехлюдова, несмотря на дорогую старинную мебель и прочие атрибуты аристократа (рояль, бостонный стол и т.п.), «имела бесхарактерный и беспорядочный вид» [там же, c. 168]. Возможно, Л.Н. Толстой приметил, что неумение (или нежелание?) организовать свое личное пространство – черта русского национального характера. Весьма убедительно эту мысль писателя подчеркивает Н. Бердяев: «Не- 92 объятные пространства, которые со всех сторон окружают и теснят русского человека, – не внешний, материальный, а внутренний, духовный фактор его жизни. <…>Русский человек, человек земли, чувствует себя беспомощным овладеть этими пространствами и организовать их» [99, c. 60]. С жизнью, повседневными нуждами героев и их характером соотносятся у Л.Н. Толстого и картины природы. Так, пространство, окружающее дом Чуриса, имеет такую же отрицательную коннотацию, что и его жилище: «Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями» [40, т. 4, c. 126]. Мы видим, что пейзаж дополняет картину беспросветной нужды мужика. Причем бедность, угнетающая русский народ, по мнению Н. Лосского, тоже национальная черта. «Бедность в значительной степени есть следствие малого интереса народа к материальной культуре», – отмечает философ [324, c. 331]. Совершенно иное впечатление производит двор Дутлова: «Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. …Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. …В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно…» [40, т. 4, c. 159]. И внешнее и внутренне пространство жилища Дутловых становится характеристикой довольства и достатка семьи, а сами они – воплощение добродушия, здоровья, красоты и согласия. Нужно отметить, что, противопоставляя основной массе крестьян «идеальную» семью Дутловых, автор все же не мог скрасить общее впечатление от 93 страшной картины русской деревни, иллюзорность выхода из тупика для крестьянина доказывалась всем содержанием повести. Рисуя крестьян Нехлюдова, Л.Н. Толстой размышляет и над другими особенностями менталитета русского человека. Так, Ивана Чуриса автор описывает как умного, уверенного в себе, спокойного, трудолюбивого, но привыкшего к нищете и равнодушного ко всему окружающему. В этом образе отразилось, вопервых, такое важное качество русских, как смирение, сформированное вековым укладом народной жизни. Кстати, и эту черту, проницательно замеченную писателем, исследователи-философы выводят из особенностей пространственной организации России: «Но необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью… <…> Формы русского государства делали русского человека бесформенным. Смирение русского человека стало его самосохранением» [99, c. 60]. Во вторых, показана крепкая связь русского народа с родовым гнездом, родиной. Чурис, живущий с семьей в полуразвалившейся избе, не хочет переехать в новый каменный дом, находящийся за пределами деревни, боясь тем самым разорвать связь с предками: «И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! <…> Здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы – вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. <…> Не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..» [40, т. 4, c. 132]. Изба для Ивана – это не только его жилище, но это и двор, и дорога, и пруд, и белье, и скотина, и гумно, и огородишко, и ветлы, и родители, и отец, и дед, то есть весь мир, вся жизнь, прошлое и настоящее. Таким образом, в тексте повести образ дома связан со значением «Родина», «Россия», а в указанных словах-образах зафиксирован «архетип Великой Родины-матери» – обобщенный до предельного уровня и абсолютизированный образ, который символизирует проис- 94 хождение и предназначение народа и в котором каждый индивид видит себя как члена макросемьи и узнает свое собственное назначение в истории» [299, c. 140]. Давыдка Белый изображен как бездельник, заморивший голодом жену и ребенка, доведший до полного отчаяния мать: «Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, – все от лени» [40, т. 4, c. 149], – говорит Нехлюдов. «Леность и пассивность встречались в России не только среди помещиков и приниженных крепостным правом крестьян; они встречались и встречаются также во всех других слоях русского общества», – отмечал в работе «Характер русского народа» Н. Лосский [324, c.269]. Юхванка Мудреный тащит у барина все, что попадется под руку: «Изба Юхванки <…> тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа)…» [40, т. 4, c. 138]. О воровстве как национальной черте пишет современный историк и философ Н. Бенедиктов. В работе «Русские святыни» он приводит цитату из книги монархиста В.В. Шульгина «Опыт Ленина», который вспоминает свой разговор с потомком основателя Москвы Юрия Долгорукого князем Петром Долгоруковым в 1947м во Владимирской тюрьме: «– Уверяю вас, что Герцен (или Бакунин) был прав, когда говорил: «У русских бугор собственности не вытанцевался». <…> Как бывший помещик, я могу засвидетельствовать, что украсть у помещика не считалось преступлением. Крали фрукты из садов; дрова из леса; рыбу из прудов; муку из мельниц; землю, снимая межевые знаки, и другими способами. Иногда мы защищались, но редко. На кражи рассчитывалось, как на другие расходы. Так вот, мне кажется – если это неправда, буду рад, – что прежний взгляд на помещичье добро теперь перенесен на «социалистическую собственность». Пословица «своя рубашка ближе к телу», во всяком случае, осталась в полной силе, поэтому зажимать что-нибудь у государства или у колхоза – преступление только по букве закона да в глазах правоверных коммунистов. Толща народа по-прежнему шишки собственности еще не вырастила. Она чувствует иначе, чем закон. Да может ли быть по- 95 другому? Если у Долгоруковых за 800 лет ее, шишку, не приобрели, то почему у Ивановых и Петровых она выросла бы за 40 лет?» [96, c. 13-14]. Мать Давыдки Белого символизирует неумение русских самостоятельно организовать свою личную жизнь: «Русский никогда не чувствует себя организатором. Он привык быть организуемым…» [99, c. 62]. Арина просит Нехлюдова женить сына: «Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство, – продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь. – Что? – рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом. – Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш». Молодому барину непонятна эта просьба, он даже растерялся: «Так что ж я могу сделать? – Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, – повторила убедительно Арина, – что ж нам делать? – Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае. – Кто ж нас обдумает, коли не ты? – сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками» [40, т. 4, c. 152-153]. Интересен с точки зрения иллюстрации такой важнейшей для русского народа черты, как упование на Бога, диалог Чуриса с Нехлюдовым: «– Да я еще хотел сказать тебе, – сказал Нехлюдов, – отчего у тебя навоз не вывезен? – Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал – вот и скотина моя вся. – Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? – с удивлением спросил барин. – А чем кормить станешь? – Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же. – У других земли навозные, а моя земля – глина одна, ничего не сделаешь. – Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить. – Да и скотины-то нету, так какой навоз будет? «Это странный cercle vicieux», – подумал Нехлюдов, по решительно не мог придумать, что посоветовать мужику. – Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а 96 все бог, – продолжал Чурис» [там же, c. 136]. По мнению философа и литературного критика К.Н. Леонтьева, современника Л.Н. Толстого, русский мужик не верит в то, что благоденствия барина изменят его жизнь, так как «все от Бога»: «Поэтому ему сразу <…> покажется даже смешным, если он услышит, что какие-то французы и немцы надеются усилиями своего разума устроить на земле, если не рай, то что-то приблизительное. И для этого одни насилием, бунтами, кинжалами, динамитом, а другие «машинами» и постепенностью, «говорильнями» и т.д. – хотят разрушить все то, что было создано мудростью веков. Простолюдин найдет эту затею глупою. Так мыслит мужик, когда он удосужится помыслить; так думает он полусознательно, не размышляя много, – и действуя сообразно с этой стихийной, темной думой своей, он покоряется, верит и крестится» [307, c. 72]. Таким образом, деревня в повести Л.Н. Толстого «Утро помещика» выступает в функции национального пространственного образа. Именно через описание деревенского пространства писатель размышляет о причинах бедственного положения крестьян, о сущности векового конфликта помещиков и мужиков, и вольно или невольно связывает их с основными чертами русского характера, такими как смирение, равнодушие к материальному благополучию, лень, воровство, неумение самостоятельно организовать свою личную жизнь, упование на Бога. Но в то же время важными для автора становятся и другие, положительные, начала в русском народе: «искание абсолютного добра», которое проявилось в желании Нехлюдова улучшить положение крестьян, в его душевных тревогах, в его мятущейся совести, стремлении к «искуплению» если не своих преступлений перед крестьянством, то преступлений отцов и дедов; крепкая связь русского человека с родовым гнездом, родиной. Наконец, здоровье, согласие, цельность натуры, которые Л.Н. Толстой воплотил в семье Дутловых. О том, что представления о деревне и русском национальном характере не являются субъективными взглядами Л.Н. Толстого, а представляют собой объективное обобщение, нашедшее дальнейшее развитие в русской литературе, могут свидетельствовать такие шедевры русской классики, как «Мужики» (1897) 97 А.П. Чехова и «Деревня» (1910) И.А. Бунина. Не претендуя на всестороннее историко-литературное сравнение названных произведений и делая основным инструментом анализа художественное пространство, покажем, что именно через изображение деревни писатели стремились постигнуть русский характер. Ведущими пространственными образами повестей, формирующими модель деревенского пространства, также как и в «Утре помещика» являются крестьянский дом и деревенский пейзаж. Сопоставление характеристик крестьянского жилища у Л.Н. Толстого (дома Чуриса, Юхванки Мудреного и Давыдки Белого, которые один за другим посетил молодой помещик Нехлюдов), А.П.Чехова (дом Чикильдеевых) и И.А. Бунина (дома жителей Дурновки и Тихона Красова) позволило выделить сходные элементы в его описании: двора, внешнего вида крестьянских домов, стен, крыш, окон, внутреннего убранства. Писатели отмечают, прежде всего, материальную нищету крестьян: во всех трех произведениях крестьянское жилище описывается как непригодное для житья. Однако внешняя неустроенность в той же мере характеризует и дома помещиков. Как мы уже отмечали, комната Нехлюдова в повети Л.Н. Толстого «имела бесхарактерный и беспорядочный вид» [40, т. 4, c. 168]. Не отличался уютом и дом «помещика» Тихона Красова («Деревня»), с «длинной, полутемной» комнатой для приезжающих, двумя «большими диванами, жесткими, как камень, обитыми черной клеенкой, переполненными и живыми и раздавленными, высохшими клопами», печкой-лежанкой «по белому, замазанной глиной» [8, т. 3, с. 46]. Таким образом, в рассмотренных произведениях дается богатый материал для вывода о том, что русский человек по причинам не онтологическим, а национальным, не в силах измениться, что деревня (и Россия в целом) роковым образом движется к самоуничтожению и распаду. Наследники Л.Н. Толстого – А.П. Чехов и И.А. Бунин – усиливают негативные черты в описании деревни: их внимание направляется не столько на характеристику внешне неприглядной жизни деревни, сколько на изображение духовного оскудения ее жителей. В связи с этим традиционные в «Мужиках» А.П. Чехова 98 (изобразительные) пейзажные зарисовки постепенно переходят в социальную плоскость, красота деревенской природы противопоставляется убогости будней: «Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отрадно. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься! Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее – и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение [46, т. 9, c. 286]. Взаимопроникновение бытового и природного пространства характерно и для повести И.А. Бунина: «Зима наступила долгая, снежная. Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок» [8, т. 3, с. 107]. Во все времена года деревня у Бунина мрачна и однообразна по колориту, в котором преобладают серые и черные тона: «серое» утро, «серый» снег, «серая деревня», «серыми мерзлыми лубками» висит белье, «серо» возле изб, т.к. у порогов выкидывают золу, «снежно-серый» простор полей, «густая серая мгла», «темные» поля, «черно-фиолетовые» от дождей проселки и т.п. Таким образом, бунинский пейзаж дополняет общую картину неблагополучия деревенской жизни, представленную в произведениях рассматриваемых авторов. Обратим внимание и на сходство в отрицательной эмоциональной оценке деревни: «Вот она, нищета-то и невежество!» – думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне [там же, c. 154]. Среди чувств Нехлюдова, духовно близкого молодому Л.Н. Толстому, – досада, стыд и бессилие: «он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал 99 плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какоето грустное, безнадежное чувство» [40, т. 4, c. 130]. Стыдно и герою А.П. Чехова Николаю перед своей женой и дочерью за бедность, постоянный крик, «голод, угар и смрад» в доме, за своих «тощих, сгорбленных, беззубых» родителей, за всегда пьяного брата Кирьяка: «По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить, и разговор был противный – все о нужде да о болезнях» [46, т. 9, c. 282]. И.А. Бунин еще более резок в своих оценках, и хотя прямой авторской характеристики в повести нет, она явно просматривается в репликах героев. Так, например, Тихон с раздражением заключает: «Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики… Хозяина бы сюда, хозяина!» [8, т. 3, с. 24], а Кузьма добавляет: «Дикий мы народ! … Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи!» [там же, c. 34-35]. Как мы уже отмечали, писатели через пространственные описания стремились постигнуть русскую душу, поэтому интересный вывод можно сделать, сопоставив в повестях образы крестьян. Например, во всех трех произведениях мы находим героев, символизирующих такую черту русского характера, как смирение (Иван Чурис в «Утре помещика», Ольга в «Мужиках», Молодая в «Деревне»). Об этой черте, тонко подмеченной великими художниками, впоследствии писали русские философы и выводили ее именно из особенностей пространственной организации России: «Но необъятные пространства России тяжелым гнетом легли на душу русского народа. В психологию его вошли и безграничность русского государства и безграничность русских полей. Русская душа ушиблена ширью, она не вошла внутрь, в созерцание, в душевность, она не могла обратиться к истории, всегда связанной с оформлением, с путем, в котором обозначены границы. Формы русского государства делали русского человека бесформенным. Смирение русского человека стало его самосохранением» [99, c. 60]. 100 Другая черта русского характера проявляется в крепкой связи с родовым гнездом, родиной. Связь поколений в крестьянской семье проявляется в привязанности к привычному месту, крестьянскому миру, который состоит не только из жилища, но из двора, дороги, пруда, гумна, огородишки и т.д. («Утро помещика»). Подобный пример находим и у А.П. Чехова, его герой Николай Чикильдеев, почувствовав, что смертельно болен, едет умирать в родную деревню, где легче становится даже от созерцания родной природы: «Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бывает в Москве» [46, т. 9, c. 281]. Важными для писателей были и такие положительные начала в русском народе, как религиозность, порой не всегда осознаваемая: «…мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили Священное Писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали и все говорили ей «вы» [там же, c. 305], – писал Чехов в «Мужиках»; осознание своей безысходной дикости и обреченности (Тихон и Кузьма Красовы); жертвенность (Молодая) и др. Таким образом, сопоставительный анализ повестей «Утро помещика» Л.Н. Толстого, «Мужики» А.П. Чехова и «Деревня» И.А. Бунина позволил обнаружить единство авторских взглядов на русскую деревню, отражающих тот тип национальной модели мира, которая органично присущ русскому менталитету и проявляет себя в пространственных характеристиках. 2.2. Провинциальный город в русской литературе («Городок Окуров» М. Горького и «Страна отцов» С. Гусева-Оренбургского) Образ провинциального города в русской литературе имеет особый статус и у каждого художника слова выполняет свои художественные функции. У одних писателей провинциальный город является всего лишь декорацией, фоном для разворачивания событий, другие, ощущая свою связь с городом, создают слож- 101 ный и цельный образ, третьи вносят сюда свои идеи и стремятся осмыслить город в связи с общей системой своего миросозерцания, наконец, четвёртые, совмещая всё это, творят из города целый художественный мир, живущий своей самодовлеющей жизнью. Л.О. Зайонц, исследуя историографию провинции, замечает, что уже ко второй половине XIX века слово «провинциальный» вышло за пределы своей грамматической функции – простого определения – и срослось с поэтической – стало эпитетом, то есть приобрело устойчивую эмоциональную и стилистическую окраску (этим оно, конечно, было обязано художественной литературе, где прошло путь своеобразной инициации) [206, c. 82]. Принимая во внимание эти рассуждения исследователя, можно предположить, что представления о провинциальном основаны на субъективноэмоциональном авторском восприятии. Так, один и тот же провинциальный город может характеризоваться писателем одновременно со знаком плюс и со знаком минус. Например, в «Соборянах» Н.С. Лескова читаем: «Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село, Нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое Заречье утонуло в теплой мгле. По пловучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть» [24, с. 20-21]. В данном текстовом фрагменте эпитеты, отражающие восприятие городского пространства (тихое Заречье, теплая мгла, тихий городок, благотворная свежесть), имеют, без сомнения, положительную коннотацию. Далее город описывается автором совсем в другой тональности: «Тяжел, скучен и утомителен вид пустынных улиц наших уездных городов во всякое время; но особенно убийствен он своею мертвенностью в жаркий летний полдень. Густая серая пыль, местами изборожденная следами прокатившихся по ней ко- 102 лес, сонная и увядшая муравка, окаймляющая немощеные улицы к стороне воображаемых тротуаров; седые, подгнившие и покосившиеся заборы; замкнутые тяжелыми замками церковные двери; деревянные лавочки, брошенные хозяевами и заставленные двумя крест-накрест положенными досками; все это среди полдневного жара дремлет до такой степени заразительно, что человек, осужденный жить среди такой обстановки, и сам теряет всякую бодрость и тоже томится и дремлет» [там же, c. 92-93]. Образный ряд данного отрывка вполне соответствует отечественной сатирической традиции в изображении провинциального города, и у читателя создается впечатление, что таковы и жители этого скучного, утомительного, пустынного, мертвенного, пыльного города. Последнее обусловлено взаимосвязью менталитета и места жительства. Однако подобное впечатление ошибочно, так как Н.С. Лесков очарован своими героями: Отец Туберозов «высок ростом», «бодр», «подвижен», «голова его отлично красива», кудри белы, как у «Фидиева Зевса», глаза «большие, смелые и ясные», и в них «и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева – гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека». В Захарии Бенефактове отмечены иные, столь же дорогие Лескову свойства: кротость и смирение, богатство личности при немощности и слабости физического тела. Третий любимец Лескова – могучий дьякон Ахилла Десницын, увлекающаяся натура, смешливый, добрый, «слагающийся богатырь». Описывая жителей Старгорода, писатель любуется этими людьми из «старой сказки», то есть жизни, которая складывалась на Руси веками, устоялась и в которой устоял человек с его несуетностью, совестливостью, детской открытостью и некоторой наивностью, натуральностью, священным отношением к тому делу, к которому приставлен. Однако нельзя отрицать тот факт, что в русской литературе значительно больше произведений, обличающих провинциальный уклад как неполноценный, 103 отсталый и проч.1 Русские писатели к недостаткам относят материально-бытовую неустроенность города и низкий уровень духовно-нравственного облика провинциалов. Приведем несколько примеров, содержащих отрицательные характеристики внешнего вида города и жителей провинции: Внешний вид. «Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княжгородок. <…> Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум – и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов»; казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. <…> Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута – и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа» (В.Г. Короленко «В дурном обществе») [20, т. 1, с. 204]; «Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, на левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила на крыше его обнажены, точно ребра 1 Такое восприятие провинциального города, отразилось и в словарных статьях, например, в сло- варе синонимов В.Н Тришина, 2010.: провинциальный – урюпинский, уездный, отсталый, отдаленный, наивный, глухой, нестоличный, мухосранский, захолустный, заштатный, простоватый, периферийный. 104 коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота» (М. Горький «Городок Окуров») [12, т. 10, c. 8]; «Не могу я жить в этом городе, – говорил он мрачно. – Ни водопровода, канализации! Я есть за столом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...» (А.П. Чехов «Невеста») [46, т. 10, c. 211]. Авторская оценка жителей провинциального города. «Дамы, пользуясь минутами ожиданья, то и дело бегали в уборную поправлять туалеты. На бале они, казалось, забывали свои антипатии, свою вражду, все ссоры, интрижки и сплетни, которыми так изобилует провинциальная жизнь; обращались друг к другу с самыми ласковыми, дружескими названиями…» (А.Н. Плещеев «Пашинцев») [33, с. 182]; «Первое, что поражает вас в уральском собрании, это смешение новомодных платьев со старобытными сарафанами. <…> Что за безобразие однако ж эти уральские сарафаны! <…> Причёски и головные уборы так же странны и дики, как лубочные сарафаны. <…> Я не знаю ничего более темного и безотрадного как семейный кров уральца, по крайней мере для постороннего человека, входящего под этот кров с железными гремучими дверями с тяжёлым засовом и замком, как у лавки или у подвала. <…> Как должны скучать женщины! Ни хозяйство, ни заботы о детях не могут поглощать всего их времени <…> К чтению вкус не развит. Это и не женское дело – читать. Остаётся надеть свой безобразный сарафан, сидеть с соседкой, грызть семечки и рассказывать или слушать рассказы о разных интимностях» (М.Л. Михайлов «Уральские очерки») [27, ч. 2, c. 49]. «Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра; городская и клубная библиотеки посещались только евреями-подростками, так что журналы и новые книги по месяцам лежали неразрезанными; богатые и интеллигентные спали в душных, тесных спальнях, на деревянных кроватях с клопами, детей держали в отвратительно грязных помещениях, называемых детскими, а слуги, даже ста- 105 рые и почтенные, спали в кухне на полу и укрывались лохмотьями. ... Ели невкусно, пили нездоровую воду» (А.П. Чехов «Моя жизнь») [46, т. 9, c. 205]. Итак, основными маркерами внешнего пространства провинциального города являются – грязь, пыль, хлам, ветхость построек, отсутствие самых обычных благ цивилизации; духовно-нравственного облика – малообразованность, низкий уровень культуры, отсутствие в обществе высших интересов, бессмысленность жизни, страсть к интрижкам, сплетням и т.п. Выделенные характеристики указывает, с одной стороны, на типичность ментального облика провинциальных городов, вспомним ставшее уже хрестоматийным высказывание А.П. Чехова о том, что «в России все города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч». А с другой – на глубокую рефлексию русских писателей-классиков2 по поводу отсталости и захолустности провинции. Эту мысль прекрасно иллюстрируют слова академика Д.С. Лихачёва из его книги «Заметки о русском»: «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине... С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительная литература времен очаковских и покорении Крыма. И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни... Сила самоосуждения прежде всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье» [317, c. 464]. 2 Самые «отчаянные» критики провинциального уклада родились в провинции – Н.В. Гоголь в Полтавской губернии, М.Е. Салтыков-Щедрин в Тверской, А.П. Чехов в Таганроге, И.А. Бунин в Воронеже. 106 Русская классическая литература дает нам богатый материал для рассуждений о противоречивости менталитета русского провинциала, который, по сути, воплощает «глубоко противоречивые духовные основы жизни России вообще» [212, c. 94]. Так, наблюдаем с одной стороны сердечную привязанность к городу, к размеренному, спокойному течению жизни в нем, а с другой – отрицание именно этого ничем не нарушаемого ритма жизни как рутинного, застойного. Например: «В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то, чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его» (М.Е. Салтыков-Щедрин «Губернские очерки») [37, с. 7]; «Город вставил в окна зимние рамы, топит печи, тепло оделся, запасается на зиму всем, чем полагается, с удовольствием чувствуя уже зимний уют и тот старый, наследственный быт, которым он живет столетия, – повторяемость времен года и обычаев» (И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева») [8, т. 6, c. 180]. И обратное: «– Я понимаю, что я... в сорной яме! И деваться некуда мне... Приехала в город... точно из одной ямы легла в другую. <…>И потом вся эта обстановка. Она в детстве мне милой казалась! А теперь гнетет меня! Точно прутья какие... смотришь из-за них на свет Божий... и ни шагу! Ушла я от этого... и никуда не пришла!» (С.И. Гусев-Оренбургский «Страна Отцов») [14, c. 280]. Противоречивость в оценке провинциального города (со знаком плюс и со знаком минус) находит отражение и в описании жителя провинции. Провинциал представлен и как носитель чистоты нравов, открытости, доверительности отношений, искренности, порядочности, бескорыстия, и как стыдящийся своей провинциальности, безобразного, несчастного, невыносимого окружения, стремя- 107 щийся вырваться за пределы города, в котором все заранее известно, где вместо судьбы – роль, вместо пути – круг, дурная бесконечность повторений. Так, например, описывая харьковское общество в романе «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунин использует такие характеристики, как замечательное, очаровательное, доброжелательное, рассудительное, ласковое, спокойное, приятное, чистое, искреннее и др.: «Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла: и от этого совершенно непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет… <…> Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами… огромный ростом и живописно-кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя; бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса; затем некто маленький, востроносенький, в очках, донельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин …крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый…» [8, т. 6, с. 165166]. В то же время А.П. Чехов в «Моей жизни», «Ионыче», «Невесте» и других рассказах оценивает провинциалов иначе (скучные, гадкие, нечестные, ненужные, бесполезные, мертвые и др.): «Люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их. <> Во всем городе я не знал ни одного честного человека» («Моя жизнь») [46, т. 9, c. 204-205]. 108 «Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город, о котором бы не пожалела ни одна живая душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю» («Моя жизнь») [там же, с. 278]. «Город мертвый, люди в нем мертвые... и если бы он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки, и никто бы не пожалел» («Невеста») [там же, т. 10. с. 281]. Таким образом, провинциальный город осознается русскими писателямиклассиками двояко: как замкнутое в себе патриархальное пространство, обладающее ценностно-нормативными и сакральными характеристиками, отличающееся гармоничностью, чистотой, искренностью, крепостью родовых отношений с одной стороны, и среда рутинная, отсталая, не способная принципиально обновляться – с другой. Выделенные нами внешние (быт) и внутренние (жители) признаки провинциального города позволяют характеризовать его как особый, не только пространственно-географический, но, прежде всего, ментальный локус. *** Рисуя широкую панораму жизни России, многие писатели отражают в микромире провинции национально-исторический мир, и тогда провинциальный город также становится, на наш взгляд, выражением национальной ментальности. Проиллюстрируем эту мысль на примере повестей С. Гусева-Оренбургского «Страна отцов» (1905) и М. Горького «Городок Окуров» (1910), отразивших один из драматических периодов русской истории. Насколько известно, сопоставительный анализ этих произведений еще не предпринимался, между тем, он может представлять существенный интерес для исторической поэтики. Оба писателя рисуют широкую панораму жизни «уездной» России, с тревогой показывают, как легко социальные волнения в «звериной глуши» могут перерасти в бессмысленный бунт и убийство, как веками накопленные в социальных низах обиды способны породить стихийные настроения в народе. 109 Прежде всего, обратим внимание на пространственные характеристики в повестях, которые имеют явное сходство. C «Стране отцов» С. ГусеваОренбургского основные действия происходят в губернском городе Старомирске, он расположен «у широкой болотистой реки, разделяющей его на две части: «центр» и обширное «Заречье». Заречье тонет в грязи. Со всех сторон точно сдавленное дровяными складами, лесопилками, фабриками, кирпичными и известковыми заводами, оно носит на себе печать привычной бедности и вековой кабалы. На его улицах, непроходимых осенью, пыльных в зной, с звонким криком играют оборванные дети, – будущие рабочие на заводах и фабриках. Улица – их школа, потому что только счастливцы из них попадают в городское зареченское училище имени губернатора Безака. <…> Вырастая, эти забытые дети ходят по улицам с гармониками, поют разухабистые и циничные песни, заводят драки с истощенными женами и отголоски разгула их долетают до «центра», который с нагорья смотрит на них угрюмо и подозрительно, пока стоокая ночь не уложит их под заборами, в грязных канавах или в вонючих конурах, называемых жилищами. По ночам те же дети этого гнезда рабов крадутся к центру воры, голодные и с горящими глазами, бредут бесшумной походкой проститутки. «Центр» – благоустроен. Его улицы широки и красивы, прекрасно вымощены, по ночам освещаются бледным светом электричества. «Центр» господствует над окрестностью. На высшей точке его, у края откоса над рекой, ширится площадь, среди которой возвышается двухсотлетний «золотой» собор, окруженный лучшими зданиями города: губернаторским дворцом, казенной палатой, мрачным казначейством, семинарией, тюрьмой и гауптвахтой. Вдоль откоса тянется «сквер» или «бульвар», где по вечерам играет военный оркестр на утеху избранной публики, чинно дефилирующей по главной аллее, и где есть аллея «тайных вздохов», по которой считается неприличным гулять. С прекрасного губернаторского балкона, поддерживаемого белыми колоннами, открывается чудный вид на «Заречье» и окрестности» [14, c. 260-261]. 110 В повести М. Горького события разворачиваются в городке Окурове, который описывается следующим образом: «Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханных холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство. <…> Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, на левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых. <…> На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря, есть ещё две церкви: новый, чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синий и жёлтый цвета. <…>Главная улица – Поречная, или Бережок, – вымощена крупным булыжником. <…> На Поречной стройно вы- тянулись лучшие дома, – голубые, красные, зелёные, почти все с палисадниками, – белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с жёлтыми ставнями – головы; розоватый – отца протоиерея Исайи Кудрявского и ещё длинный ряд хвастливых, уютных домиков – в них квартировали власти. <…> Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплён фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его тополем, акациями, липой. <…> Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья: чёрные от старости, с клочьями зелёного мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадёжно глядя на реку маленькими больными глазами, кусочки стёкол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма» [12, т. 10, с. 7-9]. Как видим, в обеих повестях города имеют весьма сходную физиономию: оба расположены на реке, которая делит их на две части: у С. ГусеваОренбургского – Центр и Заречье, у М. Горького – Шихан и Заречье, описывается расположение городов, река, ее берега, монастыри, тюрьма (гауптвахта), благоус- 111 троенный центр и нищее Заречье, бульвар – место для отдыха и развлечений и т.д. Однако известно, что М.Горький, рисуя Окуров, взял многие черты Арзамаса, где он был в ссылке летом 1902 г., а в Старомирске С. Гусева-Оренбургского угадываются черты Оренбурга: «золотой собор», взорванный в 1930-е годы, балкон губернаторского дома, на котором сохранилась пробоина от ядра пугачевской пушки, разделенность города рекой на европейскую и азиатскую части; упоминаются и имена двух Оренбургских губернаторов – А.П. Безака и В.А. Перовского. Общее в облике Старомирска и Окурова, видимо, связано не с заимствованием, здесь речь идет скорее об универсальности в изображении городов, описание которых включает в себя все основные элементы городского пространства (трактир, храм, дома, улицы, парк и т.д.), а также о типологическом сходстве всех русских провинциальных городов. Эта мысль подтверждается и диалогом горьковских героев: «Колченогий печник Марк Иванов Ключников, поглаживая голый свой череп и опухшее жёлтое лицо, сипло спрашивает: – Вот, иной раз думаю я – Россия! Как это понять – Россия? Тиунов, не задумываясь, изъясняет: – Что ж – Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия» [там же, т. 10, с. 17]. Рисуя Старомирск и Окуров, писатели характеризуют все сферы провинциальной жизни: социальную, культурную, бытовую, общественную, духовную, религиозную. Так, например, социальный и духовный облик горожан формирует архитектурную организацию пространства: «Вот дом купца Шаповалова. Тридцать окон по переднему фасаду, – в четыре этажа, окон то больших, то маленьких, то круглых. Вот еще «достопримечательность» – широкозадовский дом: нелепая смесь мавританского и русского стилей. Колонки, стрельчатые окна, резные карнизы, башенки по углам, поддерживающие балкон центавры, похожие на утопленников, и в то же время во всей наружности дома что-то распухшее, как от водян- 112 ки, что-то придавленное, как тяжелая, во мраке бродящая мысль» («Страна отцов») [14, c. 231-232]. «На Поречной стройно вытянулись лучшие дома, – голубые, красные, зелёные, почти все с палисадниками, – белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с жёлтыми ставнями – головы; розоватый – отца протоиерея Исайи Кудрявского и ещё длинный ряд хвастливых, уютных домиков – в них квартировали власти. <…> В городе много садов и палисадников, – клён, рябина, сирень и акация скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках» («Городок Окуров») [12, т. 10, с. 8-9]. В характере архитектурного убранства городов отражаются национальные черты русского характера: тяга к размаху и широте при отсутствии вкуса с одной стороны, и стремление к мещанскому уюту с другой. Обе повести, на наш взгляд, – напряженное размышление о «русской душе» и российской истории, у М. Горького на примере жизни мещанства, у С. ГусеваОренбургского на примере духовенства. Персонажи обеих повестей малообразованны, однако способны философствовать, им свойственно не только обостренное самосознание, но и осмысление жизни в целом. Как справедливо отмечает Н.Д. Тамарченко, рассуждая о горьковской повести, «Мещане Окурова хотят знать, что такое Россия и Москва, каковы их собственные место и роль в судьбе России. Оказывается, что страна, в сущности, – уездная, а Москва – словно бобровая шапка у человека, у которого нет приличной одежды и пусто в карманах» [512]. Эти слова можно отнести и к повести «Страна отцов», где мысли о своем месте в истории, о смысле бытия, приходят в голову отцу Ивану, сельскому священнику, Дмитрию, недоучившемуся студенту, сыну благочинного, Павлиньке, жене отца Матвея, которая бежит из дома – случай, чуть ли не исключительный в духовной среде: «– Я понимаю, что я... в сорной яме! И деваться некуда мне... Вот я переполнилась отчаянием, схватилась, написала письмо... ушла! И солнце 113 сверкало, и день был ясен! А вот пришел ты и говоришь: нет солнца, нет дня! И я не знаю, что ответить тебе! Приехала в город... точно из одной ямы легла в другую» [14, c. 280]. Надо сказать, что о способности русского народа к философствованию, к «высшим формам опыта» неоднократно писали русские философы, например, Н. Лосский: «Интерес к вопросу о смысле жизни необходимо ведет к философствованию и попыткам выработать целостное мировоззрение. Эта черта есть в высшей степени характерное свойство русского народа. <…>Не только образованные люди, и простой русский народ любит обсуждать вопросы, лежащие в основе мировоззрения, вопросы о Боге и смысле жизни» [324, c. 259-260]. В повестях раскрываются и другие черты русского характера. «Русский человек вследствие некоторых свойств своего характера… часто грешит, но обыкновенно рано или поздно отдает себе отчет в том, что совершил дурной поступок, и раскаивается в нем. Совершив тяжелое преступление, он иногда кается всенародно», – отмечает Н. Лосский [там же, с. 257]. Об этой черте говорят и М. Горький, и С. Гусев-Оренбургский. Задушив Симу Девушкина, Бурмистров хоть и театрально, но кается перед толпой: «Кто-то злобно и весело сказал: – Даа, слушай, он сам, чу, третьего дня, что ли, и впрямь человека убил! – Да ведь он о том и говорит! – орал старый бондарь. – Видали? – подпрыгивая, кричал Базунов. – Вот она – свобода! Разбойник, а и то понял! Во! Во-от она, русская совесть, ага-а!» [12, т. 10, с.117]. Отец Иван, главный герой «Страны отцов», увлеченный новыми мыслями о «воле, свободе и иной жизни» тоже прилюдно казнит себя: « – Я решил. Твердо решил! Бесповоротно! Ухожу! Довольно!! – Что с вами?! – волновались рясы и подрясники и колебались в воздухе широкие рукава: – Откуда это? Почему? – Потому что я перестал бояться думать! Прозябал, как червь! Полз во мраке! Жил, как приказано, а не так, как должно жить... Довольно! Я и вам говорю: довольно! Разве вы не видите, что так жить нельзя больше... нельзя! Позорно! Жизнь уходит от нас в сияющую даль... а мы стоим на месте окаменелые, черною стеною... сами не идем и мешаем идти другим! Накинули на 114 жизнь целую сеть текстов, подложных текстов, потому что оправдываем произвол тех, кто уродует жизнь, – проповедуем терпение тем, кто и без того достаточно терпел. Довольно! Все вокруг нас ищут рая правды, рая справедливости, страстно борются за свой идеал... А мы?! Довольно!!» [14, c. 387-388]. Жизнь в провинции рождает конфликт в душе отца Ивана: чувство личной вины, мучение совести, которые, в конце концов, перерастают в бунт и желание отречься от сана священника. В «Городке Окурове» безвинно гибнет от рук Вавилы Бурмистрова блаженный поэт Сима Девушкин. В «Стране отцов» тоже проливается кровь: испугавшись взбунтовавшихся крестьян, землевладелец Порфирий Широкозадов стреляет в мальчика и именно после этого народ становится неуправляемым. Однако, несмотря на видимые сходства в изображении провинциального города, писатели по-разному решают главную проблему – «испытания города и героев бунтом». М. Горький показывает стихийность народных волнений, и почти полную неосознанность происходящих событий: «Чего делать будем со свободой? – вот где гвоздь!» [12, т. 10, с. 96], – говорит один из героев «Городка Окурова». «И вот оказывается, что с этой свободой совершенно не справляются в первую очередь самые жаждущие ее люди. Лозунг «дайте человеку воли, пусть он сам видит, чего нельзя!» вполне естественно оборачивается бессмысленным бунтом и убийством» [512]. Забастовка же рабочих Старомирска в повести С. Гусева-Оренбургского хорошо спланирована, это не стихийный бунт, а справедливая борьба за свои права: «Заря охватила полнеба точно заревом. На ее багровом фоне чернели резко силуэты труб гигантских фабрик и заводов Заречья. Улицы Заречья были полны. Точно черные гномы, угрожая земле, вышли из неведомых трещин и шумною, плотною толпой медленным потоком заполняли улицы с колеблющимися в воздухе знаменами. И точно из одной гигантской груди лились смелые звуки торжествующего гимна» [14, с. 308]. 115 Волнение крестьян в Богдановке тоже небезосновательны: крупный землевладелец Широкозадов обманом захватил лучшие земли васильевцев, и они, тщетно искавшие защиты у властей, пытаются добиться правды силой: «Сотни кулаков поднялись в воздухе, угрожая. Точно большой и страшный зверь ощетинился. И все гневно-смешливое, что еще дрожало в воздухе, вмиг растаяло. Всех, близких и далеких, понимавших и недоумевающих, охватило одно чувство, заставлявшее задыхаться и кричать хриплым криком... И весь смысл происходившего, и положение этих связанных, окровавленных людей, все, все уяснилось сразу для тысячи голов, повернувшихся в ту сторону, куда изливался гнев васильевцев. Широкозадова все знали, он был всем хорошо, даже очень хорошо знаком. Каждый бывал от него в той или иной зависимости, каждый имел гнев на него за собственное угнетение, за своих родных или знакомых, каждый питал хоть каплю затаенной злобы... Теперь эти капли слились в бурю ненависти!» [там же, c. 375]. Если «протест» Вавилы Бурмистрова и других окуровцев проявляется в бесцельном хулиганстве, то Алексей, один из организаторов крестьянского бунта в «Стране отцов», напротив, пытается обуздать разъярившуюся толпу: «Разгорался неистовый и стихийный бунт. Алексей стоял на крыльце трактира и кричал: – Братцы! Братцы! Что вы делаете! Остановитесь! Пустите урядника! Вы губите себя! Зря, зря! … – Отдай нам Широкозадова! Алексей жег их взглядом. – Не отдам!! – Отдай! Ты за одно с ним... предатель! – Заткни глотку! Не предатель я. Я вас от вас самих защищаю! Звери вы! То гнетесь, как рабы, то бушуете, как звери! Зачем вам Широкозадов? Их сотни... он один, што ли? Вместо него тысячи придут... Он вас нищими сделал, а вы хотите еще и в Сибирь идти! Разве так надо бороться? Разумно надо бороться, сообща... Он умом вас бьет... Да у него один ум, а у вас тысячи умов, миллионы умов... Река умов! Пусть в этой реке он потонет… И он потонет навсегда, а вы будете господами жизни! Не кричите же, рассуждайте, как разумные люди» [там же, c. 380]. В целом можно сказать, что провинциальный город в повестях С. ГусеваОренбургского «Страна отцов» и М. Горького «Городок Окуров» олицетворяет то 116 устроение жизни, тот, по-видимому, непоколебимый уклад бытия, который каждое новое поколение наследует у каждого предыдущего; он становится своеобразным носителем культурной информации, представляя собой особую знаковую систему, включающую и элементы топографически реального пространства, и основные сферы социальной, бытовой, духовной, религиозной, экономической жизни. В то же время изображение «уездной глуши» является попыткой отразить кризисные события в русской истории, разобраться в русской душе и русском характере. 2.3. Национальные пейзажные образы К сквозным пространственным образам в русской литературе относятся и образы родной природы, русский пейзаж. Типологию пейзажных образов в русской поэзии разработал М.Н. Эпштейн в работе «Природа, мир, тайник вселенной…» (1990) [596]. Ученый выделил и описал пейзажи, которые отражают реальные физически наблюдаемые состояния природы – национальный пейзаж (идеальный, бурный и унылый) и экзотический пейзаж (в русской поэзии пейзажи Азии и Африки, а также Крыма и Кавказа) и пейзажи воображаемые, «раскрывающие высшую реальность духовных миров» [там же, с. 186]: таинственный и страшный пейзажи; пустынный; космический, фантастический, потусторонний (загробный), инфернальный (адский). Кроме того, с целью «облегчить читателю самостоятельный поиск и разбор художественного материала по интересующей его теме» [там же, с. 287-288] М.Н. Эпштейн создал «Частотно-тематический указатель пейзажных образов», в который включил помимо названных и проанализированных видов пейзажей также временные пейзажи, атмосферные и небесные пейзажи, образы природных стихий, ландшафтные и растительные пейзажи, образы животного мира, пейзажи страны и местности и др. [там же, с. 289-298]. В соответствии с нашей основной задачей подробнее рассмотрим классификацию национальных пейзажных образов. Ученый выделяет следующие эстетические виды национальных пейзажей: 117 - идеальный пейзаж, сложившийся еще в античной литературе, получивший развитие в литературе средневековья и Возрождения и ставший точкой отсчета развития пейзажа в литературе (в основном в поэзии) нового времени в конце 18 – нач.19 вв. Возрожден в 40-60-е годы ХХ в. Текстовыми элементами этого вида пейзажа являются: 1) мягкий ветерок, овевающий, нежащий, доносящий приятные запахи; 2) вечный источник, прохладный ручеек, утоляющий жажду; 3) цветы, широким ковром устилающие землю; 4) деревья, дающие тень; 5) птицы, поющие на ветках. Чаще всего встречается у М. Ломоносова, А. Сумарокова, Г. Державина, Муравьева, Н. Карамзина, В. Жуковского, Батюшкова, А. Пушкина, А. Дельвига, Баратынского, Ф. Тютчева, А. Майкова, Н. Некрасова, А. Фета, у позднего Б. Пастернака, Н. Заболоцкого, а также у Д.Кедрина и А.Твардовского, В.Соколова [там же, с. 130-143]; - бурный пейзаж имеет признаки: 1) звуки – шум, рев, грохот, свист, вой; 2) черная мгла, сумрак; 3) ветер – бушующий, порывистый; все сметающий на своем пути; 4) волны, пучины – кипящие, ревущие; 5) дремучий лес или груды скал, волны, бьющиеся о скалы; 6) трепет, дрожь мироздания, крушение всех опор. Этот вид пейзажа также имеет архаическое происхождение (в древних литературах мог изображать стихийные силы природы), в русской литературе особой популярностью пользовался у Н. Карамзина («Раиса»), В. Жуковского («Двенадцать спящих дев», «Пловец»), Батюшкова («Сон воинов», «Мечта»), К. Рылеева («Смерть Ермака»), А. Пушкина («Обвал», «Бесы») [там же, с. 144-148]; - унылый пейзаж, которому характерны: 1) особый час дня: вечер, ночь или особое время года – осень (удаление от солнца, источника жизни); 2) непроницаемость для взора и слуха, пелена, застилающая восприятие (туман, тишина); 3) лунный свет, таинственный, жутковатый, отраженный свет льет печаль на душу; 4) картина обветшания, увядания, тления, развалин; 5) образы северной природы. С середины XIX века унылый пейзаж трансформируется в «бедный», «серый» или «мокрый». Вторая половина 19 в. меняет элементы унылого пейзажа: 1) исчезает луна, нет ни солнца, ни лун – один рассеянный серый ни свет, ни мрак; 118 2) тучи – серые, лохматые, рваные; 3) в подтексте социальные мотивы – голод, болезнь, нищета; 4) дождь, мелкий, монотонный; 5) мокрота, сырость, промозглость; 6) грязь, липкая, дорожная слякоть, сплошная вязкость; 7) холод, пронизывающий, подчеркивающий энтропийное состояние мира, в котором нет ни жары, ни мороза; 8) ветер, заунывный, стонущий; 9) мокрая опавшая листва – знак увядания и гниения; 10) галки и вороны – обыденные серые дневные птицы. В ХХ веке такой пейзаж переходит в «тихий» [там же, с. 148-156]. Необходимо отметить, что типология пейзажных образов, разработанная М.Н. Эпштейном, стала основой для целого ряда исследований, посвященных изучению пейзажа в лирике отдельных авторов, но и с успехом используется учеными, рассматривающими специфику художественного осмысления пейзажа в прозе. Те виды национальных пространственных образов, которые часто встречаются в русской поэзии, безусловно, имеют место и в прозаических произведениях разных жанров. Например, в ранней прозе М. Горького можно выделить два основных типа пейзажа: онтологический и стилеобразующий. Первый из них представлен временным (весенний, летний, осенний, зимний – по временам года, а также дневной, вечерний, ночной, утренний – по времени суток) и ландшафтным видами пейзажа (природный ландшафт – горный, морской, речной, степной и т.п. и культурный ландшафт – деревенский, городской, парковый и т.п.). Так, в рассказе «В степи» (1897) М. Горький создает временной пейзаж – ночной и утренний: «Южная ночь наступала быстро, и еще не успел угаснуть последний луч солнца, как уже в темно-синем небе заблестели звезды, а вокруг нас все плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи…» [12, т. 3, c. 178]. Гармоничный степной пейзаж противопоставлен в произведении отношениям между людьми (Горький рассказывает об убийстве столяра). Особенно явно этот контраст прослеживается в последней зарисовке, в которой дается авторская оценка происходящего: «Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развертывалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом, таким ясным, ласко- 119 вым и щедрым светом, что всякое черное и несправедливое дело казалось невозможным среди великого простора этой свободной равнины, покрытой голубым куполом небес» [там же, т.3, c. 185]. Нужно отметить сквозной характер осеннего пейзажа у раннего Горького – в рассказах «Свидание» (1890), «Однажды осенью» (1895), «Проходимец» (1898), «Двадцать шесть и одна» (1898), «Калинин» (1912) и мн. др. Дождь, холод, ненастье, тревожный шорох деревьев, мертвенность природы не только создают определенный эмоциональный и чувственный настрой в этих произведениях, но и предвещают несчастье, обреченность на голод, скитальчество, воровство и т.п. «Опрокинутый челн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые… Все вокруг разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы».<…> Пустынно и мрачно было вокруг – казалось, все умирает…» («Однажды осенью») [там же, т. 2, с. 49]; «А погода была скверная: сыпался мелкий, холодный дождь, грязная земля была плотно окутана тьмой. Иногда откуда-то налетал порыв ветра; он тихо выл в ветвях деревьев, шелестел мокрой соломой на крышах и рождал ещё много невесёлых звуков, нарушая скорбной музыкой тёмную тишину ночи. Слушая эту печальную прелюдию к суровой поэме, которую зовут – осень…» («Проходимец») [там же, т. 4, c. 326]. Главной особенностью горьковского временного пейзажа, по нашим наблюдениям, является динамичность, изображение природы в процессе как масштабных, так и мельчайших изменений. Наиболее частотными ландшафтными видами пейзажа в малой прозе писателя являются горные пейзажи, воплощающие красоту экзотической природы, передающие с помощью выразительных средств необъятность, ширь и мощь гор. Например, в рассказе «Женщина» (1912) из «Цикла по Руси» (1917) описание гор представлено по-настоящему живописно, одухотворенно: «Летит степью ветер и бьёт в стену Кавказских гор; горный хребет – точно огромный парус и земля – со свистом – несётся среди бездонных голубых пропастей, оставляя за собою изорванные ветром облака, а тени их скользят по земле, цепляются за неё, не мо- 120 гут удержаться и – плачут, стонут... Деревья гнутся долу, словно бегут; кусты встряхивают ветвями, как собаки шерстью, и стелются по чёрной земле – она дымится вся в пыли, течёт не умолкая сухой шорох, свист и вой, щёлкают аисты, крякают сытые вороны, немолчно трещат степные сверчки, и, словно командуя всем, раздаются крики солидных, крупнорослых станичников. С голой степи мчится перебитая молотилками золотая солома, на площади нарядной казачьей станицы крутятся серые вихри, летают птичьи перья и сожжённый солнцем жёлтый лист. Торопливо появляется солнце, быстро исчезает, точно оно гонится за бегущей землёю и устало уже – отстаёт, тихо падая с неба в дымный хаос на западе, где тоже горы в снежных вершинах и краснеют сырые тучи, тяжёлые, как вспаханная земля. Порою между массами туч ослепительно сверкает седло Эльбруса и хрустальные зубья других гор – они вцепились в облака и пытаются удержать их» [там же, т. 14, с. 265]. Значение горных пейзажей может быть понято в свойственном М. Горькому сопоставлении истины природного бытия и человеческого существования. Получая метафору «окрыленные вечным снегом», горы становятся своеобразным бытийственным идеалом. Этическая характеристика горного пространства связывает мотив высоты местности с целым рядом семантически близких образов – кислород, дыхание, воздух, – имплицитно указывающих на одухотворенность места. Стилеобразующий тип пейзажа представлен следующими видами: романтическим, реалистическим, психологическим и лирическим пейзажами. В романтических произведениях М. Горького изображается яркая, экзотическая, необычная природа, исполненная стихийной силы, выступающая как таинственное, одухотворенное существо, например, в рассказе «Мальва»: «Море смеялось. Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок... Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой 121 радости. Солнце было счастливо тем, что светило море тем, что отражало его ликующий свет» [там же, т. 3, с. 343]. В реалистических произведениях писатель изображает природу объективно, сжато, буквально в нескольких словах, как нейтральный наблюдатель он рисует полную и впечатляющую картину окружающего. Таков, например, пейзаж в рассказе «Страсти-мордасти» (1913), рисуя который, автор использует свойственные для объективной манеры изображения точные формы, размеры, взаиморасположение, цвета: «Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщин уходили в нее почти по колено» [там же, т. 14, с. 517]. Психологический пейзаж создается Горьким на основе параллелизма или контраста в описании состояния человека и природы. Например, в рассказе «Проходимец» (1898) такой тип пейзажа является не столько изображением лика природы, сколько отражением характера и настроения героя: «Явилось солнце, весёлое, яркое. Голубые куски неба смотрели из разорванных туч, медленно и устало плывших на север. Всюду сверкали капли дождя. Мы с Промтовым вылезли из-под магазина и пошли полем, по щетине скошенного хлеба, к зелёной извилистой ленте деревьев вдали от нас» [там же, т. 4, c. 331]. В лирической прозе писателя, отличающейся ярким чувственно- эмоциональным началом и пафосом возвышения жизни, пейзаж дан глазами лирического (нередко автобиографического героя): является выражением его внутреннего мира. Лирический герой переживает чувство единения, согласия, гармонии с природой, поэтому в пейзаже рисуется умиротворенная природа, матерински расположенная к человеку; она одухотворена и опоэтизирована. Таков пейзаж в рассказе «Рождение человека» (1912): «Приятные думы, пестро одетые воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе – как белые гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине – спокойно, там тихо плавают светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине. Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда 122 вбегают волны, – кустам тоже хочется заглянут в лицо волны, они наклоняются через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни» [там же, т. 14, с. 146-147]. Уже это весьма фрагментарное описание типов пейзажных образов в малой прозе М. Горького дает возможность сделать некоторые важные выводы: пейзаж в произведениях писателя разнообразен по типам и функциям; выступает как составляющая жанрообразования, сюжетообразования; определяет идейно- философское наполнение текста, в значительной степени выявляет художественное содержание каждого отдельного произведения; является отражением эстетического, философского видения автора, его внутреннего мира, взаимодействия и отношения к мирозданию. Помимо собственно типологических исследований пейзажа в творчестве русских писателей перспективным направлением в современном литературоведении, на наш взгляд, может быть выявление и анализ отдельных сквозных пейзажных образов. Одним из наиболее устойчивых пейзажных образов в русской литературе является зимний пейзаж с обязательным атрибутом – снегом. Слово «снег» в контексте русской национальной традиции окружено целым ореолом всевозможных ассоциаций – исторических, литературных, эмоциональных. «С-не-г» – важнейшее на Руси слово» [156, c. 188], – писал Г. Гачев. Не случайно этот образ опоэтизирован и в фольклоре (Бел снег на черну землю – и то к лицу!», «Красна весна цветами, лето – снопами, осень – пирогами, а зима – снегами» и т.п.), и в литературе (вспомним хотя бы пушкинские строчки: «Под голубыми небесами / Великолепными коврами, / Блестя на солнце, снег лежит» [36, т. 3, c. 125]. Снег для русских является символом праздника, новогодней елки, Рождества, масленицы; глубоко национальны образы Деда Мороза и Снегурочки. Красоту девушек на Руси сравнивали с белизной снега. Но снег холоден, поэтому иногда он воспринимался как символ одиночества, заброшенности (одинокая избушка, затерянная в снегах, – атрибут поэзии романтиков). В русской поэтической традиции особенно 123 ощутимо символическое значение образа снега. Например, в стихотворении Е. Евтушенко «Идут белые снеги…» «скользящий как по нитке снег» сливается с образом «до боли» любимой России: «Идут белые снеги, / как во все времена, / как при Пушкине, Стеньке / и как после меня, // Идут снеги большие, / аж до боли светлы, / и мои, и чужие / заметая следы. // Быть бессмертным не в силе, / но надежда моя: / если будет Россия, / значит, буду и я» [16, с.11-12]. Можно с уверенностью сказать, что эмоциональный компонент значения словообраза «снег» связывается в сознании носителей русского языка с чувством Родины. В этом отношении примечателен отрывок из рассказа «в письмах» М. Осоргина, опубликованный в парижском журнале «Современные записки», в котором снег вызывает у русских эмигрантов ностальгические чувства: «С утра уезжаем в лес, часа на два с половиной кататься на санках… Снег хрустит, искрится на солнце. И становится на душе так хорошо и радостно. Наша русская зима – прелесть! А ты не забыл зиму русскую?! А Москва-то наша! Небо голубоеголубое. Снег на солнце искрами горит и под ногами скрипит. Вот вы пишите, что лет пять снегу не видели. Да, это печально. Я даже не понимаю, как без него жить. Он душу очищает…» [22, c. 210-211]. Национальную окраску и необычайно богатую палитру значений, по нашим наблюдениям, имеет образ снега в творчестве замечательного мастера лирического пейзажа К. Паустовского. Являясь важной составной частью художественной концепции писателя, этот образ связывается с поэтическим миром детства, дорогими воспоминаниями, с милыми сердцу пейзажами средней полосы России, где деревья зимой засыпаны «цветами мокрого снега»… Удивительно живописен зимний пейзаж в рассказе «Прощание с летом», тонко передающий настроение героя, его восторг от первого снега: «Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну – за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг. Когда же выпал первый снег? Я подошел к окну к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они пока- 124 зывали два часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло. Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал: – Первый снег очень к лицу земле. Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту. А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчащие из-под снега» [31, т. 6, с. 261]. В повести «Орест Кипренский» снегопад пробуждает патриотические чувства героя: «Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро. Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий и в глубине садов. <…> Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом. Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков. Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока. "Как я счастлив, что родился в России", - подумал Кипренский» [там же, т. 3, с. 505-506 ]. Тревожные ноты звучат в повести «Романтики», в которой возникает драматический образ «России в снегах», России тяжелый военных лет, и мрачный колорит книги, рассказывающей о жизни русской интеллигенции эпохи предреволюционного десятилетия, становится господствующим. В ряде произведений писателя из сборника «Повести о жизни» образ снега, олицетворяющий ненастье, суровые жизненные испытания, становится ключевым. 125 Даже интимные чувства К. Паустовский сравнивает со снегом: «Не будем говорить о любви, – писал он в рассказе «Ручьи, где плещется форель», – потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть это густой снег, падающий всю ночь…» [там же, т. 6, с. 243]. Подробнее остановимся на анализе лирической новеллы «Снег», относящейся к числу тех произведений, постичь которые можно только проникнув в глубинный смысл ключевых образов. Один из них вынесен в название новеллы. В этом произведении нет ни ослепительной праздничности, ни динамическизахватывающего сюжета с вихрем страстей и событий. Главное для писателя – не интрига, а настроение. Для него важно раскрыть тончайшие нюансы душевного состояния героев, живущих в ожидании любви и предчувствии счастья, нарисовать в красках удивительно родной российский пейзаж. Первая зарисовка зимнего пейзажа дана через восприятие главной героини рассказа Татьяны Петровны, эвакуированной вместе с дочерью из Москвы во время Великой Отечественной войны в небольшой «пустынный городок». Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть к «маленькому дому, стоявшему на горе, над северной рекой, на самом выезде из городка», <…> «к скрипучим калиткам, к глухим вечерам…». Особенно трудно ей пришлось, когда спустя месяц после ее приезда умер хозяин дома, старик Потапов. Состояние одиночества, заброшенности, сиротливости, которое испытывает героиня рассказа, передает следующий фрагмент: «Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кот Архип, оставшийся в наследство от Потапова. Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапову, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла» [там же, с. 297]. Фраза «снега тускло светили в окна» сразу же обращает на себя внимание формой множественного числа слова «снег», которая встречается в произведениях русской классики в значении «покрытые снежным покровом огромные пространства» (ср. напр., «За полем снежным – поле снежное, / Безмерно белые луга; 126 / Везде – молчанье неизбежное, / Снега, снега, снега, снега!» – В. Брюсов «Снежная Россия» [6, с. 261]. Татьяна Петровна не просто видит снег, она чувствует холодность военной зимы, по-своему переживает трагедию родины. В следующем фрагменте снег, на первый взгляд, обычная деталь пейзажа: «"Я часто вспоминаю тебя, папа, – читала дальше Татьяна Петровна, – и наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу: вот я отворяю калитку, вхожу в сад. Зима, снег, но дорожка к старой беседке над обрывом расчищена, а кусты сирени все в инее. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи – те, что я привез из Ленинграда. И те же ноты лежат на рояле: увертюра к "Пиковой даме" и романс "Для берегов отчизны дальней". Звонит ли колокольчик у дверей? Я так и не успел его починить. Неужели я все это увижу опять? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если бы ты знал, как я полюбил все это отсюда, издали! Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно: я вспоминал об этом в самые страшные минуты боя. Я знал, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький и самый милый для меня уголок – и тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся и не качай головой» [31, т. 6, с. 297]. Однако для сына старика Потапова, который еще не знает о смерти своего отца и пишет ему из госпиталя, самые дорогие воспоминания о родном доме связаны с кусочком этого зимнего пейзажа. Непритязательная русская природа становится символом Родины, которую он защищает. Обратим внимание на то, как меняется пейзаж до и после чтения главной героиней письма Потапова: «Татьяна Петровна долго сидела у стола, смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался рассвет, думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек и ему будет тяжело встретить здесь чужих людей и увидеть все совсем 127 не таким, каким он хотел бы увидеть» [там же, c. 298]. Рассвет здесь не только начало нового дня, но и начало новой жизни. У Татьяны Петровны появляется надежда, предчувствие счастья, и тусклые краски начинают постепенно проясняться, светлеть. Следующая пейзажная зарисовка дана глазами Потапова, который приехав на побывку в родной городок после госпиталя, узнал от начальника станции о смерти отца и о том, что в его доме живут чужие люди: «Потапов прошел через город, к реке. Над ней висело сизое небо. Между небом и землей наискось летел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки. Темнело. Ветер дул с того берега, из лесов, выдувал из глаз слезы. <…> Потапов подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад как бы вздрогнул. С веток сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потапов прошел в беседку, положил руки на старенькие перила. Вдали, за лесом, мутно розовело небо – должно быть, за облаками подымалась луна. <…> Потапов облокотился о перила, тихо сказал: – Как же это так?» [там же, c. 299]. Потапову, который находится в подавленном состоянии, сад кажется мутным, а сизое небо, повисшее над головой, передает гнетущее ощущение тяжести, горя, обрушившегося на этого человека. Мрачная картина неожиданно оживляется словом «снежок». Контраст создает уменьшительно-ласкательная форма, звучащая диссонансом в контексте. Редкий снежок олицетворяет для Потапова нечто милое, родное. Значит, несмотря на боль утраты, Николай Потапов рад встрече с тем «клочком земли», о котором вспоминал в самые страшные минуты боя. Заснеженный сад, вздрогнув, словно живое существо, тоже приветствует его. И первое, что видит удивленный герой, – это расчищенная в снегу дорожка к беседке. Эпизод встречи героев – кульминация новеллы: «Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо. Он оглянулся. Позади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом, в накинутом на голову теплом платке. Она молча 128 смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток. – Наденьте фуражку, – тихо сказала женщина, – вы простудитесь. И пойдемте в дом. Не надо здесь стоять. Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина так же тихо сказала: – Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет. Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас в сенях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание» [там же, 300]. В этом фрагменте особую роль играет подтекст. Фраза – «На ее ресницах и щеках таял снег, осыпавшийся, должно быть, с веток» [там же] (ср. «таял снег» и «сердце оттаяло») – становится ключевой, показывая душевное преображение Потапова, ожидавшего встретить здесь чужих, равнодушных людей, но приятно обманувшегося. Татьяне Петровне удалось устранить остатки холодности, недоверия, замкнутости и добиться, чтобы Потапов почувствовал тепло родного дома. Таким образом, эстетический смысл этого отрывка вызывает представление о доброте, душевной чуткости героини. Последняя пейзажная картинка – «После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени» [там же, c. 301] – вызывает настроение торжественности, светлой печали. Глагол «светиться», обозначая в традиционной русской символике нечто возвышенное, чистое, воспринимается в данном контексте как проявление духовной, нравственной чистоты героини, а легкие тени от берез на снегу выражают надежду, предчувствие близких приятных перемен. Акцентированное использование К. Паустовским снежных пейзажей в новелле говорит об их особой значимости. Все краски в них приглушены: снег не блестит, не сверкает, не переливается на солнце. Перед нами прошли печальные картины, вызывающие светлую грусть. Но снег здесь не просто лирическая деко- 129 ративно-орнаментальная деталь пейзажа, создающая определенное настроение. В художественном контексте новеллы он вырастает до романтического образасимвола, раскрывающего глубинную суть произведения. Снег воспринимается как символ родного дома, дома в исконном его значении, с которым связано ощущение тепла, радушия, гостеприимства. Образ заснеженного сада, появляющийся в финале произведения, вызывая тургеневско-чеховско-бунинские ассоциации, отражает специфические черты русской культуры и помогает ярче высветить основную идею, которая владела писателем. *** Не менее частотным в русской литературе является образ степи. Ф.П. Федоров в статье «Степное пространство в русской литературе» [546] убедительно показал сквозной характер этого образа и его национальную специфику, обратившись к анализу произведений А.С. Пушкина, А.С. Хомякова, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, П.А. Вяземского и А.А. Блока. По наблюдениям исследователя, у романтиков степное пространство – «безбрежное, свободное пространство, не знающее не только внешних, но и внутренних границ (оно не рассечено ″межами″), пространство ″первого дня творения″, неискаженного ″Божьего мира″ противопоставляется пространству цивилизации (пушкинский Алеко бежит в Бессарабские степи, героиня Лермонтова из ″цветущих степей″ в Петербург (<М.А. Щербатовой>)» [там же, c. 8]. Существенной и константной в романтической поэзии становится оппозиция пространства конечного мира и мира бесконечного. Ф.П. Федоров отмечает, что первые существенные изменения в концепции степного пространства в русской литературе наблюдаются в поэзии П.А. Вяземского с его «фундаментальной декларацией» степь – воплощение «матушки России». В стихотворении «Степью» (1849) «космополитическое бесконечное романтиков трансформируется в государственно-национальное бесконечное» (славянофильство) [там же, c. 12]. 130 Со степной философией Вяземского органично связано, по мнению исследователя, мировоззрение А.А. Блока. Его «Куликово поле – это историко- мифологический знак степи – Руси» [там же, с. 14]. В то же время, «Блок формулу Вяземского наполняет историографическим и историософским материалом конца XIX – начала ХХ века, благодаря которому она обретает конкретный историкомифологический характер», – пишет Ф.П. Федоров. Таким образом, заключает ученый, «степной текст – одно из важнейших созданий русской мысли» –на протяжении столетия претерпевает значительные изменения: «степное пространство романтиков с реестром атрибутов трансформируется у Блока в неомифологическое пространство модернизма» [там же, c. 19]. В последнее время появилось несколько диссертаций, предметом изучения в которых стало пространство степи: «Донская степь как художественное пространство в языке М.А. Шолохова» (2007) С.А. Кононовой [272], «Языковая картина степи в художественном мире А.П. Чехова» (2009) Е.С. Игумновой [224] и др. Однако в основном исследователи обращаются к классическим произведениям русской литературы, оставляя без внимания региональный степной текст, анализ которого, на наш взгляд, представляя научный интерес, позволит ученым более полно осмыслить национально-региональную специфику одного из ключевых в русской картине мира пространственных образов. Обратимся к образу оренбургских степей, получившему художественное осмысление в целом ряде произведений XIX-ХХ веков. Как справедливо заметил Г. Гачев, «Природа каждой страны есть текст, исполненный смыслов, сокрытых в Матери-и» [156, c. 9]. Природа Оренбуржья – это безграничные, вечные степи, заселявшиеся веками, но не утратившие своей первозданности по сей день. Степная природа – дикая, лишенная пышности, однообразная – способна дать душе покой, подарить ощущение гармонии, исцелить. Об этом писал еще С.Т. Аксаков, выросший в Оренбургском крае и назвавший «простор степных лугов» «миром спокойствия и свободы»: «Прощай, мое уедине- 131 нье! / Благодарю за наслажденье / природой бедною твоей…» («Прощай, мой тихий, сельский дом!») [9, c. 24]. «Скупое разнообразие картин» дикой оренбургской степи пленяет своей красотой и наших современников: «Простор и блеск. И степь, как океан, / Пуста и молчалива: без ответа / Все тонет в ней, в душистом зное лета…» (И.А. Бехтерев «Степные сонеты») [28, c. 51]. На первый взгляд, в этих строчках – душевное смятение: без ответа остаются вопросы лирического героя, ищущего истины. Степь молчит, но душа невольно полнится ее блеском, разлитым в пространстве ощущением покоя. Поэт дает волю восторгу перед безграничностью степного «простора, света, дали». В поэтической атмосфере степного пейзажа чувства и мысли человека сливаются с ликующим состоянием природы. Восторг перед полнотой мироздания вытесняет горечь и тоску: «Душа болеть неслышно забывает – / Не жаль себя, не жаль, что ты один! / А новых бед совсем не принимает. // И право же, какая там печаль, / Когда весь мир – простор, и свет, и даль» [там же]. Степь – это пространство, где взгляд не встречает препятствий, это простор, который манит, но, в то же время, наполняет душу неутолимой тоской: «Азиатская ересь в славянской крови / и тоска по просторам бескрайним, / это тот вечный зов, / что сильнее любви, / та тревога, что мучает втайне» (В.В.Трефилов «Будто заперли душу мою на засов») [там же, c. 536]. Образ-переживание унылой и печальной степи часто соотносится с мотивом прощания: «Предо мной лежит / Степь печальная. / Все мне слышится / Речь прощальная // Все мне видятся / Взоры милые, / Все твержу «прости» / Через силу я» (М.Л. Михайлов «На пути») [там же, c. 72]; с размышлениями о вечных вопросах бытия: «Так скоро, может быть, покинуть должен я, / О степь унылая, простор твой необъятный;/ Но вместо радости зачем душа моя / Полна какоюто тоскою непонятной?..» (А.Н. Плещеев «В степи») [там же, c. 41], с необъяснимой тягой к ее созерцанию, но и с желанием избавится от этой всепоглощающей грусть-печали, порожденной бесконечным величием степи: «Может быть, в 132 тысячный вечер / Немо глазею на степь, / Может быть, тысячный ветер / Взялся над солнцем свистеть» (В. Одноралов «Оренбуржье») [там же, c. 199]. Вечное противостояние пустому, бескрайнему, томительному пространству – такова судьба русского человека, «ушибленного ширью»; невозможность вместить в свою душу весь этот бесконечный простор, гул веков, который слышится в вое ветра, порождает вековечную русскую тоску, сопряженную с непреодолимым страданием. Грандиозность, масштабность степи подавляет человека физически, но возвышает духовно: «Не найдешь ты просторов таких никогда – / в них нетрудно пропасть, утонуть, затеряться!.. / Я люблю в этот край в эту степь возвращаться, / я люблю этот путь бесконечный сюда!.. // Лень свою просвещенную сбрось, пристыди, / посмотри, сколько летом за городом – неба, / сколько здесь караваев грядущего хлеба – / и тогда ты поймешь, что живем мы в степи» (Г.Н. Красников «На уральскую землю однажды ступи…») [там же, c. 319]. Путь «в этот край, в эту степь» – это путь к себе, возвращение к началу, к своим истокам. Прямое обращение автора к читателю (глаголы «не найдешь», «посмотри», «поймешь», употребленные в определенно-личном предложении) удерживает нас в настоящем времени, переживаемом нами здесь и сейчас, однако в этом миге – отзвук прошлых веков, воспоминания о которых хранит в своем лоне степь: «На ладони полынь разотри и вдохни – / в горечь давних времен погружаясь все глубже, / видишь – ветер гоняет колючку верблюжью, / сколько долгих веков, в этой гонке они!..» [там же]. Приметы времени здесь раскрываются в пространстве, пространство же втягивается в движение времени. Образ степи в стихотворении Г.Н. Красникова, и вообще в оренбургской поэзии, тесно связан с образами бурана, метели, со стихией ветра, который «шумит и свистит», вторя гулу эпохальных перемен; разрывая пространство, будит в душе тягу к освоению нового и неизведанного: «На уральскую землю однажды ступи: / Посмотри, как врываются в город бураны, / Как стучатся метели в оконные рамы – / И тогда ты поймешь, / что живем мы в степи» [там же]. Ве- 133 тер самая изменчивая, подвижная, летучая стихия, но в то же время и самая вечная, неизменная. Синтез этих противоположных начал ощущается поэтом интуитивно, так же, как интуитивно чувствуется древняя неразрывная связь европейского и азиатского в русском человеке: «На Европу и Азию нас не дели… / Здесь все дышит ковыльной спокойную Русью, / сделал шаг – и уже с азиатскою грустью / видишь ты же кругом – ковыли, ковыли…» [там же]. Так уж сложилось, что «человек степной» одновременно живет и тоской по воле, и стремлением к покою. Свистящими, ревущими, бушующими ветрами наполнена степь в стихотворении В.Н. Кузнецова «В моем краю»: «В моем краю с утра и до утра / Бушуют казахстанские ветра / <…> Они несутся с яростью сарматской / По всем просторам пашен и полей! / Гонимые по этой дикой воле…» [там же, c. 186]. Начиная стихотворение с характеристики настоящего, с личностного «мой край», автор постепенно втягивает в круг непроизвольных ассоциаций далекое прошлое: в стихии ветра чувствуется дух тех времен, когда жажда открытия новых пространств, завоеваний влекла из края в край племена кочевников: «Трещать в мороз, / в жару сгорать от зноя, / Копить пласты наречий и имен, / Служить в веках трубою вытяжною/ Степных пространств / И кочевых племен! / – Вот родина моя…» [там же]. В образе манящей и неразгаданной степи, хранящей тайны веков, духовной истории народов, некогда ее населявших, вновь сливаются постоянно меняющееся и вечное: «Сама стихия ветра здесь живет, / Здесь тучи рыщут конницей Мамая, / Столбами смерчи пыльные вздымая, – И так из века в век, из года в год!..» [там же]. Образ степи, олицетворяющий приобщенность к многовековой истории, становится сквозным в лирике оренбургских поэтов ХХ века: «Грязно-бурый полынный ландшафт, / Птиц осенних кочевье…/ Лишь татарник сухой виноват / В этой тяге дочерней // В том, что даже в больших городах / Слышу топот коней одичалых / Да по ветру развеянный прах / И – начало, начало…» (Н.В. Кондакова «В степи») [там же, c. 237]. «Дочерняя тяга к степи» – тоска по пространству, где 134 мгновение вбирает в себя вечность, где время стремится к началу, к истоку, как одичалая душа рвется к свободе, к воле. Татарник символизирует в стихотворении неистребимую жажду жизни, энергию, толкающую на поиск ответов на вечные вопросы бытия: «Ведь, привязана сзади седла, / Разметавшая косы, / Я, наверное, выжить смогла, / Чтоб ответить на эти вопросы. // Пограничный славянский рубеж, / Половецкое поле. / И татарник до ярости свеж / У меня на подоле» [там же]. Древней силой «дышит» степь и в стихотворении В.В. Трефилова «Будто заперли душу мою на засов…», в котором звучит традиционный в поэзии мотив бегства из городской «несвободы» в просторы степи: «Тесно мне среди спичечных этих дворов, – / и несут меня ноги куда-то / <…> «Кругосветных ветров тихий слышится хор, / облака стынут стаей гусиной, / и тщедушную грудь наполняет простор / и какая-то древняя сила» [В c. 282]. Пространство расширяется, и кажется, что степные просторы – вся Русь с ее «бесшабашным размахом, гордым норовом и удалью разбоя». Никакие преграды не стесняют душу, она свободна и вольна вбирать в себя опыт прошлых веков, или устремляться в неизведанное. Погрузившись в мир степной природы, лирический герой В.В. Трефилова начинает по-настоящему понимать смысл и гармонию жизни: «Только там, на холме, одиноко, как куст / застываю и горя мне мало. / Замирает душа от нахлынувших чувств, / обретая все то, что искала» [там же]. Но и здесь, посреди первозданного покоя, его сердце тревожит какая-то смутная тоска, древняя как сама степь, объяснить которую никто не в силах. Вечное течение времени в бесконечном пространстве олицетворяет образ дороги в степи. «Гудящий простор» степных дорог, кажется, не в силах преодолеть даже скорый поезд: «Поезд мчал / Оренбургской степью, / день и ночь / Оренбургской степью, / и в бескрайних ее просторах / скорость поезда / не ощущалась» (А.А. Тепляшин «Возвращение») [там же, c. 265]. Сравнивая степь с вращающейся пластинкой, по которой поезд «на месте летит что есть мочи», автор показывает, что законы физического времени здесь не действуют: день и ночь 135 бесконечны, как бесконечна сама степь: «…как Вселенной, / ей нет предела, / и, как жизни, / ей нет конца» [там же]. Возвращение в степь – это возвращение к той точке отсчета, с которой начинается осознание человеком своей слитности с миром, с Вселенной, ощущение своей причастности тайнам бытия. Отмеченные особенности поэтического изображения степного пейзажа в творчестве оренбургских поэтов помогают осознать и общие моменты восприятия этого образа в русской литературной традиции: степь олицетворяет вечное время в безграничном пространстве, органично соединяет «европейское» и «азиатское» начала в русском человеке; пугает своей дикостью и манит бесконечными просторами, тревожит душу вековечной тоской и дарит ощущение полной свободы. Выводы по второй главе: Рассмотренные нами сквозные пространственные образы деревни, провинциального города и пейзажа являются, на наш взгляд, ключевыми элементами русской национальной картины мира. В ходе анализа значительного корпуса произведений, мы показали, что русские писатели-классики, возможно, интуитивно почувствовали связь географического фактора с фактором ментальным, подчеркнув тем самым уникальность и противоречивость русского национального характера. Мы акцентировали внимание на полисемантичности национальных пространственных образов, которые зачастую характеризуют духовно-нравственное пространство героев, отражая особенности их мировосприятия и образа жизни. Полученные результаты, систематизированные в таблице 1, наглядно показывают выявленную нами взаимосвязь пространственно-географического фактора и специфики национальной ментальности. 136 Таблица 1 Пространственные Особенности изображения Черты национального образы характера + Деревня – + – тишина грязь совестливость леность покой нищета согласие пассивность отдаленность от разруха цельность нату- воровство цивилизации красота окру- ры ветхость жающей приро- связь с «родовым неорганизованность гнездом» ды вонь гармония с при- смирение родой Провинциальный патриархаль- город ность пыль несуетность малообразованность уют ветхость искренность бескультурье тишина отсутствие ци- открытость страсть к интриж- вилизации мир мертвенность кам и сплетням бескорыстие отсутствие высших интересов спокойствие скука порядочность бессмысленность жизни Пейзаж Зимний чистота холод равновесие тоска (снежный) красота однообразие здоровье отрешенность праздничность мертвенность восторженность сонливость свежесть враждебность мечтательность неустойчивость тишина мрак патриотизм (снег стихийность – символ России) Степной бесконечность пустынность созерцательность тоска простор дикость удаль уныние тишина однообразие воля разбой 137 Глава 3. Мир внутренний и мир внешний: индивидуальные пространственные образы и их производные В науке существует мнение, что для каждого человека пространство и время индивидуальны. Данные категории сосуществуют и согласовываются с индивидуумом независимого от внешнего мира. Отраженное в сознании, и как следствие в художественном тексте, объективное пространство ученые называют перцептивным. Однако само это отражение, по мнению исследователей, «опосредовано индивидуальным пространством и зависит от модели внешнего сенсорного пространства в структурах мозга» [60, c. 88-99]. Б.В. Раушенбах, рассматривая проблемы художественного пространства и зрительного восприятия на примере изобразительного искусства, подтвердил эту мысль, сравнивая «объективно существующее (или просто объективное) пространство с возникшим в сознании человека образом этого пространства. Последнее естественно назвать субъективным, или перцептивным («перцепция» – восприятие). Совершенно очевидно, что они имеют разный геометрический облик. <…> Мозг, образуя субъективное пространство и опираясь при этом на сетчаточный образ, производит трансформации возникшего образа…» [456, c. 16-17]. В ряде работ мысль об изменении (модификации) реального пространства, преобразовании его в искусстве является центральной. Так, Г.Н. Слепухов считает, что « … художественные пространство и время – это не физические время и пространство, механически использованные, перенесенные в произведение искусства, а именно внутренние элементы композиции. Поэтому, так же как и другие элементы композиции, время и пространство подвижны, пластичны, эмоционально наполнены, как бы живые, пульсирующие внутри произведения» [498, c. 65]. Д.С. Лихачев в статье «Художественная среда литературного произведения» подчеркивает, что писатель, отражающий в своем произведении реальную действительность, «формирует ее, исходя из своих о ней представлений и соот- 138 ветственно своему художественному замыслу» [314, c. 7-9]. Те же положения развиваются в его труде «Поэтика древнерусской литературы» (главы «Поэтика художественного времени» и «Поэтика художественного пространства»). Поднимая вопрос о внутреннем мире художественного произведения, ученый указывает на то, что этот мир – «явление не пассивного восприятия действительности, а активного ее преобразования, иногда большего, иногда меньшего» [316, c. 335]. Пространство и время, по Д.С. Лихачеву, будучи связанными с реальным пространством и временем, по-особому отражают это пространство и время в зависимости от ряда факторов: от различных форм сюжетного построения, стилистической манеры автора, даже от мира психологии действующих лиц. В нашей работе мы не ставим задачу исследовать проблему восприятия пространства индивидуумом, поскольку это относится в большей степени к сфере изучения психологии и медицины, остановимся лишь на вопросе отражения в художественных текстах перцептивного пространства, исследование которого имеет существенное значение для раскрытия художественной организации действительности, фундаментальных вопросов содержания и формы произведений искусства и их восприятия. Итак, в художественном произведении, с одной стороны, отражаются основные свойства пространства как объективной бытийной категории, характеризующей реальный мир. С другой стороны, репрезентация пространства в каждом отдельном литературном тексте уникальна, так как в нем воссоздаются творческим мышлением, фантазией автора воображаемые миры. Э.И. Неизвестный, размышляя об искусстве, философии и литературе, отмечает, что писатели по-разному моделируют художественное пространство в тексте произведения, для одних важна объективность в изображении временипространства, для других – нет: «Пространство Льва Толстого развивается по евклидовым законам, это реальное пространство и реальное время: реальные персонажи передвигаются в реальном пространстве. Там едут лошади, там стоят деревья, там летают галки, и одновременно люди меняются в этом реальном про- 139 странстве сообразно с физическими и психическими законами. Этого нет у Данте, Достоевского, Кафки и Беккета. Их пространство не евклидово: то есть либо обратное, либо – рассеянное…» [389, c. 153]. Ю.М. Лотман, характеризуя художественное пространство, акцентирует внимание на создании его как индивидуального, ввиду того, что пространство «представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [327, c. 252-253]. Следовательно, достоверность художественного образа пространства представляется как обусловленная гносеологической природой текста: в организации пространства отображаются знания автора об объективной реальности. Субъективность, в свою очередь, связана с тем, что изображение автором объективной реальности детерминировано конкретными намерениями и установками, творческим замыслом, мировоззрением писателя, концептуальными основами литературно-художественного произведения, ценностными и другими ориентирами. Писатель, создавая психологический портрет каждого героя собственного произведения, описывает его восприятие всего происходящего, указывая в том числе и на его, героя, личное восприятие пространства. Вследствие чего отражение пространства в художественном произведении не просто субъективно, что детерминировано авторским взглядом, а субъективно в той мере, в коей автор обращается к изображению пространства сквозь призму видения данного пространства созданных им героев. Известно, что осмысление пространственных координат в художественном тексте выявляется с позиций определенного эстетического идеала. Однако исчерпывающий анализ художественного пространства в литературном произведении невозможен без учета множественной антропологической обусловленности изображенного пространства авторской точкой зрения в совокупности с точкой зрения персонажей того же художественного текста. Если принять во внимание психолого-концептуальное основание в организации автором художественного про- 140 странства, то имеет смысл рассуждать об индивидуальных пространственных образах в литературе. Исследуя индивидуальные образы пространства в творчестве А.В. Батенькова, В.Н. Топоров отмечает наличие в литературе «неких усредненонейтральных пространств» и «индивидуализированных пространств», описывает их взаимопроникновение: «каждая литературная эпоха, каждое большое направление (школа) строят свое пространство, но для находящихся внутри этой эпохи или направления «свое» оценивается прежде всего с точки зрения общего, объединяющего, консолидирующего, и свою «индивидуальность» это «свое» раскрывает лишь на периферии, на стыках с тем иным, что ему предшествовало, сопутствует или угрожает как его замена в ближайшем будущем» [529, c. 447]. Далее ученый раскрывает взаимосвязь индивидуальных пространственных образов с психо-ментальными особенностями автора, который «не просто пользуется «своей» (а не усреднено-общезначимой) схемой пространства, но вынужден, практически не имея выбора, принимать ту жестко мотивированную схему, которая определяется не столько культурно-исторической ситуацией или литературновкусовыми его пристрастиями, сколько психо-ментальными особенностями автора, сохраняющими еще связи со сферой биологического, хотя, конечно, и осложненными «культурным» опосредствованием» [там же]. Детализируя характеристики, указывающие на индивидуализацию пространства, В.Н. Топоров отмечает, что «индивидуальный образ пространства в тексте обычно выступает форсировано; его приметы становятся частыми, даже навязчиво повторяемыми: воспроизводятся ключевые признаки этого образа пространства (в этом, собственно, и проявляется диагностическая сущность подобных явлений), сама «пространственность» становится особенно «экспансивной», откладывая свой отпечаток и в тех сферах, которые не являются пространственными по преимуществу и даже вообще» [там же, c. 448]. Соглашаясь с рассуждениями ученого, добавим, что приметы индивидуального пространства становятся настолько значимыми для некоторых авторов, что 141 выносятся ими в название произведения: «Котлован» А. Платонова, «Лаз» В. Маканина, «Остров Крым» В. Аксёнова. «Экспансивность» пространственного образа может определять и название целого цикла произведений – «Темные аллеи» И.А. Бунина. Кроме обозначенных В.Н. Топоровым примет индивидуальных образов пространства, мы можем указать на расширение лексического значения ключевых пространственных координат посредством метафоризации. Например, прямое лексическое значение названия рассказа «Бездна» Л.Н. Андреева («пропасть неизмеримой глубины») актуализируется в тексте произведения в переносном значении как «глубины человеческой души, содержащие низменные животные инстинкты подсознания». На наш взгляд, можно выделить два направления в изучении индивидуальных пространственных образов: 1) анализ традиционных образов, имеющих в художественном мире конкретного автора индивидуальное решение и нюансировку (модификации архетипических или национальных пространственных образов в субъективном сознании писателей); 2) анализ пространства человеческого «Я» – индивидуального внутреннего мира личности как особого пространства, имеющего собственную структуру и моделируемого по тем же законам, по которым создаются другие пространственные образы. В соответствии со своими задачами в первом параграфе главы отметим некоторые трансформации ключевых пространственных образов в русской литературе на протяжении XIX-XX, а в трех других параграфах понаблюдаем за изменениями в соотношении внешнего и внутреннего пространства от эпохи романтизма, с которой исследователи связывают проявление особенно пристального внимания к внутреннему миру человека [599], до литературы новейшей. 142 3.1. Ключевые образы русской лирики: космос в поэзии Ф. Тютчева, А. Блока и А. Белого Как мы уже отмечали в первой главе нашего исследования, универсальные пространственные образы претерпевают значительные изменения в процессе развития литературы. Многие из них, имея в своей основе архетипическую семантику, приобретают не только временные, но и дополнительные, индивидуально авторские черты. Показательным в этом отношении является образ космического пространства, открытие которого в русской литературе принадлежит поэтам XVIII века – М.В. Ломоносову и Г.Р. Державину. Космос как мировая гармония становится предметом многих стихотворений А.С. Пушкина. В бесконечном мировом пространстве космоса скитается Демон М.Ю. Лермонтова. Космические образы – луна, солнце, звезды, Млечный путь – являются излюбленными образами лирики А.А. Фета. Особое значение приобретает космическое пространство в творчестве Ф.И. Тютчева. По словам М.М. Гиршмана, «...космос для Тютчева не только тема – ощущение космоса, сопричастность ему входят в самую сердцевину тютчевского мировоззрения. Совершается глубочайшее органическое взаимопроникновение человеческой личности, ее сознания, и космоса, его масштабов; в результате мировоззрение приобретает «космический» характер, а космос становится как бы воплощенным вовне мировоззрением» [160, c. 51]. Масштабные поэтических ассоциаций Ф.И. Тютчева передают, прежде всего, живое ощущение Бесконечности: «Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами; / Настанет ночь – и звучными волнами / Стихия бьет о берег свой. // Небесный свод, горящий славой звездной, / Таинственно глядит из глубины, – / И мы плывем, пылающею бездной / Со всех сторон окружены» [41, т. с. 110]. В воображении возникает картина целостного, эстетичного мира, вокруг него бездонный океан, полная гармония, согласие. Стихия спит пока не «настанет ночь». 143 С наступлением тьмы стихия пробуждается и «нудит нас и просит»: «То глас ее: он нудит нас и просит... / Уж в пристани волшебной ожил челн; / Прилив растет и быстро нас уносит / В неизмеримость темных волн» [там же]. Появляется новая гамма звуков: шум прибоя, гудение ветра (это подчеркивается аллитерацией на свистящий [c] и на гулкий [н]). Они усиливаются в то время, как «в пристани волшебной оживает челн». Стихия разбужена, она ширится, и «прилив растет». В этот момент лирический герой обретает активность, в преобразовавшемся мире реально появляется лирическое «я», обобщенное до родового человеческого «мы», что вербально выражено местоимением «нас». Могучая, разбушевавшаяся стихия «уносит нас в неизмеримость темных волн», в неизвестное, в беспредельное, в бездну. Поэт считает, что вода («неизмеримость темных волн») заключает в себе страшную силу и мощь, вода – бездонная, безграничная стихия, и вода же символ бесконечности, безрадостности и безгорестности, подвижности и вечного покоя. Имея архаический генезис, вода у Тютчева, с одной стороны, становится символом очищающей и животворящей силы (ср. в различных мифологиях акт омовения, возвращающий человека к исходной чистоте), а с другой, водная бездна, олицетворяя опасность, становится у него метафорой смерти. Но вот начинается третья строфа: «Небесный свод, горящий славой звездной, / Таинственно глядит из глубины, – / И мы плывем, пылающею бездной / Со всех сторон окружены» [там же]. С наступлением ночи с миром происходит метаморфоза: стихия воды и стихия воздуха становятся едины, грань, разделяющая их, ломается. Лирического героя помещают в центр мироздания. Он оказывается перед неизвестным, перед «двойной бездной». Ночь открывает еще одно бытие – «космологическое зеркало». Оно создается зеркальными стихиями: водной и «горящей славой звездной». Звезды «небесного свода» отражаются в воде, организовывая «пылающую бездну», и вода в «горящей славе звездной» делает небосвод еще более гнетущим и мрачным. Свойство зеркальности соединяет тютчевский универсум с человеческой душой. 144 Можно заметить, что модель мира, которую создает Тютчев, его Космос, строится из первоэлементов воды («неизмеримость темных волн»), воздуха («небесный свод»), огня и света («горящий славой звездной»). Но Космос этот в вечной борьбе с Хаосом. Хаос – это те бездны, которые постоянно держат человека в своей власти и которые открываются перед ним в ночном безмолвии. Окруженный безднами и стихиями, в ночи человек как сирота, он чувствует себя безмерно одиноким. Но в этом космическом и трагическом одиночестве и дано человеку познать мир и познать самого себя. Для Ф.И. Тютчева пространство и время, бесконечность и вечность – реальность, а не отвлеченные категории. Поэт по-новому ощутил место человека в окружающем его мире. Человек – это не «центр мироздания», а всего лишь песчинка в океане Вселенной: «И человек, как сирота бездомный, / Стоит теперь, и немощен и гол, / Лицом к лицу пред пропастию темной. / На самого себя покинут он – / Упразднен ум, и мысль осиротела – / В душе своей, как в бездне, погружен, / И нет извне опоры, ни предела» [там же]. Наследники Ф.И. Тютчева – поэты начала ХХ века. Космическая образность, особенно в стихотворениях символистов, становится принадлежностью культурного стиля эпохи. Исследователи отмечают, что символистов интересовало не столько само по себе космическое пространство, сколько та роль, которую они отводили поэту-посреднику между миром реальным, земным и надмирным, раздвигая рамки художественного пространства, разрастающегося до масштабов космоса. Например, в авторской модели мира у А. Блока оказывается нарушенным привычное соотношение горнего и дольнего пространства: «Там, где небо, устав прикрывать / Поступки и мысли сограждан моих, / Упало в болото, / - Там краснела полоска зари» («Ночная фиалка.Сон») [4, с. 160]. Происходит соединение небесной и болотной стихий, которое дублируется потом в чисто символической картине: «И старая мать погребла ее тут, / Но церковь упала в зацветший пруд» («Она веселой невестой была») [там же, с. 187]. Затем начинается смешение ос- 145 новных персонажей горнего и дольнего миров: «И откликнулось небо: среди пыли и давки / Появился архангел с убеленной рукой: / Всем казалось – он вышел из маленькой лавки, / И казалось, что был он – перепачкан мукой» («Легенда») [там же, с. 251]. Архангел легко наследует признаки обитателей дольнего мира, но с неменьшей легкостью лирический герой наследует атрибуты обитателей горнего пространства: «И скоро я расстанусь с вами, / И вы увидите меня / Вон там, за дымными горами, / Летящим в облаке огня!» («Я вам поведал неземное») [там же, с. 252]. Трактовка образа неба у Блока связана с мифологическими представлениями о том, что облака и тучи есть «небесные горы» [74, c. 356]. Блок сакрализует пустое пространство, вводя в него нового персонажа – Демона. Нетрудно догадаться, что главный слуга тьмы обретает божественно-прекрасные черты, прежде чем расправляется со своей жертвой: «И на горах, в сверканье белом, / Божественно-прекрасный телом / Тебя я странно обожгу... / И под божественной улыбкой, / Уничтожаясь на лету, / Ты полетишь, как камень зыбкий, / В сияющую пустоту...» (Демон») [4, с. 380]. Принципы организации художественного пространства, открытые Блоком в лирике, были затем блестяще продемонстрированы в его поэме «Двенадцать». Ограничимся лишь одним примером – заключительным эпизодом поэмы: «Так идут державным шагом – / Позади – голодный пес. / Впереди – с кровавым флагом. / И за вьюгой невидим, / И от пули невредим, / Нежной поступью надвьюжной, / Снежной россыпью жемчужной, / В белом венчике из роз – / Впереди – Иисус Христос» («Двенадцать») [там же, с. 643]. Легко видеть, что Христос находится одновременно в двух пространствах: он впереди двенадцати – с кровавым флагом, и он же вверху над вьюгой, и следовательно, над двенадцатью. Казалось бы, присутствие одного из главных героев поэмы в двух несоединимых и несоединенных системах пространства должно повлечь распадение пространства и самого текста как художественного целого. Однако этого не происходит. В поэме присутствует Некто, кто олицетворяет собой космическое, всевидящее простран- 146 ство. Этот Некто видит не только Христа в двух несовпадающих геометриях, но и задний план с голодным псом, и каждого из двенадцати одновременно и крупным и общим планом. Спустя несколько месяцев после создания «Двенадцати» появилась поэма А. Белого «Христос воскрес» (апрель, 1918). При явном тематическом сходстве двух поэм художественное пространство в поэме Белого организовано иначе. Оно более устойчиво и упорядочено, поскольку в основе построения лежит схема, которой предписаны надличностность, космологическое значение. В такой схеме отчетливо противопоставлено пространство жизни безжизненному пространству. Пространство жизни всегда ассоциировано с Солнцем, антиподами которого являются тьма, тень, ночь. Противопоставление света тьме может пониматься в биологическом аспекте: царство живой органической природы, отрицающее косную неорганическую материю, в информационном: свет как некая организованная информация (разум), противостоящая энтропии Вселенной, в религиозно-философском: свет имеет божественную природу, тогда как тьма связана с демонизмом, в историческом – как чередование эпох «света»и эпох «тьмы», в конкретно-биографическом и т.д. При всем том образ создается так, что четко разграничить аспекты нельзя, поскольку оттенки смысла постоянно оказываются взаимодополнительными. Подобное понимание пространства позволяет построить сюжет поэмы на сопряжении трех тематических мотивов: космической катастрофы, казни Христа и революции. Смерти Христа соответствует умирание пространства – «опрокинутое мировое дно, где не было никакого солнца». А вот как описывается мир между страстной пятницей и Воскресением: «По огромной, / по темной Вселенной / Шатаясь, / Таскался мир, / Облекаясь, / Как в саван тленный, / В разлагающийся эфир» [3, т. 1, с. 436-437]. По контрасту со смертью Воскресение описывается в 14 главе поэмы (вопреки Евангелию) не как телесное, вещественное, но как безмерное осветление 147 мирового пространства: «Пресуществленное невещественно / Тело – / В пространство / Развеяло атмосферы, / Которые сияюще протекли» [там же, с. 439]. Воскрешенная Вселенная становится аналогом России 1917 года («Облеченная Солнцем Жена») (с.401), а смерть Христа аналогом смерти железнодорожника, которого подымают два безбожника, «точно желтую забинтованную палку». Финал поэмы оптимистичен: «Я знаю: огромная атмосфера / Сиянием / Опускается / На каждого из нас / И слово / Простерло / Гласящие глубины / Из Огненного горла: /– «Сыны Возлюбленные, / –Христос Воскрес!» [там же, c. 444]. В лирике Белого 1920-30-х годов пространство и заключенный в нем лирический герой оказываются ареной борьбы животворящего солнца, света, жары и стихии луны – антипода солнца: тьмы, холода. Резко отличным от Блока оказывается в лирической системе позднего Белого образ демона. Отличен он прежде всего отсутствием активного действенного начала. Область обитания демона – пустое пространство, но всякое пространство, по мысли Белого, рано или поздно пронизывается светом, что неизменно ведет к победе над демоническими силами. Если у Блока демон расправляется со своей жертвой, то у Белого он сам становится жертвой сил света: «И дух, - архангел светопервый – / Кометой – небеса – проткнул! / И – чуждый горнему горенью – / В кольцо отверженных планет – / Ты пал, рассерженною тенью, / Лицом – ощуренным – на свет» («Демон») [там же, c. 376]. Таким образом, художественное пространство позднего Белого оказывается на редкость стабильным. Но за эту стабильность платится достаточно высокая цена. Личность с ее неповторимым мироощущением исчезает, а на ее месте оказывается лирический субъект, почти с автоматической точностью встроенный в космические ритмы и целиком детерминированный ими: заведенная марионетка. Лирический субъект Белого достаточно легко меняет оценки и чувства, поскольку они не принадлежат ему, но связаны с постоянными зигзагами природного и исторического миров, которые также в свою очередь не самостоятельны, но подчинены заранее запрограммированным космическим законам. 148 Несамостоятельный характер пейзажа в такой лирике особенно нагляден, когда поэт напрямую выходит на изображение космических катаклизмов. В стихотворении «Рождество» картина ночного рождественского мороза – только внешняя оболочка надвигающейся катастрофы мира: «Вселенная, – погасни, тресни: / Ты – злая глыба глупой блесни! / Ты, – рыба, льющая икру! / Нет, лучше не кричать, не трогать / То бездыханное жерло: / Оно черно, – как кокс, как деготь... / И по нему, как мертвый ноготь, / Луна переползает зло» [там же, с. 376]. Как показал анализ, способы организации космического пространства в лирике Ф. Тютчева, А. Блока и А. Белого имеют явные неповторимо- индивидуальные особенности. Так, Тютчев, используя традиционную архетипическую оппозицию космос/хаос, рассматривает пространство (Бесконечность) и время (Вечность) как реальность, а не как отвлеченные категории. Ему важно передать свои представления о месте человека в окружающем его мире как о песчинке в океане Вселенной: «И человек, как сирота бездомный, / Стоит теперь, и немощен и гол, / Лицом к лицу пред пропастию темной. / На самого себя покинут он – / Упразднен ум, и мысль осиротела – / В душе своей, как в бездне, погружен, / И нет извне опоры, ни предела» («Святая ночь на небосклон взошла») [там же, с. 215]. Субъективное пространство Блока сменяется объективно космологической направленностью в поэзии Белого. «Астральная поэзия» Белого погружает читателя в мировую космическую безмерность и пытает его бесконечностью, мировой глубиной, мглой, «тенями всех вещей». 3.2. Романтическое Я-пространство в лирике А.П. Крюкова Исследователями давно замечено, что в романтических произведениях необычайной текстовой значимостью обладает местоимение Я, которое является, с одной стороны, «точкой отсчета», определяющей говорящего в поэтической коммуникации и наблюдателя еще одного возможного мира. С другой стороны, романтическое Я – это особый пространственный образ, отражающий два различных по восприятию и описанию мира человека – внутреннего и внешнего. 149 В то же время, поэтический способ познания и отражения мира вообще не может обойтись без такого «увеличительного стекла», как лирическое Я, которое «может ограничиваться своим внутренним эмоциональным миром и даже быть противопоставлено внешнему миру, но может, напротив, вмещать в себя широкий внешний мир» [261, c. 15]. Эта вариативность в какой-то мере зависит от эстетических законов конкретной литературной ситуации, когда «творческие принципы образного моделирования мира и соответственно применения языковых средств соотносятся художественным сознанием эпохи, ее литературными стилями» [424, c. 32]. Рассмотрим на примере романтической лирики поэта пушкинской поры А.П. Крюкова способы моделирования индивидуального Я-пространства. Имя Александра Павловича Крюкова мало известно любителям русской литературы и на долгие годы выпало из поля зрения историков и литературоведов несмотря на то, что в свое время он был широко известен. Его стихи и прозаические произведения печатались в «Вестнике Европы», «Отечественных записках», «Северной пчеле» и многих других изданиях. Так, например, «Северная пчела» писала: «Многие из литературных произведений его отличали талант, можно сказать, необыкновенный…» [Северная пчела. – 1833. – № 41 (22 февраля). – C. 161]. А издатель «Отечественных записок» П.П. Свиньин, рассказывая читателям журнала о своей поездке в Оренбургскую губернию, писал в статье «Посещение Илецкой защиты в 1824году»: «Весьма ошибается тот, кто подумает, что музы бегут от сего уединенного края, окруженного хищными скитающимися ордами монголов. Напротив, я нашел здесь счастливого питомца Аполлона, господин Крюков, горный чиновник, обучающийся маркшейдерскому искусству, в часы досуга беседует с парнасскими девами, и прекрасный талант его в стихотворстве известен из многих образчиков, помещенных в "Вестнике Европы"» [Свиньин П.П. Посещение Илецкой Защиты в 1824 году. – Отечественные Записки. – 1825. – № 64 (август). – С. 152]. Исследователь творчества А.П. Крюкова В.Э. Вацуро отмечал, что биография поэта «…и личная, и литературная, не вполне обычна; проза и сти- 150 хи тоже не вполне обычны. Это почувствовали и Пушкин, и Дельвиг. Впрочем, все это должен почувствовать и современный нам любитель литературы, хотя и искушенный знанием блестящего созвездия русских поэтов двух веков…» [133, c. 252]. Действительно, в судьбе Александра Павловича Крюкова многое необычно: почти всю свою недолгую жизнь поэт прожил в провинциальной глуши, в Оренбургской губернии и лишь последние шесть лет, переехав в Петербург, он вращается в столичных литературных кругах, быстро становится активным участником кружка Дельвига, его стихи встречаются в рукописном альманахе «Подснежник» семьи Майковых. Известно, что некоторые эпиграммы поэта современники приписывали А.С. Пушкину. Уже в ХХ веке выяснилось, что повесть Крюкова «Рассказ моей бабушки» явилась одним из источников «Капитанской дочки» (повесть была подписана А.К., поэтому долгое время приписывалась Александру Корниловичу, автору исторических романов). А.П. Крюков, по словам В.Э. Вацуро, «как поэт стоит на границе между «элегической школой» 1820-х и романтической поэзией 1830-х» [там же, с. 256], что проявляется в размывании жанровых границ, в появлении «байронических» тем, например, гения, гонимого обществом. Исследователи творчества Крюкова отмечают такую особенность стихов поэта, как иронию лирико-медитативного характера с широким диапазоном интонаций (от элегических до сатирических), нередко переходящую в автоиронию. В ранней лирике Крюкова «пространственный мир» организуется по горизонтальной оси, реализующейся в оппозиции «я – внешний мир». Пространство разграничивается на «свое» и «чужое». Причем пространственные характеристики четко оцениваются: «свой мир», пока еще мир счастья и покоя, но вечное стремление к недостижимому, вечная неудовлетворенность, желание свободы вынуждают лирического героя покинуть «родимый край» – свое, родное пространство: Берег родины сокрылся – / Бездны моря предо мной [21, c. 52]. 151 Пространственной оппозиции «свое – чужое» становится синонимична оппозиция «близко – беспредельно далеко», которая находит выражение в типично романтическом образе одинокого парусника, плывущего по волнам от берега: Даль туманна… где ж пределы? / Позади знакомый брег, / Ветер дует в парус белый – / Кто удержит быстрый бег? [там же]. Этот образ, ставший классическим в лермонтовском «Парусе», вбирает многие аспекты романтической организации «человек – мир»: одиночество, бегство на чужбину, поиски идеала. Романтическое представление человека в мире как парусника, сопротивляющегося стихии (миру действительности) и стремящегося к иным мирам, дополняется ключевым для романтической поэзии образом ветра – маркером перемен в сознании лирического героя. «Чужой мир» страшит лирического героя своей неизвестностью и загадочностью: Горе мне! Оставя радость, / Презря мирный отчий кров, / И любви и дружбы сладость, / И красы родных брегов – / Я пустился, дерзновенный, / Счастья ложного искать. / Берег родины, бесценный! / Мне тебя уж не видать! [там же, с. 53]. Точкой зрения лирического «я» является некое «объективное» пространственное окружение (море, волны, облака и т.д.): Взвыла буря и бросает / Легкий челн мой по волнам, / То он в бездны ниспадает, / То взлетает к облакам [там же]. Однако вскоре появляются стихотворения с иной пространственной структурой. Так, например, в стихотворении «Сравнение», где раскрывается традиционно байроническая тема апологии романтического гения, гонимого обществом, структура художественного пространства осмысляется как субъективное «пространство души», которое аллегорически представляется как типично романтический «бурный» пейзаж с его безднами, волнами, дубами, ветрами и пр. его «элементами»: Все одолев, поток надменный – / Подобье бури и войны – / Волной гремящею и пенной / Слетает в бездну с крутизны. / С какой отвагой волны злые / Крушат оковы берегов! / Трещат лишь камни вековые / Да корни мшистые дубов! [там же, c. 60]. 152 Вторая строфа посвящена миру внутреннему и насыщена описаниями интимных переживаний героя. Идентичная конструкция строфы: тот же размер, риторический синтаксис, «бурная» лексика (неукротимый, сердечная буря) – реализует романтическую идею о взаимосвязи человека и природы: Так ты, ничем неукротимый, / Презревший свет и гневный рок, / Сердечной бурею гонимый, / Стезею жизненной протек. / Кумир веков – оковы мнений. / Неверный счастия призрак – / Все пренебрег ты, гордый гений! – / И гордо пал в могильный мрак! [там же]. Как видим, природа мыслится здесь метафорически, она изоморфна внутреннему миру лирического героя, движениям его души. Заметим, что в более поздних стихотворениях А.П. Крюкова пространственные характеристики имеют не переносный (или – чаще всего – не только переносный), а прямой смысл. Появляется реализация весьма традиционной оппозиции «я – толпа, люди», которая на языке пространственных отношений, приобретает вид: «я среди людей», «толпа, люди вокруг меня»: Я был один в толпе людей, / Как осужденный на изгнанье, / Как всеми брошенный злодей…[там же, c. 61] Эта соотнесенность «я» и «толпы» повторяется многократно: Среди толпы самодовольной, / В дыму желаний и надежд, / Игрой цевницы своевольной / Я забавлял моих невежд…; Как капля в бездне вод кипящих, / Как в море легкая струя, / В сени твердынь твоих гремящих, / В твоих толпах исчезну я! [там же]. Тема неизбежной обреченности «я» и торжества «толпы», их противопоставление представлено в традиционно-романтическом ключе. Романтическое мировосприятие Крюкова проявляется не только при раскрытии традиционных тем – трагедийности человеческого существования, одиночества человека, вечной неудовлетворенности и стремления к недостижимому, – но и в построении произведений, в частности баллады, которая принадлежит к числу жанров характерно романтических. Так, в балладе «Каратай» (1824) дается попытка байронической интерпретации казахских фольклорных и этнографических мотивов. Сюжет «Каратая» – 153 традиционный: молодой казахский батырь страстно влюблен в русскую девушку, свою пленницу, которая не только не любит его, но и полюбить не может. Основная тема баллады – плен, как замкнутое, враждебное пространство, раскрывается довольно оригинально. Героиня находится в плену реальном: В дни отрад быть жертвой плена, / Хладных сердцем умолять, / И тиранские колена / Со слезами обнимать…[там же, c. 54]. Каратай же – в плену сердечном: Разум, душу Каратая / Тяжкой цепью обвила, / И свобода золотая / Мне уж боле не мила! [там же]. Эмоциональное пространство в балладе представлено главным персонажем душа, которая мыслится как вместилище, предмет: «Я булат в груди носил» [там же, c. 55], «Туман печали скоро душу омрачил» [там же], «Пала в мрак души гордыня» [с. 56], « В душу грустную пролей / Луч отрадный упованья!» [там же, с. 58], «Тобою пленена душа моя» [там же] и т.п. Душа, как и сердце, отождествляется с личностью человека, с его внутренним «я», она «представляется находящейся где-то внутри человека, в его теле, а именно – в груди. С ней связано представление о каких-то особых, происходящих внутри нее процессах. Эти процессы ассоциируются с какими-то особенными функциями, которые выполняет душа. Тем самым душа сближается с человеческими органами, только это невидимый орган» [119, c. 15]. Таким образом, особенностью эстетики А.П. Крюкова в области поэтического представления пространства можно назвать способ концептуализации базовых фрагментов действительности – Я и мира, которые обозначены нами как Япространство (внутренний мир изображается как внешний). Безусловно, поэт выстраивал свою картину мира в соответствии с уже сложившейся эстетикой романтизма. Однако романтический пафос лирики Крюкова проявляется не только в гипертрофированности масштабов лирического субъекта, но и в определенной тематике, в выборе жанров (элегия, баллада, стихотворения лирико-медитативного характера), в построении особых романтических пространственных структур. 154 3.3. Структура индивидуального пространства в повести А.П. Потемкина «Я» Занимаясь исследованием сквозных пространственных образов и моделей в русской литературе, мы столкнулись с проблемой литературоведческого анализа специфических форм пространства, создаваемых современными отечественными писателями. На наш взгляд, до сих пор нет четкой методики изучения индивидуальных пространственных образов – внутреннего я-пространства героя – в художественном тексте. Безусловно, исследователи достаточно плодотворно описывали приемы раскрытия внутреннего мира человека (В. Адрианова-Перетц, А. Есин, Д. Лихачев, Е. Мелетинский, Н. Николаев, В. Савельева, В. Свительский, Е. Эткинд и др.), однако их интерес сосредотачивался в основном на проблемах психологизма и способах репрезентации мира чувств, мыслей, желаний героев в художественных произведениях. Нас же интересует внутренний мир героя как особый пространственный образ, имеющий собственную структуру и смоделированный по тем же законам, по которым моделируются другие пространственные образы. В качестве объекта анализа мы выбрали повесть А.П. Потемкина3 «Я», в которой автор создает индивидуальную модель художественного пространства. Оригинальность этой модели, с одной стороны, проявляется в сложной комбинации пространственных образов в пределах одного текста, а с другой, в конструировании собственно я-пространства. Повесть представляет собой поток сознания молодого человека Василия Караманова, оставшегося сиротой в малолетнем возрасте и прошедшего сложнейшую школу жизни сначала в родном городке Путивле, где его воспитывала тетка-алкоголичка, затем в детской колонии, куда он был 3 А. П. Потемкин (р. 1949), автор романов «Изгой» (2003), «Мания» (2005), «Человек отменяется» (2007), «Кабала» (2009), повестей «Бес» (2001), «Игрок» (2003), «Стол» (2004) и др. Творчество А. П. Потемкина, который совсем недавно (не более десяти лет назад) заявил о себе как прозаик, высоко оценивается ведущими литературоведами и критиками Л. Аннинским, П. Басинским, А. Гачевой, К. Кокшеневой, В. Недзвецким и др. Исследователи связывают яркую, оригинальную манеру писателя с традициями Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. 155 отправлен за сорванный футбольный матч и где попал чуть ли не в рабство к учительнице русского языка, а затем в колонии для несовершеннолетних преступников, где отбывал наказание за неудавшийся поджог дома этой учительницы. С детства чувствуя себя «посторонним» в жестоком мире людей, главный герой приходит к мысли о том, что эволюция человека зашла в тупик, и единственной возможностью исправить ущербное человечество можно лишь создав с помощью генетических технологий новый вид «homo cosmicus». Мы не будем касаться всех аспектов анализа произведения, а, в соответствии со своими задачами, рассмотрим особенности его пространственной структуры. В повести «Я» можно выделить несколько взаимосвязанных пространственных моделей: бытовое пространство; природное пространство; социальное пространство; психологическое пространство; трансперсональное пространство. Бытовое пространство – это пространство городка Путивля, детской колонии в поселке Недригайлов, колонии для несовершеннолетних преступников в городе Перевоз, городка Княгинина и, наконец, Староваганьковского переулка в Москве – рисуется крайне необжитым и убогим. Условия, в которых в разное время жил герой повести (камера, сарай, свинарник, лагерная котельная, старый автобус, тарный цех, дворницкая берлога), были нечеловеческими, но ведь он, отрицая в себе человеческое, никогда и не желал другого жилья: «Мое убежище представляло собой нечто вроде сложенного из кирпича обветшавшего сарая с крышей, покрытой залитым гудроном толем. Пол из подгнивших в щелях досок был ниже уровня двора на полметра. Единственное крошечное окно, смотревшее прямо на музейный вход, было наглухо заделано старым картоном. Но я был чрезвычайно доволен казенным жилищем. Это холодное помещеньице, оборудованное печкой-буржуйкой, вполне подходило для такого предпочитающего аскетизм типа, как я» [34, c. 110]. К бытовому пространству можно отнести и описание объектов окружающего мира, которые иногда привлекали внимание Василия: «Я дошел до ресторана «Прага», свернул налево, через сотню шагов оказался у магазина «Сыр», перешел 156 Бульварное кольцо и по Знаменке спустился до дома Пашковой, стоявшего в лесах. Тут я почему-то остановился, повертел головой, словно что-то вспоминая или ища место, где можно было встретить путивльцев» [там же, c. 161-162.]. В целом же зарисовок бытового пространства в повести немного, так как герой, погруженный лишь в собственные мысли, почти не замечает мира вокруг себя: «Я никогда ничем не интересовался, кроме книг, поэтому при ходьбе никогда не рассматривал ни архитектуру домов, ни контуры автомобилей, ни лица людей, ни витрины магазинов. Глаза были открыты, но шел я как слепой» [там же, c. 116]. Основным структурным компонентом природного пространства в рассматриваемом произведении является пейзаж. Интересным представляется то, что Василий Караманов, равнодушный ко многим радостям бытия, занятый только своими мыслями, оказался очень чутким к природе, об этом свидетельствует несколько поэтичных ее описаний, например: «Я почти всегда сидел где-нибудь совершенно один, вдали от воспитателей и сверстников. Лишь солнце ласкало меня, а взбалмошные бабочки вызывали интерес к жизни» [там же, c. 50]; «На город опустилась зима. Снег прикрыл крыши домов и мостовые. Метель по-юношески задорно кружила вокруг меня, словно дразня своим окаянным темпераментом» [там же, c. 174]. Социальное пространство в повести рисуется, во-первых, с целью показать условия, которые сделали из Василия Караманова человеконенавистника: жестокость мира людей, обращавшихся к мальчику не иначе как «презренный мальчишка», «гаденыш», «негодяй», «вонючка», «отпрыск уродов» и т.п., агрессивность, окружающего мира, с которой герой повести столкнулся еще в раннем детстве, вызвала в нем сначала жажду мщения, потом стремление вызвать к себе чувство «лютой ненависти», потом породила чувство безграничного презрения к людям и, наконец, стала толчком к созданию грандиозной теории генетического изменения человечества («С кем же мне еще было говорить в безлюдной тесноте свинарника? Или в Путивле, или в детской колонии, в атмосфере ненависти, ок- 157 ружавшей меня? Если смотришь на мир с неприязнью, разве возникнет желание общаться с ним? Стать его составной частью? Конечно, нет!») [там же, c. 39]. Во-вторых, социальное пространство моделируется для того, чтобы с помощью экспериментального внедрения в элитарные слои общества, в среду военнослужащих, представителей культуры, политических деятелей и ученых, найти основы для создания нового вида «homo cosmicus». Василий Караманов рассуждает так: «чтобы эффективнее смоделировать путивльца, спроектировать его абсолютно свободным от человеческих пороков, необходимо углубиться в их природу, тщательно исследуя тотальный упадок нравов и поток вожделений» [там же, c. 106]. Однако опыт «хождения в люди», начавшись «с желания понять, можно ли что-то полезное найти у них для путивльцев» закончился для него ничем: «…вся практика общения с их миром убедительно доказала: «чего-то полезного» в них нет или почти нет» [там же, c. 316]. Герой убеждается в том, что доминирующие их гены – наживы, спроса, приобретательства, зависти, презрения и т.п. – лишний раз доказывают «ошибочность генетической архитектуры людей»: «… алчность, жадность, сексуальная распущенность, зависть, озлобленность, мягкотелость, коррумпированность, правовой нигилизм, вранье, провокационность, алкоголизм, интриганство, низкий уровень интеллекта – все это сопровождало, сопровождает и будет сопровождать их породу. Все попытки избавиться от этих пороков с помощью язычества, иудаизма, мусульманства, христианства ничего не дали и дать не могли. В истории человеков было время, когда царствовали аристократы, когда правили миром военные, когда главенствовали политики, когда последнее слово оставалось за физиками, когда властвовали финансисты. Сейчас миром распоряжаются глобалисты. Но на этом все. Можно ставить жирную точку! Никто из них не смог изменить homo sapiens» [там же, c. 251-252]. Гораздо более сложную структуру имеет психологическое пространство – внутреннее пространство человеческого «Я». Прежде всего отметим, что рассмотренные нами модели (бытовое, природное и социальное пространства) явля- 158 ются ничем иным как элементами психологического пространства, поскольку весь внешний мир изображается через призму восприятия Караманова, в субъективных формах. Другим элементом психологического пространства можно считать интеллектуальное пространство – пространство мысли, где формируются и живут идеи, представления, образы, – оно описывается в повести посредством пространственных метафор и сравнений: «Именно после этого случайного возникшего разговора с самим собой я впервые стал искать чудо не вне, а внутри себя. Внутренний голос подсказал мне, что оно есть, что оно не где-то далеко, а тут, рядом, готовое явиться по первому зову. Достаточно лишь распахнуть шторы сознания, и чудо предстанет во всей своей мощи» [там же, c. 102]; «Но тут другая мысль буквально поразила мое сознание: ″Все эти люди теперь будут входить в мое одиночество так же бесцеремонно, как они открывают двери третьего подъезда! И мое сознание должно будет впустить в себя их проблемы…″» [там же, c. 128]; «Я постоянно рассуждал над вещами, о которых никто никогда не задумывался. Мое сознание было всегда полно чистейшими артезианскими мыслями, гейзирующими из глубин космоса» [там же, c. 232]; «Мысли буквально разрывают голову. Сколько их вмещается? Это какая-то космическая бездна!» [там же, c. 257] и т.п. Внутренний психический мир героя составляет также пространство его переживаний, настроений, чувств, главным из которых является ощущение абсолютного одиночества, которое, впрочем, не угнетает, а наоборот, доставляет удовольствие Василию Караманову: «Одинокий образ жизни приучил меня к темноте: в ней я чувствовал себя более безопасно. А когда с улиц исчезали последние полуночники, я, шагая совершенно один по ночному городу, начинал чувствовать себя абсолютным хозяином жизни. Так хотелось быть один на один с собой и владеть этим пустынным, до боли моим миром!..» [там же, c. 37]. Постоянное одиночество, тотальный разрыв с окружающим миром «человеков», в конце концов приводит к расколу внутреннего «Я» героя: «Разговор с самим собой строился по принципу разделения собственного Я. Именно в те годы я 159 понял, что размышлять и говорить с самим собой – это два совершенно разных занятия» [там же, c. 44-45]. С особенной очевидностью это проявляется в последнем эпизоде повести, когда Василий Караманов прокручивает в голове сцену суда над собой, одновременно говоря за прокурора, судью, адвоката, милиционера, обвиняемого и других участников процесса. Читая повесть, можно неоднократно усомниться в психическом здоровье героя, тем более, что ряд симптомов налицо. «Подобная личность не способна переживать самое себя «вместе с» остальными или «как у себя дома» в этом мире, а наоборот, этот индивидуум переживает самого себя в состоянии отчаянного одиночества и изоляции. Более того, он переживает самого себя не в качестве цельной личности, а скорее в виде «раскола» всевозможными образами…» [335, c. 7], – пишет известный английский психиатр Р. Лэнг о шизоидных типах, как будто рисуя портрет Василия Караманова. Герой и сам понимает, что в глазах людей он ненормальный: «Тихий, но спятивший, выживший из ума. С утопическими фантазиями шизофреника» [34, c. 287]. Разобраться в истинности или ложности подобного впечатления помогает анализ бессознательного уровня внутреннего мира героя повести, т.е. тех явлений, процессов, свойств и состояний, которые оказывают влияние на его поведение, но не всегда осознаются им. В повести находят отражение прежде всего такие элементы мира бессознательного, как воспоминания, грезы и сновидения. Примечательно, что Караманов не всегда может с точностью ответить, думает ли он о чем-то в действительности или видит свои проекты во сне, например: «Во время уборки музейного двора я вспомнил о своем решении подготовить анализ состояния российской экономики. И почувствовал некоторую растерянность: этот проект был задуман в реальности – или во сне? Четкого ответа на этот вопрос я никак не находил. ″Помутнение памяти? Что-то новое происходит в моей голове″» [там же, c. 306]. Именно наличие этих неосознаваемых процессов в мире «Я» Василия Караманова позволяет нам выделить еще одну пространственную модель – трансперсональное пространство. В современной психологии термин трансперсо- 160 нальное употребляется для обозначения «экспансии или расширения сознания за пределы привычного «Я» и за границы времени и пространства, при которых возможно достижение так называемых предельных человеческих способностей и потенциальных возможностей» [476, c. 925]. Расширение сознания героя происходит во время его виртуальных путешествий в пространстве, переход к подобному состоянию он чувствует даже на физиологическом уровне: «Удовлетворенный логикой своих размышлений, я расслабился. Заулыбался. Во рту появилась сухость. Тело прошиб озноб. Я ощутил себя в каких-то безмолвных, холодных сферах, где царила абсолютная пустота» [34, c. 173]; «Потом мои мысли стали расплываться, преобразуясь в не совсем ясные, короткие, призрачные видения. Запустение воцарилось вокруг меня» [там же, c. 299]. Наиболее длительным оказалось перемещение Василия Караманова из выгребной ямы, полной людских отходов, в безбрежные просторы лазурного океана, являющееся своеобразной метафорой эволюции человечества, о которой он все время грезит. Идеи русских космистов Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, ставшие основой эволюционной теории Василия Караманова, также свидетельствуют о ее трансперсональном характере. Как утверждают В. В. Майков и В. В. Козлов, «…русская трансперсональная традиция отличается глобализмом и «космическим» характером. Трансперсональная парадигма связана с идеей активной эволюции, т.е. необходимости нового сознательного этапа развития мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство» [336, c. 78]. Глобальный рационализм, которым наделил А.П. Потемкин своего героя, конечно, исключает сомнение в его ненормальности, но в то же время исключает и наличие в нем нравственного начала. Единственный раз он почувствовал не ненависть, а жалость и сострадание к людям, и очень удивился этому: «Я и не предполагал, что у меня есть сердце, – не как технический орган, а как чувствующий. <…> Чувствующий не глобально, а периферийно, не за весь космос, а за самого 161 себя» [34, c. 276]. Открытие сердца, «этого чувствующего лоскутка материи», обессмысливает все рациональные выкладки Василия Караманова, и поэтому самосуд в финале повести представляется вполне закономерным. Таким образом, анализ структуры индивидуального пространства в повести «Я» позволяет приблизиться к пониманию сложной душевной организации главного героя, его грандиозной эволюционной теории, привлекательной разоблачительным пафосом человечества, но антигуманной в своей сути. 3.4. Пространство «Я» в романе Е. Чижовой «Терракотовая старуха» Как известно, художественное пространство в литературном произведении является одним из средств характерологии персонажа. Пространственная среда, в которую помещается герой произведения, часто является не только фоном свершения событий, но и материализацией интеллектуального, нравственного, душевного состояния персонажа. С развитием психологизма в литературе собственно изобразительные функции пространства отодвигаются на второй план, уступая место функциям выразительным: важность приобретают не столько сами пространственные зарисовки, сколько вызываемые ими настроения, чувства, ассоциации персонажей. Е.Г. Эткинд в своей книге «″Внутренний человек″ и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX веков» (1999), справедливо заметил, что литература «подобно прогрессу научному, все глубже проникает в душу человека; она обнаруживает все большие области «невыразимого» и принуждена изобретать все новые средства для его выражения…» [599, c. 414]. Одним из таких новых средств является, на наш взгляд, моделирование в современной художественной литературе пространства-я. Термин пространство-я сравнительно недавно введен в научный оборот лингвистами для обозначения способов текстовой экспликации отношений «я» с внешним миром (я – творец собственного мира) [431, 432, 568]. Поскольку, как утверждают психологи, «истинной средой обитания личности является не физи- 162 ческая реальность и не социальная среда, а лишь те их фрагменты, которые отражены в сознании человека и на которых основывается его поведение» [585, c. 167], интерес представляют формы репрезентации в художественном тексте пространственных представлений персонажа (пространства-я), способствующих наиболее полному раскрытию его внутреннего мира. Проиллюстрируем наши теоретические размышления анализом структуры пространства-я в романе Е. Чижовой4 «Терракотовая старуха» (2011) [47]. Выбор материала исследования обусловлен многомерностью представленного в произведении художественного пространства, участвующего в характеристике душевной жизни главной героини. Повествование в романе ведется от лица Татьяны, яркой и незаурядной, но практически загнанной в нравственный и материальный тупик женщины, в прошлом – вузовского преподавателя со степенью, затем успешной бизнес-леди, а в настоящем – репетитора русского языка, тяготящегося своей социальной ролью («Интеллигент обязан сеять разумное, доброе, вечное. Репетиторы ничего не сеют. У нас другая работа: натаскивать на ЕГЭ» [47, c. 34]. Болезненная рефлексия героини передана в форме воспоминаний о событиях двадцатилетней давности, переплетающихся с зарисовками ее нынешней жизни. В лихие 90-е Татьяна, воспитанная родителями-филологами на русской классической литературе, бросив университет, устраивается работать референтом успешного предпринимателя, владельца мебельной фабрики: мера вынужденная – нужно кормить маленькую дочь и подругу Яну, оставшуюся с сыном на руках без мужа и без работы. Однако «двинутая на своей литературе» Татьяна так и не смогла приспособиться к «звериному миру», где чтобы выжить, нужно «биться в кровь». Сравнивая себя с терракотовой старухой (архаической статуэткой, изображающей уродливую женщину с большим животом), главная героиня романа Е. Чижовой подчеркивает свою трагическую неуместность в новом мире, построенном на иных, отнюдь не 4 Елена Чижова (р. 1957) – петербургская писательница, лауреат премии «Русский Буккер», ав- тор романов «Крошки Цахес», «Лавра», «Орест и сын», «Время женщин», «Полукровка». 163 гуманистических началах: «В зеркале мое отражение. Никого, кто встал бы у меня за плечом. Единственное, что мне осталось, – рудимент. Копчик. Пережиток хвоста, который нужен, чтобы сохранить равновесие. Терракотовая старуха, отраженная в витрине, хохочет, разевая рот» [там же, c. 412]. Раскрытию внутреннего конфликта Татьяны способствуют развернутые характеристики пространства-я, структурными компонентами которого, по нашим наблюдениям, становятся: 1) географическое пространство, 2) культурное пространство, 3) бытовое пространство, 4) социальное пространство, 5) ирреальное пространство. Рассмотрим каждый структурный компонент пространства-я подробнее. Географическое пространство. Главная декорация в романе – Петербург, описанный с топографической точностью: «По Дворцовому, мимо Кунсткамеры, вдоль Университетской набережной – мы сворачиваем на Большой проспект» [там же, c. 209]; «Миновав «Макдоналдс», женщина пересекает улицу Рубинштейна. Раньше на этом углу был магазин «Рыба» [там же, c. 9]; «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Садовая улица. Универмаг «Гостиный двор» [там же, c.184]; У «Чернышевской» глухая пробка. Мы ползем в потоке машин. <…> Мы сворачиваем на Салтыкова-Щедрина. Теперь она называется Кирочная» [там же, c. 173] и т.п. Включение в произведение петербургских реалий насыщает его многочисленными отсылками к «петербургскому тексту» русской литературы: «Я дергаю балконную дверь. Город пышный, город бедный, вид неволи, стройный вид… Я смотрю, затаив дыхание: высокая колокольня, за ней – Никольский собор. Стены собора покрыты сизыми потеками. Напротив – старый Гостиный двор. Красота смерти, от которой захватывает дух» [там же, c. 8990]. Общее место «петербургского текста» – мотив смерти – органично вплетаясь в ткань романа, становится воплощением современной цивилизации, подошедшей к «последней грани всемирного катаклизма» [369, c. 87]: Петербургу пристало умирание. Темный, языческий город: умирающее и воскресающее божество. Нам тоже выпала эпоха смерти...» [47, c. 90]. Татьяна, коренная петербурженка, ост- 164 ро ощущает приближение катастрофы, считая, что за гибелью физической («безносые кариатиды, лепнина, осыпавшаяся с фасадов» [там же, с. 13] и т.п. в недалеком прошлом), обязательно последует гибель «культурная», потеря собственного исторического лица. По-гоголевски иронично звучат строчки: «Петербуржцы могут гордиться. Их Nevsky определенно похорошел. Теперь он ни в чем не уступает главным европейским улицам: кафе, магазины, нарядные витрины. Трудно поверить, что каких-нибудь десять лет назад здесь все поражало ветхостью... <…> Глаз европейца ласкает реклама: такие же картинки развешаны в его родном городе. Во всех европейских городах» [там же, c. 12-13]. Апокалиптическая судьба города связывается в сознание героини с собственной судьбой. Татьяна давно перестала ощущать себя женщиной – всего лишь отражение, одетое «в собственный секонд хенд», «обломок старого мира, которому Господь дал литературные скрижали», архаический пережиток, «зависший» в безвременье – нет духовной связи с родителями, умершими еще до перестройки и не успевшими разочароваться в своих советских идеалах, нет взаимопонимания и с дочерью, которая, не имея за плечами горького материнского опыта, полностью принадлежит новой эпохе, эпохе «победившей целесообразности», где «не бывает ни правды, ни лжи». Кроме того, Татьяну постоянно преследует мысль об убийстве своего бывшего шефа Фридриха, случайное известие о котором и вызвало череду воспоминаний (главы «Убили или убил?», «Убил?.. Зачем?»): «Я отворачиваюсь к окну, смотрю в черное небо. На черном бархате оно проступает золотыми буквами: УБИЛИ ИЛИ УБИЛ? Главный вопрос моей эпохи» [там же, c. 188]. Петербургский couleur locale в романе создается навязчивым повторением слов, являющихся маркерами смерти: «Умерший город, темные безглазые фасады… Сквозь стекло инопланетной «вольво» я видела руины. Все распалось. Вернее, расползлось. Не Петрополь, уходящий под Невскую воду… Теперь он стал городом бандерлогов… Темным обезьяньим царством, по которому можно только шнырять…» [там же, c. 204-205]; «Небо накрыло город липкой сетью – вечная ленинградская морось, серая жирная пыль.<…> Опустив боковое стекло, водитель 165 принюхивается: ″Похоже – тут… Вонь, как на помойке″» [там же, c. 210]. Однако автору важно не столько нарисовать сам петербургский пейзаж, сколько выразить болезненное его восприятие героиней, например, ее кризисное душевное состояние, отсутствие жизненные перспектив показывается через описание вида из окна: «Я отворачиваюсь к окну. За окном двор, облезлая горка, баки, заваленные мусором. Мой пейзаж не зависит от времени» [там же, c. 229]; «Мне незачем смотреть в окно. За окном все та же помойка. Темные железные баки. Мусор лезет через край. Время от времени их очищают и вывозят, но самого процесса я никогда не видела. Так уж принято: все вонючее делается по ночам» [там же, c. 230]. Культурное пространство мыслится прежде всего как хранилище памяти и включается в текст романа многочисленными реминисценциями из художественной литературы: «Когда я училась в старших классах, отец устраивал мне экскурсии. ″Пыль, кирпич и известка, вонь из лавочек и распивочных, комнаты – гробы в полуразвалившихся домах. Смотри, в этом доме жила семья Мармеладовых″. Мы заходили во двор, осматривали колодезные стены, выгорелые и подкопченные, словно от века. Об их жизни отец говорил в прошедшем времени» [там же, c. 89]; «Я люблю ходить пешком. Когда преподавала в институте, устраивала своим студентам пешеходные экскурсии. Петербург Достоевского. Раньше это казалось важным…» [там же, c. 138] и т.п. Опыт репетитора, натаскивающего на ЕГЭ, а также интеллектуальный конфликт с собственной дочерью привел Татьяну к горькому выводу: у нее, интеллигента-филолога, и у поколения «новых» нет общей культурной памяти: «У них другие сердца. Похожи на желудки – откликаются исключительно на естественные раздражители: голод, желание, страх» [там же, c. 194]. В конце романа культурная пропасть между поколениями разрастается до масштабов трагедии: «Кульминацией повествования становится момент предательства просвещения в пользу развлекаловки. Юноша, ″сын волка″, но не волк по крови своей, сберег шкаф настоящих книг, читает их и видится репетитору Татьяне в окружающей ее духовной пустыне, по сути, единственным 166 праведником, ради которого, возможно, Господь не испепелит наши Содом и Гоморру. Татьяна и Иван (имя, похоже, символизирует русский народ) назначают судьбоносный урок, когда репетитор станет Учителем и поведет Ученика в мир великой литературы и духовного богатства. Но план срывается: Иван выбирает футбол за границей. Татьяна считает себя бесповоротно проигравшей и испепеляет свою жизнь самосудом» [410]. Кроме того, культурное пространство визуализируется в романе текстами несловесных искусств – скульптуры и архитектуры, – которые отражают одновременно и реальные пространства Петербурга, и личные переживания героини: «Женщина, улизнувшая от своего отражения, идет по мосту, любуясь конями Клодта. Упираясь копытами, кони рвутся на свободу. Не так давно их возили на реставрацию. Она думает: ″На месте коней я бы этим воспользовалась. Из мастерской дать деру проще. Нельзя упускать шанс, который дается раз в сто лет... ″» [47, c. 13]. Большое значение имеет в романе бытовое пространство. Несколько раз Татьяна делает попытки описать свою квартиру, но всегда сбивается на чужой текст. Сравнивая двухкомнатную хрущевку, оклеенную желтоватыми обоями, с желтой каморкой Раскольникова, она, видимо, подсознательно использует символику цвета, как в романе Ф. М. Достоевского (об этом она писала выпускное сочинение и до сих пор хранит его в памяти). Кроме того, рисуя собственное жилище тесным, неуютным и дисгармоничным, она показывает, что ее депрессивное мировосприятие подобно кризисному состоянию героя «Преступления и наказания». Интересно, что Татьяна тонко чувствует связь между помещением, в котором живут или работают люди, и их характерами, и, как правило, не ошибается в своих оценках. Например, рассуждая об унизительном положении учителя современной элитной школы, она отмечает, что тяжелому взгляду директора, которым он привык смотреть на своих коллег, оправдывая любую шалость привилегированного ученика, соответствует убранство его кабинета с тяжелой дубовой мебелью и тяжелыми шторами, заглушающими неприятности, «докучливые как громкие 167 голоса». Но особенно болезненно Татьяна переживает несоответствие предполагаемого и действительного. Так, старинный особняк, некогда принадлежащий князьям Барятинским, в котором сейчас располагается Торгово-промышленная палата, представлялся ей весьма романтически: «Тяжелые портьеры, напольные часы с совами… Там дверь в библиотеку. Стеллажи, на которых стояли книги: мне кажется, я узнаю обложки. Как будто здесь жила…» [там же, c. 170]. Вместо этого она видит унылые коридоры, выкрашенные масляной краской, с грязными полами, с лампами люминесцентного света, с дверями, захватанными руками посетителей. «Под стать» описанному интерьеру сотрудники этого учреждения: «Тетка (синий костюм, белая блузка – затрепанное в стирках жабо) обводит цифру» [там же, c. 171]. Социальное пространство. Двадцать лет назад, когда Татьяна работала на Фридриха, ее социальные связи были достаточно широкими: приходилось руководить большим коллективом на фабрике, договариваться с партнерами по бизнесу и кредиторами, устанавливать контакты с нужными людьми на таможне, в Торгово-промышленной палате… Однако налаженные с большим трудом контакты были расторгнуты с уходом Татьяны из фирмы. Она смогла переступить через себя, решившись на мелкие махинации – подделку печати и таможенных документов, но насилия над человеком не стерпела: литературоцентризм и криминал для нее понятия несовместимые. Постепенно пространство-я Татьяны сузилось до размеров ее собственного внутреннего мира: «Я ухожу к себе. Ложусь на диван. Утыкаюсь в стену…» [там же, c. 42]. Дискомфорт вызывают даже кратковременные встречи с учениками на их «элитной территории»: только выйдя из дома своего очередного подопечного, она ощущает себя свободной «Высокие дубовые двери. Цветы на мраморных подоконниках, в парадной при входе турникет. <…> Турникет подмигивает зеленым глазом. Охранник, стоящий на страже, отводит поперечину. Пройдя таможенный рубеж, я открываю дверь. Моя свобода начинается там, где кончается зона их обитания. Ради этого они работали как проклятые. Расселяли ме- 168 стные коммуналки. Чтобы им и их наследникам освободится от таких, как я. Чтобы лузеры вроде меня не лезли со своими ВЕЧНЫМИ объяснениями…» [там же, c. 129;138]. Итогом становится социальный вакуум, который с возрастом все труднее преодолевается. Остро переживая свое одиночество, Татьяна силой своего воображения обязательно заполняет пространство-я: кем-то или чем-то. Это созданное фантазиями и наполненное воображаемыми объектами пространство можно назвать ирреальным. Её постоянными спутниками становятся собственное отражение («Женщина средних лет, одетая в свои собственные обноски, стояла, держась за поручень. Ее отражение стояло напротив – в автобусном окне. Оно тоже держалось за поручень. В автобусе лучше за что-нибудь держаться» [там же, с. 10]; подруга Яна, чье имя с детских лет «отзывалось эхом» и после расставания с которой Татьяна постоянно физически ощущала ее присутствие: «Она снова стоит передо мной – руки в брюки… <…> Она поддергивает модные брюки, садится к столу. Если не поддернуть, на коленях вздуются пузырями. – Эти брюки тебе малы. Врезаются, – я указываю пальцем. – Здесь и здесь. <…> Я оглядываю пустую кухню. В старину говорили: разыгралось воображение. Что если у меня и вправду поехала крыша? – Да ладно, – я утешаю себя. – Обычное дело: одинокая стареющая женщина. Некоторые разговаривают с кошками. Вон, соседка снизу…» [там же, c. 159-161]; ученик Иван, с которым она ведет воображаемые литературные беседы; портреты писателей-классиков, доставшиеся главной героине в наследство от родителей и являющиеся главными свидетелями ее внутреннего конфликта: мучительной попытки разобраться победила или проиграла она в борьбе за существование: «Я отвожу глаза, стараясь не встретиться взглядом с портретами. Как будто меня уличили в чем-то постыдном. В том, что следует скрывать» [там же, c. 320]. В воображении Татьяны разыгрывается и сцена в зале суда с участием литературных персонажей, и диалог с профессоромпсихиатром в больничной палате, который она придумала, боясь сумасшествия. Иногда в ирреальное пространство включаются объекты реального географического пространства, которые становятся приметами психологического состояния 169 Татьяны: «Поперек тротуара припаркован огромный джип. <…> Прижимая ухо к трубке, я обхожу осторожно. Большая черная машина. Я опасаюсь черных машин. Проходя мимом, боюсь дотронуться. Если дотронусь, случится что-то плохое. Яна сказала бы: типичный невроз. <…> Черная машина стоит, как ни чем не бывало. До меня ей нет никакого дела» [там же, c. 181-182]. Таким образом, новое понимание человека, отношение к нему не как к типу, а как к характеру, к многоуровневой личности дает современным авторам свободу в выборе художественных средств, позволяющих запечатлеть сложный внутренний мир персонажей. Как показал анализ романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха», описание пространства-я в художественном тексте является одним из наиболее продуктивных средств раскрытия «диалектики души». Выводы по третьей главе: В данной главе мы рассмотрели два способа моделирования индивидуального пространства в литературе. С одной стороны, художественное пространство является одним из основных элементов субъективной картины мира автора, отраженной в тексте произведения, следовательно в творчестве каждого отдельного художника один и тот же объект реальности представляется по-разному – через призму психо-ментальных особенностей его восприятия. С другой стороны, мы показали, что внутренний мир героя также можно интерпретировать как некое пространство, поскольку на определенном этапе развития литературы события и явления душевной жизни стали описываться теми же приемами и средствами, какими описываются события и явления внешнего физического мира. Как мы отметили, изображение «внутренней вселенной» претерпевает значительные изменения в ходе развития представлений о человеке. Так, например, у романтиков индивидуальное внутреннее пространство – микрокосм – описывается посредством метафоры и включает душу, сердце, рассудок, память, интуицию и т.п., которые представляются как вместилища. 170 В новейшей литературе Я-пространство осмысляется глобально, как макрокосм, структурными составляющими которого выступают и социальные, и религиозные, и политические, и нравственные, и др. модели мира, при помощи которых авторы харатеризуют максимально «уплотнившуюся» духовную жизнь современного человека. Анализ художественного пространства в повести А. Потемкина «Я» и романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха» позволил выделить ряд особенностей, являющихся ключевыми в изображении героев. Как видно из рисунка 4, Я- пространство, вбирая в себя все всевозможные виды внешних пространств, представляет собой единое целое, индивидуальный вполне гармоничный внутренний мир, а пространство-Я, на первый взгляд состоящее из тех же структурных элементов, – всего лишь субъективное отражение внешнего мира, конфликтное по своей сути. Сопоставление различных способов моделирования внутреннего мира личности как особого пространства в русской литературе XIX-XXI веков позволило показать органическую динамику литературных форм изображения героя, отражающих очередную ступень самосознания человечества. 171 Индивидуальные пространственные образы Я-пространство Пространство-Я Ирреальное Социальное Бытовое Интеллектуальное Социальное Я Я Психологическое Бытовое Трансперсональное Географическое Природное Культурное Рисунок 3 – Структура Я-пространства и пространства-Я (по повести А. Потемкина «Я» и роману Е. Чижовой «Терракотовая старуха») 172 Глава 4. Художественное пространтво и интертекст Изучение сквозных пространственных образов в русской литературе не ограничивается выявлением сходств и различий в способах моделирования художественного пространства в произведениях разных писателей. На более высокий уровень обобщения выводит интертекстуальный анализ. Термины «интертекст» и «интертекстуальность» широко распространены в современной науке. Наиболее часто они употребляются семиотиками, литературоведами, лингвистами и культурологами, однако содержание, которое в них вкладывается учеными, значительно варьируется. В ряде диссертационных работ последних лет рассматриваются различные подходы к изучению интертекстуальности, широко освещен вопрос истории теории интертекстуальности в отечественной и зарубежной науке, анализируются единицы интертекста, выделяются различные типы интертекстуальных связей в художественных текстах и средства их актуализации и т.п. [140, 186, 403, 457, 570 и др.]. Наряду с названными терминами исследователи используют и понятие «интертекстуальное пространство», которое, однако, не является общепринятым: об этом говорит тот факт, что ни в одном из современных словарей нет отдельной статьи, посвященной интертекстуальному пространству. В то же время для нас это понятие представляет особый интерес, поскольку введение его в науку даст возможность наметить еще одно направление в изучении художественного пространства в целом. Обзор научных трудов, в которых встречается понятие «интертекстуальное пространство», позволил нам выделить несколько подходов к его определению. Широкого толкования придерживаются прежде всего зарубежные ученые (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Риффатерр и др.), которые рассматривают всякий текст как интертекст, а интертекстуальным пространством называют некое «смысловое поле», которое формируется из совокупности общих кодов и смысло- 173 вых систем всех предшествующих текстов (предтекстов): «между новым, интертекстуальным создаваемым текстом и предшествующим "чужим" существует общее интертекстуальное пространство, которое вбирает в себя весь культурноисторический опыт личности» [507, c. 105]. В таком же расширенном значении трактуют интертекстуальное пространство и отечественные литературоведы, разрабатывающие теорию интертекстуальности в рамках семиотики. Например, Ю.М. Лотман в статье «Текст в тексте» отмечает, что: «Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако исключительно важно подчеркнуть, что это – сложно устроенный текст, распадающийся на иерархию "текстов в текстах" и образующий сложные переплетения текстов. Поскольку само слово "текст" включает в себя этимологию переплетения, мы можем сказать, что таким толкованием мы возвращаем понятию "текст" его исходное значение. Таким образом, само понятие текста подвергается некоторому уточнению. Представление о тексте как о единообразно организованном смысловом пространстве дополняется ссылкой на вторжение разнообразных "случайных" элементов из других текстов. Они вступают в непредсказуемую игру с основными структурами и резко увеличивают непредсказуемость дальнейшего развития» [330, c. 72]. В лингвистике понятие «интертекстуальное пространство» применяется для расширения термина «семантическое пространство». Сравним, к примеру, название кандидатской диссертации Т.Л. Ревякиной «Интертекстуальность поэтического слова в семантическом пространстве "Московских стихов" О.Э. Мандельштама» (2004) с названием глав и параграфов в этой работе: «Особенности поэтического слова в интертекстуальном пространстве "Московских стихов" О.Э. Мандельштама», «Особенности семантических преобразований поэтического слова в интертекстуальном пространстве "Московских стихов" О.Э. Мандельштама». Как видим, исследовательница свободно заменяет один термин другим, понимая под интертекстуальным пространством «особое семантическое пространство, образующееся в процессе межтекстовых взаимодействий 174 одного художественного текста с другими художественными текстами» [457, c. 124]. В подобном аспекте понятие «интертекстуальное пространство» трактуется и другими лингвистами. В частности, весьма авторитетным является мнение В.Е. Чернявской, которая определяет интертекстуальность как специфическую стратегию соотнесенности с другими текстами, «способ, которым один текст актуализирует в своем внутреннем пространстве другой, выражая авторский замысел» [571, c. 179]. В значении «внутреннее пространство текста» рассматриваемый нами термин применяется и некоторыми литературоведами. Например, Г.А. Ветошкина выносит его в название своей диссертации – «Гамлетовский код в интертекстуальном пространстве романов У. Фолкнера "Шум и ярость" и "Авессалом, Авессалом!" (к проблеме "поэтического романа")» – и определяет как «текстовое пространство, в котором происходит пересечение различных смысловых позиций» [140, c. 31]. Итак, широкая, радикальная, концепция позволяет современным ученым поставить в один ряд термины семантическое пространство, смысловое пространство, текстовое пространство, межтекстовое пространство, интертекстуальное пространство. Это, видимо, связано с тем, что само слово пространство уже давно используется не в своем прямом (место, среда, территория и т.п.), а в метафорическом или же абстрактном смысле. Филологам-практикам, рассматривающим интертекст «не как универсальное свойство текста вообще, а как специфическое качество определенных текстов (классов текстов)», широкая трактовка понятия «интертекстуальное пространство» кажется слишком расплывчатой. Ряд исследователей придерживается более узкой концепции: Н.П. Анциферов [68, 69], В.В. Абашеев [50], И.З. Вейсман [135], А.В. Вовна [144], Л.В. Воробьева [146], Т.С. Криволуцкая [281], Н.Е. Меднис [353], Д.С. Московская [381], В.Н. Топоров [528], Н.В. Шмидт [586] и др. изучают локальные тексты в русской литературе и устанавливают интертек- 175 стуальные связи именно в пространственных характеристиках в ряде литературных текстов. Узкий подход в определении интертекстуального пространства представляется нам наиболее объективным. Впрочем, и в этом направлении есть два аспекта исследования художественного пространства: 1. Поиск идейных перекличек, заимствований, аллюзий и т.п. в магистральных образах и мотивах, относящихся к локальной топике. 2. Исследование той или иной региональной культуры как единого локального текста. Рассмотрим оба аспекта на конкретных примерах. 4.1. Интертестуальные локусы в оренбургской поэзии Весьма перспективным направлением интертекстульного анализа является изучение устойчивых в литературе определенного края пространственных образов. А.Г. Прокофьевой и В.Ю. Прокофьевой было точно подмечено, что «локус ОРЕНБУРГ в оренбургской литературе XIX века используется только в прозе, оренбургская же поэзия предпочитает УРАЛ, ЯИК, РИФЕЙ, СТЕПЬ, БЕРЕГ» [429, c. 31]. В работе «Анализ художественного произведения в аспекте его пространственных характеристик» этими учеными были выделены и проанализированы: - оренбургские локусы в творчестве В.И. Даля (цивилизованные и природные объекты), которые «наделяются писателем тремя семиотическими свойствами: представляют пространство географическое; через них читателю предлагается осмыслить пространство историческое; они служат «семантическим трамплином», с помощью которого совершается прыжок в мифологическое пространство»; - оренбургские локусы оренбургской поэзии конца XVIII-начала ХХ вв. (Рифей, Урал, оренбургские степи, Аксаково, Соленое озеро, Уральские горы); - локус «СТЕПЬ» в поэзии оренбуржца В.Ф. Наседкина» 176 - оренбургский буран в произведениях русских писателей (С.Т. Аксакова «Буран», А.С. Пушкина «Капитанская дочка», Н.Н. Каразина «Дедушка Буран. Бабушка Пурга») [там же, с. 131-151]. В качестве примера предлагаем анализ интертекстуальных образов Оренбургского текста, материалом для исследования которых стала поэзия оренбуржцев второй половины ХХ – начала ХХI века [9, 18, 28]. Обращение именно к лирике объясняется тем, что этот род литературы обладает широким спектром художественных возможностей, создающих его поэтографию. Мы ставим перед собой задачу выделить наиболее значимые пространственные образы, которые в конечном итоге определяют восприятие города и отношение к нему. Прежде всего рассмотрим пространство города с точки зрения его географического положения, т.е. с его координат на карте. В «Большой советской энциклопедии» Оренбург значится как город, расположенный на реке Урал [405]. Опять стою на берегу Урала. / Горит в лучах закатная струя. / Мой дух здоров, и сердце не устало / Любить свои родимые края... (П. Попов «Опять стою на берегу Урала») [9 с. 159]; А Урал называется Южным. / Здесь зимою под сорок морозы, / Здесь на месяц метели закружат... (А. Тепляшин «Возврашение») [там же, с. 266]. В оренбургскую поэзию прочно вошёл мотив Урала как границы, он стал емким пространственным образом, несущим у разных поэтов сходное значение, «...за наименованием Урал закрепился смысл, который соотносится именно с пограничным географическим расположением реки и края, – «восток», «российская Азия», и соотношение Оренбуржье – «азиатский край» надолго войдет с сознание, станет привычным, концептуальным» [429, c. 139]: Урал. Он лег в мою страну / Во всю длину, размашисто и строго. / Он азиатскому материку / Пришелся каменным порогом (С. Щипачев «Урал. Он лег в мою страну…») [9, c. 270]; Наши предки здесь давным-давно / Прорубили смело в Азию окно. (Ю. Энтин «Живи, 177 Оренбург!»); Недаром мелководный наш Урал / Границей стал между частями света... (А. Тепляшин) [28, c. 506]. Как справедливо отмечает Ю.М. Лотман, любое пространство обосновывается посредством границ: «…границу эту можно определить как черту, на которой кончается периодичная форма. Это пространство определяется как «наше», «свое», «культурное», «безопасное», «гармонически организованное» и т.д. Ему противостоит «их-пространство», «чужое», «враждебное», «опасное», «хаотическое» [330, c. 257]. Действительно, во многих стихотворениях оренбургских поэтов образ Урала-границы имеет именно такую коннотацию: свое пространство со знаком «+»: Нас ветра с тобой венчали, / В тополиную пургу, / Тихий город на Урале, / Европейском берегу (А. Юдина «Нас ветра с тобой венчали») [28, с. 415], а чужое со знаком «–»: Переходя из Азии в Европу, / Я мыслю так: есть у моей страны / И старины любимой страшный опыт, / И роковое чувство новизны (Н. Кондакова «Переходя из Азии в Европу») [9, с. 235]. Оказываясь пограничным городом, Оренбург вместе с тем соединяет в себе обе части света, вот как это представлено в поэтических строках: На Европу и Азию нас не дели.../ Здесь все дышит ковыльной спокойною Русью, / Сделал шаг – и уже с азиатскою грустью / Видишь ты же кругом – ковыли, ковыли... (Г. Красников «На уральскую землю однажды вступи») [там же, c. 319]; Невероятно бьют фонтаны из Урала / Канатка Азию с Европою связала (О. Шумилин «Мэру Оренбурга») [18, c. 695] . Географическое расположение Оренбурга обуславливает описание города как степного, окруженного бескрайними просторами: На карте – с ладонь или даже поменьше, / А пешим – попробуй его обойди! / Смотри: бесконечныебесконечные / Все степи да степи бегут впереди (Р. Герасимов «Край родной») [9, 151]. Как мы уже отмечали, локус «степь» для оренбуржцев становится сквозным образом. Интересно наблюдение А.Г. Прокофьевой и В.Ю. Прокофьевой о том, что восприятие степи у многих поэтов «передается через слова, ассоциативно входящие в лексико-тематическую группу МОРЕ» [429, c. 141]: Не найдешь ты 178 просторов таких никогда – / В них нетрудно пропасть, утонуть, затеряться!.. / Я люблю в этот край в эту степь возвращаться, / Я люблю этот путь бесконечный сюда!.. (Г. Красников «На уральскую землю однажды вступи») [9, c. 319] Помимо образов, связанных с географическим положением Оренбурга, можно выделить и образы, организующие его внутреннее пространство. Попробуем зайти в поэтический город, походить по его улицам: Улицы Буранные, Степные, / Мерзлый визг калиток и ворот... / Сами-то названья ледяные, / А уж в зимы – оторопь берет! (И. Бехтерев «Старый Оренбург) [там же, с. 328-329]; И никогда не забудется / Утро неповторимое. Чкалов. Советская улица. / Ветер, метель, любимая (А. Фатьянов «Рано зима развесила…») [там же, c. 105]; Смотри – Беловка красотою засияла / А в Зауралье роща, наконец-то рощей стала / И «Мёртвый город» оживает как во сне / И «Снегири» на Терешках кивают мне. (О.Шумилин «Мэру Оренбурга») [18, c. 695]; Гордится будем мы уральскою Беловкой, (В. Поживин «Оренбургу») [там же, c. 388]; На Форштадте ветер / Песенки поет. (А. Аверьянов «Форштадт») [там же, c. 376]. Внутреннее пространство города Оренбурга организуется и с помощью конкретных объектов, реалий, имеющих историко-культурную ценность для данного региона: Взлетела в небо гордо телевышка, / Знак памятный Гагарину стоит. (В. Поживин «Оренбургу») [там же, c. 388]; Где что ни двор – то самородный скверик, / Где Чкалов встал на европейский берег… (И. Бехтерев «Родные») [9, c.327]. То, что город стоит на стыке Европы и Азии, наложило особенности на его архитектурный облик. В нем отражены традиции и европейской и азиатской архитектуры: С покатой крышей Караван-Сарая, / Где солнце отражается, играя, / И смотрится восточная луна. (С. Попова «Оренбург») [18, с. 387]; Дышу «Степного» я простором каждый раз, / Собор Введенский будоражит глаз (О.Шумилин «Мэру Оренбурга») [там же, c. 695]. В стихотворениях называются главные улицы города – Советская, Парковый проспект; наиболее значимые для оренбуржцев памятники – Караван-Сарай, 179 памятник знаменитому летчику Валерию Чкалову на набережной реки Урал; Зауральная роща – излюбленное место отдыха горожан; Форштадт – старейший район города, т.е. это ключевые, значимые места Оренбурга, наполненные культурными событиями. Образ города нередко реализуется в поэзии оренбуржцев через ряд оппозиций: «город – деревня», «столица – провинция», «город – Вселенная». Противопоставленность города и деревни охватывает физическую организацию городского и деревенского локусов, социально-экономические особенности городской и деревенской жизни и проч. Например: Улицы... Углы, сараи, бани,/ Из колючих проволок плетни, Кучи всякой мерзости и дряни, Горы, норы, ямы, дыры, пни (И. Бехтерев «Старый Оренбург») [9, c. 329); В арматуре оград, в паутине антенн / Мы как будто себя сами держим в загоне, / Не ломая заслоны из каменных стен, / Снятся нам ковыли и летящие кони (А. Мелешко «В наше городе свищут степные ветра») [28, c. 275]; Как холоден родимый город / Насквозь продутый октябрем. / Давай возьмем себя за ворот, / Давай в деревню удерем (В. Одноралов) [там же, c. 339]. На наш взгляд, широкая и многообразная вербализация противопоставления города Оренбурга и деревни свидетельствует об актуальности данной оппозиции в сознании городских жителей. Наряду с противопоставлением признается, однако, и единство провинциального города и деревни: В нашем городе свищут степные ветра. / В нашем городе буйные вольные травы / Рвут асфальт и бетон, а по зябким утрам / На полнеба заря плещет огненной лавой. / ...Здесь всегда ощущалось и даже сейчас, / Что-то всё-таки есть от ушедшей деревни (А. Мелешко «В наше городе свищут степные ветра») [там же, c. 275]. Одной из традиционных оппозиций русской литературы является противопоставление столицы и провинции. В лирике оренбургских поэтов эта дихотомия связана не только с аспектом географическим, но и с ценностным: столица-центр, как правило, характеризуется значительностью, динамичностью, а периферия – второстепенностью, «неподвижностью»: В нем мало самобытности Востока, / 180 Столичности Москвы, / И так порой бывает одиноко…/ Но в нем живёте – вы! (Д. Канн «Я полюблю однажды этот город») [9, с. 363]. Если первые две оппозиции являются традиционными для русской литературы, то противопоставление в оренбургской поэзии города и Вселенной, видимо, уникально: Поезд мчит / Оренбургской степью, / День и ночь / Оренбургской степью, – / Как Вселенной, / Ей нет предела, / И, как жизни, / Ей нет конца (А. Тепляшин «»Возвращение») [там же, c. 266]. Итак, Оренбург, являясь постоянным лирическим объектом в оренбургской поэзии, имеет «набор» стандартных, интертекстуальных характеристик, формирующих городской текст: особое географическое положение (на Урале, на границе Европы и Азии, в степи); включенность в поэтическое описание ключевых историко-культурных объектов, организующих внутреннее пространство города, включенность в ряд оппозиций: город – деревня, столица – провинция, город – Вселенная. 4.2. Оренбургский текст русской литературы Современные исследователи, занимающиеся изучением локальных текстов русской литературы, сходятся во мнении, что множество конкретных воплощений того или иного локуса в художественной литературе «объединяется в сложное семиотическое единство, некий сверх-текст, пронизанный, как и положено всякому тексту, системными связями и отношениями. Этот серх-текст парадигматически объединяет комплекс образов, мотивов, сюжетов, которые воплощают специфическую модель городского бытия и характеризуются единой системой средств художественного выражения» [586, c. 180]. Базовой специфической чертой локальных текстов, по наблюдениям ученых, является наличие «более или менее стабильной сетки семантических констант» [50, c. 11-12], которые «становятся доминирующими категориями описания места и начинают по существу программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых репрезентаций» [там же]. Таким образом, типологический анализ локальных текстов предполагает, во-первых, ус- 181 тановление интертекстуальных связей между множеством текстов, объединенных предметом описания, – городом, или местностью, или даже целой страной; вовторых, выявление общих закономерностей семиотики, поэтики, мифологии анализируемого локуса. Особенности интертекстуальной модели пространства в локальных текстах русской литературы рассмотрим на материале оренбургского текста. Под оренбургским текстом можно понимать вслед за Ю.М. Лотманом, и семиотику имени, рассматривая историю названия города, всевозможные варианты трактовок и прочее; и семиотику пространства, описывая городские архитектурные и садово-парковые реалии, несущие огромное количество информации; и семиотику времени [330, c. 150-390]. Но нам представляется не менее важным иной путь – изучение города как ментального пространства, отражающего устойчивые духовные ценности, существующие в определенных пространственно- темпоральных границах, и являющиеся основой поведения и специфической матрицей восприятия мира. Оренбургский текст включает в себя целый ряд специфических литературных явлений (художественные произведения разных жанров, а также краеведческие, биографические, путевые, физиологические очерки и т.п.), в которых репрезентируется провинциальная ментальность. На протяжении нескольких веков в Оренбуржье формировался своеобразный вариант национальной культуры, особенности которой связаны со следующими факторами: - географическим положением города (граница Европы и Азии); - изначально военным статусом (форпост России на Востоке); - социальным составом (в XVIII в. сформировались военно-служилое сословие, по большей части состоящее из бедных офицеров, бесплатно получавших землю за военную службу, и казаков; купеческое сословие (Оренбург находился на пересечении торговых путей); дворянское сословие (в основном бывшие на государственной службе чиновники); крестьяне-переселенцы (местное же население 182 – башкиры и киргиз-кайсаки – занимались скотоводством); с середины XIX века промышленники и т.д.); - конфессиональным составом (православные, старообрядцы, католики, лютеране, магометане, иудеи); - многонациональным составом (русские, башкиры, татары, казахи, мордва, поляки, немцы и др.); - постоянным миграционным притоком населения (в XVIII и XIX вв. Оренбург был местом ссылки политических преступников, прибежищем для раскольников, беглых крестьян; в ХХ в. регион пополнялся репрессированными и ссыльнопереселенцами (1930-1950-е гг.); эвакуированными с юга и центра страны (1940-е гг.); целинниками (1950-1960-е гг.); беженцами с национальных окраин бывшего СССР (1980-1990- гг.)). Сложный процесс взаимодействия этих факторов сопровождался формированием особого локального менталитета оренбуржцев, основные черты которого отразились в оренбургском тексте в виде магистральных образов, мотивов, сюжетов, относящихся к региональной топике и являющихся интертекстуальными. Учитывая жанровую специфику рассматриваемых произведений, а также форму выражения в них авторского сознания, мы выделили в оренбургском тексте две группы произведений: Тексты описательного характера. Основными жанрами в этой группе текстов являются путевые и физиологические очерки, отражающие впечатления, как правило, иногородних авторов, представляющие собой взгляд извне, взгляд стороннего наблюдателя, «исследующего» специфику местности и ее обитателей. Список имен ученых, путешественников и любителей, совершивших поездки в Оренбургский край в XVIII-XXI вв. и опубликовавших впоследствии путевые заметки, записки и воспоминания, весьма внушителен (П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей», А.К. Толстой «Два дня в киргизской степи», М.В. Авдеев «Дорожные заметки», М.Л. Михайлов «Уральские очерки», Г.И. Успенский «От Оренбурга до Уфы», В.Л. Кигн-Дедлов «Заметки и картинки», 183 В.Г. Короленко «У казаков» и мн. др.). Сюда же можно отнести и произведения местных авторов, написанные в жанре путешествия по родному городу (А.П. Прусс «Пройди по старому городу…», В.Г. Рыбкин «Оренбург», Ю.М. Орябинский «Родная улица моя» и др.). Главной особенностью текстов этой группы является ориентация на правдивое, объективное описание городского пространства. Тексты нарративного характера (разнообразие жанров от романа до краеведческого анекдота), в которых, с одной стороны, отражаются ментальные особенности субъекта литературного творчества, автора-оренбуржца, его ценности, идеалы, установки и т.п., а с другой – героев-провинциалов, их быта, образа жизни, поступков, характеров (произведения Н.Ф. Корсунова, П.Н. Краснова, В.А. Пшеничникова, И.С. Уханова, В.П. Шатуна и мн. др.). Относящиеся к этой группе тексты являются способом оценки «своего» пространства, поэтому основополагающим «сюжетом» для провинциальных авторов является местная история, образы родного города, городской и пригородный пейзаж и т.п. (С.Т. Аксаков «Семейная хроника», П.М. Кудряшев «Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван», В.Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале» и др.), культурно-исторические традиции казаков (В.И. Даль «Уральский казак», М.Л. Михайлов «Казак Трофим», «Уральские очерки», В.П. Правдухин «Яик уходит в море», И.Г. Пьянков «На линии», «Казак Лопатин, или Эпизоды на краю империи» и др.), купцов (А.П. Крюков «Оренбургский меновой двор», В.И. Даль «Бикей и Мауляна», С.И. Гусев-Оренбургский «Страна отцов» и др.), нравы и обычаи народов, проживающих в регионе (В.И. Даль «Майна», Л.Н. Толстой «Ильяс», «Много ли человеку земли нужно», «За что?», Н.А. Афиногенов «Сказки степи» и др.). Особое место в оренбургском тексте занимают нарративные произведения обличительной направленности. Они созданы как местными писателями (С.И. Гусев-Оренбургский «Страна отцов»), так и иногородними авторами, жившими в Оренбурге некоторое время и отразившими свои негативные впечатления от го- 184 рода и городских обывателей в сатирических повестях (А.Н. Плещеев «Житейские сцены. Отец и дочь», «Пашинцев», Т.Г. Шевченко «Близнецы» и др.). В текстах описательного характера интертекстуальными характеристиками Оренбурга являются строгая планировка, благоустроенность, чистота и т.п., а оренбуржцев – образованность, воспитанность, открытость, порядочность. Так, П.П. Свиньин, путешественник, писатель и первый издатель «Отечественных записок» в начале путевого очерка «Картина Оренбурга и его окрестностей» (1824) признается в том, что не думал встретить в отдаленной от центра провинции приличное общество: «Не стану говорить о той приятной ошибке, в которую введен я был, найдя Оренбург во всех отношениях несравненно выше, превосходнее, чем я представлял его себе, – скажу только, что я встретил здесь, на краю киргизской степи, общество людей самых образованных, лучшего тона, обладающих отличными талантами, а потому проводящими время как нельзя приятнее» [38, c. 16]. Подробно рисуя основные достопримечательности города, автор дополняет картину сведениями о внешности, душевной организации, характере, занятиях, взаимоотношениях, особенностях быта его жителей, т.е. их менталитете. П.П. Свиньин отмечает такие качества оренбуржцев, как любовь к порядку и чистоте, связывая их с особым статусом города (военный): «При въезде в город приятно видеть точную правильность кварталов и улиц, чистоту сих последних, <…> пленительную опрятность домов, большею частию деревянных, оштукатуренных; начало великолепного каменного тротуара на большой улице и ряды молодых деревьев, насаженных перед домами…» [там же]. О религиозности горожан говорит тот факт, что на несколько тысяч жителей в городе приходится пять церквей: «Всякий класс жителей имеет здесь свою приходскую церковь, например, военные – церковь си. Петра и Павла, статские – Троицкую, купцы – Вознесенскую и пр. Все сии церкви построены иждивением казны, снабжены богатою утварью…» [там же, с. 20]. Пограничным положением города, по мнению автора, обусловливается внешний облик его жителей: «В Оренбурге, как выше сказано, кроме русских обы- 185 вателей, есть много магометан, частию там живущих, частию приезжающих туда с караванами и на летнюю кордонную службу. Различие языков, одежд и обыкновений представляет в сем городе весьма занимательные картины. Случается, что рядом с болтливым евреем видишь важного индейца; или пред толпою диких киргиз-кайсаков – какого-нибудь странствующего европейца, разряженного по всем правилам моды» [там же, с. 25]. Местоположение города (город-крепость на перекрестке знаменитого «шелкового пути») накладывает отпечаток и на характер горожан: «Более всех замечательны в Оренбурге татары, составляющие особый и значительный класс обывателей. Будучи хитры, пронырливы и проворны, они отличаются удивительною ловкостью в здешней торговле и нередко приобретают посредством оной великие капиталы» [там же]. Наконец, П.П. Свиньин уделяет внимание и описанию казаков – основного населения Оренбурга: «Форштадт оренбургский имеет свой замечательный характер. Жители его (казаки и большею частию старообрядцы) живут по-своему и за грех считают смешиваться с горожанами. Они оборотливы в делах промышленных, набожны и до крайности суеверны. Молодые казаки, говорят, привязаны к службе и страстны в любовных делах» [там же, с. 25-26]. Как видно из представленных фрагментов очерка, П.П. Свиньин связывает специфику ментального облика оренбуржцев с особым географическим положением Оренбурга, а также пестрым этническим и социальным составом его населения. С большой симпатией описывает Оренбург и оренбуржцев известный беллетрист конца XIX в. В.Л. Кигн-Дедлов: «Оренбург неизмеримо лучше и интереснее, чем о нем думают. Думают же о нем дурно, потому, что совсем не знают». Рисуя основные достопримечательности Оренбурга, автор дополняет картину сведениями о внешнем облике, душевной организации, характере, занятиях, взаимоотношениях, особенностях быта его жителей, т.е. их менталитете, сформировавшемся по влиянием таких, например, факторов, как географическое поло- 186 жение и благоприятный климат: «От хорошего климата и народ здешний молодец. О казаках я уж не говорю. <…> У нас на старине народ куда хуже» [19, c. 93-95]. Не меняется впечатление от удаленной от центра, находящейся на границе Европы и Азии провинции и у путешественников нашего времени: «Что же такое Оренбург, Оренбуржье? Это и «Форпост России на Востоке», и «Окно в Азию», и «Пограничье двух частей света», и «Жемчужина Южного Урала», это и нефть, и газ, и никель, и пуховые платки, и хлеб, и соль… Это чудесный край, оплодотворенный творческой мыслью и подвижничеством Кирилова и Рычкова, Татищева и Неплюева, Пушкина и Даля, Шевченко и Аксакова, Карамзина, Толстого, Чапаева и Родимцева… Однако Оренбург – не только история, это и современные, по-уральски уникальные, красивые люди, трудом и талантом превращающие свой степной город в зеленый, чистый, многоэтажный мегаполис» [42, c. 468]. Оренбург, основанный на пересечении торговых путей, на долгие годы стал средоточием меновой торговли со странами Средней Азии, проводником евразийской политики российского государства и центром хозяйственно-экономического общения с народами востока. Этот факт в значительной мере повлиял на формирование особого духа предпринимательства и торговли, идеологии товарного обмена, которыми изначально пропитана оренбургская земля: «В гостином дворе торгуют бухарцы, хивинцы и сарты. На меновом продают товары уж вовсе диковинные: киргизские кибитки, киргизские котлы в виде полушарий, татарские кувшины с длинными горлами, пестрые, точно изразцовые сундуки, живых соколов… Где в другом месте вы все это увидите, кроме зверинцев и этнографических выставок за деньги! А тут вам выставка ежедневно и даром» [19, c. 96]. Интересен тот факт, что торговля по большей части с восточными народами способствовала формированию не только типичных черт, свойственных купечеству как сословию (активность, мобильность мышления и т.п.), но и особых, региональных (склонность к грубым и примитивным способам обогащения, обма- 187 ну): «По двору толпятся тут и там верблюды; несколько баранов ожидают, на привязи, смиренно своей участи; торгаши наши расхаживают между ними, ощупывая курдюки, и с криком и шумом, с клятвами, божбою и ругательством, почти насильно отымают и выменивают баранов у этих нерешительных продавцов, которые, кажется, только этим способом умеют сбыть свой товар; кой-где сидит, на голой земле или на рогоже, торговка, судя по лицу, какое-то среднее отродие между русским, турецким, чудским и монгольским племенами; сидит, обвешивает и обмеривает кайсаков на товарах, составляющих запас подвижной мелочной лавки ее» [15, c. 227]. Известны случаи преступного мошенничества в среде оренбургских торговцев. Одну из подобных историй рассказал Н.А. Степной (Афиногенов) в «Сказках степи»: «Купец был вкрадчивый, мягкий, занимался, кроме торговли, богоугодными делами, был церковным старостой и все его знали за доброго, религиозного. Сожалели, когда у него караваны пропадали. <…> Умер он и, к удивлению многих, оставил миллион. <…> Что же? Оказывается бухарские и хивинские купцы попросту покупали у него людей; потому – и он и они на этом деле зарабатывали очень много. Товар же посылал он, пожалуй, для отвода глаз» [39, c. 57-58]. Можно отметить также, что ментальные особенности оренбургских купцов связывались с их национальной и конфессиональной принадлежностью (православные, страроверы и мусульмане), которая определяла приемлемые и неприемлемые образцы профессионального поведения. Подробно рисуя оренбургскую торговлю, В.И. Даль отмечал, например, что «русские вовсе не ходят с караванами в Среднюю Азию: торговля эта принадлежит исключительно бестолковым, безрасчетливым и безмерно корыстолюбивым мусульманам. Русский изворотлив, сметлив, предприимчив и предприимчив у себя, дома; но караванная и морская торговля – не его рука» [15, c. 220]. Оренбуржье исторически формировалось как многонациональный регион. В процессе длительного совместного проживания и взаимодействия различных этнических общностей на территории Оренбуржья (славянских, тюркских, финно- 188 угорских и др.) между различными народностями складывались традиции взаимопонимания и уважения, межнационального общения и веротерпимости: «В отношениях с соседями была та же доброта и искренность без всякого разделения наций. А жили мы на улице через двор – татары да русские. И никогда не возникало даже намека на то, что сотрясает сейчас наше Отечество и лукаво именуется национальными конфликтами. <…> Уважая национальные обычаи и традиции друг друга, люди пекли пироги на свои праздники и – с пылу с жару – бежали угощать ими соседей, будь то на Пасху или на Курбан-Байрам. Вообще, делились и радостями, и бедами и всегда встречали самое живое участие. Бабушка часто повторяла: "Вера разная, а Бог – один"» [29, c. 13]. Многие особенности хозяйственного уклада, общественно-нравственных устоев, культурных и народных традиций, бытующих в оренбургском крае, объясняются сегодня именно многовековым полиэтническим и поликонфессиональным статусом региона, и этот факт, конечно же, находит яркое отражение в оренбургском тексте. Особенно значимым в этом отношении стал совместный проект оренбургской областной библиотеки им. Крупской и местного отделения Союза российских писателей – цикл литературных салонных вечеров «Содружество национальных литератур». Особое место в оренбургском тексте занимает описание истории, жизни, быта, нравов, обычаев, религии казаков, одной из самых оригинальных этнокультурных групп населения региона. Основу местного казачества составили выходцы из среды русских и украинских крестьян и мещан, кроме того, в Оренбургское и Уральское казачьи войска рекрутировались представители калмыков, мещеряков (одна их этнографических групп поволжских татар) и других неславянских народов. В 1748 г. все казачье население Оренбургской крепостной линии было объединено в Оренбургский нерегулярный корпус, преобразованный вскоре в Оренбургское казачье войско. Этнографические особенности быта оренбургских казаков окончательно оформились после середины XIX в., к этому времени относится и первое художественное описание казачьей ментальности – очерк В.И. Даля 189 «Уральский казак». Автор в мельчайших подробностях описывает характер, привычки, быт, любимые занятия казаков. Уральского казака отличают строгость этических норм, регулирующих его семейную, личную и общественную жизнь («Главное занятие их: воспитывать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изуверства, которое, как мы видели, соблюдается с неприкосновенною святостию на дому»); патриархальность и консерватизм в жизни домашней и свобода в походе («Дома Проклятов не певал отроду песни, не сказывал сказки, не пел, не плясал, не скоморошничал никогда; о трубке и говорить нечего: он дома ненавидел ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ее таки в заводе ни у кого в целом войске. <…> На походе Проклятов первый песенник, хоть и гнусит немного, на старинный церковный лад; первый плясун, и балалайка явится на третьем переходе, словно из земли вырастет, – и явится трубка и табак; а родительницы дома на досуге отмаливают и замаливают»); религиозность («Проклятов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил "ей-ей" и "ни-ни"; никогда не говорил "спасибо", а "спаси тя Христос"; входя в избу, останавливался на пороге и говорил: "Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас!" – и выжидал ответного: "Аминь"»); страстная любовь к рыбной ловле («Если вам случалось видеть неистовых голубятников, псовых и ружейных охотников, которые выходят из себя, если при них только помянуть слово об охоте, то можете вообразить себе и Проклятова. Серые глаза его загораются каждый раз, когда дело коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играют, высокий лоб сияет, губы подбираются»); физическая крепость (« В походе не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод. "Обтерпелся, – говаривал он, – да сызмаленьку привык») [15, c. 158- 174]. Очерк В.И. Даля, как показывают приведенные выше цитаты, не только литературное, но и этнографическое исследование жизни и быта уральских казаков, эталон жанра физиологического очерка. «…Это не повесть и не рассуждение о том – о сем, а очерк, и притом мастерски написанный, который в журнале не заменил бы собою повести, а в «Наших» читается как повесть, имеющая все досто- 190 инства фактической достоверности, легко и приятно знакомящая русского читателя с одним из интереснейших явлений современной жизни его отечества», – писал в критическом отзыве на произведение В.Г. Белинский (Отечественные записки, 1843, т. 26, № 1). Богатейший материал, отражающий ментальность оренбургского казачества, собрал и частично опубликовал в конце XIX в. писатель, собиратель фольклора и этнограф И.И. Железнов («Уральцы – очерки быта уральских казаков», «Предания и песни уральских казаков»). Одним из лучших произведений о казаках, созданных в советское время, стал роман В.П. Правдухина «Яик уходит в море», в котором много тонко выписанных бытовых картин: традиционное багрение рыбы на Яике, посиделки молодёжи, встреча казаками наследника в Уральске, гульбища, драки. Интерес к казачьей культуре не утихает и в настоящее время, например, история казачьей общины, её старинный быт и уклад являются главным предметом художественного исследования современного оренбургского писателя И.Г. Пьянкова («На линии», «Казак Лопатин, или Эпизоды на краю империи»). В оренбургском альманахе «Гостиный двор» ведется рубрика «Казачья линия», создано Оренбургское окружное казачье общество, которое издает свою газету «Станица Славянская», – все это свидетельствует не только о желании возродить казачество в регионе, но и о том, что наследники казачьих традиций пытаются всячески сохранить свои ментальные особенности. Среди текстов нарративного характера на первый план выдвигаются произведения сатирические, в которых Оренбург описывается как типичный провинциальный город с устойчивым негативным набором характеристик: уездный, отсталый, отдаленный, глухой, захолустный, заштатный, периферийный и т.п. Таков, например, город в повести А.Н. Плещеева «Житейские сцены. Отец и дочь» (1857): «Губернский город Бобров (на географических картах он называется иначе) ни в чём не отставал от других губернских городов нашей России. <…> Физиономия города Боброва была тоже из самых обыкновенных. В нем, как 191 и повсюду, можно было найти присутственные места, окрашенные охрой, губернаторский дом с венецианскими окнами и балконом, клуб, где по субботам играли в карты, а по четвергам танцевали…» [33, с. 91]. Уже в этом небольшом фрагменте можно увидеть константные маркеры русского провинциального города: внешний облик (традиционная архитектура города) и ничем не нарушаемый ритм жизни, рутинный и застойный. Патриархальные нравы и характер горожан, автор связывает с географической отдаленностью Боброва от обеих столиц. Не без иронии рисуются жители города: «Все в городе Боброве было основано на чистейшей любви. Каждый почти знал за своим соседом грешки, но никому и в голову не приходило обличать их даже намеком. Все граждане были пропитаны сознанием слабости человеческой природы и тою неопровержимой аксиомой, что «ведь свет не пересоздашь, а следовательно, и толковать об этом нечего» [там же]. Картина Оренбурга «дорисовывается» А.Н. Плещеевым в повести «Пашинцев» (1859), где город назван Ухабинском: «Дамы, пользуясь минутами ожиданья, то и дело бегали в уборную поправлять туалеты. На бале они, казалось, забывали свои антипатии, свою вражду, все ссоры, интрижки и сплетни, которыми так изобилует провинциальная жизнь; обращались друг к другу с самыми ласковыми, дружескими названиями…» [там же, c. 182]. В обеих повестях А.Н. Плещеева Оренбург также предстает как ментальное пространство, но в отличие от вышерассмотренных произведений со знаком минус. Главными характеристиками внешнего пространства города становится материально-бытовая неустроенность, а духовно-нравственного облика горожан – малообразованность, низкий уровень культуры, отсутствие в обществе высших интересов, бессмысленность жизни, страсть к интрижкам, сплетням и т.п. Особый интерес вызывают произведения, в которых ментальность провинциала выражается через форму субъектного авторского повествования. Так, например, в повести С.И. Гусева-Оренбургского «Страна отцов» (1905) автобиографический герой произведения, отец Иван, стыдится своей провинциальности, без- 192 образного, невыносимого окружения, стремится вырваться за пределы города: « Прозябал, как червь! Полз во мраке! Жил, как приказано, а не так, как должно жить... Довольно! Я и вам говорю: довольно! Разве вы не видите, что так жить нельзя больше... нельзя! Позорно! Жизнь уходит от нас в сияющую даль... а мы стоим на месте окаменелые, черною стеною... сами не идем и мешаем идти другим!» [14, c. 388]. Жизнь в провинции рождает конфликт в душе отца Ивана: чувство личной вины, мучение совести, которые, в конце концов, перерастают в бунт и желание отречься от сана священника. Другая картина вырисовывается в прозе современных оренбургских писателей, которые не только не тяготятся своей провинциальностью, напротив, гордятся ею, прекрасно осознавая, что именно в провинции сохраняется все самое лучшее, что есть в русском народе. «Тепло родного очага», «На своей земле», «Дым отечества» так назывались первые сборники оренбуржцев, изданные в конце ХХ века, об этом же и новейшие произведения. Сильное провинциальное начало местной литературы сказывается и в том, что основным ее направлением остается «деревенская проза», и в том, что даже молодые оренбургские авторы пишут в традиционной, строго реалистической манере, обращая пристальное внимание к быту, языку, образу мыслей, кругу надежд и чаяний своих земляковсовременников. Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что оренбургский текст моделируется по законам локального интертекста, который в полной мере отражает черты региональной ментальности оренбуржцев, сложившиеся под влиянием таких факторов, как пограничное положение (Европа/Азия), многосословный, многонациональный и многоконфессиональный состав, непрекращающийся миграционный поток населения и др. Один корпус текстов формирует представление о провинциальном пространстве как патриархальном, обладающем ценностно-нормативными и сакральными характеристиками, другой – как среде рутинной, отсталой, не способной принципиально обновляться. Выделенные нами ин- 193 тертекстуальные компоненты оренбургского текста позволяют характеризовать Оренбург как пространственно-географический ментальный локус. Выводы по четвертой главе: Возможности интертекстуального метода исследования в литературоведении поистине безграничны: не только поиск заимствований и аллюзий, но также сопоставление типологически сходных произведений, жанров, направлений; выявление общих мифологических, психологических, социальных основ анализируемых текстов; «изучение сдвигов целых художественных систем, в частности, описание творческой эволюции автора как его диалога с самим собой и культурным контекстом» [200] и мн. др. В данной главе мы акцентировали внимание на одном из наиболее продуктивных направлений в современных интертекстуальных исследованиях – анализе локальных текстов. Мы отметили, что основной целью подобного анализа, может быть поиск общих закономерностей поэтики того или иного локального текста; описание семантики ключевых пространственных образов, определение их семиотических функций и мифологического наполнения (см. рис. 4). 194 поэтика семиотика Локальный текст семантика мифология Рисунок 4 – Структура интертекстуального пространства локальных текстов На примере Оренбургского текста русской литературы мы показали возможные пути анализа локальных текстов как специфических форм организации художественного пространства: 1) выявление и описание характерных интертекстуальных черт во внешнем и внутреннем облике города, позволяющие рассматривать его, с одной стороны, как пространственно-географический, а с другой – как ментальный локус, отражающий индивидуальное сознание, духовнонравственные установки, образ жизни провинциалов; 2) описание магистральных топосов, которые переходят из текста в текст и эволюционируют, представляя собой некое метаповествование, частью которого является городской текст. 195 Раздел II. Функционально-семантическая типология пространственных моделей в русской литературе Как мы уже отмечали, в ряду разноаспектных исследований художественного пространства наиболее актуальной и малоизученной является проблема типологии пространственных моделей в произведениях литературы. Отечественные филологи давно обратили внимание на зависимость пространственных изображений от родо-жанрового варианта текста и стиля писателя. Так, например, Ю.М. Лотман отмечал, что создавая ту или иную модель художественного пространства, автор отбирает объекты действительности, организуя их определенным образом в соответствии с закономерностями жанра и стиля, поскольку: «…художественное пространство представляет модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [327, c. 251-293]. В связи с этим в работах литературоведов были выделены и описаны родо и жанрообразующие модели художественного пространства: пространственные модели повествовательных и лирических жанров, а также инвариантные модели условного (мифологического, сказочного, фантастического и т.п.), географического, исторического и др. пространств. Первую классификацию жанрообразующих пространственно-временных моделей разработал М.М. Бахтин, который считал, что «жанр и жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [88, c. 235]. Ученый описал крупные «типологически устойчивые хронотопы, определяющие важнейшие разновидности романа на ранних этапах его развития» [там же, c. 392]: хронотопы греческого романа (авантюрный, авантюрно-бытовой, биографический и автобиографический); хронотоп рыцарского романа, раблезианский и идиллический хронотопы, а также выделил ряд сквозных хронотопов, обладающих «высокой степенью эмоционально-ценностной интенсивности» [там же]: хронотопы встречи, дороги, замка, салона-гостиной, провинциального городка, пограничные хронотопы поро- 196 га, лестницы, коридора и др., являющиеся главными местами действия в разных типах романа. Труд М.М. Бахтина, созданный еще в 30-е годы ХХ века и ставший основой для большинства исследований, посвященных особенностям хронотопа в произведениях различных жанров и стилей, долгое время был единственной работой систематизирующего характера. Лишь недавно появились докторские диссертации, в которых предлагаются новые принципы и методы для типологизации форм художественного времени и пространства как компонентов образной системы литературного произведения. Так, Н.К. Шутая в работе «Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII – XIX вв.» (2007) выделила и проанализировала четыре исторических пространственно-временных модели: «мифологическое время и пространство, христианскую модель времени и пространства, пространственно-временную модель, характерную для нового времени, и современную модель пространства и времени» [589, c. 19]. Считая, как и М.М. Бахтин, что специфика художественного пространства во многом определяет сущность жанровых характеристик романа, автор выделяет две разновидности романной топологии в русской литературе – реалистическую и нереалистическую (сказочную, фантастическую), при этом отмечает, что для классического русского романа XIX в. характерно наличие реалистической референции. По наблюдениям исследователя, художественное пространство используется в романе в двух основных функциях: «на «макроуровне» (топологическом) – как средство осмысления той глобальной исторической коллизии, субъектом которой являются не отдельные люди или политические силы, а все общество в целом (Россия или даже человечество), и на «микроуровне» (уровне пейзажа и интерьера) – как форма авторского вердикта по отношению к описываемым характерам и событиям, как способ собственного незримого присутствия и тем самым – реализации художественного единства текста» [там же, c. 412]. 197 Существенным результатом проделанной Н.К. Шутой работы, на наш взгляд, является введение в научный оборот ряда топологических понятий – базисная топология, топологическая рамка, топологический ракурс, топологический пункт, топологический уровень и др., что позволяет использовать их как для характеристики отдельно взятого романа с точки зрения его художественного пространства, так и для типологизации романов по типу их художественного пространства. Для иллюстрации своих теоретических размышлений Н.К. Шутая анализирует топографию Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и выделяет при этом «три типа топосов, используемых в романе на топологическом уровне: 1) официальное пространство, 2) открытое городской пространство (пространство «агоры») и 3) частное (жилое) пространство». По мнению ученого, «посредством топосов первого типа реализуется оппозиция «Человек – Власть»; посредством топосов второго типа реализуется оппозиция «Я – другие»; посредством топосов третьего типа реализуется оппозиция «Я – Ты»). Восприятие этого пространства зависит от отношения к нему героя – по-разному чувствуют себя герои на своем и чужом пространстве. Н.К. Шутая считает, что топографический анализ служит типологизации топосов как основных элементов художественного пространства романа» [там же, c. 410]. В целом автор приходит к выводу о необходимости и плодотворности раздельного исследования художественного пространства и художественного времени как составляющих художественной формы произведения: «Если художественное время романа как целого «привязано» к автору и определяется как авторская временная модель, то художественное пространство романа как целого «привязано» скорее к сюжету, а не к автору, поскольку именно сюжет определяет местонахождение и перемещения героев, соотношение пейзажных и интерьерных зарисовок, как и общую топологию и топографию романа. Художественное пространство романа – это отнюдь не механический «фон», обладающий большим или меньшим сходством с реальным пространством, на котором развертывается 198 действие, а весьма значимая часть общей идейной концепции автора, и одновременно с этим – часть национальной системы общекультурных символов» [там же, c. 412]. Рассматривая систему лирических жанров в русской поэзии 1880-1890-х годов, Е.Е. Завьялова в своей докторской диссертации указывает на то, что художественное пространство выполняет моделирующую функцию в целом ряде канонических и неканонических жанров [205]. Например, «концепт пути (дороги)», сочетающий в себе пространственные и временные ряды человеческих судеб, по мнению исследователя, является определяющим для «путевых» медитаций и «путевых» циклов, в которых лирический субъект описывает, что видит (чаще всего – природные ландшафты), какие чувства при этом испытывает и на какие мысли его наводит увиденное». Ученый отмечает, что в группе стихотворений, повествующих об одиноком путнике (страннике, скитальце, пилигриме, прохожем, пешеходе и т.п.) «дорога символизирует жизненные испытания человека, конечная цель путника неизменно соотносится со смертью, с неотвратимостью Божьего суда»; в «трансдуктивных» медитациях (когда наблюдатель передвигается не пешком, а едет в карете, кибитке, повозке, на телеге, дрожках, санях и т.п.) концепт дороги актуализирует идею фатальности; в более крупной форме «дорожного» цикла также повествуется о перемещении в пространстве, влекущем за собой смену впечатлений. В этих стихотворениях конкретизируются место и время описываемых событий, фиксируется точка зрения наблюдателя, панорама чередуется с детализированными описаниями [там же, c. 335-337]. Жанрообразующим является художественное пространство и в духовной лирике, многие стихотворения этой группы «представляют собой описания непосредственно воспринимаемых пейзажей, ситуаций и т.п.». В основу некоторых из них положен идиллический хронотоп, «отражающий органическую сопричастностью бытию как целому» [там же, c. 342]. 199 Любовным стихотворениям свойственно абстрактно-лирическое пространство. Одной из форм конкретизации лирической концепции мира, замечает Е.Е. Завьялова, является топология: «В интимной поэзии, одном из самых спонтанных жанров, ориентиры художественного пространства часто проявляются подспудно. Они позволяют выявить жанровый инвариант любовной лирики, установить стилистические особенности творчества каждого автора в отдельности и литературного процесса эпохи в целом» [там же, c. 347]. Рассматривая наиболее «отчётливые пространственные модели» любовной лирики 1880-1890-х годов, исследователь выясняет, что «образы строятся на смысловом сопоставлении таких параметров, как замкнутость/разомкнутость, верх/низ, великость/малость. Эти параметры, по наблюдениям автора, могут наполняться противоположным содержанием: близкое «сокровенное» пространство («сенсорный» круг) – и суетная тяготящая близость «в толпе»; «безопасная», «обжитая» комната возлюбленной – и тесное жилище одинокого героя; привольная ширь как фон для развития идиллических отношений – и экстремальное разомкнутое пространство, характерное для стихотворений о разлуке [там же]. Е.Е. Завьялова считает, что указанные ею инварианты являются традиционными, однако многие поэты «переходного» периода стремятся их обновить, в результате модели либо перестают выполнять свою типовую функцию (мотивы романтической грёзы, весеннего свидания и т.п.), либо сильно видоизменяются множественность, вариативность пространств, техника монтажа, интерференция и др.)» [там же, c. 447-348]. Большое внимание уделяется в исследовании типологии пространства в жанре пейзажной лирики. Выделяются и анализируются следующие жанромоделирующие типы пейзажа: урбанистический пейзаж, передающий беспокойный ритм жизни большого города, в котором точно фиксируются характерные типы и ситуации, изображаются мгновенные, выхваченные из потока реальности картины; экзотический пейзаж, изображающий неясные, сиюминутные зрительные ощущения; национальный пейзаж с его характерными признаками – «северно- 200 стью», выровненностью, протяжённостью, невзрачностью и трогательностью; фантастический пейзаж, в котором изображённые картины кажутся лирическому субъекту» [там же, c. 350-352]. По мысли Е.Е. Завьяловой, «картина природы всегда отражается, вопервых, сознанием поэта, во-вторых, сознанием лирического субъекта. Поэтому факт воссоздания какого-либо ландшафта приобретает особую художественноэстетическую ценность, порождая опосредованное отражение воспроизведённой картины – «образ образа» [там же, c. 352]. Для ряда устойчивых инвариантных форм – литературной волшебной сказки, утопии, притчи, мифологического, фантастического, сатирического романа и т.п. – жанрообразующей является модель условного пространства. Выявлению общих закономерностей создания вымышленных моделей реальности, связанных с отдельными типами условности посвящены работы Е.Н. Ковтун [259, 260]. Автор определяет основные характеристики данной пространственной модели, проявляющиеся в произведениях названных жанров: для «героической» fantasy характерен замкнутый пространственно-временной континуум, для fantasy мистического, метафорического и «ужасного» плана свойственно отнесение действия к современности и совмещения фантастических событий с повседневными декорациями; организация повествования в мифологической модели реальности обязательно включает сакральное время-пространство; сказочная условность создает модель реальности, для которой характерна большая по сравнению с fantasy и литературным мифом замкнутость и отграниченность от повседневного «большого мира»; модели реальности, созданные средствами сатирической и философской условности, несмотря на явную соотнесенность изображаемого с существующим в действительности, воспринимаются как вымышленные, не существующие и не могущие существовать «на самом деле»; философско- аллегорической условности присущ набор художественных средств, позволяющих создать в произведении гипотетическую ситуацию, лишенную пространст- 201 венно-временной привязки к реальности, психологической глубины и индивидуального своеобразия деталей [там же, c. 275-277]. В последние десятилетия появилось большое количество исследований, в которых анализируются различные варианты модели условного пространства, являющиеся жанрообразующими: - миромоделирующая функция пространства в жанре фэнтези рассматривается в работах А.Д. Гусаровой «Жанр фэнтези в русской литературе 90-х гг. двадцатого века: проблемы поэтики» [177], Е.А. Чепур «Герой русской фэнтези 1990-х гг.: модусы художественной реализации» [566] и др. Ученые отмечают, что в фэнтези пространство лишено географической конкретности. Условный мир (чаще всего параллельный) отчасти похож на наш, однако в целом ему противопоставлен (принцип двоемирия). Обязательный в фэнтези путь героя – это, как правило, путешествие в пространстве души в поисках себя и обретения внутренней гармонии, а не перемещение в конкретном пространстве. Специфика моделирования пространства зависит от характера фантастического в произведении: в высокой фэнтези перед читателем предстают полностью вымышленные миры, в низкой – сверхъестественное привносится в нашу реальность; - в фантастических жанрах моделируется невероятное, существующее по своим законам пространство или параллельно воссоздаются два мира – действительный и сверхъестественный, наполненный нереальными с научной точки зрения и с точки зрения обыденного сознания существами и событиями. Являясь жанрообразующим, данный тип пространства обнаруживается, однако, и в литературно-художественных произведениях, которые нельзя однозначно отнести к фантастике, так как многообразие форм проявления фантастического мотивирует и разнообразие его художественного осмысления. Специфические черты модели фантастического пространства описаны в основном в работах, посвященных творчеству отдельных авторов (С.В. Брель «Диалектика духовного и материального начал в прозе Андрея Платонова: Категории "живого" – "неживого" в жанрах научной фантастики и антиутопии» [115], 202 Е.А. Великанова «Цикл "В глубине Великого Кристалла" В.П. Крапивина: проблематика и поэтика» [137], Е.А. Мызникова «Научно-художественный синтез в рассказах И.А. Ефремова 1940-х гг.» [383] и мн. др.); - в исследованиях А.А. Файзрахмановой «Поэтика русской литературной утопии 1900 – 1910-х годов» [540], А.Н. Шушпанова «Литературное творчество А.А. Богданова и утопический роман 1920-х годов» [590], Б. А. Ланина «Русская литературная антиутопия XX в.» [298], А.Н. Воробьёвой «Русская антиутопия ХХ – начала ХХI веков в контексте мировой антиутопии» [145] и др. рассматриваются жанрообразующие признаки утопии и антиутопии, к числу основных относится, по мнению ученых, и специфическая организация художественного пространства. Утопическая пространственная модель строится на противопоставлении двух миров – реального и идеального. В утопии крайне важна пространственная недостижимость государства, в которое с трудом попадает путешествующий герой: оно не только находится бесконечно далеко, но и практически недоступно для посторонних. Это объясняет замкнутость утопического мира и невозможность установления контактов с другими государствами. Герой утопии, восхищенный увиденным, подробно и реалистично описывает пейзажи и интерьеры идеального государства, однако «конкретность изображения и правдивый тон повествования не могут позволить читателю воспринимать утопическую страну «изнутри», с внутренней точки зрения» [265. c. 277]. В произведениях антиутопии действие происходит также в географически замкнутом пространстве, но, в отличие от утопии, как правило, в государствах, переживших революции или освободительные войны. Антиутопический мир отделен от всего остального мира оградой, стеной, мощным забором, морем, лесом и т.д., живет по своим законам и является агрессивным по отношению к главному герою – это основная его функция и ценностная характеристика. Небольшие размеры замкнутого пространства, а также его «просматриваемость» лишают героя возможности что-то изменить в системе. Антиутопическое про- 203 странство отталкивает личность, деперсонифицирует ее, пробуждает в ней инстинкты послушания и подчинения, так как только это ведет к физическому самосохранению. Мифологическая модель пространства определяет специфику огромного количества художественных текстов разных родов и жанров, ориентированных на изображение мифопоэтической картины мира. Наиболее полно и последовательно эта модель описана в работах В.Н. Топорова [529, 530, 531]. По мысли ученого, «мифологическое пространство всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует. Особое внимание в мифологической концепции пространства уделяется началу и концу (пределу), границам – переходам перемещения героя. Для мифологического пространства характерны следующие оппозиции: центрпериферия, статика-динамика, верх-низ, реальное-гипотетическое. В архаичной модели мира особое внимание уделено «дурному» пространству (болото, лес, ущелье, развилка дорог, перекресток). Нередко особые объекты указывают на переход к этим неблагоприятным местам или же нейтрализуют их (ср. роль креста, позже – храма, часовни, иконы и т.п.). В великих произведениях искусства от «Божественной комедии» Данте до «Фауста» И.В. Гете, «Мертвых душ» Н.В. Гоголя или «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского достаточно отчетливо обнаруживаются следы мифопоэтической концепции пространства. Более того, подлинное и самодовлеющее пространство в художественном произведении (особенно у писателей с мощной архетипической основой) обычно отсылает именно к мифопоэтическому пространству с характерными для него членениями и семантикой составляющих его частей» [530, c. 340-342]. Из целого ряда мифопоэтических исследований, появившихся в последние годы, следует выделить диссертационные работы В.А. Колотаева «Мифологическое сознание и его пространственное выражение в творчестве А. Платонова» [266], А.В. Татаринова «Формирование мифологического реализма в творчестве Леонида Андреева, 1898-1911 годы» [515], Н.О. Кирсанова «Мифологические основы поэтики Л. Н. Толстого» [245], Т.А. Купченко «Условная драма 1920 - 1950- 204 х годов: Л. Лунц, В. Маяковский, Е. Шварц» [294], Е.В. Лыковой «Неомифологические аспекты поэтики и гоголевская традиция в творчестве С.А. Клычкова: На материале романа "Чертухинский балакирь"» [334]. и др., в которых рассматривается не только структура мифологического пространства в произведениях отдельных авторов, но и общие типологические признаки этой пространственной модели. Модель географического пространства является обязательным атрибутом жанра путешествия. Ю.М. Лотман отмечал, что в русской средневековой литературе перемещение в географическом пространстве, имея прежде всего метафорический и в некоторых случаях утопический смысл, включалось в ряд оппозиций: родительский дом – монастырь/дом греха, своя земля – святые земли/нечистые земли, земные страны – райские страны/ад. «В соответствии с этими представлениями средневековый человек рассматривал географическое путешествие как перемещение по ″карте″ религиозно-моральных систем» [330, c. 298]. Ученый убедительно показал, что эта «асимметрия географического пространства и тесная связь его с общей картиной мира приводит к тому, что оно и в современном сознании остается областью семиотического моделирования» [там же, с, 303]. Рассматривая проблему генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе, В.М. Гуминский противопоставляет «средневековое понимание пространства, при котором география выступала как этическое знание о своих и чужих, праведных и грешных землях» с представлениями о географическом пространстве в литературе нового времени, когда формируется новый (дневниковый) тип повествования, определивший дальнейшее жанровое развитие. На примере анализа «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева ученый показал, что «исходная жанрообразующая оппозиция СВОЙ – ЧУЖОЙ, возникшая первоначально как "географическая", может развертываться в путешествиях по своему миру, по родной стране в виде социально-политического противопоставления. С этим связано и развитие в русской литературе "романа большой дороги" 205 (М.Бахтин), выдающимся образцом которого явились "Мертвые души"» [173, c.166]. По мнению В.М. Гуминского, «каждое литературное направление пытается создать свою систему представлений о реальном географическом пространстве, иначе говоря, собственную литературную систему географии, находящую выражение в художественной практике. Так, например, романтики построили единую всеобъемлющую картину мира (романтического космоса), широко используя саму идею движения, перемещения в пространстве, лежащую в основе жанра "путешествий" и "открытую" еще древнерусской литературой». Им принадлежит и открытие новых подтипов путешествий ("путешествия воображения", "путешествия во времени" и т.п.), которые сыграли значительную роль в последующем историколитературном процессе. Реализм определил новый тип мировосприятия и новый способ изображения действительности в жанре путешествия, актуализировав наименее условный способ освоения увиденной жизни» [там же, c. 166-167]. Вымышленное или реальное перемещение в географическом пространстве как обязательное условие жанра путешествия отмечается и в ряде других исследований: «Литература "Путешествий" в России в 1840-1850-е годы» Е.Г. Проценко [444], «Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-XIX веков» В.А. Михайлова [372], «Цикл ″путевых поэм″ И.А. Бунина ″Тень птицы″: проблема жанра» А.Л. Латухиной [302] и др. Жанрообразующую функцию выполняет географическое пространство и в близком путешествию жанре путевых заметок. Об этом убедительно пишет в своем исследовании Н.В. Иванова, которая считает связь с пространством одной из основных черт этого жанра: «путевые записки существуют в реальном географическом пространстве и во многом им определяются» [219, c. 197]. Являясь жанром документально-художественным, «путевые сочинения содержат перечень сведений о географическом положении, архитектурном облике, социальном и нередко политическом устройстве тех населённых пунктов, стран, земель, которые явились предметом их описания», поэтому в отличие от средневековых путешест- 206 вий, географическое пространство в которых условно и символично, пространство путевых записок XIX века – реально-географическое, – заключает ученый [там же, c. 199]. Следует отметить, что художественное пространство играет не только родо и жанрообразующую роль в литературном произведении, важнейшим его свойством, по мнению А.Я. Гуревича, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Ф.П. Фёдорова и др., является способность выражать специфические особенности того или иного литературного направления или типа культуры, представленного в художественном тексте. Сторонники этого подхода описывают структуру классицистической [209], романтической [208, 213, 402, 545], реалистической [293, 322, 588], модернистской [270, 290, 397, 518], постмодернистской [171, 321, 534] пространственных моделей в конкретных произведениях, творчестве отдельного писателя или целой литературной эпохе. Однако современное литературоведение до сих пор не разработало единой классификации подобных моделей. Заслуживают внимания и классификации пространственных моделей, представленные в учебных изданиях. Так, в учебнике Л.Г. Бабенко «Лингвистический анализ художественного текста» (2003) предлагается типология литературнохудожественных моделей пространства, построенная с учетом «степени характера объектной наполненности литературно-художественного пространства; явно (неявно) выраженном характере взаимодействия субъекта и окружающего пространства; фокуса, точки зрения наблюдателя, в том числе автора и персонажа» [80, c. 97]. Соответственно этим критериям выделяются психологическое (замкнутое в субъекте), географическое (близкое к реальному), точечное (внутренне ограниченное), фантастическое (наполненное нереальными существами и событиями), космическое (далекое для человека пространство, наполненное свободными и независимыми от человека телами), социальное (пространство субъекта-деятеля, субъекта-преобразователя) и смешанные типы пространства [там же, с. 97- 103]. В практикуме В.Ю. Прокофьевой «Анализ художественного текста в аспекте его пространственных характеристик» (2004) типология Л.Г. Бабенко дополня- 207 ется моделями виртуального пространства, текстовым локализатором которого служит описание происходящего на экране монитора, и пространства реминисценций, представляющего из себя сгусток примет («отсылок») к известным читателю произведениям, в то же время точечное пространство в качестве отдельной модели не рассматривается, поскольку, по мнению автора, как внутренне ограниченное может моделироваться пространство в любой из названных моделей [435, c. 43-47]. Т.Т. Давыдова и В.А. Пронин, авторы учебного пособия «Теория литературы» (2003), выделяют следующие жанровые разновидности художественного пространства (обобщенное пространство, характерное для произведений, основанных на вторичной условности – для мифа, сказания, предания, легенды, сказки, басни, притчи, утопии, антиутопии, фантастики, а также конкретное пространство, локальное, «привязывающее» изображенный мир к тем или иным топографическим реалиям и активно влияющее на суть изображаемого – в исторических поэмах, повестях, рассказах, романах, эпопеях и большей части произведений писателей-реалистов) и исторические разновидности художественного пространства (и в целом хронотопа): точечное и линейное пространство в древнейших литературах; условное в средневековой литературе; локальное в литературе Нового времени; обжитое, символическое и пространство внутреннего мира «эмансипировавшихся» от автора героев в литературе XIX века; мифологизированное, ирреальное, фантастическое; «удвоенное» (увеличенное в размерах порой до вселенских масштабов); мозаичное, психологическое и др. виды пространства в литературе ХХ века [179, c. 168-176]. В учебном пособии «Теория литературы» (2004), подготовленном сотрудниками кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпой и С.Н. Бройтманом, предлагается классификация форм времени-пространства с учетом фольклорной и литературной традиции. В основу разграничения видов и форм художественного «хронотопа» исследователи положили «характер взаимоотношений автора и героя, а также 208 двух связанных с ними действительностей», выделив при этом «модели, создающие границы между автором и героем» (речь идет в основном о временных формах: времени «объективном» (данном в восприятии повествователя) и «субъективно-переживаемом»; обычном (биографическом) времени героя и «времени испытаний» и т.п.), «модели, создающие внутренние границы в мире героя» (устойчивые пространственные оппозиции и соответствующие им внутренние границы – «верх-низ», «свое-чужое», «замкнутость-разомкнутость» и т.п., продуктивные в произведениях разных жанров) и «точечное» пространство-время, названное авторами пособия «воплощенной границей» (например, точки перехода в иную реальность в авантюрной фантастике ХХ века) [521, c. 180-183]. Кроме того, авторами описываются виды художественного пространства, свойственные определенному литературному роду и жанру (эпическое пространство-время, пространство-время драматического события и драматического действия, лирическое пространство-время) [там же, с. 307; 315-316; 347]. Научный обзор литературоведческих работ, в которых рассматриваются различные классификации художественного пространства, показал, что практически вне поля зрения исследователей оказались так называемые универсальные пространственные модели, встречающиеся в произведениях вне зависимости от их родо-жанровой и стилевой принадлежности, это и послужило основанием для разработки собственной типологии. Проанализировав разные способы моделирования действительности, встречающиеся в художественной литературе с глубокой древности и по сей день, мы заметили, что авторы делают акцент либо на изображении «объективно существующей» обжитой среды, на фоне которой осуществляются социальные отношения (социальное пространство), либо на описании внутреннего мира персонажей, представляя этот мир как некий микрокосм (психологическое пространство), либо на конструировании, вымышленной реальности, сознательно раздвигая границы художественной условности (виртуальное пространство). 209 БАЗОВЫЕ социальное психологическое виртуальное родообразующие жанрообразующие стилеобразующие эпическое лирическое драматическое географическое историческое условное и др. романтическое реалистическое модернистское и др. Рисунок 5 – Типология пространственных моделей в литературе Однако нередко мы можем наблюдать взаимное наложение названных пространственных моделей в рамках одного произведения, за счет чего усиливается роль пространственных характеристик в раскрытии авторского замысла, характеров героев и их внутреннего состояния, существенно углубляется проблемнотематическое и идейное содержание текста. Учитывая сказанное, в нашем исследовании мы делаем попытку описать выделенные модели художественного пространства (социальную, психологическую и виртуальную) как базовые (см. рис. – 5), рассмотрев на конкретных примерах из русской литературы их специфические особенности и функциональносемантическое наполнение. 210 Глава 1. Социальная модель художественного пространства Социальное пространство является самой распространенной моделью в художественной литературе. Еще М.М. Бахтин обратил внимание исследователей на то, что «…всякое литературное произведение внутренне, имманентно социологично. В нем скрещиваются живые социальные силы, каждый элемент его формы пронизан живыми социальными оценками. Поэтому и чисто формальный анализ должен брать каждый элемент художественной структуры как точку преломления живых социальных сил, как искусственный кристалл, грани которого построены и отшлифованы так, чтобы преломлять определенные лучи социальных оценок, и преломлять их под определенным углом» [89, c. 192]. Описывая хронотопы дороги, площади, замка, гостиной-салона ученый в своей работе «Формы времени и хронотопа в романе» проследил эволюцию изображения социального пространства от авантюрного греческого романа до романа раблезианского [88, c. 234-408]. Проблема «личность человека в социальном пространстве» волновала многих русских писателей, которые, насыщая художественные тексты общественной проблематикой, создавали по преимуществу произведения социально- психологические. Человек у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М. Горького и мн. др. авторов описывается не только «изнутри», но и «извне» – через взаимоотношения с другими персонажами, через среду. Вообще в русской литературе индивидуалистические идеи находили гораздо меньший отклик нежели идеи социальные, поскольку, как считали русские классики, становление личности происходит прежде всего в обществе – в противопоставлении или в солидарности с людьми [404, c. 170]. Достаточно четко модель социального пространства «прописывается» и в драматургии. В образах Москвы в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, уездного города в «Ревизоре» Н.В. Гоголя, Калинова в «Грозе» А.Н. Островского, ночлежки в 211 пьесе «На дне» М.Горького органически сочетаются изображение общественного бытия с психологической многомерностью характеров. Отмечая широкую распространенность изображения социального мира в русской литературе, отечественные ученые все же редко используют термины «социальное пространство» и «социальный хронотоп». Проведенный нами обзор современных исследований показывает, что понятие социальное пространство понимается литературоведами в лучшем случае как фон, на котором разворачиваются всевозможные социальные конфликты – военные, межнациональные, религиозные, межпоколенческие, семейные и т.п. Например, главы работы Е.М. Букаты «Поэтика художественного пространства в прозе В.П. Астафьева» (2002) построены на основе сопоставления или противопоставления социального и природного пространства в книгах писателя «Последний поклон» (1957-1992), «Царь-рыба» (1972-1975), «Прокляты и убиты» (1992-1994). В «Последнем поклоне» пространство анализируется в разных аспектах: мир социума, представленный как вещно-предметный, организованный мир и как географическое пространство и природное космическое пространство тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга. В «Царь-рыбе» автор отмечает иную пространственную организацию: социальное пространство создается внутри природного как противопоставленное ему и разделенное внутри себя. Между социумом (поселок, город) и природой существуют либо враждебные, либо гармоничные отношения. В романе «Прокляты и убиты» социальный и природный мир, по мнению исследовательницы, становятся фоном для повествования о ходе исторической жизни народа и разрушении традиционного народного уклада [118]. А.А. Шапошников в работе «Естественно-природное и социальное в пространственной картине мира раннего творчества М. Горького» (2008) анализирует реалистические художественные произведения, публицистику и эпистолярий раннего М. Горького. Автор рассматривает естественно-природный и социальный хронотопы в произведениях писателя, с одной стороны, как антитезу (по традиционной схеме "природа – цивилизация"), а с другой – как сложное системное 212 единство, «построенное на взаимодействии двух разнонаправленных тенденций – центростремительной и центробежной, что демонстрирует своеобразный художнический алгоритм или – системообразующий принцип, проецируемый и на построение авторской картины мира в целом» [579, c. 146]. Образы природного и социокультурного пространства сопоставляются и в кандидатской диссертации Н.А. Кунгурцевой «Типология пространства в раннем творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка: 1875-1882 гг.» (2009). Исследовательницей анализируются особенности и функции как естественно-природных (уральские горы, леса, река), так и социокультурных топосов (фабрика, рудник, раскольничий скит, дом уральского труженика), раскрывающих индивидуальный облик Урала и являющихся средоточием социальных противоречий [293]. Заметим, что в ряде диссертационных исследований ученые всесторонне описывают социальное пространство, но используют иную терминологию. Например, А.А. Богодерова рассматривает типологические варианты ухода (добровольного или вынужденного) из привычного социального пространства на материале беллетристических и классических произведений русской литературы второй половины XIX века. Автор полагает, что «в периоды глубокого кризиса различных сфер жизни общества актуализируется проблема выбора собственного пути, требующего ухода из дома, из среды, которая представляется губительной, греховной или просто не соответствующей внутренним запросам» [106, c. 244]. Исходя из этого утверждения А.А. Богодерова выстраивает «типологическую парадигму "уходов", осмысляет ее значение и определяет место, которое занимает ситуация ухода в сюжетном репертуаре русской литературы второй половины XIX века в контексте философских, религиозных, социальных идей этого периода» [там же, с. 7-8]. Мы считаем, что социальное пространство есть изображенная в художественном тексте модель бытия, на фоне которой протекает жизнь человека и совершаются события, имеющие социально-общественную обусловленность. Рассматривая социальное пространство в русской литературе как гетерогенное, мы, без- 213 условно, будем учитывать то, что писатели используют эту модель в совершенно разных в жанрово-стилевом отношении произведениях, согласно своим намерениям и установкам, творческому замыслу, мировоззрению, концептуальным основам литературно-художественного произведения, ценностным и другим ориентирам. 1.1. Трансформация социального пространства в русской литературе («Человек в футляре» А.П. Чехова – «Наш человек в футляре» В.А. Пьецуха) Социальное пространство, на наш взгляд, категория историческая, т.к. отражает конкретную форму социального бытия, поэтому и основные характеристики модели социального пространства непосредственно зависят от эпохи, описываемой в произведении. Принимая это во внимание, рассмотрим, как меняется художественное моделирование социального пространства во времени на примере рассказов А.П. Чехова «Человек в футляре» (1898) и В.А. Пьецуха «Наш человек в футляре» (1989). Чтобы понять смысл подобного сопоставления, необходимо сказать несколько слов о В.А. Пьецухе (р.1946), современном прозаике и эссеисте. Литературная критика относит писателя к представителям так называемой иронической прозы (иронического авангарда). Однако сам Пьецух называет себя традиционалистом: «В общем-то, я традиционалист, может быть, то, что я делаю, – это иронический реализм? Не знаю. Моя матушка, когда хотела похвалить какой-нибудь фильм, всегда говорила: жизненное кино. Думаю, что я – жизненный писатель» [169]. Исследуя нравственные изъяны современного общества, писатель часто обращается к классическим сюжетам и классическим героям. Например, в романе «Новая московская философия» (1989) мифологизирована и иронично обыграна ситуация «Преступления и наказания», хроника «История города Глупова в новые и новейшие времена» (1989) является сатирой в духе М.Е.Салтыкова-Щедрина, а 214 цикл рассказов «Чехов с нами» (1990) не что иное, как открытая полемика с автором «Человека в футляре» и «Крыжовника». Учитывая то, что чеховский интертекст в прозе В.А. Пьецуха был всесторонне рассмотрен в диссертации Е.В. Михиной [376] мы не будем затрагивать этот аспект анализа. Наша задача – увидеть сходство и различие в обрисовке писателями именно социального пространства и определить его функции в текстах. Уже в самих названиях рассказов мы видим пространственную метафору, которая давно стала крылатым выражением в значении «человек, испытывающий страх перед непредсказуемостью жизни, стремящийся отгородиться от внешних воздействий, ожидающий негативных последствий от тех или иных действий окружающих». Заимствовав название чеховского рассказа, В.А. Пьецух добавил в него слово наш, вызывая у читателя желание сопоставить человека чеховской эпохи и нашей (судя по времени создания рассказа, эпохи перестройки). Итак, основная идея того и другого рассказа – показать человека, замкнутого, задавленного страхами, отчужденного от всей окружающей действительности, выявить причины футлярности, таящиеся, возможно, в современной ему социальной реальности. Понять точку зрения А.П. Чехова непросто, поскольку произведение начинается повествованием от третьего лица, а далее вводится рассказчик, учитель гимназии Буркин, и слушатель, ветеринарный врач Иван Иваныч ЧимшаГималайский, каждый из которых имеет свое собственное мнение относительно футлярного образа жизни. Рассказчик Буркин, сосед и коллега Беликова, характеризует его как «ракаотшельника», «улитку, старающуюся уйти в свою скорлупу» и рассуждает о природе характера подобных людей: «Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает?» [46, т. 10, с. 42]. 215 Иван Иваныч после услышанной истории задумывается над проблемой футлярности и высказывает предположение, что подобных Беликову людей немало, и что они – «жертвы» общества, которое заставляет человека примиряться и защищаться, «сносить обиды, унижения»: «А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр?» [там же, с. 54]. Наконец, в собственно авторском повествовании кроется еще одна трактовка футлярного существования, тонко подмеченная венгерским исследователем Л. Середашем: «Идейная кульминация в рассказе – пейзаж, тоже относящийся к повествованию автора. Описывается идиллический ландшафт, околица деревни ночью. Тишину ландшафта писатель ассоциирует с тишиной души: "кажется, <…> что зла уже нет на земле и всё благополучно". Здесь снова употребляется глагол укрыться, подтверждая формально, что, по мнению автора, и такое состояние духа является бытием-в-футляре, формой укрытия от действительности, по которой тоскует каждый человек, не только в рассказе, но и в жизни» [486, c. 38]. Вполне естественно, что столь разные точки зрения, данные в рассказе самим А.П. Чеховым, породили и разные толкования в критике и литературоведении. Например, М. Эпштейн, видя в Беликове наследника гоголевского Башмачкина, считает причиной замкнутого образа жизни героев болезнь, называемую социофобией: «В обоих случаях речь идет о тяжелой форме социофобии. Так называется недуг, от которого страдает множество "маленьких" людей во всем мире, желающих только одного – затвориться в своем футляре (например, в США к этой группе принадлежит 13 процентов населения). Социофобия – это страх заводить дружеские, любовные, семейные, какие бы то ни было человеческие отношения. В старину такой комплекс людобоязни именовался мизантропией, поэтому слово "Антропос", сладостно произносимое мизантропом Беликовым, зву- 216 чит в его устах, конечно, как чеховская насмешка. И Башмачкину, и Беликову тяжелее всего дается именно общение с людьми» [597]. В.Б. Катаев, придерживаясь традиционной точки зрения5, видит в Беликове «продукт эпохи»: «Рассказ о гимназии и городе, терроризированных страхом, который внушало ничтожество, вобрал в себя признаки целой эпохи в жизни всей страны за полтора десятилетия. Да, это была вся Россия эпохи Александра III, только что отошедшей в прошлое, но то и дело и себе напоминавшей. <…> Из описания тщедушного гимназического учителя вырастают точно обозначенные приметы эпохи: мысль, которую стараются запрятать в футляр; господство циркуляра запрещающего; разгул шпионства, высматривания, доноса; газетные статьи с обоснованием запретов на все, вплоть до самых нелепых («запрещалась плотская любовь»). И как итог – страх рабский, добровольный, всеобщий» [240, c. 22-23]. Влияние социума на офутляривание людей отмечает и Л. Середаш, который, правда, в отличие от отечественных исследователей, считающих рассказ Чехова «блестящим резко социальным памфлетом» [там же, с. 24], оправдывает Беликова, видя в нем жертву современного ему общества, и отмечает, что «Чехов не 5 Речь идет о трактовке рассказа прежде всего современниками А.П. Чехова. Например, А.М. Скабичевский писал в 1898 году: «... личность Беликова является замечательным художественным откровением г. Чехова; одним из тех типов, которые, вроде Обломова или Чичикова, выражают собою или целую общественную среду, или дух своего времени» («Сын отечества», 1898, № 238, 4 сентября). Мысль Скабичевского о «человеке в футляре» как общественном типе развил А.И. Богданович: «Беликов – «мастерски написанный портрет, вдумываясь в который чувствуешь, какая глубокая правда лежит в его основе. Беликов — это сама жизнь, та житейская тина, болото, с которым приходится иметь дело на каждом шагу, которое всё затягивает, всё грязнит и душит в своей вонючей грязи. Беликов – это общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна, недоступна человеческим интересам, страстям и желаниям <...> Вся сила Беликова <...> в окружающей среде, в слабости ее, в расплывчатости нравственных и всяких других устоев, в бессознательности подлости, составляющей общественную основу той жизни, где процветают Беликовы» («Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 6) – цит. по: Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1974-1982. Т. 10: Рассказы, повести 18981903. – М.: Наука, 1977. – С. 375-376. 217 считает бытие-в-футляре предосудительным, так как оно является естественной частью всякой человеческой жизни» [486, c. 38]. Чтобы лучше разобраться в замысле писателя, на наш взгляд, нужен более детальный анализ социального пространства, функции которого выполняют в рассказе провинциальный город и гимназия, в которой работал Беликов. Характеристика города дается несколькими персонажами, прежде всего рассказчиком Буркиным, который обвиняет Беликова в том, что он запугал весь город: «Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город!» [46, т. 10, с. 44]. Однако если бы действительно вина за положение в городе лежала только на Беликове, то после его смерти оно должно было бы измениться к лучшему. Сам же Буркин признается: «прошло не больше недели, и жизнь потекла попрежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше» [там же, с. 53]. Изменений и не может быть, поскольку описанное в рассказе провинциальное общество не менее футлярно, чем сам Беликов. Это стразу же заметил приехавший из Малороссии Коваленко: «Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке» [там же, с. 49]. Так же негативно характеризует город и Чимша-Гималайский. В первой своей реплике он выражает пока еще робкое несогласие Буркину, считающему Беликова главным виновником «удушающей атмосферы»: «Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть» [там же, с. 44]. В конце же рассказа он уже прямо и резко называет жизнь в городе душной, тесной, невы- 218 носимой: «Видеть и слышать, как лгут, – проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, – и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!» [там же, с. 54]. Второй образ, формирующий социальное пространство города, – гимназия, учителей которой Буркин характеризует как «народ всё мыслящий, глубоко порядочный» [там же, с. 44]. После такого описания кажется неправдоподобным то, что их мог застращать «маленький, скрюченный» Беликов, которого из дому вытащили «точно клещами». Учителя гимназии, как и остальные жители города, ведут полусонное механическое существование, из которого на некоторое время их может вывести желание хоть как-нибудь развлечься, например, женить Беликова: «Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым?» [там же, с. 46-47]. И вот здесь-то особенно явным становится «подобие» Беликова и его коллег: как он «давил их всех и они уступали», так и они внушили ему нелепую мысль жениться, что, в конце концов, и привело его к смерти. Конечно, не все страхи героя Чехова можно оправдать (его не зарезал Афанасий, и к нему не забрались воры), но вторжение в его личное приватное пространство, попытка насильно изменить его судьбу делает стремление Беликова защититься от влияния внешнего мира в своем футляре вовсе не безосновательным. Итак, текстовый анализ социального пространства в рассказе А.П. Чехова показал, что футлярный образ жизни связан не только с характером главного героя, но и с общественной обстановкой в городе, где повсеместно царит страх перед тем, «как бы чего не вышло». Кстати, это хорошо почувствовали уже современники писателя, в частности критик А.И. Богданович, писавший, что Чехов не 219 дает «ни малейшего утешения, не открывает ни щелочки просвета в этом футляре, который покрывает нашу жизнь, "не запрещенную циркулярно, но и не вполне разрешенную". Созданная им картина получает характер трагической неизбежности» [там же, с. 377]. И действительно, «общерусское» чувство страха не исчезает со временем, оно лишь модифицируется, приобретая новые оттенки, о чем убедительно говорит В.А. Пьецух. Его герой, учитель русской литературы Серпеев, в отличие от Беликова, который «боялся, так сказать, выборочно», боялся «почти всего: собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих, включая древних старух, которые тоже могут походя оболгать, неизлечимых болезней, метро, наземного транспорта, грозы, высоты, воды, пищевого отравления, лифтов, – одним словом, почти всего, даже глупо перечислять» [35, c. 78]. Дополняя в каждом новом абзаце список страхов своего героя, автор убеждает читателя в том, что все они вполне обоснованы: с раннего детства Серпеев начал бояться смерти, так как «горе-отец его уведомил, что-де все люди имеют обыкновение умирать, что-де такая участь и Серпеева-младшего не минует» и насилия, поскольку «его частенько лупили товарищи детских игр»; в юности испугался голода, простояв «три часа в очереди за хлебом»; в студенческие годы – женщин, из-за слишком активного внимания «чудом влюбившейся в него сокурсницы по фамилии Годунова» [там же, с. 78-79] и т.д. Причем во всей богатой палитре страхов Серпеева есть как общечеловеческие (боязнь воды, высоты, неизлечимых болезней, собак и др.), так и социальнополитические страхи (боязнь милиционеров, повесток в почтовом ящике, анонимных доносов, народного суда). Особенность героя Пьецуха в том, что он страдает от всех возможных человеческих страхов разом: «В конце концов Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер, с тем чтобы, так сказать, офутляриться совершенно» [там же, с. 79]. 220 Как справедливо отмечает Е. Петухова, в рассказе Пьецуха «место и время локальны, но не конкретны, как и у Чехова: обычный провинциальный городок, время – неконкретизированное настоящее, однако читатель Пьецуха, благодаря собственному социально-историческому опыту, отлично понимает, о каком времени и о каких его реалиях идет речь, именно от своего времени отгораживается персонаж Пьецуха» [415, c. 427-434]. Однако в отличие от чеховского героя, который несмотря на всю неоднозначность его трактовки не вызывает симпатий и сочувствия у читателя, Серпеева жалко. Автор рисует его человеком порядочным, хорошим учителем, который преподает литературу не просто как учебный предмет, а как гуманитарную дисциплину – «учит душе», руководствуясь идеалами «светлой литературы» [35, с. 81]. Страхи Серпеева не имеют ничего общего с трусостью и малодушием Беликова. Мало того, он постоянно совершает смелые (и даже рискованные) поступки: не боится заменять «глупые плановые темы» самовольными (это он «проделывал более или менее регулярно»); не желает перестраиваться перед инспектором, т.к. отступить от своих нравственных принципов, потерять веру и уважение учеников для него оказывается страшнее, чем реальное наказание со стороны начальства; наконец, после увольнения из школы организовывает занятия на дому для заинтересованных ребят, прекрасно осознавая, что его могут «арестовать и засадить в кутузку за подрывную агитацию среди учащейся молодежи» [там же] (ср. у Чехова: «раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя», «надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете!», «ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло!» и т.п.). Итак, в Серпееве мы видим зеркальное отображение Беликова: чеховский герой, как мы отмечали выше, вполне соответствует тому обществу, в котором живет, и отличается от остальных жителей города лишь более утрированным желанием упрятаться в оболочку, а «наш человек в футляре» Пьецуха – один из немногих, сумевших сохранить душу, сердце, свой внутренний мир в то время, ко- 221 гда «ученики свободно могли отомстить за неудовлетворительную отметку», а «учителя, положим, написать анонимный донос, или оскорбить ни за что ни про что, или пустить неприятный слух», когда вокруг «все чуточку не в себе», и работать приходится среди «тех злых шалопаев, которые почему-то так и льнут к нашим детям и которые, на беду, составляли большинство учительства в его школе» [там же, с. 80]. Дважды повторяя фразу «нет, все-таки жизнь не стоит на месте» [там же, с. 78, 82], Пьецух убеждает читателя в том, что в обществе, несомненно, происходят значительные перемены, и слово «наш» в названии рассказа приобретает дополнительный смысл: не только наш современник, но и человек нашего круга, разделяющий наши убеждения, близкий по духу, по словам Е. Петуховой, «футлярный» диссидент [415, c. 429]. Острота критики социума, как нам кажется, дана с позиций человека эпохи перестройки, с этим же временем, временем социальных ожиданий и надежд, связаны оптимизм писателя и отразившееся в рассказе ощущение близости долгожданной, невиданной по советским меркам свободы. Таким образом, сопоставительный анализ произведений А.П. Чехова «Человек в футляре» и В.А. Пьецуха «Наш человек в футляре», показывает, что основой художественного моделирования действительности и в том, и другом тексте является социальное пространство, которое предстает как категория историческая, отражающая конкретные, трансформирующиеся во времени, формы социального бытия. Открытый спор с Чеховым, использование его названия и сюжета, актуализированного в ином хронотопе, дает возможность Пьецуху разрушить социальный миф, связанный со стереотипным толкованием понятия футлярного образа жизни. 1.2. Интертекстуальная игра как способ моделирования социального пространства (Л. Толстой – В. Пьецух) В первой части нашего исследования один из параграфов мы посвятили анализу национального пространственного образа деревни в «Утре помещика» Л.Н. Толстого, заострив внимание на трактовке писателем характера русского че- 222 ловека, данной через пространственные описания: широкая панорама деревенской жизни, как мы показали в текстуальном анализе, создается писателем по модели – жилище – пейзаж – русский характер. Споря с великим классиком, В.А. Пьецух в рассказе «Утро Помещика» из книги «Плагиат» (2006) расставляет совсем другие акценты. В слове от автора он рассуждает о том, что «что фабульная основа – категория бессмертная, кочевая, как Вечный Жид, то есть она переходит по наследству от одного поколения писателей к другому наравне со словарным запасом и законами языка» [35, c. 4]. Однако, называя свою книгу «Плагиатом», он ставит перед собой задачу не «своровать», а надерзить великим предшественникам «предпочтительно на их собственном материале, желательно устами их же персонажей и по возможности тем же самым каноническим языком». В. Пьецух сам указывает читателю, что создает новые смыслы через диалог с конкретно обозначенными чужими текстами, называя главы в книге «Льву Николаевичу», «Николаю Васильевичу», «Антону Павловичу», «Михаилу Евграфовичу», в некоторых случаях без изменения цитируя заглавия их произведений («Детство», Отрочество», «Крыжовник» и т.п.) и по ходу повествования вставляя свои комментарии к тому тексту, от которого отталкивается. Таким образом, прозрачная связь с прототекстом снимает одну из задач исследования, которая заключается «в обнаружении того текстового пространства, в котором происходит пересечение различных смысловых позиций» [140, c. 31]. О полемической заостренности рассказа В.А. Пьецуха по отношению к тексту-предшественнику говорит уже название: не «Утро помещика», как у Л.Н. Толстого, а «Утро Помещика», так как «Помещик – это такая фамилия». Толстовский Дмитрий Нехлюдов бросил университет, чтобы «посвятить себя жизни в деревне», считая своей прямой обязанностью заботиться о счастье своих крестьян, «за которых он должен будет отвечать богу» [40, т. 4, с. 130]. Илюша Помещик, герой В. Пьецуха, получив условный срок за спекуляцию, был сослан к бабке в глухой городок Калошин «частью от греха подальше, частью в наказа- 223 ние за грехи». Подобное отличие указывает на разные задачи авторов: Толстой делает попытку воспроизвести жизнь русской деревни во всей ее сложности и противоречивости, показать столкновение двух социальных психологий – помещичьей и крестьянской, Пьецух же показывает возможность интеллектуальной игры с известным текстом. Для этого в обширной сноске он напоминает читателю основную идею «Утра помещика» Л.Н. Толстого и предлагает сопоставить известный литературный образ и своего героя: «Летом 1852 года Лев Николаевич Толстой начал писать «Роман русского помещика», который через пять лет вылился в «Утро помещика», но уже не роман, а довольно большой рассказ. Главным героем этого сочинения выведен молодой русский феодал-романтик, ищущий счастья в прелестях деревенской жизни и находящий его, по характеристике автора, «не в спокойствии, не в идиллических картинах, но в прямой цели, которую она представляет, – посвятить свою жизнь народу». Поскольку с тех пор понятия о счастье сильно переменились, занятно было бы вывести такого поисковика из нынешних, из сравнительно неромантиков и относительно простаков. Этот опыт тем более извинителен, что, по утверждению одного знаменитого писателя, сюжетов в литературе всего восемь, на единицу больше, чем нот, составляющих звукоряд» [35,c. 53]. Ироничный тон, заданный с начала повествования, указывает, казалось бы, на несоответствие идейного и характерологического уровней рассматриваемых текстов. Однако, анализируя глубинный интертекстуальный слой в рассказе Пьецуха, можно обнаружить серьезные переклички с Толстым, которые служат способом изображения современной автору социальной действительности и возможностью еще раз порассуждать над основами русского национального характера. Сюжет «Утра помещика» Л.Н. Толстого складывается из описания «путешествия» Дмитрия Нехлюдова по деревне: в июньское воскресенье один за другим он обходит крестьянские дома с целью изменить образ жизни своих мужиков, но смирение, равнодушие к материальному благополучию, лень, воровство, неумение самостоятельно организовать свою личную жизнь и другие «исконные» черты ха- 224 рактера его крестьян вызвали в нем лишь злобу, стыд и бессилие, а «вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство» [40, т. 4, с. 130]. Подобным образом строит свой сюжет и В.А. Пьецух: «Одним июньским воскресным утром Илюша Помещик после завтрака собрался было идти на двор навести коровяка в огромном чане, который врос в землю сразу за банькой, но только вышел и взял в руки вилы, как вдруг что-то призадумался, оставил инструмент и уселся на перевернутое ведро», почувствовав «тревожную грустьтоску» он решает «навестить по очереди троих своих калошинских приятелей…» [35, c. 56-58]. Сопоставляя явления высокого и низкого уровня («грустное безнадежное чувство» Дмитрия Нехлюдова было связано с размышлениями о причинах бедственного положения крестьян, а «грусть-тоска» Илюши Помещика связана с двумя коренными вопросами: «он думал о конечности личного бытия и о том, что есть истинный человек»), В. Пьецух переосмысляет человеческие ценности, подает их в ироническом ракурсе. В тоже время, если Толстой всей логикой своего рассказа говорил о невозможности решения острейшей на то время социальной проблемы, то Пьецух, описывая современную ему действительность, показывает путь выживания для своего героя именно в деревне: «…эти самые тридцать соток по-новому наладили его жизнь. Тут скорее всего крестьянские корни дали о себе знать, ибо со временем он так пристрастился к земледелию, как иных людей до нервного истощения увлекают женщины, карты и алкоголь. Он выращивал у себя на усадьбе картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, горох, помидоры, огурцы, зелень, два вида перца, грибы вешенки и табак. Грибы он сам закатывал в трехлитровые банки и сдавал в потребительский кооператив, табак сам сушил и продавал оптом одному армянину из Старой Руссы и таким образом обеспечивал свои посторонние потребности, включая такие милые излишества, как вафельный торт 225 «Ленинградский», который он съедал за один присест. Впоследствии он завел несколько семей пчел, девять куриц с петухом, молочного поросенка и на соседнем заброшенном плане вырыл за два года обширный пруд, куда запустил малька зеркального карпа и карася. К началу 90-х годов он уже был автономен, как подводная лодка, и его не страшил никакой социально-экономический переворот. А это как раз было время переворотов, которые вгоняли соотечественников в смятение и тоску» [ там же, c. 54]. Важно отметить, что сюжетообразующим элементом и в том и в другом произведении является художественное пространство. Причем, Пьецух сознательно моделирует его как интертекстуальное, широко обращаясь к цитации и параллелям. Так, например, он указывает, что городок Калошин «постоянно переиначивали в поселок городского типа и обратно, поскольку он был совсем маленький, немощеный, избушчато-огородный и шесть месяцев в году утопал в грязи», а «из окна видно было часть переулка и половину Советской площади, посреди которой стояла огромная гоголевская лужа, просыхавшая только в конце июля и превращавшаяся в отличный каток для детворы с наступлением холодов <…> в луже плескались гуси и бродили пьяные, парами, обнявшись, как-то сосредоточенно бродили, точно исследовали глубину» [там же, c.53-56]. Подобные приметы маленького провинциального городка встречаются часто в русской литературе от Н.В. Гоголя до А.П. Чехова. С горькой иронией вкладывает Пьецух в уста одного из своих героев слова, рисующие русского человека «беспомощным овладеть пространствами и организовать их» [99, c. 60]. «– Я удивляюсь на наш народ! – продолжал Субботкин. – Запусти сюда каких-нибудь голландцев, так через пять лет города будет не узнать, именинный торт будет, а не город, который надо срочно переименовывать, скажем, в Калошинштадт. Ведь местоположение чудесное, две реки, липы столетние стоят, а плюнуть хочется: всё заборы, сараи, избушки, тление и разор!» [35, c.59]. 226 В пространственной организации толстовского «Утра помещика», большое значение имеет описание жилища крестьян (двора, внешнего вида дома и его внутреннего убранства), а также деревенского пейзажа. Именно через пространственные характеристики Л.Н. Толстой показывает некоторые национальные черты русского характера (подробнее в параграфе 2.1 первого раздела). Пьецух использует ту же пространственную модель, что и Толстой. Особенно много общего в эмоциональной оценке жилищ. Нехлюдов был поражен не только нищетой, но и нечистоплотностью своих крестьян: маркерами крестьянского дома становятся ветхость, грязь, теснота, темнота, вонь, наличие в доме насекомых (мух, тараканов, клопов). Илюша Помещик также с неприязнью рисует жилища своих приятелей, калошинских интеллигентов: «Его (ветеринара Володи Субботкина) половина состояла из двух очень просторных комнат, в которых неприятно удивляли истертые половики, грязная посуда на обеденном столе, вечно неприбранная постель…» [там же, c. 58-59], или «Пахло тут (в комнате учителя физики Соколова) противно, чем-то химическим, навевавшим легкую тошноту…» [там же, c. 60], «Впрочем, и тут (в доме бывшей хористки Кировского театра Софьи Владимировны Крузенштерн) пахнет нехорошо: затхло, старостью, так что поначалу дышать неприятно и тяжело» [там же, c. 61]. В то же время пейзаж Калошина описывается в другой тональности: «…он давно полюбил маленький Калошин именно за то, что было так ненавистно Субботкину: за тихие пустынные улочки, спускавшиеся к реке, поросшие по сторонам крапивой и муравой, за приютные домики в три окна с неистребимой геранью в жестянках на подоконниках, за почерневшие от дождей заборы, из-за которых ломился блекло-розовый яблоневый цвет, за крашеные лодки, как-то беспробудно лежащие на берегу перевернутыми вверх дном, вообще за тот дух непричастности и покоя, что источают маленькие русские города» [там же, c. 59]. Итак, прозрачные интертекстуальные связи с рассказом Л.Н. Толстого, использование толстовского названия и сюжета, литературные реминисценции позволяют Пьецуху по-новому решать те вопросы, которые называют вечными. 227 Заканчивает свою полемику с великим классиком В.А. Пьецух следующими словами: «Литература существует, в частности, для того, чтобы налаживать связь времен. Сто пятьдесят лет тому назад Лев Толстой вывел череду сельских монстров и феодала-романтика, который бьется как рыба об лед, пытаясь осчастливить своих крестьян, а их нельзя осчастливить, потому что вообще осчастливить человека никак нельзя. В результате помещик Неклюдов любуется на ловкого деревенского парня Илюшу Дутлова, счастливого в своей первобытной простоте, и вопрошает себя, «зачем он не Илюшка», а недоучившийся студент, романтик и феодал. Следовательно, связь времен заключается в том, что и помещик Неклюдов понимает, что счастье заключается все же не в том, чтобы «посвятить свою жизнь народу», и помещик Илюша Помещик понимает, что счастье – это когда ты покачиваешься в гамаке, наблюдая за движением облаков» [там же, c. 64]. Таким образом, выражая идею толстовской повести «Утро помещика» как поиск героем личного счастья, В.А. Пьецух иронизирует по поводу акцента критиков и литературоведов на социальной проблематике произведения. Предметом осмысления Л.Н. Толстого, по мысли нашего современника, становятся не столько социальные противоречия, сколько личное разочарование молодого писателя в своих гуманистических устремлениях. Выводы по первой главе: В данной главе мы показали, что изучение модели социального пространства в художественной литературе касается, с одной стороны, анализа идейнозначимых общественных конфликтов, лежащих в основе произведений – социально-политических, социально-идеологических, социально-психологических и др., а с другой – способов изображения человека в окружающем его социуме, в его связях с другими людьми. 228 Сопоставление произведений русской классики и современной литературы позволило отметить важные трансформации в трактовке образов, формирующих социальное пространство. Так, например, для А.П. Чехова футлярный образ жизни – это болезнь всего общества, задавленного страхами, а для В.А. Пьецуха – единственный способ уберечь душу от пагубного влияния окружающей среды (см. рис. 6). Человек в футляре провинциальный город Наш человек в футляре провинциальный город гимназия школа дом дом Рисунок 6 – Социальное пространство в рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре» и рассказе В. А Пьецуха «Наш человек в футляре» У Л.Н. Толстого на фоне русской деревни показан неразрешимый конфликт между барином и крестьянами, а В.А. Пьецух в своем рассказе «Утро Помещика», используя прием интертекстуальной игры, подвергает ироническому переосмыслению не только социальную, но и нравственно-философскую проблематику толстовской повести (см. рис. 7). 229 Утро помещика провинциальный городок деревня дом Утро Помещика пейзаж нравственные искания героя показать неразрешимый социальный конфликт дом пейзаж поиск личного счастья надерзить великому предшественнику на его собственном материале Рисунок 7 – Социальное пространство в повести «Утро помещика» Л.Н. Толстого и рассказе «Утро Помещика» В.А. Пьецуха 230 Глава 2. Психологическая модель художественного пространства С недавнего времени в литературоведении наряду с понятием внутренний мир героя стало использоваться понятие психологическое пространство. Так, Л.Г. Бабенко, выделяя наиболее продуктивные литературно-художественные модели пространства, психологическим пространством называет внутренний мир субъекта, отраженный в тексте художественного произведения, локализаторами которого обычно выступают номинации органов чувств: сердце, душа, глаза и т.п. [80, c. 97]. Однако мы не считаем названные понятия синонимичными. Изображение внутреннего мира человека, его мыслей, чувств, желаний, стремлений и т.п., действительно, является признаком психологизма в художественной литературе, в то же время «традиционные обозначения того, что испытывает герой» и даже, «развернутые аналитические характеристики» душевных переживаний персонажа [555, c. 213] психологическим пространством назвать нельзя. Автор моделирует психологическое пространство только тогда, когда изображает внутренний мир как локус, вместилище, используя для этого лексику с пространственным значением, например: Мозг – шире, чем небесный свод – / Попробуй, сопоставь – / И мозг охватит неба синь /(И ты войдешь туда). // Мозг глубже, чем морское дно – / Попробуй, сопоставь – / И мозг вместит весь океан,/ Как губка все впитав (Э. Дикинсон, пер. с англ. В. Постникова). Именно в значении «замкнутое в субъекте пространство» термин «внутренний мир» употребляется в работах психологов. «В самом общем и широком смысле слова, пишет Т.Н. Березина в докторской диссертации «Пространственновременные особенности внутреннего мира личности» (2003), внутреннее пространство – это форма существования психического вообще. В более узком смысле слова внутреннее пространство – это форма существования внутренних образов» [101, c. 31]. 231 Структуру внутреннего мира обстоятельно описывает академик В.Д. Шадриков: «Внутренний мир человека представляет собой потребностноэмоционально-информационнуюи субстанцию, формирующуюся при жизни человека на основе его индивидуальных свойств и качеств и отражающую все многообразие его бытия. <…> Все процессы во внутреннем мире разворачиваются одновременно на двух уровнях – сознательном и бессознательном». Ученый считает, что пространственно-подобны все психические процессы: память, восприятие, мышление, воображение [575, c. 20]. В работе Л.М. Веккера «Психика и реальность. Единая теория психических процессов» (1998), как пространственные структуры рассматриваются не только мышление и восприятие, но также эмоции, речь и сознание [136]. Исходя из этих, наиболее разработанных в психологии представлений, мы попробуем дать определение психологического пространства, которым будем пользоваться далее при анализе художественных текстов. Итак, психологическое пространство – это внутреннее пространство человеческого «Я», в котором сосуществуют два мира – мир сознательного и мир бессознательного (см. рис. – 8). Мир сознательного включает в себя: - ментальное пространство (отображение внешнего пространства в субъективных формах); - интеллектуальное пространство (пространство человеческой мысли, в котором формируются и живут идеи, представления, образы); - духовное пространство (внутренний психический мир человека: его переживания, настроения, чувства и т.д.); - чувственные образы (зрительные, слуховые, осязательные); - пространство воображения (создание образов, представлений, идей и манипуляция ими). Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические процессы, свойства и состояния человека – внутренний мир. Кроме сознательного, у человека есть и сфера бессознательного, т.е. явления, процессы, 232 свойства и состояния, оказывающие влияние на поведение человека, но не осмысливаемые им. В художественном тексте находят отражение следующие элементы мира бессознательного: - интуитивное пространство (существуют различные объяснения феномена интуиции, но при всех различиях подчеркивается связь интуиции с неосознаваемыми формами психической деятельности. На интуитивном уровне задействованы все формы чувственности (ощущения, восприятие, память, воображение, эмоции, воля («чувственная интуиция»)) и интеллекта, логического мышления («интеллектуальная интуиция»); - пространство сновидений (согласно З. Фрейду, сновидение – это душевная жизнь во время сна. Сновидения свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных потребностях) [551]; - пространство грез (полусон, мечта, создание воображения); - пространство ассоциаций (ассоциация – это определённая усвоенная духовным опытом личности связь совершенно разных представлений, возникающая в результате их частичного сходства, смежности или противоположности. Основанный на свободных, неожиданных ассоциациях художественный текст обладает редкой красочностью и многозначностью авторских обобщений); - пространство воспоминаний (образы и сюжеты прошлого, всплывающие в памяти, чаще всего помимо сознательных намерений человека). 233 Интеллектуальное пространство Ментальное пространство Мир бессознательного Духовное пространство Интуитивное пространство Мир сознательного Пространство воображения Мир чувственных образов Пространство сновидений Пространство ассоциаций Пространство воспоминаний Пространство грез Рисунок 8 – Структура психологического пространства Следует заметить, что названные компоненты психологического пространства не могут быть представлены все и в полном объеме в художественном произведении. Каждый отдельный текст уникален, мир созданный автором, обусловлен его намерениями и установками, его творческим замыслом, мировоззрением, концептуальными основами литературно-художественного произведения, ценностными и другими ориентирами. 2.1. Психологическая модель в эпическом пространстве («Красный смех» Л. Андреева) Особенности моделирования психологического пространства в прозаическом тексте покажем на материале повести Л.Н. Андреева «Красный смех». Л. Андреев – один из самых сложных и оригинальных русских писателей. К настоящему времени наработан богатый пласт научной и критической литературы, посвященной прозе, драматургии и публицистике Л. Андреева. Монографии Н. Арсентьевой, Ю. Бабичевой, В. Беззубова, Л. Иезуитовой, Е. Михеичевой, И. Московкиной, работы В. Гречнева, С. Ильева, В. Келдыша, В. Мескина, 234 К. Муратовой, А. Татаринова, Ю. Чирвы, В. Чувакова и др. касаются общей характеристики наследия писателя, историко-литературного анализа отдельных периодов его творчества, вопросов творческого метода, поэтики, психологизма, жанрового своеобразия и пр. В то же время многие проблемы творчества писателя очерчены лишь пунктирно. В частности, до сих пор не была предметом специального изучения структура художественного пространства в повести «Красный смех», хотя нельзя отрицать тот факт, что ряд исследователей, анализирующих повесть в самых различных аспектах, делает весьма тонкие попутные замечания, касающиеся пространственной организации произведения. Приведем несколько ценных для нашей концепции наблюдений. В. Беззубов и Л. Карлик, рассматривая «Красный смех» в контексте ранней прозы Л. Андреева, заметили, что пространственная модель в повести строится на оппозиции внутреннего и внешнего пространства, причем в отличие от других произведений первого периода творчества, система пространственных характеристик здесь перевернутая: «Ценностной перевернутости пространственных оппозиций в этой повести соответствует перевернутость всех нормальных представлений. Война – это для Андреева – безумие, при котором мир переворачивается с ног на голову. <…> Безумный мир перевернут не только по вертикальной, но и по горизонтальной оси: «В голове все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро перевернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля» [93, c. 75-76]. И. Московкина, называя хронотоп «Красного смеха» символико- мифологическим, говорит о его сильном эмоциональном воздействии на читателя и связывает эти особенности с дальнейшем развитием в прозе Андреева принципов экспрессионизма. Исследователь указывает на глобальный характер пространства в повести и, что для нас особенно значимо, отмечает перцептивный характер его отображения (через призму восприятия героев-рассказчиков): «От вездесущего Красного смеха спасения нет (как не было спасения ото Лжи, Мысли, Безумия, Молчания, Тьмы в предыдущих произведениях), так как он заполняет 235 весь мир. Красный смех преследует героя-рассказчика на войне, а его брата и дома. В финале его активность достигает апогея: Красный смех стоит под окном, а комнаты заполняются трупами, вытесняя героя-рассказчика из собственного жилища, не оставляя на Земле места живым. <…> через призму их восприятия воссоздана и психология массы, а, вернее, массовый психоз, порожденный безумием войны (как на поле боя, так и в тылу)» [380, c. 120-121]. Анализируя внутреннюю форму повести «Красный смех», И. Минералова также касается вопроса ее пространственной организации. По мнению ученого, пространственная модель произведения архетипична и строится на основе солярных мифов: «Картина войны, начинающаяся гиперболизированным образом солнца, услужливо подсказывала современникам, о какой войне идет речь: не только о всякой, лишенной примет, но о войне со "Страной восходящего солнца". Так возникает и прапамять о Востоке, и модная тогда оппозиция Восток – Запад, или Восток – Россия. Любопытно, что Л. Андреев разворачивает символический "солнечный" план через расширение мифологических концентрумов солярного мифа. "Маленький сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг". Немыслимо громадное солнце – зрачок глаза – маковое зернышко, мизерно малое, – взаимно-проницаемы и взаимно отражаемы: макрокосм и микрокосм человеческого бытия» [366, c. 41]. Как показывают приведенные выше цитаты, современные исследователи, исходя из своих конкретных задач, касаются совершенно разных аспектов анализа языка пространственных отношений в «Красном смехе». Мы предлагаем целостный анализ структуры художественного пространства произведения, так как считаем, что пространственный уровень в повести является одним из доминантных, имеет глубокое символическое значение и теснейшим образом связан с решением Л. Андреевым кардинальных проблем бытия. На первый взгляд, авторская модель художественного пространства повести вполне традиционна: как оппозиционные представлены пространство войны и 236 пространство дома. В первой части произведения пространство войны описывается непосредственно рассказчиком, участником военных действий, и кажется вполне «реальным»: «И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар…» [1, т. 2, c. 26-27]. Пространство дома возникает как видение в почти уже больном, сознании офицера: «Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату» [там же, c. 26]. Рассказчик физически ощущает границу между этими двумя пространствами: как только он закрывает глаза, появляется «знакомый и необыкновенный образ – «клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин» на его столике – а когда открывает, то вновь попадает в военную действительность: «Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать» [там же, c. 26]. Сюжет «Красного смеха» организован как стремление героя вырваться из враждебного пространства войны в безопасное пространство дома. Единственное страстное желание рассказчика – «хочу домой». «– Я хочу домой! – с тоскою сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо. <…> – Я хочу домой! кричал я, затыкая уши» [там же, c. 42]. 237 Вернувшись с войны калекой, герой наслаждается домашним уютом и не теряет надежды на будущее. В родном доме, рядом с дорогими людьми, в «возвращенном рае» можно заниматься любимым делом и без ног: «Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире. – Го-го-го! – загрохотал я, плескаясь» [там же, c. 49]. Однако пространственная оппозиция «война = опасность, безумие, «красный смех» – дом = безопасность, уют, тишина» будет главенствовать в повести только до смерти первого рассказчика. Вторая часть произведения дает нам принципиально иную пространственную модель: внешнее пространство стремится сломать границу, разрушив замкнутость и безопасность внутреннего пространства: «Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе» [там же, c. 59]. В последнем отрывке ситуация становится безвыходной: враждебными становятся и внутренне и внешнее пространство, что ведет героя к трагической развязке. Враждебное пространство «красного смеха» захватывает дом: «От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. <…> И скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты» [там же, c. 72]. Итак, анализ языка пространственных отношений в повести позволяет нам сделать вывод о том, что структура художественного пространства «Красного 238 смеха» вполне прозрачна: пространственная оппозиция первой части произведения снимается во второй части в соответствии с основным замыслом писателя – показать войну как безумие, распространяющее свое разрушительное воздействие не только на тех, кто воевал, но и их близких, увидевших ее последствия. В то же время, на наш взгляд, нельзя сказать, что пространство в рассматриваемом произведении Л. Андреева – только «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие» [327, c. 258]. По справедливому замечанию Е. Михеичевой, «"Красный смех" строится как художественно скомпонованный хаос сознания безумного или близкого к безумию человека, происходящее выключено из реального времени и пространства, описываемые события могут быть отнесены к любой войне, настолько автор их сознательно схематизирует, символизирует и обобщает…» [375, c. 302]. Сохраняя представление о своей физической природе (читателю может показаться, что описание сводится к простому воспроизведению тех или иных локальных характеристик реального ландшафта) пространство в повести отражает лишь те фрагменты действительности, которые возникают в сознании его героев. Иными словами, художественное пространство здесь подчиняется психологическим законам, существенно отличающимся от физических. Л. Андреев изображает не события, а интерпретацию этих событий, которая зависит от системы представлений героев-рассказчиков – участника войны и его брата, – вследствие чего образ мира приобретает их индивидуальные черты. Воссоздавая весь поток «сознательных и подсознательных импульсов», автор изображает «как бы художественно необработанный, «документально» достоверный процесс мысли и чувства человека, переживающего внутренний кризис [380, c. 119], поэтому пространственные характеристики в повести предельно субъективно детерминированы. Именно такую модель пространства мы называем психологической. По мнению А. Калмыкова, «психологическое пространство – это своеобразная ментальная карта реальности в ее пространственном аспекте. Это система ориентиров, с помощью которых человек определяет местонахождение предметов, их то- 239 ждественность или нетождественность по отношению друг к другу и, самое главное, определяет свое место и значение среди других явлений бытия» [234, c. 71]. Психологическое пространство в данной повести мы будем анализировать согласно разработанной нами модели (см. выше рис. 8). Основным элементом в структуре психологического пространства «Красного смеха» является, на наш взгляд, мир чувственных образов, а именно: сенсорные (слуховые, зрительные, осязательные) и физиологические ощущения героев. Начнем свой анализ с характеристики сенсорных ощущений рассказчиков в «Красном смехе». Нами замечено, что на протяжении всего повествования Л. Андреев описывает восприятие героями окружающих их звуков. Скрежет, «чмяканье», грохот, треск, шорохи и т.п. – враждебны для обоих рассказчиков, вызывают у них чувство страха и тревоги: «я долго, быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами»; «грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги»; «было страшно вначале – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть…» [1, т. 2, c. 55]. Однако отсутствие звуков, тишина становятся еще более губительными: «Люди бежали и кричали "ура" так громко, что почти заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг прекратилось "ура", – и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок» [там же, c. 63]. В безумии военных будней безумными кажутся даже звуки музыки, утратившие свою красоту и гармонию: «Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка… <…> Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, 240 спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди» [там же, c. 32-33]. В психологическом пространстве героев важное место занимают зрительные ощущения, которые также передают состояние предельного психологического напряжения и поэтому искажают реальность: «я сам несколько раз натыкался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков» [там же, c. 22-23]; «само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем» [там же, c. 29]. «Катастрофическая открытость внешнего пространства» [93, c. 61] в повести трансформирует его реальные размеры: «Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!» [1, т. 2, c. 28]; «Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел – где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце. <…> Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно» [там же, c. 35]; «Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром» [там же, c. 32]; «Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темнокрасное поле, и было покрыто оно трупами» [там же, c. 72]. 241 Как особое пространство, имеющее некоторые соответствующие физическому пространству атрибуты (глубину, ширину и т.п.) зрительно воспринимаются рассказчиком и люди. Внешние границы пространства как бы растворяются в пространстве, замкнутом в субъекте: «и я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз; какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти» [там же, c. 24]. Среди осязательных ощущений, описанных пространственным языком, самыми сильными по воздействию оказываются жар и холод: «А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный» [там же, c. 23]; «И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал: – Красный смех» [там же, c. 41]; Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед» [там же, c. 49]. Таким образом, Л. Андреев через сенсорные ощущения рассказчиков изображает некую иллюзорную реальность, имеющую между тем пространственные координаты, которая является продуктом измененного сознания, работающего с внутренними чувственными импульсами. Как мы уже отметили, структурным элементом психологического пространства являются и физиологические ощущения героев: тревожность, головокружение, слабость, боль, тошнота, чувство тяжести. Настойчиво повторяются описания боли, проникающей в мозг: «Но стон не утихал. Он стлался по земле – тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледя- 242 ная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперед, взад и вперед...» [там же, c. 39]; «– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши. И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова» [там же, c. 43]; «Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью» [там же, c. 53]; «…эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль – еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, – мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть: – Сейчас прекратите войну, или...» [там же, c. 53]. Через пространственные категории раскрывается и степень страха героев повести: «бездна ужаса и безумия». Страх приходит внезапно извне: «Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималась из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром» [там же, c. 32]. Единственный способ защиты от страха – безумие. Причем значение слова безумие в повести приобретает дополнительное индивидуально-авторское приращение смысла. К основному значению «сумасшествие» добавляются семантические компоненты: безумие – «неизбежное следствие войны», «неизбежная болезнь войны», а также безумие – «средство спасения», «выход из создавшегося положения». Ощущение приближающегося безумия, выражающееся через неадекватное восприятие окружающего, также передается через пространственные характеристики: «... этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь 243 помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир» [там же, c. 60]; «А сегодня утром я прочел, это сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет, оно близко – оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат» [там же, c. 65]; «Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами» [там же, c. 68]; «И вдруг на один безумный, несказанный счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. <…> Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках» [там же, c. 67-68]. Анализируя модель психологического пространства в повести Л.Андреева, мы намеренно привели в качестве примеров объемные цитаты из текста произведения, поскольку это доказывает, что автор на протяжении всего повествования использует принцип всеохватывающей субъективной интерпретации действительности. Герои произведения все более и более погружаются во тьму безумия, теряя ориентиры в пространстве. Описывая сенсорные и физиологические ощущения своих героев, Л. Андреев исследует психические процессы, происходящие в человеке в экзистенциальной ситуации: на границе отчаяния и надежды, жизни и смерти, одиночества и единства, свободы и ответственности, абсурда и смысла. Неспособность в подобной пограничной ситуации объективно оценивать окружающую действительность лишает восприятие героев-рассказчиков целостности, а это обусловливает использование автором «разорванной композиции» (обрывки фактов, мыслей, чувств) и таких приемов, как абстрактность, фантастический гротеск, обостренная эмоциональность. Таким образом, рассмотрев художественное пространство в «Красном смехе», можно прийти к выводу, что Л. Андреев не ограничивается простым описанием места действия. Созданные автором пространственные модели – модель, построенная на оппозиции пространство войны/пространство дома, и модель психо- 244 логического пространства – накладываются друг на друга, получая глубокое символическое значение и актуализируя философско-экзистенциальную проблематику произведения. 2.2. Психологическая модель в лирическом пространстве (Б. Пастернак) Специфику психологического пространства в лирике покажем на примере наиболее репрезентативных поэтических текстов Б. Пастернака. Как сказано выше, структурными компонентами мира сознательного являются духовное пространство и интеллектуальное пространство. Выражение духовное пространство в русском языке употребляется в основном в двух значениях, во-первых, как «особая нематериальная бессмертная сила, обитающая в теле человека», во-вторых, как «внутренний мир человека, мир его чувств, переживаний, настроений и т.п.» [110]. В лирике Б. Пастернака наибольшую частотность дает второе значение. Например, в стихотворении «Тоска, бешеная, бешеная...» (1915) образ живого существа, хищного зверя олицетворяет душу лирического героя, переполненную чувством тоски: Тоска, бешеная, бешеная, / Тоска в два-три прыжка / Достигает оконницы, завешенной / Обносками крестовика. // Тоска стекло вышибает / И мокрою куницею выносится <…> Сквозь заросли татарника, ошпаренная, / Задами пробирается тоска <…> Взъерошенная, крадучись, боком, / Тоска в два-три прыжка / Достигает, черная, наскоком / Вонзенного в зенит сука [30, с. 507-508]. Пространство души изображается как жилище, из окна которого тоска стремительно вырывается на волю «в ночь», «к звездам», именно этот выход наружу воспринимается лирическим героем как поиск избавления от душевных страданий. Примечательно, что автор трансформирует образное народное выражение «в душе (сердце) заноза» в буквальное посредством так называемой реализованной метафоры: Одно клеймо тоски на суку, / Полнолунью клейма не снесть, / И кунью лапу подымает клеймо, / Отдает полнолунью честь. // Это, лапкой по 245 воздуху водя, тоска / Подалась изо всей своей мочи / В ночь, к звездам и молит с последнего сука / Вынуть из лапки занозу [там же, с. 508-509]. Достигнув своего апогея, тоска – хищная куница в начале стихотворения – становится слабым зверьком с занозой в лапке, молящим о помощи. Глубокая душевная рана ассоциируется с «дырой амбразуры», и в то же время лирический герой выражает надежду на спасение, связывая ее с любовью к женщине: Надеюсь ее вынут. Тогда, в дыру / Амбразуры – стекольщик – вставь ее, / Души моей, с именем женским в миру / Едко въевшуюся фотографию [там же, с. 509]. О тоске Б. Пастернак пишет и в стихотворении «Как усыпительна жизнь!» (1917), в котором сильное душевное томление, тревога и скука передаются чувственными образами – зрительными, слуховыми, осязательными: «Мой сорт», кефир, менадо. / Чтоб разрыдаться, мне / Не так уж много надо, – / Довольно мух в окне. // Чтоб разрыдаться, мне / По край, чтоб из редакций / Тянуло табачком / И падал жар ничком. // Чтоб щелкали с кольца / Клесты по канцеляриям / И тучи в огурцах / С отчаянья стрелялись. // Чтоб полдень осязал / Сквозь сон: в обед трясутся / По звону квизисан / Столы в пустых присутствиях [там же, с. 143]. Для метафорического выражения душевного состояния Б. Пастернак использует реалии окружающего мира, поэтому внутреннее пространство лирического героя становится предметно наполненным. Задавшись вопросом «можно ль тоску размозжить об мостовые кессоны?» [там же, с. 141], поэт пытается отвлечь себя впечатлениями извне, воспоминаньями: Где с железа ночь согнал / Каплей копленный сигнал, / И колеблет всхлипы звезд / B апокалипсисе мост, / Переплет, цепной обвал / Балок, ребер, рельс и шпал …[там же, с. 141]. Однако эта попытка оказывается тщетной: Зачем тоску упрямить, / Перебирая мелочи? / Нам изменяет память, / И гонит с рельсов стрелочник [там же, с. 144]. В целом ряде стихотворений Б. Пастернака душа представляется как вместилище, локус. Это эксплицитная репрезентация образа души в виде замкнутого пространства: Душа моя, печальница / О всех в кругу моём, / Ты стала усыпальницей / Замученных живьём («Душа»,1956) [там же, c. 590]; Как затопляет камы- 246 ши / Волненье после шторма, / Ушли на дно его души / Ее черты и формы («Разлука»,1953) [там же, с. 441]. Однако чаще, по нашим наблюдениям, образ души в виде замкнутого пространства представлен имплицитно. В стихотворении «Душа» (1915) внутреннее состояние лирического героя сродни состоянию княжны Таракановой с картины К. Флавицкого, которая бьется в ожидании неминуемой смерти в каземате Петропавловской крепости: Ты бьешься, как билась княжна Тараканова, / Когда февралем залило равелин [там же, с. 83]. Мнимую «материальность» внутреннего мира передает образ души-листа, трепещущего в груди: О мой лист, ты пугливей щегла! / Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый? («Определение души»,1917) [там же, с. 127]. Пространство души отражает, как в зеркале, весь внешний мир, поскольку лирический герой переживает трагедию своей страны как личную: Нашу родину буря сожгла./ Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? [там же]. Возникающая в стихотворении ассоциативная цепочка душа-лист-песня показывает рождающееся в муках единственно правильное решение – душа поэта не может жить и творить вне родины: О, не бойся, приросшая песнь! / И куда порываться еще нам? / Ах, наречье смертельное «здесь» – / Невдомек содроганью сращенному [там же]. В лирике Б. Пастернака наблюдается и спациализация интеллектуального мира, который изображается как пространство мыслей, идей, знаний. Иногда психические процессы, происходящие в голове лирического героя, описываются с помощью предметных сравнений: Я в мысль глухую о себе / Ложусь, как в гипсовую маску. / И это – смерть: застыть в судьбе, / В судьбе – формовщика повязке. // Вот слепок. Горько разрешен / Я этой думою о жизни. / Мысль о себе – как капюшон, / Чернеет на весне капризной («Я в мысль глухую о себе…», 1910) [там же, с. 491]; иногда ментальный мир моделируется по образцу реального пространства, например, в стихотворении «Гроза моментальная навек» (1919) внешние впечатления, вызванные осенней грозой, опредмечиваясь, отпечатываются в сознании лирического героя: …И, как уголь по рисунку, / Грянул ливень всем плетнем, // Стал мигать обвал сознанья: / Вот, казалось, озарятся / Даже те углы 247 рассудка, / Где теперь светло, как днем! [там же, c. 148-149]. Нужно сказать, что Б. Пастернак в данном случае не отступает от законов концептуализации действительности, так как «Русский язык моделирует сообщения о микромире по типу сообщений о макромире. Бытийное построение высказывания предполагает опредмечивание всех компонентов того мира, о котором делается сообщение, в том числе <…> и внутренней составляющей» [72, c. 770]. Процесс создания поэтического шедевра запечатлен в вариации «Мчались звезды. В море мылись мысы…» (1918). Представляя себе ночь, в которую родился пушкинский «Пророк», Б. Пастернак расширяет интеллектуальное пространство, включая в него фрагменты пространства географического, разрастающегося до масштабов Вселенной. Обилие глаголов движения передает бурный поток мыслей сочиняющего стихи поэта: Мчались звезды. В море мылись мысы. / Слепла соль. И слезы высыхали. / Были темны спальни. Мчались мысли. / И прислушивался сфинкс к Сахаре. <…> Плыли свечи. Черновик «Пророка» подсыхал, и брезжил день на Ганге [30, с. 165]. Именно так приходит вдохновение и к самому Пастернаку, когда бесконечный поток мыслей в ночные часы выстраивается в стройные строчки: И облака / Раздольем моего ночного мозга / Плывут, пока / С земли чужой их не окликнет возглас <…> Пусть сейчас / Этот мозг, как бочонок, и высмолен, / И ни паруса! / Пена и пена. / Но сейчас, / Но сейчас дай собраться мне с мыслями / Постепенно / Пусти! Постепенно («Но почему»,1915) [там же, с. 512]. Интеллектуальное пространство поэта не имеет пространственных границ, оно переносит в другие миры, рисует необычные образы, стирает границы между реальностью и ирреальностью: Когда за лиры лабиринт / Поэты взор вперят, / Налево развернется Инд, / Правей пойдет Евфрат. // А посреди меж сим и тем / Со страшной простотой / Легенде ведомый Эдем / Взовьет свой ствольный строй («Когда за лиры лабиринт…», 1913, 1928) [там же, с. 66-67]. Главным персонажем мира бессознательного, отраженного в лирике Б. Пастернака, является пространство воспоминаний. Хранившиеся в глубине «Я» образы могут неожиданно всплыть на поверхность. Так, звуки знакомой ме- 248 лодии рождают в памяти живописные картины из прошлого: Годами когда-нибудь в зале концертной / Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. / Я вздрогну, я вспомню союз шестисердный, / Прогулки, купанье и клумбу в саду. <…> Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся, / Я вспомню покупку припасов и круп, / Ступеньки террасы и комнат убранство, / И брата, и сына, и клумбу, и дуб. <…> Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню / Упрямую заросль, и кровлю, и вход, / Балкон полутемный и комнат питомник, / Улыбку, и облик, и брови, и рот. // И сразу же буду слезами увлажнен / И вымокну раньше, чем выплачусь я. / Горючая давность ударит из скважин, / Околицы, лица, друзья и семья. // И станут кружком на лужке интермеццо, / Руками, как дерево, песнь охватив, / Как тени, вертеться четыре семейства / Под чистый, как детство, немецкий мотив («Годами когда-нибудь в зале концертной…», 1931) [там же, 357]. Примечательно, что интермеццо Брамса, услышанное поэтом в исполнении великолепного пианиста Г. Нейгауза, с семьёй которого он отдыхал в 1930 году в дачном поселке Ирпене под Киевом, выстраивает в памяти целую цепочку реальных зрительных образов: террасу, комнаты, балкон, заросли, клумбу, – с которыми ассоциируется молодость, счастье, дружба, любовь… Воспоминания в художественном мире Б. Пастернака обладают своим бытием, своей энергией, способной воспроизводить реально существующий мир. Соединение высвеченных памятью обыденных деталей с глубиной переживаний лирического героя в настоящем придают пространству воспоминаний идиллические, и даже сакральные черты: «Когда в своих воспоминаньях / Я к Чистополю подойду, / Я вспомню городок в геранях / И домик с лодками в саду. // Я вспомню отмели под сплавом, / И огоньки, и каланчу / И осенью пред рекоставом / Перенестись к Вам захочу. <…> Я вспомню длинный стол и залу, / Где в мягких креслах у конца / Таланты братьев завершала / Усмешка умного отца…» («Когда в своих воспоминаньях…», 1942) [там же, c. 353]. Таким образом, прошлое становится тем гармоничным топосом, куда время от времени устремляется душа лирического героя Б. Пастернака: В детстве, я как 249 сейчас еще помню, / Высунешься, бывало, в окно, / В переулке, как в каменоломне, / Под деревьями в полдень темно. // Тротуар, мостовую, подвалы, / Церковь слева, ее купола / Тень двойных тополей покрывала / От начала стены и до угла («Женщины в детстве», 1958) [там же, с. 484-485]. Образы вчерашнего, раздвигая пространственные и временные границы, становятся антиподами сегодняшнего, придавая стихам Пастернака необычайную художественную и психологическую убедительность: Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок / Летели хлопья грудью против гула. <…> Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц? / Палатки? Давку? За разменом денег / Холодных, звонких, – помнишь, помнишь давешних / Колоколов предпраздничных гуденье? // Увы, любовь! Да, это надо высказать! / Чем заменить тебя? («Мне в сумерки ты все – пансионеркою…», 1918 – 1919) [там же, с. 172-173]. Не менее онтологичен у Пастернака мир сновидений и грез – «царская дорога» к познанию бессознательного [551]. Поэт описывает только что приснившиеся образы, не проводя грани между реальным и ирреальным: Мне снилась осень в полусвете стекол, / Терялась ты в снедающей гурьбе, / Но, как с небес добывший крови сокол, / Спускалось сердце на руку тебе. <…> Ты раньше всех, любимая, затихла, / А за тобой и самый сон умолк. // И – пробужденье. День осенний темен, / И ветер – кормчим увозимых грез. / За сном, как след роняемых соломин, / Отсталое падение берез. («Мне снилась осень в полусвете стекол…», 1913) [30, с. 67]. Пограничье действительного и бессознательного сопровождается полусветом, отзвуком. Увиденная после пробуждения картина за окном представляется ему как продолжение сна: «снилась осень – День осенний темен». Здесь, как и в проанализированных ранее текстах, основными приемами являются сравнение и метафора, посредством которых внутренний мир лирического героя становится предметно наполненным. Психологическое пространство может иметь и более сложную организацию, как например, в стихотворении «Дурной сон», созданном Б. Пастернаком в 1914 году во время Первой Мировой войны. Нарисованная в начале стихотворения 250 картина бесснежной вьюги создает ощущение стремительности полета в разросшемся до космических пределов пространстве. Звуковые и лексические повторы – По воздуху, по снегу, в отзывах ветра, / Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых, / Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб [там же, с. 75] – выполняют суггестивную функцию: читатель будто бы погружается в сон вместе с героем стихотворения, небесным постником. Во второй и третьих строфах описывается сам сон: Он видит: попадали зубы из челюсти, / И шамкают замки, поместия с пришептом, / Все вышиблено, ни единого в целости, / И постнику тошно от стука костей. / От зубьев пилотов, от флотских трезубцев, / От красных зазубрин карпатских зубцов. <…> И видит еще. Как назем огородника, / Всю землю сровняли с землей на Стоходе [там же, с. 75-76]. Чередующиеся картины природной стихии и военного бедствия вызывают эмоциональное потрясение, усиливающееся включенными в текст семантическими повторами: «вьюга, сквозь десны процеженная», «дыры заборов безгвоздых», «десны безносых трущоб», «попадали зубы из челюсти», «шамкают замки», – все эти образы не случайны, согласно народным поверьям, видеть во сне выпадающие зубы предвещает утрату, недуг, потери, смерть. Образ Всевышнего (небесный постник!), взирающего с небес на обезумевшую землю и не имеющего сил вырваться из дурного сна: Он двинуться хочет, не может проснуться, / Не может, засунутый в сон на засов [там же, с.76] сливается в стихотворении с образом раненого солдата, в сознании которого картины реальные, увиденные им из окна санитарного поезда, мешаются с картинами сонного бреда, отражающими недавно пережитое на войне: Он сорван был битвой и, битвой подхлеснутый, / Как шар, откатился в канаву с откоса [там же]. Образы «расскальзывающейся артиллерии», «бинтов в желтке ксероформа», «слов лафетов» расширяют пространство сновидения, в которое все более и более затягивают гул ветра и мерный скрип мчащегося поезда. 251 Прикованный сном к небесам, Всевышний бессилен что либо изменить в охваченном стихией войны мире, как не в силах бороться с болезненными видениями раненый солдат. Проведенный нами анализ позволяет заключить, что психологическое пространство занимает структурообразующее положение в художественном мире Б. Пастернака. Основными компонентами психологического пространства в рассмотренных лирических текстах являются духовное и интеллектуальное пространства, а также воспоминания и сновидения, отражающие сознательный и бессознательный уровни мировосприятия поэта. Маркерами данной пространственной модели являются: моделирование сообщений о микромире по типу сообщений о макромире посредством пространственных характеристик; спациализиция (опространствование) всех психических процессов: памяти, восприятия, мышления, воображения и т.п.; сосуществование мира сознательного и мира бессознательного. Выводы по 2 главе: Открытие художниками слова «внутренней вселенной» потребовало особых средств изображения человека, одно из которых – спациализиция всех психических процессов: сознательных и бессознательных. Мы заметили, что ядром модели психологического пространства в эпических произведениях являются сенсорные ощущения – зрительные, слуховые и осязательные, а также физиологические ощущения – болевые, статические (например, головокружение) и органические (например, чувства тошноты, тяжести, жажды), которые как бы растворяются в пространстве, замкнутом в субъекте. Психологическое пространство в лирике имеет другую структуру, основными ее элементами становятся душа, сознание, память, сновидения и т.п. В изображении индивидуального внутреннего мира лирического героя мы обнаруживаем не только те же законы, по которым создаются другие пространственные обра- 252 зы, но и специфические способы «преломления» пространства, отражающие субъективные особенности личности поэта (см. рис. 8). осязательные зрительные слуховые духовное пространство интеллектуальное пространство сенсорные ощущения сознательный уровень физиологические ощущения бессознательный уровень болевые органические пространство памяти пространство сновидений статические Структура психологического пространства в эпическом произведении (Л. Андреев «Красный смех) Структура психологического пространства в лирическом произведении (Б. Пастернак) Рисунок 8 – Психологическая модель пространства 253 Глава 3. Виртуальная модель художественного пространства Стремительно меняющийся мир неминуемо влечет за собой и новое его понимание человеком, и новый язык для его описания. Одной из примет современного мировосприятия является осознание реальности как виртуальной. Н.А. Носов, основатель Центра виртуалистики Института человека РАН, отмечал: «Неверно понимать виртуальность как нереальность (возможность, иллюзорность, потенциальность, воображение и т.п.), виртуальность есть другая реальность. В виртуалистике полагается существование двух типов реальности: виртуальной и константной, – каждая из которых одинаково реальна» [398]. Открытия, сделанные профессором Н.А. Носовым и его коллегами в различных областях виртуалистики, на наш взгляд, можно использовать и в литературоведении. С глубокой древности в художественных текстах описывались явления «другой реальности» – сновидения, грезы, видения, гипнотические состояния и т.п., в литературных произведениях новейшего времени персонажи погружаются в виртуальные компьютерные реальности и всевозможные эзотерические миры. Примечательно, что и само художественное творчество стало трактоваться как виртуальная реальность, т.к. является вторичным, порожденным по отношению к миру константной реальности (в традиционной терминологии – объективной). Таким образом, полагаем, что современный литературоведческий анализ не может обойтись без таких понятий как виртуальная реальность, виртуальный мир, виртуальное пространство. Кроме того, многочисленные примеры использования параллельных реальностей в произведениях разных эпох, художественных направлений и жанров для воссоздания иррациональной или таинственной атмосферы, фантастического фона, для передачи эмоционального состояния персонажей и мотивации их поступков и т.д. являются основанием для выделения модели виртуального пространства как одной из базовых в художественной литературе. 254 Несмотря на то, что виртуальное пространство в художественной литературе реализуется в самых разнообразных формах: в виде мечтаний, миражей, галлюцинированных картин, вызванных воображением или особым состоянием персонажей (утомленностью, дремотностью, расстройством); в виде пространствотражений (зазеркалье); пространств-изображений, вводимых в текст описанием «реальностей» других видов искусств; пространств-представлений (пространства души, памяти и т.п.) [542, c. 263], в современном литературоведении немного специальных исследований, посвященных изучению этого художественного феномена. Нет также единого мнения по поводу объема и содержания самого понятия «виртуальное пространство» в литературном произведении. Так, К.В. Шульга в диссертационном исследовании, посвященном роману Виктора Пелевина «Generation 'П'», виртуальным пространством называет «симулякровый информационный мир», созданный посредством высоких компьютерноинформационных технологий [587]. Предметом анализа этого ученого является структура модели виртуального пространства в пелевинском тексте и специфические средства художественной выразительности (сатирическая гиперболизация рекламных слоганов, эзотерической мифологии, приемы языковой игры англицизмами и варьированием интертекстов фольклора, библейских символов, образов мировой литературы и т.п.), участвующие в моделировании виртуального мирообраза в произведении. Е.А. Луговая, рассматривая специфику пространственной организации эпопеи Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец», определяет виртуальное пространство шире, чем К.В. Шульга, как «своеобразную ментальную карту реальности в ее пространственном аспекте, существующую не реально, фактически, а лишь в нашем сознании», как «систему ориентиров, с помощью которых герои и читатель устанавливают местонахождение предметов, их тождественность или нетождественность по отношению друг к другу и, самое главное, определяют свое место и назначение среди окружающих пространственных феноменов» [332, c. 10]. Представляя виртуальное пространство эпопеи как определенную структуру, элемен- 255 тами которой являются пространственные оппозиции типа «центр – периферия», «свой – чужой», «дальше – ближе», «выше – ниже» и т.п., Е.А. Луговая приходит к выводу о том, что вторичный мир произведения, являясь пространством воображения, противопоставляется объективной реальности и отражает моральные, этические и эстетические взгляды автора; «эксплицирует его пристрастия и особенности мировидения» [там же, с. 11]. В работе О.П. Алексеевой «Виртуальная бытийность сказки в культуре» также дается широкая трактовка понятия «виртуальность» – это «превращенная форма, свойство культурных фактов (объектов, феноменов) быть искусственными, созданными человеком с помощью воображения (фантазии), надстроенными над повседневностью, обладающими самоцелыюстыо, качественной определенностью, пересекающимися с обыденной реальностью, но не включенными непосредственно в ее осуществление» [58, c. 13-14]. Считая художественное пространство сказки «моделью мира, созданной по законам пространства реального, но несовпадающего с ним» [там же, с. 14 ], исследовательница включает в его структуру господствующие в культуре ценности и смыслы; социальные, нравственные, религиозные стереотипы мировосприятия и поведения; психологические компоненты и личностные смыслы автора. Из сказанного следует, что модель виртуального пространства может структурироваться на основе вполне узнаваемых фрагментов эмпирической реальности, представленных, однако, в трансформированном, переходном, многомерном и условном состоянии. Подвергая реальное пространство парадоксальным метаморфозам, художники слова, как правило, заполняют виртуальный мир произведения визуальными, зрительными образами, которые выступают как микрообразы единого художественного пространства, но дают представление о какихто иных, недоступных опыту, его видах. Важной особенностью виртуальной пространственной модели, на наш взгляд, является не только ее воплощенность на уровне воображения, сознания, 256 чувствования персонажей, но и максимальное воздействие на воображение читателя в процессе его погружения в художественный мир произведения. 3.1. Виртуализация «реального» пространства: город в поэзии Серебряного века Ярким примером виртуального пространства является образ города в поэзии Серебряного века. Закрепившееся в русской художественной традиции понимание города как враждебного человеку пространства, нашло отражение в ряде далеких от реальных образов «мертвого города, города-убийцы и города фантастического, будто материализовавшегося из бреда сумасшедшего» [433, c. 163]. Атрибутом виртуального города в поэзии Серебряного века, часто становится ночь, в образе которой концентрируются негативные, «диаволические черты» – «холод, безразличие, одиночество, молчание, изоляция и т.д., – которые противопоставляются позитивности реального мира» [556, c. 299]. Ночной город, пребывающий в сонном оцепенении, не имеющий признаков жизни, сравнивается с кладбищем: «Пустынность улицы, не дышащей во сне…/ Недвижные дома – как тысячи могил. / Там люди-трупы спят, вдвоем и одиноко» (В. Брюсов «Раньше утра») [6, т. 1, с. 328]. Контакт с пустынным ночным городом оказывает явно пагубное воздействие на человека, который перестает контролировать свои действия, мысли и чувства: «Схватил я дымный факел мой, / Бежал по городу бездумно… / …Мелькал по темным площадям, / Стучал по звонким серым плитам, / Бежал к далеким фонарям, / Струистым отсветом повитым… / …Ты, город черный, мертво спишь (В. Ходасевич «Схватил я дымный факел мой») [44, т. 1, c. 196]. Глагольная лексика со значением «перемещение», а также перечисление эпитетов создает ощущение отдающего пугающим эхом (Стучал по звонким серым плитам) темного ирреального пространства (ср.: факел, темные площади, фонари). Даже бытовая ситуация – ежедневный утренний выход горожан из домов – изображается как фантасмагория: мертвые горожане покидают напоминающие 257 могилы дома: «Раскрыты дневные гробницы, / Выходит за трупом труп» (В. Брюсов «Замкнутые») [6, т. 1, с. 264]; «Все испуганно пьяной толпой / Покидают могилы домов» (А. Блок «Гимн») [4, с. 242]. Поэзия начала XX в. довольно часто выбирает для описания момент утреннего пробуждения города. Этот обыденный сюжет имеет мифологическую окраску: день побеждает ночь с ее призраками и «убивает» ее главного городского персонажа – электрический фонарь: «И утро шло кровавой банею, / Как нефть разлившейся зари, / Гасить рожки в кают-компании / И городские фонари» (Б. Пастернак «На параходе») [30, с. 104]. Сон, бред, призрак, мираж, пустыня – основные наименования образа виртуального города, порожденного больным подсознанием: «И тени мертвых городов / Уныло бродят по равнине / Неостывающих песков, / Как вечный бред больной пустыни» (М. Волошин «Пустыня») [10, с. 49] ; «Как город призрачный в пустыне, У края бездн возник мой сон» (В. Брюсов «Сон») [6, т. 1, с. 340]. В поэзии Серебряного века город нередко представляется как пространство инфернальное, «адовое»: «адова обитель»; «…в этот адский шепот, В этот воплотившийся в земные формы бред» (В. Брюсов «Конь блед») [6, т. 1, с.443]; «адище города» (В. Маяковский). Наполненный резкими, бессмысленными, агрессивными звуками и неприятными запахами, он становится местом энтропийным, живущим на грани безумия: «Но за Вами неслись в истерической клятве / И люди, и зданья, и даже магазин. / Срывались с места фонарь и палатка, / Все бежало за Вами, хохоча и крича…» (В. Шершеневич «Вы бежали испуганно, уронив вуалетку…») [48, с. 56]; «Гулкий город, полный дрожи» (А. Блок «В высь изверженные дымы») [4, с. 244]; «За мною грохочущий город / На склоне палящего дня» (А. Белый «Шоссе») [3, т. 1, с. 118]; «В ущелье уличного дыма / Зловоний непрейденный ряд» (Н. Бурлюк «В ущелье уличного дыма…») [c. 455]. Усиливают негативное восприятие виртуального города неблагоприятные климатические условия – дожди и туманы – губительные для человека: «туман, с кровожадным лицом каннибала жевал невкусных людей» (В. Маяковский «Еще Петербург») [26, т. 1, с. 63]. 258 Одной из характерных черт виртуального пространства в литературе рубежа XIX-XX вв. является насыщение его образами «городов-Молохов, городовспрутов, городов-убийц», в которых «витает дух насилия» [228, c. 97]. Метафорично изображение ночного города в виде тела, пронзенного враждебным светом фонаря. «Сама ситуация включения ночного освещения представляется в поэтическом тексте как разрушение целостности, «расчленение»» [434, c. 166]: «Полусумрак вздрагивал. Фонари световыми топорами / Разрубали городскую тьму на улицы гулкие, / Как щепки, под неслышными ударами / Отлетали маленькие переулки» (В. Шершеневич «Полусумрак вздрагивал…») [48, с. 57-58]. Настойчивое обращение к этой городской детали «объясняется архетипическим представлением фонаря как источника света, наряду с естественным источником света: солнцем и луной. В творчестве многих поэтов фонари устойчиво сравниваются с луной, а луна, в свою очередь, – с фонарем. На электрический свет отчасти переносятся ассоциации, связанные с лунным светом, который имел важное значение в традиционной культуре» [525, c. 101]. Однако «антиприродность» искусственного ночного освещения электрическими огнями, разрезающими городскую тьму, воспринимается поэтами серебряного века как нечто инородное, пугающее, губительное. Например, в стихотворении В. Маяковского «Из улицы в улицу» образы электрического фонаря и ночной улицы, олицетворяясь, ассоциируют сцену насилия, борьбы мужского и женского начала: «Лысый фонарь / сладострастно снимает / с улицы / черный чулок» [26, т. 1, с. 55]. Образ фонаря в поэзии Серебряного века неизменно связывается с миром фантастического, это проявляется, прежде всего, в метафорической и метонимической замене слова фонарь на шары, огни, светы, пятна: «И неестественно, победно, нагло, ясно / Шары огромные бестрепетно горят» (А. Лозина-Лозинский «Когда чертеж окна квадратом странно-белым…») [22, c. 481]. Электрический свет становится фоном, на котором разворачиваются нереальные действия, даже упоминание «жолтого света» ночных окон «переключает» на мифологическое 259 восприятие иногда вполне обыденный сюжет, как, например, в блоковской «Фабрике»: в соседнем доме окна жолты [4, с. 131]. Представляя опасность для лирического субъекта, город описывается как противостояние поэта-жертвы и города-убийцы: «…И ко мне, забронированному позой Кесаря, / Подкрадывался город с кинжалом Брута (В. Шершеневич «Полусумрак вздрагивал…») [48, с. 58]; Жду, когда пыльную щеку тронут / Веревками грубых солнечных швабр, / И зорко слушаю, как Дездемона, / Что красноболтает город-мавр» (В. Шершеневич «К Вам несу мое сердце в оберточной бумаге») [там же, с. 70-71]. Виртуальный город – живой организм, живущий своей жизнью, – персонифицируется в антропоморфных образах: «А дворники грязною метлою / Грубо и тупо / Чистили душе моей ржавые зубы» (В. Шершеневич «Это Вы привязали мою оголенную душу…») [48, с. 70]; «Немые облики теней! Вам больно жить на жесткой груди, На ребрах городских камней» (В. Ходасевич «С простора») [44, т. 1, с. 141] или в образах зооморфных: «Город в огнях и золоте, белые шляпы / Гордо вздувшихся стеклянных крыш, / Как некий дракон свои черные лапы, / Лениво разбросив, ты спишь» (К. Большаков «Поэма событий») [5, с. 8]; «И, как кошмарный сон, виденьем беспощадным, / Чудовищем размеренно-громадным, / С стеклянным черепом, покрывшим шар земной, / Грядущий Город-дом являлся предо мной» (В. Брюсов «Замкнутые») [6, т. 1, с. 265]; «Удавом каменным змеится цепь гранита» (К. Фофанов «На Неве») [43, с. 139]; «Ночная улица прекрасна и ужасна. / Змеей ползет толпы многоголовый гад» (А. Лозина-Лозинский «Ночная улица прекрасна и ужасна») [22, c. 483]. Общее в семантике этих образов – отрицательные коннотации, которые можно встретить в большинстве урбанистических стихотворений. Как видим, город в поэзии серебряного века, созданный воображением, имеющий собственное лицо, представляет собой особую реальность, смоделированную посредством отражения и преобразования действительности, но способную существовать, однако, лишь при наличии интерпретирующего субъекта, ко- 260 торый может почувствовать ауру этой воображаемой реальности, контрастной реальности объективной. 3.2. Игра как способ воплощения виртуальной модели художественного пространства («Большой шлем» Л. Андреева) Игра является одной из основных форм специфически человеческого поведения, видом непроизводительной свободной деятельности, скрывающей в себе забытое символическое значение (Й.Хейзинга, В.Бычков, Л.Бычкова, А.И.Пигалев). По определению Й. Хейзинги, «...игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам, с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь» [558, c. 56]. Уже в этом определении звучит мысль о моделировании некоторых временных миров внутри мира обычного, предназначенных для выполнения некоего замкнутого в себе действия: «В несовершенном мире и сумбурной жизни она создает временное, ограниченное совершенство» [там же, с. 28]. «Правила и порядок, предписывающие определенное заполнение игрового пространства, составляют сущность игры», – отмечает Х.-Г. Гадамер [152, c. 152-153]. В диссертационном исследовании «Виртуальная реальность: сущность, критерии, типология», Т.А. Кирик убедительно доказала, что основные свойства игры – порождаемость, автономность, актуальность и интерактивность – полностью соответствуют характеристикам виртуальной реальности, следовательно, «игра есть не просто онтологический прототип, феномен, онтологически сходный с виртуальной реальностью, а некомпьютерная виртуальная реальность, актуализированная некими игровыми технологиями» [244, c. 88]. В ряде литературоведческих работ, например, О.М. Клецкиной «Игра в малой прозе С.Д. Кржижановского: философия, эстетика, поэтика» [249], О.А. Джумайло «Игра и постмодернистский инструментарий в романах 261 М. Спарк» [184], В.Л. Гусакова «Игровое пространство в поэзии и драматургии В. Набокова» [176], О.А. Ганжара «Игровое пространство в русской литературе первой половины XX века: структура, динамика, функционирование» [154] и некоторых других игра рассматривается как универсальная модель, особый виртуальный способ существования персонажей в художественном мире произведения, определяющий тип их мироотношения и реализующийся в тексте в типологии сюжета и героя, на структурном, метафорическом и композиционном уровне. Принимая за основу тезис о том, что игра есть возможность существования иной реальности за пределами той, которую можно назвать «объективной», рассмотрим специфику моделирования игрового виртуального пространства в рассказе Л.Н. Андреева «Большой шлем». Обращение к анализу произведения Л.Н. Андреева не случайно, поскольку пространственные характеристики во многих его рассказах имеют особую значимость. Заметим, что организация пространства была важна для писателя не только в художественных текстах, но и в реальной жизни. По воспоминаниям К.И. Чуковского, «Он (Андреев) любил огромное. В огромном кабинете, на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница». Как справедливо заметили В.И Беззубов и Л.С. Карлик – первые исследователи художественного пространства в прозе Л.Н. Андреева – с определенным пространством писатель связывал также реализацию некоторых своих творческих замыслов: «В красочной, но слишком определенно русской Москве я не мог бы написать «Черные маски» ... Чтобы свободнее писать о «вневременном» и «внепространственном», я сам должен быть вне времени и пространства, а для этого и нужно деревенское уединение. Здесь я создал для себя обстановку, чуждую влияния среды, мысль отдал пространству» [93, c. 59]. Как видим, для творческого сознания Л.Н. Андреева «мысль пространственная» являлась неотъемлемой. В рассказе «Большой шлем» описываются будни четырех любителей игры в винт, которые в течение шести лет собираются в доме Евпраксии Васильевны, пытаясь всеми возможными способами отгородиться от действительности, по су- 262 ти, заменить реальную жизнь игрой, из которой нет выхода. Даже смерть одного из партнеров не может заставить отказаться героев от этого сложившегося годами карточного ритуала. На первый взгляд, Л.Н. Андреев имеет своей целью подчеркнуть социальную проблематику в рассказе – одиночество и трагическую разобщенность игроков: читателю сложно представить себе, чтобы обыватели, играя постоянным составом продолжительное время (дважды повторяется слова «Так играли они лето и зиму, весну и осень») [1, т. 1, c.150; 151], не знали ничего определенного о внезапно умершем партнере («– Вы послали сказать? – Да, брат поехал с Аннушкой, но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса не знаем…») [там же, c. 156]. Однако идея произведения значительно глубже: автор показывает силу иррационального, неизвестного фактора (Случая, Рока) в жизни людей. Последнее обстоятельство обуславливает обращение автора к особому моделированию пространства. В этом, казалось бы, реалистическом рассказе художественное пространство наделяется символико-фантасмагорическими чертами, функциональное предназначение которого – изображение противостояния человека судьбе. Внутри этого пространства выработались свои механизмы борьбы с Судьбой: «Старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех»; «Я никогда не играю больше четырех. <…> Никогда нельзя знать, что может случиться» [там же, c. 152]. Игроки оградились от внешнего мира, отрешившись от житейских проблем, исключая саму возможность упоминания о других людях, событиях и даже погоде: «Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил: – Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут... Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю. – Да, вероятно, – погода хоро- 263 шая. Но не начать ли нам?»; Каждый раз Масленников, приходя, начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе <…> – Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович. <…> – Но не пора ли?» [там же, c. 150]. В рассказе противопоставлены два мира: реальный и виртуальный (см. таблицу 2). Таблица 2 Пространственная Границы модель Виртуальное стремится к замкнутопространство сти, к предельной сжатости; границы четко обозначены Реальное предельно широкое, пространство разомкнутое; границы отсутствуют Физическое наполнение стремится к стерильной чистоте, беззвучности статично Ценностная характеристика (+) безопасно «хаотически» заполнено людьми, предметами, звуками динамично (–) опасно Виртуальный мир игры, мир глухой «тишины» стремится к замкнутости, предельной сжатости; границы его четко обозначены: «Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой, – существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. <...> И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой» [там же, c. 149]. Игроки не желают допускать в него даже слабых отголосков «тревожной и чуждой жизни». Реальный мир – пространство предельно широкое, разомкнутое, наполненное страданиями и жестокостью, характеризуется отсутствием границ, бесконечностью: «Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных» [там же]. Хаотический непредсказуемый внешний мир сознательно выключается из представлений игроков, его как бы не существует. Даже на упоминание событий реального мира в их кругу наложено табу. 264 Обществу людей герои рассказа предпочли общество игральных карт, которые оживают в виртуальном пространстве: «хмуро улыбался пиковый король», «шестерки опять скалили свои широкие белые зубы» [там же, 151], двойки и тройки имели «дерзкий и насмешливый вид» [там же, c. 152]. Но самое удивительное в поведении карт то, что они обладают, в отличие от игроков, «прихотливым нравом», «насмешливостью и непостоянством». Описание «поведения» карт еще более подчеркивает безразличие игроков друг к другу, их окостенелость и безжизненность. Того не замечая, герои сами становятся колодой игральных карт, в момент выпадения одной из них (смерть Масленникова), у них возникает вопрос: «А где же мы возьмем теперь четвертого?» [там же, 156]. Традиционно тема карт в русской литературе связана с идеей внезапного обогащения, внезапного изменения судьбы, чуда (вспомним произведения А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского). В рассказе Л.Н. Андреева эта мотивировка отсутствует: «В денежном отношении игра была ничтожная» [там же, c. 148]. Функция карточной игры в «Большом шлеме» не игра с судьбой, а попытка убежать от судьбы, не борьба с внешним миром, а симуляция этой борьбы. Используя прием метафоризации, автор трансформирует представление об игре как «занятии, служащем для развлечения, отдыха», наделяя ее функцией «футляра», в котором игроки прячутся от «дряхлого мира». Игра в карты для героев Л.Н. Андреева является не только приятным времяпрепровождением, но стремлением защититься от внешнего мира. Однако фактор случайности, имеющий решающее значение в виртуальном пространстве игры, не защищает героев от вторжения судьбы, смерти Николая Дмитриевича. Игроки на мгновение задумываются о таинственных силах, распоряжающихся их жизнью («Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный «большой шлем». Никогда!») [там же, c. 156], однако, намерены сохранить созданное ими и поддерживаемое в течение стольких лет пространство, в срочном порядке подыскав замену «выпавшей из колоды карте». 265 Таким образом, в рассказе «Большой шлем» Л.Н. Андреев от эпизода реальной жизни идет к постановке вневременных проблем. Созданная Андреевым пространственная оппозиция (реальное – виртуальное) становится моделью для построения внепространственных категорий – жизни и смерти. Героям вдруг открывается невластность человека над судьбой. Внезапная смерть партнера по картам заставляет их ужаснуться тому «бессмысленному, ужасному, непоправимому», что неизбежно должно случиться с каждым. 3.3. Глобальное виртуальное пространство («S. N. U. F. F.» В. Пелевина) Как мы уже отмечали выше, понятие «виртуальное пространство» стало весьма распространенным в современном литературоведении. Причем каждый исследователь вкладывает в него свой собственный смысл – от «искусственно моделируемого динамического континуума, возникающего в рамках и по законам (пока только формирующимся) компьютерно-сетевого искусства» [125] и «текстовой локализации виртуального антуража компьютерных игр» [435, c. 44] до изображения мира снов, фантазий, грез персонажей и состояния души в целом [244, c. 5]. Все большую популярность получает точка зрения ученых, считающих виртуальным любое отраженное в сознании и как следствие в художественном тексте объективное пространство, поскольку само это отражение опосредовано индивидуальным восприятием окружающей действительности. Эта радикальная концепция позволяет трактовать «виртуальность» как универсальную характеристику любого текста, независимо от его идейно-тематической направленности, жанровой и стилевой принадлежности. Особый интерес представляют произведения новейшей литературы, в которых сближаются все виды виртуальности. Например, В. Пелевин в романе «S.N.U.F.F.» (2011) моделирует глобальное виртуальное пространство, которое становится едва ли не единственным ключом к пониманию и интерпретации про- 266 изведения, играя в нем одновременно и смысло-, и жанро - и структурообразующую роль. Предлагая очередной проект будущего мироустройства, автор создает иллюзию полного вхождения в виртуальную реальность. На месте уничтоженной ядерным взрывом Древней цивилизации расположился Оркланд (Уркаган, Уркаина) – достаточно обширная территория в Верхней Сибири. Столицей Оркланда является Оркская Слава, большую часть которой занимают трущобы, застроенные «облезлыми бетонными трехэтажками времен поздних Просров» [32, c. 76], с грязными улицами и скудной растительностью. Два других района города – Желтая Зона и Зеленая Зона – пространственно практически не определены, известно только, что в одной из них живут «номенклатурные нетерпилы и другая творческая интеллигенция» [там же, c. 269], в другой, «экстерриториальной», богатые орки, государственные чиновники и некоторые бизантийцы. Над Оркской Славой, висит на антигравитационном приводе офшар Бизантиум (Биг Биз), огромный летающий город, куда перебралась элита человечества. В отличие от Оркланда, который представлен как естественное физическое пространство со всеми свойственными ему атрибутами (настоящими городами, деревнями, лесами, реками и т.п.), Бизантиум – глобальное виртуальное пространство, созданное компьютерными технологиями. Территория Биг Биза четко структурирована: верхняя поверхность офшара, наиболее «натуральная» часть города, принадлежит старым порноактерам и «ребятам из Резерва Маниту», в нижней обосновались «глобальные урки», которым посчастливилось переселиться в «Лондон» из Оркланда, центральную часть занимают представители среднего класса, имеющие в зависимости от уровня доходов вид на Неаполь, Тоскану, Нью-Йорк и т.п. (см. рисунок 9). 267 Верхняя полусфера Бизантиум Неаполь Нью-Йорк Тоскана Трущобы Нижняя полусфера Зелёная зона Жёлтая зона Оркская Слава Оркланд Рисунок 9 – Структура виртуального пространства в романе В. Пелевина «S.N.U.F.F.» Бизантиум, будучи всего лишь имитацией эмпирической действительности, тем не менее визуально выглядит реальным: из окон квартир можно увидеть прекрасный пейзаж или строгую архитектуру какого-нибудь древнего города: «Дом Бернара-Анри стоял на возвышенности. Из окон открывался удивительный вид – насколько хватало глаз, во все стороны тянулись причудливо нарезанные поля и желто-зеленые холмы, поросшие кипарисами. Кое-где белели старые дома. На полях лежали большие цилиндрические кругляши, скатанные из выжженного солнцем сена. Еще была видна река, далекие синие горы и небо, где плыли безмятежные облака-гиганты. Лето, которому совсем чуть-чуть не хватало до вечности. От этой красоты Грыму в голову то и дело приходили стихи, но он ленился их записывать – таким покоем веяло от мира в окне» [там же, c. 255]; есть здесь и ресторанчики, кажущиеся уютными из-за 3D-подсветки, и парки с множеством тенистых аллей, ведущих к берегу моря; можно даже ощутить дуновение ветерка или насладится свежестью морского воздуха. Однако все, что здесь радует глаз и будоражит чувства, оказывается симулякром: «Контуры физической реальности почти всегда можно было определить прямо сквозь трехмерное наваждение: места, где возникала опасность ушибить 268 голову или локоть, были отмечены зелеными габаритными огоньками. Судя по ним, реальность была довольно тесной. Города состояли из нескольких площадей, площади были на самом деле круглыми залами с низким потолком, а то, что выглядело как улицы, оказывалось тесными туннелями. Кажется, исходное пространство везде походило на отключенный от генератора иллюзий неряшливый коридор, который Грым увидел в первый день на Биг Бизе. Но трехмерные проекторы превращали эти кривые технические норы в весьма убедительные проспекты с высокими старыми деревьями и сказочными дворцами. Иллюзия превосходила простой трехмерный мираж» [там же, c. 351-352]. Изображая параллельно Оркланд и Бизантиум, В. Пелевин, на первый взгляд, использует традиционное для утопии (авторское определение жанра) противопоставление реального и идеального. Однако анализ пространственной структуры романа позволяет увидеть более глубокие смыслы этого противопоставления. Действительно, основным способом сюжетной организации произведения является антиномичность, которая проявляется в смысловом столкновении противоположных оценок (цивилизованного и примитивного, прекрасного и безобразного, гармоничного и хаотичного, естественного и искусственного, натурального и суррогатного и т.п.). В то же время иронический контекст актуализирует пародийность повествования. Причем, объектом пародии становится как идеал, так и антиидеал. Кроме того, в романе не наблюдается свойственного утопии/антиутопии временного разрыва с привычной средой, поскольку созданный автором единый виртуальный Бизантиум-Оркланд представляет собой хоть и утрированную, но в целом узнаваемую российскую действительность. Восприятию пространства романа как виртуального способствует прием двойного видения окружающего – глазами Дамилолы и глазами Грыма, а их оценки зависят исключительно от типа культуры, которую они представляют. Дамилола, боевой летчик, снимающий оркских «дикарей» для снафов по заказу корпорации CINEWS INC, комментирует все, что попадает в поле зрения его камеры, как истинный бизантиец. Следя за Грымом, который в данном случае яв- 269 ляется для него гидом по Оркланду, он ищет доказательства полной деградации оркской цивилизации: «Местность была довольно депрессивной. Вернее, с одной стороны от дороги она была даже живописной, насколько это слово применимо к Оркланду – там были конопляные и банановые плантации, речка и пара вонючих оркских деревень. А с другой стороны начинались самые мрачные джунгли Оркланда» [там же, с. 25-26]. С презрением описывает он и столицу Оркланда: «Ктото из древних сомелье сравнил Славу с пятном, которое остается на стене от долго живших за шкафом тараканов. Очень точное описание – ни прибавить, ни убавить» [там же, c. 129]. Для подтверждения веками сложившейся в Биг Бизе идеологии – оркское, значит примитивное, грязное, вонючее – Дамилола записывает разговор Грыма с дядей, в котором дается уничижительная характеристика «своего» пространства: «Эх… Да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное, если… Дядя Жлыг широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный» [там же, c. 77-78]. Особенное удовольствие он испытывает, «когда удается на одном крупном плане так корректно, но четко показать всю агрессивномрачную суть оркского племени» [там же, c. 131]. Противоположную оценку дает Дамилола Бизантиуму, который, по его словам, «лучшее, что есть в этом мире» [там же, c. 19]. Однако одический пафос то и дело сменяется ироническим и даже саркастическим: Дамилола прекрасно понимает, что окружающее – «чистейшая травестия и карнавал» [там же, c. 20] и «сладких капель меда на жизненном пути не так уж много» [там же, c. 21]. Комфортная, сытая и счастливая жизнь такая же иллюзия, как и все в этой визуальной культуре. Рассуждения Дамилолы по поводу государственного, политического, религиозного и социального устройства нового мира становятся особенно едкими, когда речь заходит о личной жизни бизантийцев: «Когда в воскресенье мы, свободные люди нового века, приходим в храм, чтобы посмотреть свежий снаф, мы каждый раз лицом к лицу сталкиваемся с бесконечным лицемерием, пропитавшим нашу мораль. Лицемерием объемным, выпуклым и цветным. Так захотел 270 Маниту. <…> вместо цветка вам показывают раздутую имплантами высокобюджетную грудь, которой по всем законам природы уже полвека как пора распасться на силикон и протеины. А затем извиняются, что все остальные лепестки все еще в повязках после пластики. И ожидают от вас приступа вакхической любви к жизни» [там же, c. 53-54]. Удивительно, но в этом насквозь лживом «идеальном пространстве» наиболее человечной оказывается настроенная на максимальную духовность кукла Кая, «цветок жизни» и «главная инвестиция» Дамилолы. Споры с ней, пробудив в первоклассном боевом летчике желание понять, чем «дочь рисоварки» отличается от человека, и разобраться в самом себе (а рефлексия совершенно отсутствует у людей «эры пресыщения»!) приводят к разоблачению утопической мечты Дамилолы: купленная в кредит за огромные деньги сура Кая, с которой он связывал надежду на личное счастье, предпочла «грязного орка» и сбежала с ним в неведомый и недоступный мир. Большая часть событий в романе показана через объектив летной камеры Дамилолы. Следя за Грымом, оператор-рассказчик виртуально сливается с ним, то критически оценивая его мысли и поступки с позиции человека высшей культуры, то неожиданно для себя принимая его психологию и идеологию: «Моя попытка увидеть мир глазами юного орка может показаться кое-кому неубедительной – особенно в той части, где я описываю его чувства и мысли. Согласен, стремление цивилизованного человека погрузиться в смутные состояния оркской души выглядит подозрительно и фальшиво. Однако я не пытаюсь нарисовать внутренний портрет орка в его тотальности» [там же, c. 9]. В то же время в ряде эпизодов пространственная точка зрения смещается, это заметно даже на грамматическом уровне – повествование с первого лица переходит на третье. Именно в этих редких случаях несовпадения пространственных позиций рассказчика и персонажа кажутся особенно заметными различия в их мировосприятии. Если Дамилола, выросший в визуальной информационной вселенной, прекрасно чувствовал себя в тесных боксах и коридорах, имитирующих дома, парки и набережные, потому что 271 имел «легкое и подвижное воображение, постоянно готовое воспламениться и увести сознание в искусственный мир радости и экстаза» [там же, c. 340], то Грым, дитя «примитивно-естественной среды», так и не смог привыкнуть к «цивилизации». Быстро пресытившись путешествиями в «фантастически красивые места, которые раньше видел только в «Свободной Энциклопедии» или на маниту» [там же, c. 351], он понял, «что наваждение может быть каким угодно, и цена ему грош» [там же, c. 354]. Вот тут-то в момент сильнейшего разочарования в фальшивом рае судьба дарит Грыму неожиданно щедрый подарок – любовь Каи. Так, разоблачив одну утопию, автор «подкладывает» читателю другую: несколькими штрихами нарисовав идеальную землю, куда сбежали влюбленные, он настойчиво поддерживает мечту о все-таки возможном новоутопическом проекте. Таким образом, анализ романа В.Пелевина «S.N.U.F.F.» позволил нам сделать следующие выводы: 1. Художественное пространство играет в романе структурообразующую роль. Автор моделирует трижды виртуальную реальность. Во-первых, виртуальным является пространство офшара Бизантиума, каким оно представляется Грыму. Кибернетическое пространство, созданное техническими средствами, живущее по собственным, отличающимся от привычных, законам, сначала приятно удивляет наивного орка, а впоследствии, когда приходит осознание абсолютной иллюзорности окружающего мира, разочаровывает: «И сразу сделалось так горько, что это новое восхитительное чувство, только что пронзившее его душу, оказалось таким же обманом, как и все остальное в жизни» [там же, c. 317-318]. Во-вторых, не менее виртуальна реальность, описанная Дамилолой, который воспринимает «мир как игровую среду, сознавая ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее» [244, c. 30]: «Когда я говорю «боевой летчик», это не значит, что я летаю в небе сам, всем своим толстым брюхом, как наши волосатые предки в своих керосиновых гондолах. Как и все продвинутые профессионалы нашего века, я работаю на дому. Я сижу рядом с контрольным маниту, согнув ноги в коленях и упершись грудью и животом в россыпь мягких 272 подушек – в похожей позе ездят на скоростных мотоциклах. <…>На моем носу легкие очки со стереоскопическими маниту, в которых я вижу окружающее «Хеннелору» пространство так же, как если бы я вертел приделанной к камере головой» [32, c. 14-15]. Как мы уже отмечали, основные события романа даны через призму восприятия находящегося в виртуальной реальности пользователя – боевого летчика, который иногда задумывается над тем, что есть реальность: «Впрочем, где мы, пилоты-надомники, на самом деле? В своих тесных комнатах или в оркском небе? И где это небо – вокруг моей «Хеннелоры» или в моем мозгу, куда его транслируют электронные удлинители глаз и ушей?» [там же, c. 126]. Следовательно, виртуальность представляет собой «продукт человеческого способа отражения и преобразования действительности» [244, c. 24]. И наконец, втретьих, художественной вымысел, т.е. сам роман, – тоже феномен виртуальной реальности, поскольку, как отмечал Ж. Бодрийяр, в современном искусстве «процесс симуляции зашел так далеко, что утратилось само различие фантазии и реальности» [107, c. 19]. 2. Глобальное виртуальное пространство определяет жанровую специфику романа: перед нами своеобразный метажанр, в котором парадоксально сочетаются черты утопии, рисующей идеальную модель государства, антиутопии, развенчивающей этот идеал, социально-политической сатиры, предметом обличения в которой является современная реальность, а также психологического романа, рассказывающего о личной драме героя-повествователя. 3. Предложенная нами интерпретация романа всего лишь попытка приблизится к разгадке творимой Пелевиным виртуальной реальности, однако, если верить автору, то никакой реальности вовсе не существует: «Наше сознание всегда опирается на материю, а материя существует только в нашем сознании. Реальность не сводится ни к одному, ни к другому…» [32, c. 380-381]. 273 Выводы по третьей главе: В трех параграфах данной главы мы показали разные способы моделирования виртуального пространства: - воссоздание в тексте воображаемой реальности, вторичного, отраженного в сознании воспринимающего субъекта мира. В этом случае реальное пространство как правило деформируется, искажается, преобразовывается согласно авторскому замыслу; - погружение в игровую реальность, которая захватывает участников, замыкает их в иной, построенной по правилам игры сфере; - изображение кибернетического пространства – мира, созданного средствами компьютерных технологий для имитации реальности (см. рис. 10). Виртуальное пространство воображаемая реальность игровая реальность кибернетическая реальность Рисунок 10 – Модель виртуального пространства в литературе Мы лишь наметили возможные пути анализа виртуального пространства, поскольку художественная литература дает нам богатейший материал для исследований иной реальности – онейрической, мифологической, зазеркальной, трансперсональной, инобытийной и т.п. 274 Заключение В соответствии с основными задачами исследования нами были разработаны критерии, принципы и методы типологизации пространственных образов и моделей в русской литературе; построены классификации сквозных пространственных образов и базовых пространственных моделей; выявлены основные изменения традиционных значений сквозных пространственных образов и моделей, наблюдаемые в русской литературе на протяжении полутора веков (сер. XIX – нач. XXI вв). В предваряющем работу обзоре современных филологических трудов мы рассмотрели и разграничили наиболее частотные понятия и термины, принятые для обозначения пространственных образов: «локус», «топос», «пространственная мифологема» («архетипический образ»), «пространственный мотив», концепт «пространство», а также обосновали необходимость использования в литературоведческом анализе понятий «сквозной пространственный образ» и «пространственная модель». В первом разделе диссертации мы предложили типологию сквозных пространственных образов. Определяющими признаками, лежащими в основе данной типологии, явились следующие выделенные нами характеристики: универсальность образа; повторяемость в ряде литературных произведений; вариативность при сохранении базового значения. С точки зрения смысловой обобщенности сквозные пространственные образы мы разделили на три группы: 1) общечеловеческие пространственные образы (архетипические), 2) повторяющиеся внутри национальной литературы (национальные пространственные образы), 3) повторяющиеся и варьирующиеся в творчестве отдельного писателя (индивидуальные пространственные образы). Анализируя в первой главе раздела ключевые архетипические пространственные оппозиции – дом/лес в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики»»; 275 дом/антидом в поэзии Серебряного века»; дом/дорога в лирике М.И. Цветаевой; дом/бездомье в малой прозе М.А. Булгакова – мы пришли к выводу, что пространство во всех рассмотренных произведениях обладает «особой отмеченностью» и имеет мощную архетипическую семантику. Анализ образа дома в диахроническом аспекте позволил нам прийти к следующим выводам: - в русской классической литературе образ дома имеет набор традиционных характеристик – это замкнутое, отгороженное от внешнего мира «свое» пространство, символизирующее покой, безопасность, уют, благополучие и согласие в семье, достаток и т. п. Внутренний безопасный дом может быть противопоставлен только внешнему опасному пространству, например, мифологическом лесу, как в «Старосветских помещиках», т.е. оценочный компонент архетипического образа остается пока универсальным и стабильным; - в поэзии Серебряного века наблюдаются значительные изменения архетипического значения образа дома, включающегося в новые оппозиции: дом/антидом, дом/дорога, дом/бездомье. Дом как физическое бытовое пространство, микрокосм становится временной категорией: он безвозвратно теряет прежнюю гармонию, разрушается. Сквозным в лирике рассматриваемого периода становится образ потерянного дома, кроме того, наблюдается перемещение ценностного акцента от дома материального к дому духовному («Душу свою я сделала своим домом...» – М.Цветаева); - наиболее остро непреодолимая тоска по утраченному дому выразилась в малой прозе М.А. Булгакова. Настойчиво повторяющиеся в его рассказах мотивы холода, тесноты, темноты, шума, незащищенности личного приватного пространства превращают дом в антидом, наиболее распространенным вариантом которого является коммунальная квартира. Имея все внешние признаки ложного дома, коммунальная квартира характеризуется еще и разрушением гармонии человеческих взаимоотношений. В произведениях Булгакова актуализиру- 276 ется и мотив бездомья, который, с одной стороны, связан с потерей дома и его поиском, а с другой стороны, – с отсутствием дома как такового; - наблюдаемые нами изменения, произошедшие в смысловом поле «дом» в русской литературе на протяжении ста лет позволяют говорить о существенной деформации архетипического значения образа. Проанализировав семантику пространственных оппозиций дом/лес, дом/антидом, дом/дорога, дом/бездомье на конкретных примерах из русской литературы, мы заметили, что все эти разновидности архетипического образа дом являются модификациями основополагающей антиномии «космос/хаос», которая может реализовываться как в своем чистом виде, так и во всевозможных вариантах. Кроме того, по нашим наблюдениям, любое пространственное противопоставление предполагает наличие пространственного рубежа (границы) и универсальных параметров пространства (юг/север, запад/восток, центр/периферия, вертикаль/горизонталь и т.п.). Предметом рассмотрения во второй главе исследования стали образы деревни, провинциального города и пейзажные образы, отражающие специфику национальной ментальности. Русские писатели-классики оказались весьма дальновидными в описании русского характера, проницательно почувствовав связь «пейзажа русской души» с «пейзажем русской земли». Те наблюдения над русским характером, которые они воплотили в образах своих героев, указывая на «власть пространств» над человеком, впоследствии не раз подтверждались ученымифилософами: С. Соловьевым, В. Ключевским, К. Леонтьевым, Н. Лосским, Н. Бердяевым и др. Сопоставление образа деревни в повестях «Утро помещика» Л.Н. Толстого, «Мужики» А.П. Чехова и «Деревня» И.А. Бунина показало безусловное сходство авторских трактовок, отражающих тот тип национальной модели мира, который органично присущ русскому менталитету и проявляет себя в пространственных характеристиках. В ходе анализа произведений, мы отметили такие пространственно обусловленные национальные черты характера, как «искание абсолютного 277 добра», связь русского человека с родовым гнездом, цельность натуры, смирение, неумение организовать свое личное пространство и личную жизнь и др. Как национальный пространственный образ нами рассмотрен и провинциальный город. Единство взглядов на русскую провинцию мы обнаружили в целом ряде произведений: «Соборянах» Н.С. Лескова, «Пашинцеве» А.Н. Плещеева, «Уральских очерках» М.Л. Михайлова, «Губернских очерках» М.Е. СалтыковаЩедрина, рассказах А.П. Чехова и др. Анализ показал, что провинциальный город осознается русскими писателями двояко: как замкнутое в себе патриархальное пространство, обладающее ценностно-нормативными и сакральными характеристиками, отличающееся гармоничностью, чистотой, искренностью, крепостью родовых отношений, с одной стороны, и как среда рутинная, отсталая, не способная принципиально обновляться – с другой. Выделенные нами внешние (быт) и внутренние (жители) особенности провинциального города характеризуют его не только как пространственно-географический, но и как ментальный локус. В повестях «Городок Окуров» М. Горького и «Страна отцов» С. ГусеваОренбургского провинция является, по нашим наблюдениям, своеобразным носителем культурной информации, особой знаковой системой, включающей и элементы топографически реального пространства, и основные сферы социальной, бытовой, духовной, религиозной, экономической жизни. В то же время изображение «уездной глуши» является попыткой авторов отразить кризисные события в русской истории, разобраться в русской душе и русском характере. Национальный колорит имеет в русской литературе пейзаж. Мы обозначили два направления в исследованиях пейзажных образов: первое (типологическое) связано с изучением общих закономерностей в изображении природы в творчестве отдельного писателя, литературного направления или периода в целом, второе – с анализом отдельных сквозных образов в национальной литературе. Воспользовавшись методикой типологического анализа пейзажа, разработанной М. Эпштейном применительно к лирике, мы описали систему пейзажных образов в ранней малой прозе М. Горького, выделив онтологический тип пейзажа, 278 представленный временным и ландшафтным видами и стилеобразующий, представленный романтическим, реалистическим, психологическим и лирическим пейзажами. Типологический подход позволил нам не только выявить наиболее продуктивные виды природных описаний у М. Горького, но и определить все многообразие их функций. В русской литературе немало сквозных пейзажных образов, имеющих специфически национальную окраску, например, зимний снежный пейзаж, по нашим наблюдениям, является в произведениях русских писателей не только декоративной деталью, создающей определенное настроение, но и символом России, родного дома, а пейзаж степной олицетворяет, с одной стороны, свободолюбие русского человека, удаль, бесшабашный размах и широту его души, а с другой, передает всепоглощающую и неутолимую его тоску, рожденную бесконечным величием степных просторов. Архетипические и национальные пространственные образы, имеющие определенный набор стабильных характеристик и устойчиво повторяющиеся в русской литературе, нередко значительно трансформируются в индивидуальном художественном мире того или иного писателя. Это связано в первую очередь с его конкретными намерениями и установками, творческим замыслом, мировоззрением, концептуальными основами литературно-художественного произведения, ценностными и другими ориентирами. Рассмотрев в качестве примера способы организации космического пространства в лирике Ф.И Тютчева и его наследников, поэтов-символистов А. Блока и А. Белого, мы отметили субъективноавторские особенности в моделировании универсального пространства. Однако основное внимание мы уделили другим, малораспространенным в литературоведении аспектам в изучении индивидуального пространства: во-первых, установили и проанализировали взаимосвязь пространственных образов с психоментальными особенностями автора и персонажа, во-вторых, выявили основные 279 способы текстовой экспликации отношений «я» с внешним миром (я – творец собственного мира)6. Перенос акцентов с внешнего мира во внутренний в художественной литературе дал возможность, с одной стороны, даже точку – Я – рассматривать как локус: Я предстаёт в художественном тексте как внутренний мир, пространство сознания и души (Я-пространство). С другой стороны, учитывая открытия в области психологии, касающиеся специфики восприятия человеком реальности (истинной средой обитания являются лишь фрагменты физической и социальной действительности, которые отражены в сознании человека), мы посчитали необходимым говорить о пространстве-Я – особой форме репрезентации в художественном тексте пространственных представлений персонажа, наиболее полно раскрывающих специфику его мировосприятия. Изображение внутреннего микромира субъекта как некоего пространства, созданного по модели макромира, становится своеобразным открытием поэтовромантиков7. Особенности романтического пространствопредставления мы рассмотрели на примере лирики поэта пушкинской поры А.П. Крюкова. Используя универсальные оппозиции – свое/чужое, внешнее/внутреннее и т.п. – поэт рисует субъективное пространство души как типично романтический «бурный» пейзаж. С развитием психологизма в литературе внимание к внутреннему пространству личности значительно усилилось, что получило выражение в еще большей его «спациализации». Так, анализируя повесть А.П. Потемкина «Я» (2004), мы заметили, что традиционные пространственные образы, такие как бытовое, природное и социальное пространства представляются автором как структурные элементы Я-пространства. Кроме того, составляющими индивидуального простран6 Чернухина И. Я. Основы контрастивной поэтики. – Воронеж: Изд-во ВГУ 1990. – 197 с.; Про- кофьева В. Ю. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Различные модели поэтического пространства в лексическом представлении. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. – 208 с. 7 Подробно этот аспект проблемы рассмотрен в монографии Е.Г. Эткинда «Внутренний человек и внешняя речь». – М.: Языки русской культуры. – 448 с. 280 ства в повести являются интеллектуальное, психологическое и трансперсональное пространства, исследование которых, с одной стороны, расширяет возможности изучения сложного художественного мира произведения литературы в целом, позволяет приблизиться к пониманию душевной организации главного героя повести, а с другой – позволяет проследить трансформации в изображении пространства внутреннего мира человека, произошедшие в русской литературе за период ее двухвекового развития. Специфика пространства-Я рассмотрена нами на материале романа Е.С. Чижовой «Терракотовая старуха» (2011). Развернутые характеристики отраженной в сознании персонажа среды обитания, включающей географическое, культурное, бытовое, социальное и ирреальное пространства, способствуют раскрытию внутреннего конфликта главной героини романа Татьяны. Сопоставление двух типов индивидуальных пространств в произведениях новейшей литературы дало основание для следующих выводов: Я-пространство, вбирая в себя все всевозможные виды внешних пространств, представляет собой единое целое, индивидуальный вполне гармоничный внутренний мир, пространство-Я, на первый взгляд состоящее из тех же структурных элементов, является всего лишь субъективным отражением внешнего мира, конфликтным по своей сути. В четвертой главе мы обратились к исследованию интертекстуального пространства. Рассмотрев различные подходы к определению этого понятия, мы выделили два направления исследований, основной задачей которых является поиск перекличек именно в пространственных характеристиках. Одно из них связано с выявлением заимствований, реминисценций, аллюзий и т.п. в магистральных образах, относящихся к локальной топике и установлением семантических трансформаций, наблюдаемых при переходе от текста к тексту, другое – с изучением локальных текстов в русской литературе. Первый аспект рассмотрен нами на материале современной оренбургской поэзии, постоянным лирическим объектом которой является Оренбург. Мы выдели- 281 ли традиционные характеристики, формирующие городской текст, например, включенность в ряд оппозиций (город/деревня, столица/провинция), а также региональные – особое географическое положение (на Урале, на границе Европы и Азии, в степи); включенность в поэтическое описание ключевых историкокультурных объектов, организующих внутреннее пространство конкретного города. Анализ значительного корпуса произведений – краеведческих, исторических, биографических, путевых и т.п., – составляющих оренбургский текст русской литературы, позволил отметить диалектическое единство национального и регионального. Во втором разделе нашего исследования мы разработали функциональносемантическую типологию пространственных моделей. Мы выделили и описали три модели художественного пространства: социальную, психологическую и виртуальную и на конкретных примерах показали, что именно они являются базовыми для построения всевозможных родо, - жанро, - и стилеобразующих моделей. Социальное пространство рассматривается нами как категория историческая, отражающая конкретную форму социального бытия, поэтому и основные характеристики этой модели нами выделены в сопоставительном анализе произведений классических – «Утра помещика» Л.Н. Толстого и «Человек в футляре» А.П. Чехова – и рассказов современного автора В.А. Пьецуха «Утро Помещика» и «Наш человек в футляре». Мы показали, что открытый спор с Толстым и Чеховым, использование их названий и сюжетов, актуализированных в ином социальном хронотопе, дает возможность Пьецуху разрушить стереотипные представления о вечных человеческих проблемах – желании упрятаться в футляр, с одной стороны, и обрести личное счастье, с другой. Особенности модели психологического пространства заключаются, по нашим наблюдениям, в «опространствовании» психических процессов: памяти, вос- 282 приятия, мышления, воображения и т.п. и в изображении внутреннего мира как локуса, вместилища. Обратившись к анализу повести Л.Н. Андреева «Красный смех» и поэзии Б.Л. Пастернака, мы заметили некоторую разницу в изображении психологического пространства в текстах эпических и лирических. Если основным элементом в структуре психологического пространства «Красного смеха» является имеющий пространственные координаты мир чувственных образов (сенсорные и физиологические ощущения героев), то в лирике Б. Пастернака внутренний мир лирического героя представляет собой более сложную организацию, отражая одновременно сознательный и бессознательный уровни мировосприятия поэта. В главе, посвященной исследованию виртуального пространства в художественной литературе, мы рассмотрели различные приемы создания иномирия. Самым распространенным в художественной литературе способом преобразования действительности является фантазия. Так, например, поэтами Серебряного века как виртуальное описывается городское пространство, воображаемое уродливым, опасным, энтропийным. Однако эта искаженная реальность способна существовать только при наличии интерпретирующего субъекта, способного почувствовать передаваемую языковыми средствами (в основном метафорой и метонимией) атмосферу. Особым виртуальным способом существования персонажей в произведении является игра. На примере рассказа Л.Н. Андреева «Большой шлем» мы показали, что моделирование игрового пространства – сознательный прием, позволяющий автору исследовать определяющий тип мироотношения героев, вступающих в борьбу с судьбой. В. Пелевин в романе «S.N.U.F.F.» помимо «традиционных» видов виртуального пространства изображает глобальное киберпространство, моделируемое компьютерными средствами. Однако главным его открытием, как мы отметили, стало совмещение в одном тексте всех видов виртуальности, что подтверждает мысль ряда современных исследователей, трактующих «виртуальность» как уни- 283 версальную характеристику любого текста, независимо от его идейно- тематической направленности, жанровой и стилевой принадлежности. На основе диахронического и синхронического подходов и с учетом изменений пространственной картины мира, художественно отраженной в русской литературе на разных этапах ее развития, мы разработали типологию сквозных пространственных образов и базовых пространственных моделей. Анализ значительного корпуса произведений позволил нам выявить динамические трансформации в семантике, функциях и структуре художественного пространства, произошедшие в ходе эволюции русской литературы. Предложенная в данной работе типология, на наш взгляд, может послужить основанием для анализа произведений разных родов, жанров, направлений, эпох, национальных литератур. Обширная эмпирическая база даст возможность говорить о национальном своеобразии пространствопредставления в литературе, о тех особенностях, которые диктуются культурой, временем, творческим методом, родом и жанром, и о тех сущностных свойствах художественного пространства, которые остаются неизменными. Перспективным представляется исследование смешанных моделей пространства, поскольку данная проблема только частично затронута в нашем диссертационном исследовании. Мы обозначили лишь часть вопросов, связанных с функционированием художественного пространства в литературе, которые ждут своего дальнейшего изучения. Обилие и разноплановость возможных направлений типологического исследования свидетельствуют о том, что художественное пространство в литературе является уникальным образованием, способным дать ключ к пониманию и адекватному толкованию не только отдельных произведений или индивидуальноавторской концепции, но и литературного процесса в целом. 284 Источники 1. Андреев, Л. Н. Собрание сочинений. в 6 т. / Леонид Николаевич Андреев. – М.: Худож. лит., 1990. – 1 т.: Рассказы 1898-1903; 2 т.: Рассказы; Пьесы. 1904-1907. 2. Ахматова, А. А. Собрание сочинений: в 6 т. / Анна Андреевна Ахматова; [сост, подгот. текста, коммент. и статья Н.В. Королевой.]. – М.: Эллис-Лак, 1998. – 1 т.: Стиховторения 1904-1941. 3. Белый, А. Собрание сочинений: в 9 т. / Андрей Белый; [cост., предисл. В.М. Пискунова; коммент. С.И. Пискуновой, В.М. Пискунова]. – М.: Республика, 1994. – 1 т.: Стихотворения и поэмы. 4. Блок, А. А. Стихотворения. Поэмы. Театр. / Александр Алексанрович Блок // Библиотека всемирной литературы. Сер. 3. Т. 138; [вступ. ст. П. Антокольского; сост. и примеч. Вл. Орлова]. – М.: Худож. лит., 1968. – 840 с. 5. Большаков, К. А Поэма событий / Константин Аристархович Большаков. – М.: Пета, 1916. – 15 с. 6. Брюсов, В. Я. Собрание сочинений: в 7 т. / Валерий Яковлевич Брюсов; [вступ. статья П.Г. Антокольского; подг. текста Н.С. Ашукина и др.; примеч. Н.С. Ашукина]. – М.: Худож. лит., 1973. – 1.: Стихотворения. Поэмы. 19821909. 7. Булгаков, М. А. Собрание сочинений: в 5 т. / Михаил Афанасьевич Булгаков; [cост. А.А. Нинова; подг. текста и коммент. В.В. Гудковой и др.]. – М.: Худож. лит., 1989. – 1 т.: Записки юного врача. Белая гвардия. Рассказы. Записки на манжетах; 2 т.: Дьяволиада. Роковые яйца. Собачье сердце. Рассказы. Фельетоны. 8. Бунин, И. А. Собрание сочинений: в 9 т. / Иван Алексеевич Бунин; [под общ. ред. А.С. Мясникова, Б.С. Рюрикова, А.Т. Твардовского]. – М.: Изд-во «Худож. лит.», 1965. – 1 т.: Стихотворения 1886-1917.; 3 т.: Повести и рассказы 285 1907-1911; 6 т.: Жизнь Арсеньева. Юность; 8 т.: Стихотворения 1918-1953. Переводы. 9. Вечный берег: Два века поэзии Оренбуржья: Избранная лирика. – Калуга: «Золотая аллея», 1994. – 384 с. 10. Волошин, М. А. Стихотворения / Максимилиан Александрович; [вступ. статья С.С. Наровчатова; сост., подгот. текста и примеч. Л.А. Евстигнеевой]. – Л.: Л.О. изд-ва «Советский писатель», 1982. – 464 с. (Серия «Библиотека поэта»). 11. Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. / Николай Васильевич Гоголь; [АН СССР; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом)]. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. – 2 т.: Миргород. 12. Горький, М. Собрание сочинений: в 25 т. / Максим Горький; [АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького]. – М. : Наука, 1968-1976. – 2 т.: Рассказы, очерки, наброски, стихи. 1894-1896; 3 т.: Рассказы, очерки 1896-1897; 10 т.: Городок Окуров.Жизнь Матвея Кожемякина. Наброски, 1909-1911; 14 т.: Повесть, рассказы 1912-1917. 13. Гумилев, Н. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. / Николай Степанович Гумилев; [РАН Институт русской литературы (Пушкинский дом)]. – М.: Воскресенье, 1998. – 2т.: Стихотворения. Поэмы (1910-1913). 14. Гусев-Оренбургский, С. И. Страна отцов / Сергей Иванович ГусевОренбургский // C.И. Гусев-Оренбургский Повести и рассказы [вступ статья, примеч. и подгот. текста И.М. Гронского]. – М.: Госуд. Изд-во худож. лит., 1958. – С. 227-389. 15. Даль, В. И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Владимир Иванович Даль; [сост. А.Г. Прокофьева и др.]. – Оренбург: Оренбургское книжное изд-во, 2001. – 416 с. 16. Евтушенко, Е. А. Идут белые снеги… / Евгений Александрович Евтушеноко; [предисл. Е. Винокурова]. – М.: Худож. лит., 1969. – 432 с. 286 17. Есенин, С. А. Полное собрание сочинений: в 7 т. / Сергей Александрович Есенин; [гл. ред. Ю. Л. Прокушев; ИМЛИ им. А. М. Горького РАН] – М.: Наука; Голос, 1995 – 2002. – 1 т.: Стихотворения. 18. И с песней молодость вернется: Сб. стихов и прозы писателей Оренбуржья. – Калуга: «Золотая аллея», 1999. – 640 с. 19. Кигн-Дедлов, В. Л. Заметки и картинки / В.Л. Кигн-Дедлов // Гостиный двор. – 1999. – № 7. – С. 93-95. 20. Короленко, В. Г. Собрание сочинений: в 5 т. / Владимир Галактионович Короленко; [Сост., подгот. Текста, примеч. Б. Аверина и Н. Дождиковой; вст. статья Б. Аверина]. – Л.: Худож. лит.», 1989. – 1 т.: Повести и рассказы, 1879-1888. 21. Крюков, А. П. Стихотворения / Александр Павлович Крюков // Вечный берег: Два века поэзии Оренбуржья: Избранная лирика. – Калуга: «Золотая аллея», 1994. – C. 51-61 22. Лозина-Лозинский, А. К. Противоречия: Собрание стихотворений / Алексей Константинович Лозина-Лозинский. – М.: Водолей Publishers, 2008. – 648 с. – (Серебряный век. Паралипоменон). 23. Лавров, В. В. Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции 1920-1953 гг.: роман-хроника / Валентин Викторович Лавров. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 384 с. 24. Лесков, Н. С. Соборяне / Николай Семенович Лесков. – М.: Современник, 1979. – 400 с. 25. Мандельштам, О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. / Осип Эмильевич Мандельштам; [сост, подг. текста и коммент. А.Г. Мец, вст. ст. Вяч. Вс. Иванов]. – М.: «Прогресс-Плеяда, 2009. – 1 т.: Стихотворения 26. Маяковский, В. В. Полное собрание сочинений: в 13 т. / Владимир Владимирович Маяковский; [подгот. текста и примеч. В.А. Арутчевой и З.С. Паперного; ред. А. Февральский; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького]. – М.: Худож. лит., 1955–1961. – 1 т.: Стихотворения, трагедия, 287 поэмы и статьи 1912–1917 годов; 4 т.: Стихотворения 1922 г., поэмы, агитлубки и очерки 1922–1923 гг. 27. Михайлов, М. Л. Уральские очерки / Михаил Ларионович Михайлов // Оренбургский край в произведениях русских писателей / авт.-сост. Прокофьева А.Г., Пузанева Т.Н. – Оренбург: Изд-во ОГПИ. – 1 ч., 1991. – 2 ч., 1993. – 3 ч., 1995. 28. Они прилетят! Антология современной поэзии и прозы Оренбуржья. – Калуга: «Золотая аллея», 2002. – 640 с. 29. Орябинский, Ю. Родная улица моя / Ю. Орябинский // Гостиный двор. – 2001. – № 12. – С. 10-15. 30. Пастернак, Б. Л. Стихотворения. Поэмы / Борис Леонидович Пастернак; [вступ. ст. А.Д. Синявского; сост., подгот. текста и примеч. Л.А. Озерова]. – М.-Л.: Изд-во «Советский писатель», 1965. – 732 с. (Серия «Библиотека поэта») 31. Паустовский, К. Г. Собрание сочинений: в 9 т. / Константин Георгиевич Паустовский [примеч. Л. Левицкого]. – М.: Худож лит., 1981-1986. 32. Пелевин, В. О. S. N. U. F. F. / Виктор Олегович Пелевин.– М.: Эксмо, 2013. – 480 с. 33. Плещеев, А. Н. Житейские сцены / Алексей Николаевич; [сост., вступ. ст. и примеч. Н.Г. Кузина]. – М. Сов. Россия, 1986. – 352 с. 34. Потемкин, А. П. Я. / Александр Петрович Потемкин. – М.: ИД «ПоРог», 2004. – 384 с. 35. Пьецух, В. А. Плагиат. Повести и рассказы / Вячеслав Алексеевич Пьецух. – М.: Глобулус, Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 304 с. 36. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. / Александр Сергеевич Пушкина; [примеч. сост. Б. В. Томашевским; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом)]. – 4-е изд. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. – 1 т.: Стихотворения, 1813–1820. 288 37. Салтыков-Щедрин, М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. / Михайл Евграфович Салтыков-Щедрин; [подгот. текста, статья и примеч. С.А. Макашина; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом)]. – М.: изд-во «Худож. лит», 1965. – т. 2.: Губернские очерки, 1856-1857. 38. Свиньин, П. П. Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по России издателя «Отечественных записок» в 1824 году) / Павел Петрович Свиньин // Оренбургский край в произведениях русских писателей / авт.- сост. Прокофьева А.Г., Пузанева Т.Н. – Оренбург: Изд-во ОГПИ, 1991. – С. 16-26. 39. Степной, Н. (Н. Афиногенов) Сказки степи / Николай Степной . – Изд. 3-е доп. – Оренбург: Из-во т-ва «Степь», 1918. – 172 с. 40. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. / Лев Николаевич Толстой; [под общ. ред. В. Г. Черткова]. – М. Худ. лит. – 4 т.: Произведения Севастопольского периода. Утро помещика. 41. Тютчев, Ф. И. Полное собрание сочинений и писем: в 6 т. / Федор Иванович Тютчев; [РАН. Ин-т мировой лит. им. М. Горького; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом)]. – М.: Издат. центр «Классика», 2002. – 1 т.: Стихотворения, 1813-1849. 42. Уханов, И. С. Сокровища асессора Рычкова / Иван Сергеевич Уханов. – М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2005. – 480 с. 43. Фофанов, К. М. Стихотворения и поэмы / Константин Михайлович Фофанов; [Вступ статья, сост., подг. текста и примеч. С.В. Сапожкова]. – СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2010. – 592 с. (Серия «Новая библиотека поэта») 44. Ходасевич, В. Ф. Собрание сочинений: в 8 т. / Владислав Фелицианович Ходасевич; [сост., подг. текста, коммент. Дж. Малмстада и Р. Хьюза; вступ. статья Дж. Малмстада]. – М.: Русский путь, 2009. – 1 т.: Полное собрание стихотворений. 289 45. Цветаева, М. И. Собрание сочинений: в 7 т. / Марина Ивановна Цветаева; [сост., подгот. текста и коммент. А. Саакянц и Л. Миухина]. – М.: Эллис Лак, 1994. – 1-3 т: Стихотворения. Поэмы. 46. Чехов, А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. / Антон Павлович Чехов. – 2-е изд. стереотипное. – М.: Наука, 2008. – 9 т.: Рассказы. Повести, 1894-1897; 10 т.: Рассказы, повести, 1898-1903. 47. Чижова, Е. С. Терракотовая старуха / Елена Семеновна Чижова. – М.: АСТ, Астрель, 2011. – 411 с. 48. Шершеневич, В. Г. Стихотворения и поэмы / Вадим Габриэлевич Шершеневич; [сост., подг. текста, вступ. статья, примеч. А. Кобринского]. – СПб.: «Академический проект», 2000. – 368 с. (Новая библиотека поэта) 290 Библиография 49. Абасов, А. Пространство и время; пространственно-временная организация /А. Абасов // Вопросы философии. – 1985. – № 1. – С. 71-82. 50. Абашев, В. В. Пермский текст в русской культуре и литературе XX века: дис. ... доктора филол. наук: 10.01.01 / Абасов Владимир Васильевич. – Екатеринбург, 2000. – 448 с. 51. Абузова, Н. Ю. Типология пейзажа в лирике Ф.И. Тютчева: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Абузова Наталья Юрьевна. – Самара, 2000. – 188 с. 52. Аванесова, А. С. Пространственные модели в «Театральном романе» М.А. Булгакова: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. / Аванесова Анна Сергеевна. – Волгоград, 2008. – 20 с. 53. Аверинцев, С. С. Архетип / С.С. Аверинцев // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Рос. энциклопедия, 1997. – Т. 1. – С. 110. 54. Адрианова-Перетц, В. П. К вопросу об изображении «внутреннего человека» в русской литературе XI – XIV веков // Вопросы изучения русской литературы XI – XX веков. – М. – Л., 1958. – С. 15-24. 55. Айрапетьянц, Э. Ш. Мозговые механизмы и эволюция восприятия пространства / Э.Ш. Айрапетьянц, Б.Г. Ананьев // Восприятие пространства и времени. – Л., 1969. – С. 5-11. 56. Акатова, О. И. Поэтика сновидений в творчестве М.А. Булгакова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Акатова Ольга Ивановна. – Саратов, 2006. – 228 с. 57. Акопова, Ю. А.Трансформация способов изображения внутреннего мира персонажа на рубеже XIX-XX веков: дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Акопова Юлия Алексеевна. – Ростов-на-Дону, 2007. – 182 с. 291 58. Алексеева, О. П. Виртуальная бытийность сказки в культуре: дис. … канд. филос. наук: 24.00.01 / Алексеева Ольга Павловна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 160 с. 59. Алонцева, И. В. Структура и семантика «итальянского текста» Н. Гумилева: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Алонцева Ирина Валерьевна. – Смоленск, 2008. – 291 с. 60. Альтман, Я. А. Межполушарная асимметрия слуховых вызванных потенциалов человека и локализация источника звука / Я.А. Альтман, С.Ф. Войтулевич, С.П. Пак // Сенсорные системы. Сенсорные процессы и асимметрия полушарий. – Л., 1985. – С. 88-99. 61. Ананьев, Б. Г. Избранные труды по психологии: в 2 т. / Б.Г. Ананьев. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. 62. Аникейчик, Е. А. Нравственно-эстетическое значение пейзажа в русской литературе конца XVIII – начала XIX в.: от сентиментализма к предромантизму: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. / Аникейчик Елена Александровна. – М., 2008. – 182 с. 63. Анисимова, М. С. Мифологема «дом» и ее художественное воплощение в автобиографической прозе первой волны русской эмиграции: на примере романов И.С. Шмелева «Лето Господне» и М.А. Осоргина «Времена»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Анисимова Мария Сергеевна. – Нижний Новгород, 2007. – 185 с. 64. Анисова, А. Н. Особенности художественного пространства и проблема эволюции поэтического мира: На материале лирики Б. Пастернака: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Анисова Анна Николаевна. – М., 2002. – 130 с. 65. Аношина, А. В. Художественный мир Варлама Шаламова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Аношина, Анна Валерьевна. – Северодвинск, 2006 – 177 с. 66. Антипкина, Е. Н. Пространственно-временные инверсии утопии в художественной культуре конца XX века: дис. … канд. филос. наук. 24.00.01 / Антипкина Елена Николаевна. – Саранск, 2009. – 175 с. 292 67. Антоничева, М. Ю. Границы реальности в прозе В. Набокова: Авторские повествовательные стратегии: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Антоничева Мария Юрьевна. – Саратов, 2006. – 208 с. 68. Анциферов, Н. П. Душа Петербурга / Н.П. Анциферов. – Л.: Лира, 1990. – 249 с. 69. Анциферов, Н. П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе. Опыт построения образа города – Петербурга Достоевского – на основе анализа литературных традиций / Н.П. Анциферов / Сост., подг. текста, послесл. Д.С. Московской. – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2009. – 584 с. 70. Аркатова, Т. Е. Национальный образ мира в прозе В.И. Белова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Аркатова Татьяна Евгеньевна. – Владивосток, 2008. – 195 с. 71. Арнхейм, М. Р. Структура пространства и времени / М.Р. Арнхейм // Новые очерки по психологии искусства. – М.: Прометей, 1994. – С. 92-105. 72. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 896 с. 73. Ауэрбах, Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе: Пер. с нем. / Э. Ауэрбах. – М.: Прогресс, 1976. – 556 с. 74. Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. / А.Н. Афанасьев. – М.: Изд-во «Индрик», 1994. т. 2. – 801 с. 75. Афанасьева, В. В. Тотальность виртуального / В.В. Афанасьев, И.А. Николаев // Философия, человек, цивилизация: новые горизонты XXI века. – Саратов: Научная книга, 2004. Ч. 2. – С. 25-29. 76. Афанасьева, Н. Р. Основы комплексного исследования образных репрезентаций внутреннего мира человека: На материале русской и англоязычной психологической прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 /Афанасьева Наталья Рудольфовна. – Омск, 2006. – 243 с. 77. Ахундов, М. Д. Проблема прерывности и непрерывности пространства и времени / М.Д. Ахундов. – М.: Наука, 1974. – 252 с. 293 78. Ахундов, М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / М.Д. Ахунтов. – М.: Наука, 1982. – 222 с. 79. Ахундова, И. Р. Проблема художественного пространства в творчестве Ф. М. Достоевского: Контекст литературы и фольклора: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ахундова Ирина Рамизовна. – М., 1998. – 257 с. 80. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: учебник; практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с. 81. Бабушкин, А. П. «Возможные миры» в семантическом пространстве языка: монография / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2001. – 86 с. 82. Баженова, А. И. Солнечные боги славян / А.И. Баженова // Мифы древних славян. – Саратов: Надежда, 1993. – 320 с. 83. Байбурин, А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. / А.К. Байбурин. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 224 с. 84. Байрамова (Самойлова), К. В. Мотивы и поэтика сна в лирике А. Блока: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Байрамова (Самойлова) Катерина Владимировна. – Махачкала, 2003. – 190 с. 85. Байцак, М. С. Поэтика описания в прозе И.А. Бунина: живопись посредством слова: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Байцак Марина Сергеевна. – Омск, 2009. – 175 с. 86. Баландина, М. Б. Художественный мир Б. Зайцева: поэтика хронотопа: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Баландина, Марина Борисовна. – Магнитогорск, 2003. – 185 с. 87. Барышева, С. Г. Экзистенциальная архетипика в художественном пространстве современной русской прозы: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Барышева Светлана Геннадьевна. – Магнитогорск, 2006. – 201 с. 294 88. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе / М.М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М.: Изд-во «Худож. лит.», 1975. – C. 234-408. 89. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 445 c. 90. Бахтин, М. М. Литературно-критические статьи / М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит, 1986. – 541 с. 91. Башляр, Г. Земля и грезы о покое / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2001. – 320 с. 92. Башляр, Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц. Н. В.Кислова, Г.В.Волкова, М.Ю.Михеев. – М.: РОССПЭН, 2004. – 376 с. 93. Беззубов, В. И. Художественное пространство в прозе Л. Андреева 1898 – 1904 гг. / В.И. Беззубов, Л.С. Карлик // Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Ученые записки ТГУ. Вып. 491. – Тарту, 1979. – С. 59-83. 94. Беликова, А. В. Социальное пространство: онтологические основания и институциональные структуры: дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Беликова Анна Владимировна. – Саратов, 2004. – 150 с. 95. Белозубова, Н. И. Проза А.П. Хейдока в контексте литературы дальневосточного зарубежья: виды и образы пространства: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Белозубова Наталья Иннокентьевна.– Благовещенск, 2009. – 176 с. 96. Бенедиктов, Н. А. Русские святыни / Н.А. Бенедиктов. – М: Алгоритм, 2003. – 272 с. 97. Бергер, Л. Г. Пространственный образ мира (парадигма познания) в структуре художественного стиля / Л.Г. Бергер // Вопросы философии. – 1995. – № 4. – С. 114-128. 98. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания. Париж: YMCA-PRESS, 1955. – М.: Наука, 1990. – 224 с. 295 99. Бердяев, Н. А. О власти пространств над русской душой / Н. А. Бердяев // Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М.: Мысль, 1990. – С. 59-65. 100. Березина, Н. В. Хронотоп ранней прозы М.А. Булгакова: лексический аспект. Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – Русский язык. – СПб., 2006. – 235 с. 101. Березина, Т. Н. Пространственно-временные особенности внутреннего мира личности: дис. … доктора психол. наук: 19.00.01 / Березина Татьяна Николаевна. – М., 2003. – 382 с. 102. Бессмертная, О. Предки / О. Бессмертная, А. Рябинин // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Российская энциклопедия, 1997. Т. 2. – С. 333-335. 103. Бибина, И. В. Пространство и время в автобиографических романах В. Набокова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Бибина Ирина Владимировна. – Саратов, 2003. – 187 с. 104. Биллингтон, Д. Х. Икона и топор: опыт истолкования русской культуры / Д.Х. Биллингтон. – М.: Рудомино, 2001. – 880 с. 105. Богданова, О. В. Постмодернизм и современный литературный процесс: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Богданова Ольга Владимировна. – СПб., 2003. – 481 с. 106. Богодерова, А. А. Сюжетная ситуация ухода в русской литературе второй половины XIX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Богодерова Анна Александровна. – Новосибирск, 2011. – 278 с. 107. Бодрийар, Ж. Америка / Пер. с франц. Д. Калугина. – СПб.: Владимир Даль, 2000. – 206 с. 108. Боковели, О. С. Модель мира в философской лирике А.А. Тарковского. Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 – Русская литература. – Абакан, 2008. – 152 с. 296 109. Болкунова, Н. С. Мотивы Дома и Дороги в художественной прозе Н.В. Гоголя: дис... канд. филол. наук: 10.01.01 / Болкунова Наталья Сергеевна. – Саратов, 1999. – 201 с. 110. Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – СПб.: Норинт, 1998. – Режим доступа: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%C4%D3%D8%C0&all=x&lop=x&bts=x&z ar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x. 111. Борейкина, Т. П. Художественный мир драматургии В.И. Мишаниной: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Борейкина, Татьяна Петровна. – Саранск, 2011. – 149 с. 112. Борисова, Н. В. Художественное бытие мифа в творческом наследии М. М. Пришвина: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Борисова Наталья валерьевна. – Елец, 2002. – 423 с. 113. Борода, Е. В. Проза Е.И. Замятина: поэтика конфликта в замкнутом пространстве: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Борода Елена Викторовна. – Тамбов, 2003. – 206 с. 114. Боченкова, О. Б. Тематические аспекты художественного метода. Русские поэты о Петербурге: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Боченкова Ольга Борисовна. – М., 2006. – 194 с. 115. Брель, С. В. Диалектика духовного и материального начал в прозе Андрея Платонова: Категории «живого» – «неживого» в жанрах научной фантастики и антиутопии: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Брель Сергей Валентинович. – М., 1999. – 218 с. 116. Бройтман, С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие / С.Н. Бройтман. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 420 с. 117. Бугрова, Л. В. Мотив Дома в русской романтической прозе 20-х - 30х годов XIX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Бугрова Лариса Васильевна. – Тверь, 2004. – 188 c. 297 118. Букаты, Е. М. Поэтика художественного пространства в прозе В.П. Астафьева («Последний поклон», «Царь-рыба», «Прокляты и убиты»): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Букаты Евгения Михаловна. – Томск, 2002. – 26 с. 119. Булыгина, Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. – М., 1997. – 576 с. 120. Бунге, М. Пространство и время в современной науке / М. Бунге // Вопросы философии. – 1970. – № 7. – С. 81-92. 121. Бурсов, Б. И. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод 1847-1862 / Б.И. Бурсов. – М.: Худож. лит., 1960. – 406 с. 122. Бухаркин, П. Е. Топос «Тишины» в одической поэзии М.В.Ломоносова / П.Е. Бухаркин // XVIII век. – СПб.: Наука, 1996. – Сб.20. – С. 312. 123. Быстрова, А. Н. Структура культурного пространства: дис. … доктора филос. наук. 09.00.13 / Быстрова Анна Натановна. – Томск, 2004. – 407 с. 124. Бычков, С. П. Толстой и проблема народа. 50-60-е годы // Историколитературный сб. / С.П. Бычков. – М.: Гослитиздат, 1947. – С. 384-452. 125. Бычков, В. В. Виртуальная реальность как феномен современного искусства [Электронный ресурс] / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская // Журнальный клуб Интерлос. – 2006. – № 2. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/yestetika-vchera-segodnya-vsegda/vyp2-2006/7911virtualnaya-realnost-kak-fenomen-sovremennogo-iskusstva.html. 126. Бычкова, О. А. Проблемы симулякра в произведениях русского постмодернизма на материале произведений А. Битова, Т. Толстой, В. Пелевина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Бычкова Ольга Анатольевна. – Чебоксары, 2008. – 201 с. 127. Ваганова, И. Ю. Языковая игра в ментальных пространствах произведений художественной фантастики: на материале творчества А. и Б. Стругац- 298 ких: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ваганова Ирина Юрьевна. – Екатеринбург, 2009. – 181 с. 128. Варакина, Е. Р. Картина мира в лирическом произведении: на материале творчества Г. Иванова и Странника (Д. Шаховского): дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Варакина Евдокия Раифовна. – М., 2009. – 183 с. 129. Вардугина, Г. С. Фольклоризм как элемент поэтики А. И. Куприна: Вопросы типологии и эволюции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Вардугина Галина Семеновна. – Челябинск, 1996. – 213 с. 130. Васильева, Н. И. Фольклорные архетипы в современной массовой литературе: романы Дж. К. Роулинг и их интерпретация в молодежной субкультуре: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03, 10.01.09 / Васильева Наталья Игоревна. – Н. Новгород, 2005. – 243 с. 131. Васильева, Т. И. Литературоведческий подход к изучению художественного концепта / Т.И. Васильева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 7 (18): в 2-х ч. Ч. I. – C. 51-54. 132. Вахненко, Е. Е. Концепция времени и пространства в автобиографической прозе А.М. Ремизова 1920-1950-х гг.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Вахненко Екатерина Евгеньева. – Иркутск, 2007. – 206 с. 133. Вацуро, В. Э. Александр Крюков и его стихи / В.Э. Вацуро // Прометей. – М.: Молодая гвардия, 1987. Т. 14. – С. 252-258. 134. Вейдле, В. В. Задача России / В.В. Вейдле. – Минск: Белорусская Православная Церковь, 2011. – 512. 135. Вейсман, И. З. Ленинградский текст Сергея Довлатова: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Вейсман Ирина Зиновьевна. – Саратов, 2005. – 211 с. 136. Веккер, Л. М. Психика и реальность. Единая теория психических процессов / Л.М. Веккер. – М.: Смысл, 1998. – 685 с. 137. Великанова, Е. А. Цикл «В глубине Великого Кристалла» В.П. Крапивина: проблематика и поэтика: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Великанова Екатерина Александровна. – Петрозаводск, 2010. – 290 с. 299 138. Вернадский, В. И. Размышление натуралиста. Кн. I. Пространство и время в неживой и живой природе / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1975. – 173 с. 139. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика: научное издание / А.Н. Веселовский. – М.: Высш. шк., 1989. – 406 c. 140. Ветошкина, Г. А. Гамлетовский код в интертекстуальном ппространстве романов У. Фолкнера «Шум и ярость» и «Авессалом, Авессалом!» (к проблеме «поэтического романа»): дис. … канд. филол. наук: 10.01.03 / Ветошкина Галина Александровна. – Краснодар, 2007. – 197 с. 141. Виролайнен, М. Н. Четыре типа русской словесной культуры: Исторические трансформации: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Виролайнен Мария Наумовна. – СПб., 2005. – 450 с. 142. Владимирова, Т. Л. Римский текст в творчестве Н.В. Гоголя: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Владимирова Татьяна Леонидовна. – Томск, 2006. – 207 с. 143. Власенко, Е. Ю. Функции архетипов и архетипических образов в произведениях П.В. Засодимского: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Власенко Елена Юрьевна. – Ульяновск, 2005. – 163 с. 144. Вовна, А. В. Городской текст в романе Андрея Белого «Петербург»: истоки и становление: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Вовна Алексей Владимирович. – М., 2011. – 181 с. 145. Воробьёва, А. Н. Русская антиутопия ХХ – начала ХХI веков в контексте мировой антиутопии: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Воробьёва Александра Николаевна. – Самара, 2009. – 528 с. 146. Воробьёва, Л. В. Лондонский текст русской литературы первой трети XX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Воробьёва Людмила Владимировна. – Томск, 2009. – 187 с. 147. Всеволодова, М. В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке / М.В. Всеволодова, Е.Ю. Владимирский. – М.: Наука, 1982. – 243 с. 300 148. Вьюшкова, И. Г. Мотивный комплекс сна в поэзии и прозе Я.П. Полонского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Вьюшкова Ирина Геннадьевна. – СПб., 2011. – 248 с. 149. Габдуллина, С. Р. Концепт ДОМ-РОДИНА и его словесное воплощение в индивидуальном стиле М. Цветаевой и поэзии русского зарубежья первой волны: Сопоставительный аспект: дис... канд. филол. наук: 10.02.01 / Габдуллина Светлана Рафаэловна. – М., 2003. – 264 с. 150. Габричевский, А. Г. Пространство и время / А.Г. Габричевский // Вопросы философии. – 1994. – № 3 . – С. 134-147. 151. Гаврилова, М. В. Пространство и время в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Гаврилова Марина Владимировна. – СПб., 1996. – 206 с. 152. Гадамер, Х. -Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики: Пер. с нем. / Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 153. Галаева, М. В. Образ «дома» в поэзии Анны Ахматовой: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Галаева Мария Владимировна. – М., 2004. – 187 c. 154. Ганжара, О. А. Игровое пространство в русской литературе первой половины XX века: структура, динамика, функционирование: дис. … канд филол. наук: 10.01.01 / Ганжара Ольга Анатольевна. – Ставрополь, 2002. – 186 с. 155. Гарбузинская, Ю. Р. Проблема пространственной формы в литературе :на материале творчества О.Э. Мандельштама: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Гарбузинская Юлия Романовна. – Самара, 2007. – 206 с. 156. Гачев, Г. Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М.: Академический проект, 2007. – 511 с. 157. Гачев, Г. Д. О русских и болгарских образах пространства и движения / Г.Д. Гачев // Поэтика и стилистика русской литературы. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ие 1971. – С. 300-312. 158. Гей, Н. К. Время и пространство в структуре произведения / Н.К. Гей // Контекст 1974. – М.: Наука, 1975. – С. 213-228. 301 159. Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты / Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян; Отв. ред. Л.О. Зайонц. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 672 с. 160. Гиршман, М. М. Анализ поэтических произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева: учеб. пособие для пед. ин-тов / М.М. Гиршман. – М.: Высш. школа, 1981. – 111 с. 161. Гиршман, М. М. Образ художественный / М.М. Гиршман, А.В. Домащенко // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 149- 151. 162. Гладкова, И. Б. Топос Сибири в русской очерковой прозе 1960-1980х годов (Л.Н. Мартынова, В.Г. Распутина, П.Н. Ребрина, И.Ф. Петрова): Семантика, генезис, эволюция: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Русская литература. – Омск, 2004. – 24 с. 163. Глазычев, В. Л. Образы пространства: проблемы изучения / В.Л. Глазычев // Творческий процесс и художественное восприятие. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ие 1978. – С. 120-144. 164. Гневковская, Е. В. Проблемы поэтики дилогии П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» и «На горах»: характерология, художественное пространство и время: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Гневковская Елена Владимировна. – Нижний Новгород, 2003. – 207 с. 165. Голуб, И. В. Сознание человека в бытии симулированного пространства: дис. … канд. филос. наук. 09.00.01 / Голуб Иван Владимирович. – М., 2003. – 151 с. 166. Голубков, М. М. Максим Горький / М.М. Голубков. Изд. 3-е. – М: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 96 с. 167. Голубков, М. М. Русская литература ХХ века: После раскола: учебное пособие для вузов / М.М. Голубков. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 267 с. 302 168. Граматчикова, Н. Б. Игровые стратегии в литературе серебряного века: М. Волошин, Н. Гумилев, М. Кузмин: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Граматчикова Наталья Борисовна. – Екатеринбург, 2004. – 204 с. 169. Грандова, Е. Вячеслав Пьецух: «Счастливейший из смертных – это я»: Интервью с Вячеславом Пьецухом / Е. Грандова // Культура. – 1998. – №13 (7124). 170. Грюнбаум, А. Философские проблемы пространства и времени / А. Грюнбаум. Общ. ред. и послесловие докт. филос. наук. Э.М. Чудинова. – М.: Прогресс, 1969. – 192 с. 171. Губанова, Е. Н. Семантика пространства в постмодернистском художественном тексте: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01 / Губанова Екатерина Николаевна. – М., 2009. – 159 с. 172. Гудзий, Н. К. От «Романа русского помещика» к «Утру помещика» / Н.К. Гудзий // Л.Н. Толстой. Сб. статей и материалов. Уч. зап. Минского пед. инта. – Минск, 1957, вып. 8. – С. 71-85. 173. Гуминский В. М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литературе: дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Гуминский Виктор Мирославович. – М., 1979. – 184 с. 174. Гурвич, И. А. Формы хронотопа в лирике / И.А. Гурвич // Пространство и время в литературе и искусстве. – Даугавпилс: Изд-во ДПИ, 1990. – С. 1213. 175. Гуревич, А. Я. Проблема ментальностей в современной историографии / А.Я. Гуревич // Всеобщая история: Дискуссии, новые подходы. Вып. 1. – М.: Наука, 1989. – С. 75-89. 176. Гусаков, В. Л. Игровое пространство в поэзии и драматургии В. Набокова: дис. … канд филол. наук: 10.01.01 / Гусаков Владимир Леонидович. – Воронеж. – 199 с. 303 177. Гусарова, А. Д. Жанр фэнтези в русской литературе 90-х гг. двадцатого века: проблемы поэтики: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Гусарова Анна Дмитриевна. – Петрозаводск, 2009. – 255 с. 178. Густова, Л. И. Трансформация образа усадьбы в русской поэзии XVIII - первой трети XIX веков: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Густова Людмила Ивановна. – Псков, 2006. – 160 с. 179. Давыдова, Т. Т. Теория литературы: учеб. пособие / Т.Т. Давыдова, В.А.Пронин. – М.: Логос, 2003. – 232 с. 180. Данчинова, М. Д. Художественная картина мира в литературе Бурятии 1960-1990-х гг.: Пространственно-временная архитектоника: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Данчинова Мария Даниловна. – Улан-Удэ, 2000. – 138 с. 181. Дацкевич, Н. Тема дома в поэзии Марины Цветаевой / Н. Дацкевич, М. Гаспаров // Здесь и теперь. вып 2. – М., 1992. – С. 116-130. 182. Девятайкина, Г. Л. Поэтика пространства и топонимический код в уральской прозе Д.Н. Мамина-Сибиряка: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Девятайкина Галина Леонидовна. – Екатеринбург, 2009. – 216 с. 183. Дедюхина, О. В. Сны и видения в повестях и рассказах И.С. Тургенева: проблемы мировоззрения и поэтики: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Дедюхина Ольга Владимировна. – М., 2006. – 230. 184. Джумайло, О. А. Игра и постмодернистский инструментарий в романах М. Спарк: дис. … канд филол. наук: 10.01.05 / Джумайло Ольга Анатольевна.– Ростов-на-Дону, 1997. – 245 с. 185. Динсмор, Дж. Ментальные пространства с функциональной точки зрения / Дж. Динсмор // Язык и интеллект. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1995. – С. 385-412. 186. Должич, Е. А. Интертекстуальные связи в испанстком научном дискурсе: на материале естественнонаучных статей и диссертаций: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / Должич Елена Анатольевна. – М., 2011. – 206 с. 304 187. Доманский, Ю. В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте. Пособие по спецкурсу. Изд. 2-е, испр. и доп. (Литературный текст: проблемы и методы исследования; Приложение) / Ю.В. Доманский. – Тверь, 2001. – 94 с. 188. Домников, С. Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество / С.Д. Домников. – М.: Алетейа, 2002. – 672 с. 189. Епанчинцев, Р. В. Художественный мир рассказов и повестей О. Куваева: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Епанчинцев, Роман Вячеславович. – М., 2010. – 161 с. 190. Ершенко, Ю. О. Поэтика сна в творчестве А.С. Пушкина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ершенко Юлия Олеговна. – М., 2006. – 204 с. 191. Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М.: Флинта, НОУ ВПО «МПСИ», 2011. – 250 с. 192. Ефимов, А. А. Игровое начало в прозе М.Ю. Лермонтова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ефимов Александр Александрович. – Таганрог. – 231 с. 193. Ефимова, Т. В. «Петербургский текст» как ресурс формирования городской ментальности: дис. ...канд. культурологии: 24.00.01 / Ефимова Татьяна Викторовна. – СПб., 2007. – 185 с. 194. Жадовская, С. А. Литература севернорусского провинциального города: текст, форма, традиция: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Жадовская Светлана Александровна. – СПб., 2009. – 203 с. 195. Жаплова, Т. М. Новоселки Степановка – Воробьека: Хронотоп усадьбы в поэзии А. Фета 1841-1892 годов / Т.М. Жаплова // Пространство и время в художественном произведении: Сб. научн. ст. – Оренбург, 2002. – С. 63-70. 196. Жданова, В. А. Тема дома в творчестве М.А. Булгакова / В.А. Жданова // Начало. Сб. ст. – М, 2003. Вып. 6. – С. 123-142. 305 197. Жеребцова, Е. Е. Хронотоп прозы А. П. Чехова как явление поэтики и онтологии: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Жеребцова Елена Евгеньевна. – Челябинск, 2003. – 203 с. 198. Жизнь провинции как феномен духовности / Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. // Под ред. Н.М. Фортунатова. – Нижний Новгород, 2008. 199. Жикулина, Л. М. «Утро помещика Л.Н. Толстого / Л.М. Жикулина // Толстой Л.Н. Утро помещика. – М.: ГИЗ, 1930. – С. 91-108. 200. Жолковский, А. К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма / А.К. Жолковский. – М.: Советский писатель, 1992. – 429 с. 201. Журавлева, А. А. Эстетика пространства: дис. … канд. филос. наук. 09.00.04 / Журавлева Анастасия Александровна. – СПб, 2005. – 168 с. 202. Журина, О. В. Роман «Воскресение» в контексте творчества позднего Л. Н. Толстого: модель мира и ее воплощение: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Журина Ольга Викторовна. – Петрозаводск, 2002. – 194 с. 203. Забияко, А. А. Лирика «харбинской ноты»: культурное пространство, художественные концепты, версификационная поэтика: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Забияко Анна Анатольевна. – М., 2007. – 480 с. 204. Заболотняя, О. Д. Система энантиоморфизма в творчестве В.В. Набокова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Заболотняя Оксана Дмитриевна. – М., 2004. – 175 с. 205. Завьялова, Е. Е. Соотношение канонического и неканонического в системе лирических жанров 1880-1890-х годов: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Завьялова Елена Евгеньева. – Астрахань, 2006. – 412 с. 206. Зайонц, Л. О. Провинция: опыт историографии / Л.О. Зайонц // Отечественные записки. – 2006. – № 5. – С. 70-88. 207. Заломкина, Г. В. Поэтика пространства и времени в готическом сюжете: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Заломкина Галина Вениаминовна. – Самара, 2003. – 224 с. 306 208. Заманова, И. Ф. Пространство и время в художественном мире сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Заманова Ирада Фуадовна. – Орел, 2000. – 186 с. 209. Зверева, Т. В. Взаимодействие слова и пространства в русской литературе второй половины XVIII века: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Зверева Татьяна Вячеславовна. – Ижевск, 2007. – 370 с. 210. Зимнякова, В. В. Роль онейросферы в художественной системе М.А. Булгакова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Зимнякова Валентина Владимировна. – Иваново, 2007. – 182 с. 211. Злотникова, Т. С. География души и география пространства. Чеховская «провинция» в мировой культуре / Т.С. Злотникова // Регионология. – 1994. – №1. – С. 111-119. 212. Злотникова, Т. С. Провинция / Т.С. Злотникова // Человек. Хронотоп. Культура. Введение в культурологию. – Ярославль: Александр Рутман, 2003. – С. 85-101. 213. Зотов, С. Н. Художественное пространство мир Лермонтова: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Зотов Сергей Николаевич. – Таганрог, 2001. – 399 с. 214. Зотов, С. В. Методология исследования ментальности национальных культур [Электронный ресурс] / С.В. Зотов // Аналитика культурологи. – 2005. Выпуск 1(3). Режим доступа: http://analiculturolog.ru. 215. Зубарева, Н. Б. Об эволюции пространственно-временных представлений в художественной картине мира / Н.Б. Зубарева // Художественное творчество. – Л.: «Наука» Ленин. отд-е, 1983. – С. 25-37. 216. Зусман, В. Г. Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка / В.Г. Зусман. – Нижний Новгород, 2001. – 168 с. 217. Иванов, П. С. Образы стихий и пространственная картина мира в поэзии А.С. Пушкина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Иванов Павел Сергеевич. – Кемерово, 2010. – 209 с. 307 218. Иванова, Д. М. Мифопоэтический и философско-эстетический аспекты воплощения образа природы в прозе И.А. Бунина: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Иванова Диана Михайловна. – Елец, 2004. – 174 с. 219. Иванова, Н. В. Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Иванова Надежда Викторовна. – М., 2010. – 270 с. 220. Иванцов, В. В. Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Иванцов Владимир Владимирович. – СПб., 2007. – 239 с. 221. Ивашева, В. В. Категории время-пространство в литературах мира / В.В. Ивашева // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1978. – № 2. – С. 3-13. 222. Ивлева, А. Ю. Культурное пространство художественного текста: от символа-предела к символу-образу: дис. … доктора. филос. наук: 24.00.01 / Ивлев Алина Юрьевна. – Саранск, 2009. – 344 с. 223. Игонина, Н. А. Способы лиризации в малых жанрах русской классической прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Игонина Наталья Александровна. – М., 2011. – 195 с. 224. Игумнова, Е. С. Языковая картина степи в художественном мире А.П. Чехова: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Игумнова Елена Сергеевна. – Тамбов, 2009. – 151 с. 225. Ильев, С. П. Структура художественного пространства романа «Петербург» А. Белого / С.П. Ильев // Пространство и время в литературе и искусстве. – Даугавпилс, 1984. – С. 65-67. 226. Инжеватова, Н. А. Художественное пространство в русском словесном творчестве: На материале Самарской Луки: дис. …канд. филол. наук: 10.01.01 / Инжеватова Нина Александровна. – Самара, 2000. – 145 с. 227. История литературы Урала. Конец XIV-XVIIIв. / Глав. ред.: В.В. Блажес, Е.К. Созина. – М.: Языки славянских культур, 2012. – 608 с. 308 228. Исупов, К. Г. Философия и литература «серебряного века» (сближения и перекрестки) / К.Г. Исупов // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). – М.: ИМЛИ РАН, 2000. – С. 69- 130. 229. Йен Тинг-чиа Специфика пространственно-временной организации русскоязычных романов В.В.Набокова («Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь»): дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Йен Тинг-чиа. – М., 1999. – 180 с. 230. Кавакита, Н. С. Проблема архетипа в творческом опыте М.И. Цветаевой: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.08 / Кавакита Наталья Сергеевна. – М., 2004. – 200 c. 231. Каган, М. С. Культура города и пути ее изучения / М.С. Каган // Город и культура. Сборник научных трудов. Т. 140. – СПб.: СПбГИК, 1992. – С.1534. 232. Каган, М. С. Морфология искусства. Ист.-теорет. исследование внутреннего строения мира искусств. Ч. I, II, III / М.С. Каган. Л.: Искусство, 1972. – 440 с. 233. Казьмина, О. А. Драматургический сюжет М.А. Булгакова: пространство и время в пьесах «Зойкина квартира», «Бег», «Блаженство»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Казьмина Ольга Александровна. – Воронеж, 2009. – 200 с. 234. Калмыков, А. А. Структура психологического пространства / А.А. Калмыков // Введение в экологическую психологию. – М.: МНЭПУ, 1999. – С. 71-75. 235. Кантомирова, А. Н. Образы пространства в лирике Анатолия Жигулина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кантомирова Анна Николаевна. – Волгоград, 2009. – 227 с. 236. Капрелова, М. Б. Типы художественной реальности в структуре кинообраза: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.09 / Капрелова Маргарита Борисовна. – СПб., 2005. – 157 с. 309 237. Карандашова, О. С. Художественное пространство «украинских» сборников Н. В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Карандашова Ольга Святослововна. – Тверь, 2000. – 155 с. 238. Карпов, А. С. Избранные труды: В 2 т. Русская литература ХХ века. Страницы истории / А.С. Карпов. – Т.1 – М.: РУДН, 2004. – 572 с.; Т.2 – М.: РУДН, 2004. – 444 с. 239. Карсалова, Е. В. Русский дом: жизнь и судьба – Сквозь годы испытаний / Е.В. Карсалова // Литература в школе. – 2004. – № 9. – С. 32-39. 240. Катаев, В. Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова (В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам) / Владимир Борисович Катаев. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 112 c. 241. Каюров, П. А. Статус «Фиктивной онтологии»: референция и вымышленная: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Каюров Павел Александрович. – Екатеринбург, 2005. – 129 с. 242. Квак, Хэ Ми Время, пространство и герой в сказках К.И. Чуковского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Квак Хэ Ми. – М., 2012. – 153 с. 243. Ким, Ен Сук Художественное пространство в лирике Б. Пастернака: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ким Ен Сук. – М., 2001. – 162 с. 244. Кирик, Т. А. Виртуальная реальность: сущность, критерии, типология: дис. … канд. филос. наук. 09.00.01 / Кирик Татьяна Анатольевна. – Омск, 2004. – 165 с. 245. Кирсанов, Н. О. Мифологические основы поэтики Л. Н. Толстого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кирсанов Никита Олегович. –Томск, 1998. – 158 с. 246. Кирьянова, Е. Н. Феномен дома в ранней лирике Марины Цветаевой: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кирьянова Екатерина Николаевна. – М., 2012. – 218 с. 310 247. Кихней, Л. Г. Локус дома в лирической системе Анны Ахматовой / Л.Г. Кихней, М.В. Галаева // Восток-Запад: Пространство русской литературы. Материалы Междунар. науч. конф. – Волгоград, 2005. – С. 237-247. 248. Клецкина, О. А. Пространственно-временной континуум в системе поэтики трилогии У. Голдинга «На край Земли»: морское путешествие: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Клецкина Ольга Алексеевна. – Великий Новгород, 2004. – 225 c. 249. Клецкина, О. М. Игра в малой прозе С.Д. Кржижановского: философия, эстетика, поэтика: дис. … канд филол. наук: 10.01.01 / Клецкина Ольга Михайловна. – Иркутск, 2007. – С. 216. 250. Клинг, О. А. Поэтический мир М. Цветаевой / О.А. Клинг. – М.: Издво МГУ, 2001. – 112 с. 251. Ключевский, В. О. О русской истории. / В.О. Ключевский. – М.: Просвещение, 1993. – 576 с. 252. Ключевский, В. О. Курс русской истории: В 5 ч. // Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение, 1987-1989. – Режим доступа: http://lib.ru/HISTORY/KLYUCHESKIJ/history.txt 253. Коваленко, А. Г. Художественный конфликт в русской литературе XX века: Структура и поэтика: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01, 10.01.08 / Коваленко Александр Георгиевич. – М., 1999. – М., 391 с. 254. Коваленко, А. Г. Очерки художественной конфликтологии: Антиномизм и бинарный архетип в русской литературе ХХ века: монография / А.Г. Коваленко. – М.: РУДН, 2010. – 491 с. 255. Коваленко, Ю. Д. Когнитивная категория художественного пространства и ее репрезентация в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия»: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.01 / Коваленко Юлия Дмитриевна. – Екатеринбург, 2002. – 22 с. 311 256. Ковалёва, Т. Н. Художественное время-пространство романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Ковалёва Татьяна Николаевна. –Ставрополь, 2004. – 182 с. 257. Ковальчук, Т. Ю. Пространственно-временная организация художественного мира поэзии Д.С. Мережковского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ковальчук Татьяна Юрьевна. – Магнитогорск, 2011. – 181 с. 258. Ковина, Е. В. Художественная картина мира в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы": время, пространство, человек: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ковина Екатерина Владимировна. – СПб., 2005. – 266 с. 259. Ковтун, Е. Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа / Е.Н. Ковтун. – М., 1999. – 308с. 260. Ковтун, Е. Н. Типы и функции художественной условности в европейской литературе первой половины XX века: дис. … доктора филол. наук: 10.01.05, 10.01.08 / Ковтун Елена Николаевна. – М., 2000. – 304 с. 261. Ковтунова, И. И. Поэтический синтаксис / И.И. Ковтунова. – М.: Наука, 1986. – 208 с. 262. Козлов, А. С. Мифема, мифологема / А.С. Козлов // Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М.: Интрада – ИНИОН. 1999. – С. 224. 263. Козлов, В. И. Архитектоника художественного мира лирического произведения на материале цикла И. Бродского «Часть речи»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Козлов Владимир Иванович. – Ростов-на-Дону, 2006. – 214 с. 264. Козловская, С. Э. Структура художественного пространства в творчестве Анны Ахматовой: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Козловская Светлана Эдуардовна. – М., 2008. – 175 с. 265. Козьмина, Е. Ю. Утопия // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 277. 312 266. Колотаев, В. А. Мифологическое сознание и его пространственное выражение в творчестве А. Платонова»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Колотаев Владимир Алексеевич. – Ставрополь, 1993. – 182 с. 267. Колядинцева, Н. А. Функции пространственного континуума в художественном прозаическом тексте / Н.А. Колядинцева, И.Н. Коваленко, С.Н. Татынская // Коммуникативная направленность текста и его перевод: Сб. науч. тр. – Киев: УМКВО, 1988. – С. 75-83. 268. Кондратьева, О. Н. Концепты внутреннего мира человека в русских летописях: На примере концептов душа, сердце, ум: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Кондратьева Ольга Николаевна. – Кемерово, 2004. – 205 с. 269. Кондратьева, В. В. Мифопоэтика пространства в пьесах А.П. Чехова 1890-х - 1900-х гг.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Кондратьева Виктория Викторовна. – Таганрог, 2007. – 192 с. 270. Кондрашина, И. Б. Образы пространства и времени в поэзии З.Н. Гиппиус: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кондрашина Ирина Борисовна. – Волгоград, 2008. – 194 с. 271. Коно Вакана Художественное пространство романа Андрея Белого «Серебряный голубь» в контексте русской культурной традиции: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Коно Вакана. – М., 2002. – 224 с. 272. Кононова, С. А. Донская степь как художественное пространство в языке М.А. Шолохова: дис. … канд. филол. наук. 10.02.01 / Кононова Светлана Александровна. – М., 2007. – 165 с. 273. Кораблев, А. А. Мотив «Дома» в творчестве М. Булгакова и традиции русской классической литературы / А.А. Кораблев // Классика и современность. Сб. ст. / Под ред. П.А. Николаева, В.Е. Хализева. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 239-248. 274. Корман, Б. О. Изучение текста художественного произведения / Б.О. Корман. – М.: Просвещение, 1972 . – 113 с. 313 275. Косиков, Г. К. Текст. Интертекст. Интертекстология / Г.К. Косиков // Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова; пер. с фр. Г.К. Косикова, Б.Н. Нарумова, В.Ю. Лукасик. – М.: Издво ЛКИ, 2008. – С. 8-42. 276. Костылева, О. Б. Проза О.М. Сомова: художественный мир и способы его моделирования: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Костылева, Ольга Борисовна. – Пятигорск, 2009. – 191 с. 277. Котукова, Е. Ю. Концептосфера творчества в ранней прозе Б. Пастернака: аксиология художественного пространства: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Котукова Елена Викторовна. – Магнитогорск, 2009. – 192 с. 278. Кофанова, В. Топос Петербурга в поэтическом тексте Ахматовой / В. Кофанова // Текст: Узоры ковра: Сборник статей научно- методического семинара «Textus». – Вып 4. – Ч. II. – СПб-Ставрополь: Изд-во СГУ, 1999. – С.56-60. 279. Кочеткова, М. А. Художественное пространство в рассказах И.А. Бунина 1890-х-1910-х гг. и в повестях «Деревня» и «Суходол»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Кочеткова Мария Александровна. – Ульяновск, 2005. – 183 с. 280. Кошечко, А. Н. Поэтика художественного пространства романов Ф. М. Достоевского 1860-х годов: «Преступление и наказание», «Идиот»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кошечко Анастасия Николаевна. – Томск, 2003. – 250 с. 281. Криволуцкая, Т. С. «Городской текст» русских романов В. Набокова 1920-1930-х годов: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Криволуцкая Татьяна Сергеевна. – М., 2008. – 217 с. 282. Крошнева, М. Е. Теория литературы: учеб. пособие / М.Е. Крошнева – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 103 с. 283. Кубрякова, Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) / Е.С. Кубрякова // Известия АН. Серия литературы и языка. – 1997. – том 56. – №3. – С. 22-31. 314 284. Кузнецова, А. И. Пространственные мифологемы в творчестве У. Голдинга: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Кузнецова Анна Игоревна. – М., 2004. – 232 c. 285. Кузнецова, Н. В. Восток в художественном мире произведений Д.С. Мережковского 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кузнецова, Наталья Валерьевна. – М., 2005. – 182 с. 286. Кузнецова, Т. Н. Средневековая картина мира в агиографических произведениях Епифания Премудрого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кузнецова Татьяна Николаевна. – М., 2001. – 253 с. 287. Кузьминых, Е. О. Пространственно-временная символика раннего М.А. Булгакова в контексте прозы начала 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кузьминых Елена Олеговна. – Воронеж, 2008. – 195 с. 288. Кузьмичева, Н. В. Мотив сна в поэзии русских символистов :На материале поэзии Ф. Сологуба: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кузьмичева Надежда Валерьевна. – Ярославль, 2005. – 176 с. 289. Кулакова, А. А. Мифопоэтика «Записок охотника» И. С. Тургенева: Пространство и имя: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Кулакова Анна Анатольевна. – М., 2003. – 180 с. 290. Куликова, Е. Ю. Динамические аспекты пространства в лирике акмеистов: лейтмотивная поэтика: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Куликова Елена Юрьевна. – Новосибирск, 2012. – 337 с. 291. Культура и пространство. Славянский мир: Сб. статей / Отв. ред. И.И. Свирида. – М.: Логос, 2004. – 287 с. 292. Кумбашева, Ю. А. Мотив сна в русской лирике первой трети XIX века. Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Русская литература. – СПб., 2001. – 230 с. 293. Кунгурцева, Н. А. Типология пространства в раннем творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка (1875–1882 гг.): автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Кунгурцева Надежда Александровна. – Екатеринбург, 2009. – 31 с. 315 294. Купченко, Т. А. Условная драма 1920 - 1950-х годов: Л. Лунц, В. Маяковский, Е. Шварц: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Купченко Татьяна Александровна. – М., 2005. – 145 с. 295. Лавренова, О. А. Отображение географического пространства в русской поэзии 18 - начала 20 века (геокультурный аспект): автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02 / Лавренова Ольга Александровна. – М., 1996. – 25 с. 296. Лазарева, О. В. Проблема русского национального самосознания в прозе И. А. Бунина 1910-1920-х гг.: формы художественного выражения, эволюция: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лазарева Ольга Владимировна. – М, 2006.– 180 с. 297. Лакшин, В. Я. О Доме и Бездомье (Александр Блок и Михаил Булгаков) / В.Я. Лакшин // Литература в школе. – 1993. – № 3. – С. 19-23. 298. Ланин, Б. А. Русская литературная антиутопия XX в.: дис. … доктора филол. наук: 10.01.02 / Ланин Борис Александрович. – М., 1993. – 350 с. 299. Ланская, О. В. Концепт «дом» в языковой картине мира (На материале повести Л.Н. Толстого «Детство» и рассказа «Утро помещика»): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ланская Ольга Владимировна. – Калининград, 2005.– 199 с. 300. Ласкина, Н. О. Принципы организации художественного времени и пространства в прозе А. П.Платонова двадцатых годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ласкина Наталья Олеговна. – Новосибирск, 2000. – 198 с. 301. Лассан, Э. О соотношении концепта «дом» с другими концептами в текстах русской культуры / Э. Лассан // Текст: Узоры ковра: Сборник статей научно-методического семинара «Тextus». – Вып. 4. – Ч. 1. – СПб-Ставрополь: Издво СГУ, 1999. – С. 103-105. 302. Латухина, А. Л. Цикл «путевых поэм» И.А. Бунина «Тень птицы»: проблема жанра: дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Латухина Анна Леонидовна. – Нижний Новгород, 2004. – 186 с. 316 303. Леви-Строс, К. Структурная антропология /К. Леви-Строс., Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 512 с. 304. Левитан, Л. С. Пространство и время в пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» как выражение целостности художественного мира произведения / Л.С. Левитан // Проблемы художественности и анализ литературного произведения (в вузе и школе). Тез. докл. зональной науч.-практич. конф. 24-26 окт. 1989 г. – Пермь: Перм. ГПИ, 1989. – С. 222-224. 305. Левченко, М. Н. Темпорально-локальная архитектоника художественных текстов различных жанров: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.19 / Левченко Марина Николаевна. – М., 2003. – 449 c. 306. Леенсон, Е. И. Поэтика автобиографической прозы Б.Л. Пастернака и традиции Р.М. Рильке: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Леенсон Елена Ильинична. – Тверь, 2007. – 185 с. 307. Леонтьев К. Как надо понимать сближение с народом? / К. Леонтьев // Интеллигенция – Власть – Народ. Антология. – М.: Наука, 1992. – С. 62-81. 308. Лепехова, О. С. Этическое пространство сверхтекста В. М. Гаршина: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Лепехова Ольга Сергеевна. – Северодвинск, 2006. – 185 с. 309. Летохо, Е. В. Художественный мир малой прозы К.Г. Паустовского 1940-1960-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Летохо, Елена Васильевна. – М., 2010. – 209 с. 310. Ли Кю Хо Проблемы пространственно-временной поэтики комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ли Кю Хо. – СПб., 2000. – 172 с. 311. Литература Урала: очерки и портреты / под ред. Е. К. Созиной и Н.Л. Лейдермана. – Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 1998. – 692 с. 312. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 стб. 317 313. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 752 с. 314. Лихачев, Д. С. Художественная среда литературного произведения / Д.С. Лихачев // Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве». Тезисы и аннотации. – Л.: Советск. писатель. Лен-е отд-е, 1970. – С. 7-9. 315. Лихачев, Д. С. Человек в литературе древней Руси / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, 1970. –180 с. 316. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, 1979. – 352 с. 317. Лихачев, Д. С. Заметки о русском / Д.С. Лихачев. – М.: Советская Россия, 1984. – 64 с. 318. Лихачев, Д. С. Культура как целостная среда / Д.С. Лихачев // Новый мир. – 1994. – № 8. – С. 3-8. 319. Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Д.С. Лихачев // РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – 2-е изд., доп. – СПб.: БЛИЦ, 1999. – 191 с. 320. Лихачев, Д. С. Поэтика художественного пространства / Д.С. Лихачев // Д.С. Лихачев Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. – СПб: Алетейя, 2001. – С. 129- 145. 321. Ловчинский, Н. А. Образы пространства в современной русской постмодернистской поэзии: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ловчинский Никита Андреевич. – Волгоград, 2010. – 208 с. 322. Логутова, Н. В. Поэтика пространства и времени романов И.С. Тургенева: дис. …канд. филол. наук: 10.01.01 / Логутова Надежда Васильевна. – Кострома, 2002. – 201 с. 323. Лопарева, Н. А. Новое зрение Н. Олейникова: герой и пространство: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Лопарева Наталья Александровна. – Тюмень, 2005. – 183 с. 318 324. Лосский, Н. О. Характер русского народа / Н.О. Лосский // Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238-349. 325. Лотман, Ю. М. Заметки о художественном пространстве / Ю.М. Лотман // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам XIX. Ученые записки ТГУ. – Тарту, 1986. – С. 36-43. 326. Лотман, Ю. М. К проблеме пространственной семиотики / Ю.М. Лотман // Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам XIX. Ученые записки ТГУ. – Вып. 720. – Тарту, 1986. – С. 3-6. 327. Лотман, Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Ю.М. Лотман // В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя / Юрий Михайлович Лотман. – М.: Просвещение, 1988. – С. 251-292. 328. Лотман, Ю. М. Текст в тексте / Лотман Ю.М. // Избранные статьи: В 3 т. – Таллинн: Александра. 1992. – Т. 1. – С. 148-160. 329. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю.М. Лотман – СПб.: «Искусство – СПБ», 1998 – 704 с. 330. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Лотман. Ю.М. – Спб: Искусство-СПб», 2000. – 704 с. 331. Лощинин, Н. П. Русская деревня в раннем творчестве Л.Н. Толстого / Н.П. Лощинин. – Тула: Кн. Изд-во, 1957. – 58 с. 332. Луговая, Е. А. Топоним виртуального пространства как культурноисторическая категория: На материале эпопеи Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец»: дис. … канд. филол. наук. 10.02.19 / Луговая Екатерина Александровна. – Ставрополь, 2006. – 217 с. 333. Лунина, И. В. Художественный мир новелл С.Д. Кржижановского: человек, пространство, коммуникация: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Лунина Ирина Валерьевна. – Барнаул, 2009. – 166 с. 334. Лыкова, Е. В. Неомифологические аспекты поэтики и гоголевская традиция в творчестве С.А. Клычкова: На материале романа «Чертухинский бала- 319 кирь»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Лыкова Елена Викторовна. – М., 2004. – 234 с. 335. Лэнг, Р. Д. Расколотое «Я»: пер. с англ. Издательский центр «Академия» / Р.Д. Лэнг. – СПБ.: Белый Кролик. 1995. – 352 с. 336. Майков, В. В. Трансперсональный проект: психология, антропология, духовные традиции. Том II. Российский трансперсональный проект / В.В. Майков, В.В. Козлов. – М., 2007. – 424 с. 337. Майкова, А. Н. Архетипы и архетипические образы (на примере сказки о Царевне-лягушке и мифе о Гильгамеше) / А.Н. Майкова // Филологические науки. – М. – 1999. – №4. – С. 20-29. 338. Макогоненко, Г. П. О художественном пространстве в реалистической литературе / Г.П. Макогоненко // Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции: Сб. ст. – М.: «Наука», 1976. – С. 237-245. 339. Максимова, Е. Символика «Дома» – «Антидома» / Е. Максимова // Аврора. – 1994. – № 9-10 – с. 73. 340. Малеванная, Д. А. Эволюция образа дома в лирике М. Цветаевой: Россия и эмиграция / Д.А. Малеванная // Феномен русской духовности: словесность, история, культура. Материалы Междунар. науч. конф. – Калининград, 2007. – с. 122-130. 341. Малкина, Е. А. Национальный мир как художественная модель в литературах народов России: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Малкина Елена Александровна. – М., 2008. – 194 с. 342. Малофеева, Г. А. Тема дома в лирике Сергея Есенина: 11 класс // Литература в школе. – № 2. – С. 31 – 32. 343. Мамонова, О. В. Семантика сюжетных мотивов дома и бездомья в русской романтической поэзии. В. А. Жуковский. М. Ю. Лермонтов: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Мамонова Ольга Вячеславовна. – М., 2004. – 131 c. 320 344. Манакова, Н. Н. Семантика Дома в поэзии М.И. Цветаевой / Н.Н. Манакова // «Поэт предельной правды чувства….»: материалы Первых Международных Цветаевских чтений. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2002. – С. 44-48. 345. Манн, Ю. В. Диалектика художественного образа / Ю.В. Манн. – М.: Советский писатель, 1987. – 320 с. 346. Марков, В. А. Логико-онтологические модели пространства-времени в литературе / В.А. Марков // Пространство и время в литературе и искусстве. Вып. 1. – Даугавпилс: Даугавпилс. пед. ин-т, 1984. – С. 4-6. 347. Марков, В. А. Пространство и время в литературе: структурнопсихологический анализ / В.А. Марков // Пространство и время в литературе и искусстве. Вып. 2. Теоретические проблемы. Классическая литература. – Даугавпилс: Даугавпилс. пед. ин-т, 1987. – С. 4-6. 348. Маслова, А. Г. Поэтика хронотопа в раннем творчестве Б. Л. Пастернака: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Маслова Анна Геннадьевна. – Киров, 2003. – 241 с. 349. Маурина, С. Ю. Мифопоэтические мотивы и модели в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Маурина Светлана Юрьевна. – Арзамас, 2010. – 189 с. 350. Махов, А. Е. Топос / А.Е. Махов // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – Стб. 1076. 351. Мегирьянц, Т. А. Концепт «город» в творчестве Б. Пастернака: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Мегирьянц Татьяна Анатольевна. – Воронеж, 2002. – 198 с. 352. Медвидь, М. В. Идея дома в творчестве Осипа Мандельштама: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Медвидь Мария Васильевна. – Нижний Новгород, 2007. – 182 с. 353. Меднис, Н. Е. Венеция в русской литературе: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Меднис Нина Елисеевна. – Новосибирск, 1999. – 391 с. 321 354. Мелетинский, Е. М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский. – М.: РГГУ, 1994. – 136 с. 355. Мелетинский, Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа: научное издание / Е.М. Мелетинский. – М.: Наука, 1986. – 320с. 356. Мелетинский, Е. М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов / Е.М. Мелетинский // Бессознательное. Сборник. – Новочеркасск, 1994. – С. 159-167. 357. Мелетинский, Е. М. Космос / Е.М. Мелетинский // Мифология: Большой энциклопедический словарь/ гл. ред. Е.М. Мелетинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с. 358. Меркулова, И. И. Хронотоп дороги в русской прозе 1830-1840-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Меркулова Ирина Ивановна. – Самара, 2007. – 221 с. 359. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия (1945) / Пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л.Фокина. – СПб.: Ювента; Наука, 1999. – 603 c. 360. Мескин, В. А. Кризис сознания и трагическое в русской прозе конца XIX - начала ХХ веков: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Мескин Владимир Алексеевич. – М., 1997. – 433 с. 361. Мескин, В. А. Грани русского символизма: В. Соловьев и Ф. Сологуб: монография / В.А. Мескин. – М.: РУДН, 2010. – 424 с. 362. Метафизика, Петербурга: Сборник статей / Отв. ред. Л. Морева. – СПб.: Эйдос, 1993. – 320 с. 363. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: учебное пособие для студентов вузов / Н.Б. Мечковская. – М.: Академия, 2004. – 432 с. 364. Миллер, Л. В. Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория / Л.В. Миллер // Мир русского слова. – М., 2000. – № 4. – С. 39-45. 365. Минералова, И. Г. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма / И.Г. Минералова. – М.: Флинта, 2009. – 272 с. 322 366. Минералова, И. Г. Анализ художественного произведения. Стиль и внутренняя форма / И.Г. Минералова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 256 с. 367. Минц, 3. Г. Функция реминисценций в поэтике А.Блока / З.Г. Минц // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та. – 1973. – Вып. 308. – С. 387-417. 368. Минц, З. Г. Образы природных стихий в русской литературе (Пушкин – Достоевский – Блок) / З.Г. Минц, .М. Лотман // Типология литературных взаимодействий. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Уч. записки ТГУ. – Вып. 620. – Тарту, 1983. – С. 35-41. 369. Минц, З. Г. «Петербургский текст» и русский символизм / З.Г. Минц, М.В. Безродный, А.А. Данилевский // Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам XVIII: Уч. зап. ТГУ. Вып. 664. – Тарту, 1984. – С. 78-123. 370. Минц, З. Г. Структура «художественного пространства» в лирике А. Блока / Минц З.Г. // Поэтика Александра Блока. – СПб.: «Искусство-СПб», 1999. – С. 444-531. 371. Миронова, Е. А. Модель мира в автобиографической прозе А. Белого: дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / Миронова Екатерина Анатольевна. – М., 2010. – 167 с. 372. Михайлов, В. А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-XIX веков: дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Михайлов Вадим Александрович. – Волгоград, 1999. – 199 с. 373. Михалевский, Д. В. Формирование социального пространства и его структур: дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Михалевский Дмитрий Васильевич. – М., 2012. – 218 с. 374. Михеева, И. Н. Художественная модель мира в цикле Н.С. Лескова «Праведники»: аксиология и поэтика: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Михеева Инна Николаевна. – Йошкар-Ола, 2010. – 207 с. 323 375. Михеичева, Е. А. Творчество Л. Андреева: Особенности психологизма и жанровые модификации: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Михеичева Екатерина Абдул-Маджидовна. – М., 1995. – 434 с. 376. Михина, Е. В. Чеховский интертекст в русской прозе конца XXначала XXI веков: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Михина Елена Владимировна. – Екатеринбург, 2008. – 22 с. 377. Млечко, Л. Е. Мифологема дороги в русских литературных сказках // Фольклор: традиции и современность: материалы III Международной конференции / Л.Е. Млечко. – Таганрог: Изд-во Таганрог, гос. пед. ин-та, 2005. – С. 125130. 378. Моисеева, Е. В. Художественный мир прозы С. Кржижановского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Моисеева Елена Валерьевна. – Екатеринбург, 2002 . – 184 с. 379. Морозов, Д. В. Художественное время и пространство в русскоязычных романах В. Набокова 1920-1930 годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Морозов Дмитрий Викторович. – Кострома, 2007. – 195 с. 380. Московкина, И. И. Между «pro» и «contra»: координаты художественного мира Леонида Андреева: монография / И. И. Московкина. – Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005. – 288 с. 381. Московская, Д. С. Локально-исторический метод в литературоведении Н.П.Анциферова и русская литература 1920-1930-х гг. (Проблемы взаимосвязей краеведения и художественной литературы): дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Московская Дарья Сергеевна. – М., 2011. – 569 с. 382. Мостепаненко, А. М. Проблема универсальности основных свойств пространства и времени / А.М. Мостепаненко. – Л.: Наука, 1969. – 229 с. 383. Мызникова, Е. А. Научно-художественный синтез в рассказах И.А. Ефремова 1940-х гг.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Мызникова Екатерина Андреевна. – Барнаул, 2012. – 172 с. 324 384. Нагорная, Н. А. Онейросфера в русской прозе XX века: модернизм, постмодернизм: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Нагорная Наталья Анатольевна. – М., 2004. – 414 с. 385. Назаренко, Е. А. Сновидение как форма рефлексии в художественной культуре: На материалах литературоведения: дис. … канд. филос. наук: 09.00.13 / Назаренко Елена Анатольевна. – Ростов-на-Дону, 2004. – 139 с. 386. Насрулаева, С. Ф. Хронотоп в ранней лирике Анны Ахматовой (книги стихов «Вечер» и «Четки»): дис. …канд. филол наук: 10.01.01 / Насрулаева Саида Фажрудиновна. – Махачкала, 1997. – 208 с. 387. Невшупа, И. Н. Роман Ф.М. Достоевского «Подросток»: типы и архетипы: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Невшупа Ирина Николаевна. – Краснодар, 2007. – 179 с. 388. Неживая, Е. А. Художественный мир Н. А. Байкова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Неживая, Елена Андреевна. – Комсомольск-на-Амуре, 2000. – 171 с. 389. Неизвестный, Э. Кентавр: Эрнст Неизвестный об искусстве, литературе и философии /Э. Неизвестный Сост. авт. предисл. А. Леонг. – М.: Прогресс, 1992. – 240 с. 390. Неклюдов, С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных отношений с сюжетной структурой в русской былине / С.Ю. Неклюдов // Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным моделирующим системам, 16-26 августа 1966. – Тарту: ТГУ, 1966. – С. 41-44. 391. Неклюдов, С. Ю. Мотив и текст / С.Ю. Неклюдов // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996). Отв. ред. С.М.Толстая. – М.: Индрик, 2004. – С. 236-247. 392. Некрасова, Е. В. Пространственно-временная организация жизненного мира человека: дис. … доктора психол. наук: 19.00.01 / Некрасова Евгения Владимировна. – Барнаул, 2005. – 344 с. 325 393. Нехлебаева, Н. А. Творчество Димитрия Ростовского в контексте русских литературных представлений о «внутреннем человеке» конца XVIIначала XVIII столетия: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Нехлебаева Наталья Александровна. – Северодвинск, 2003. – 186 с. 394. Никанорова, Е. К. Буря на море, или Буран в степи. Статья вторая / Е.К.Никанорова // Материалы к словарю сюжетов и мотивов. Вып 6. Интерпретация художественного произведения. Сюжет и мотив / Отв. ред. Ромодановская Е.К. – Новосибирск, 2004. – С. 3-30. 395. Никитина, М. В. Мотивная структура пространственно-временной организации «Окаянных дней» и «Странствий» И.А. Бунина: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Никитина Марина Викторовна. – Архангельск, 2006. – 200 с. 396. Николаев, Н. И. Внутренний мир человека в русском литературном сознании XVIII века: дис. … доктора филол. наук. 10.01.01 / Николаев Николай Ипполитович. – Архангельск, 1997. – 304 с. 397. Новик, А. А. Романы Андрея Белого «Серебряный голубь» и «Петер- бург»: Нереальное пространство и пространственные символы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Новик Анастасия Александровна. – Смоленск, 2006. – 224 с. 398. Носов, Н. А. Манифест виртуалистики [Электронный ресурс] / Н.А. Носов. – М.: Путь, 2001.– 17 с. (Тр. лаб. виртуалистики. Вып. 15). – Режим доступа: http://www.virtualistika.ru/vip_15.html 399. Нуруллин, Р. А. Небытие как виртуальное основание бытия: дис. … доктора филос. наук: доктора философских наук: 09.00.01 / Нуруллин Рафаиль Асгатович. – Казань, 2006. – 425 с. 400. Одиноков, В. Г. Типология образов в художественной системе Ф.М. Достоевского / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1981. – 145 с. 401. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М., 2008. – 944 с. 326 402. Океанский, В. П. Русская метафизическая лирика XIX века: Е.А. Ба- ратынский, А.С. Хомяков, Ф.И. Тютчев, поэтика пространства: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Океанский Вячеслав Петрович. – Иваново, 2002. – 286 с. 403. Олизько, Н. С. Семиотико-синергетическая интерпретация особен- ностей реализации категорий интертекстуальности и интердискурсивности в постмодернистском художественном дискурсе: дис. … докт. филол. наук: 10. 02.19 / Олизько Наталья Сергеевна. – Челябинск, 2009. – 343 с. 404. Онищенко, Е. В. Сущность социально-философских идей Ф.М. Достоевского: дис. … канд. филос. наук: 09.00.11 / Онищенко Екатерина Васильевна. – М., 2006. – 185 с. 405. Оренбург // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Оренбург/ 406. Орешко, М. А. Лексическая репрезентация художественной концеп- тосферы Виктора Пелевина: концепты «человек», «пространство», «время»: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Орешко Мария Анатольевна. – СПб, 2006. – 177 с. 407. Павлова, А. А. Конструктивные принципы художественного мира М.Е. Салтыкова-Щедрина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Павлова, Анастасия Анатольевна. – Ижевск, 2011. – 161 с. 408. Павлюц, К. Н. Проблемы становления категорий «социальное вре- мя» и «социальное пространство» в философском и социальном знании: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11 / Павлюц Константин Николаевич. – М., 2007. – 222 с. 409. Панишева, Н. А. Поэтика пространства и времени в лирике Арсения Несмелова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Панишева Наталья Александровна. – Киров, 2013. – 159 с. 410. Панн, Л. Елена Чижова. Терракотовая старуха [Электронный ресурс] / Л. Панн // Знамя. – 2012. – № 2. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2012/2/pa21.html. 327 411. Папазова, К. А. Персонаж, время, пространство в художественном мире прозы В.М. Гаршина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Папазова Ксения Александровна. – Ростов-на-Дону, 2010. – 229 с. 412. Пенкина, Е. О. Мифопоэтика и структура художественного текста в философских произведениях М. А. Булгакова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Пенкина Елена Олеговна. – М., 2001. – 186 с. 413. Петербург как феномен культуры: Сб. статей / Редкол: Н.В. Григорь- ев и др. – СПБ.: Образование, 1994. – 127 с. 414. Петрова, Н. Н. О двух уровнях анализа художественного хронотопа в поэтическом тексте / Н.Н. Петрова // Текстовый и сентенционный уровень стилистического анализа. – Л.: ЛГПИ, 1989. – С. 83-93. 415. Петухова, Е. Чеховский текст как претекст (Чехов – Пьецух – Буйда) // Чеховиана. Из века XX в XXI: итоги и ожидания / Науч. совет РАН «История мировой культуры», Чехов. комис. (отв. ред. А.П. Чудаков) / Елена Петухова. – М.: Наука, 2007. – С.427-434. 416. Пименова, М. В. Концепты внутреннего мира: Русско-английские соответствия: дис. … доктора филол. наук: 10.02.01 / Пименова Марина Владимировна. – СПб, 2001. – 497 с. 417. Подарцев, Е. В. Мир русской усадьбы в творчестве Л.Н. Толстого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Подарцев Евгений Владимирович. – М., 2008. – 171 с. 418. Подина, Л. В. Пространство и время в художественном мире Сигизмунда Кржижановского: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Подина Лариса Вячеславовна. – Самара, 2002. – 210 с. 419. Подорога, В. Простирание или География «русской души» // Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под ред. Д.Н. Замятина. – М.: МИРОС, 1994. – С. 131-132. 328 420. Полиевская, А. С. Экзотический топос в творчестве Н.С. Гумилева: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Полиевская Александра Сергеевна. – Москва, 2006. – 16 с. 421. Полякова, А. А. Готический канон и его трансформация в русской литературе второй половины XIX века: На материале произведений А.К. Толстого, И.С. Тургенева и А.П. Чехова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.08 / Полякова Александра Алексеевна. М., 2006. – 189 с. 422. Попова, Г. Н. Мир русской провинции в романах И.А. Гончарова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Попова Галина Николаевна. – Елец, 2002. – 130 с. 423. Попова, О. А. Образ дворянской усадьбы в русской прозе конца XIXначала XX веков: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Попова Ольга Александровна. – Пермь, 2007. – 180 с. 424. Поцепня, Д. М. Образ мира в слове писателя / Д.М. Поцепня. – СПб.: Изд-во СПб ГУ, 2001. – 264 с. 425. Пояркова, Н. С. Дом и мир в прозе М.А. Булгакова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Пояркова Наталья Сергеевна. – М., 2005. – 210 с. 426. Пращерук, Н. В. Художественный мир прозы И.А. Бунина. Язык пространства / Н.В. Пращерук. – Екатеринбург: МУМЦ «РО»: НОУ «Фонд «Созидание»», 1999. – 254 с. 427. Проданик, Н. В. Топосы смерти в лирике А. С. Пушкина: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Русская литература. – Омск, 2000. – 20 с. 428. Прокофьева, А. Г. Оренбургский край в произведениях русских писателей. учебное пособие по литературному краеведению. Ч.3. / А.Г. Прокофьева. – Оренбург: Изд-во ОГПИ, 1995. – С. 37-58. 429. Прокофьева, А. Г. Анализ художественного произведения в аспекте его пространственных характеристик: монография / А.Г. Прокофьева, В.Ю. Прокофьева. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2000. – 160 с. 329 430. Прокофьева, А. Г. Оренбургские мотивы в творчестве В.И. Даля / А.Г. Прокофьева // В.И. Даль Оренбургский край в художественных произведениях писателя. – Оренбург, 2001. – С. 9-16. 431. Прокофьева, В. Ю. Я-ПРОСТРАНСТВО и ПРОСТРАНСТВО-Я как смысловые универсалии поэзии русского футуризма / В.Ю. Прокофьева // Слово. Семантика. Текст. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – С. 155-161. 432. Прокофьева, В. Ю. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Различные модели поэтического пространства в лексическом представлении / В. Ю. Прокофьева – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. – 208 с. 433. Прокофьева, В. Ю. Русский поэтический локус в его лексическом представлении: На материале поэзии «серебряного века»: дис. … доктора филол. наук: 10.02.01 / Прокофьева Виктория Юрьевна. – СПб., 2004. – 380 с. 434. Прокофьева, В. Ю. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы / В.Ю. Прокофьева // Вестник Оренбургского университета. – 2005. – № 11. – С 87-94. 435. Прокофьева, В. Ю. Анализ художественного текста в аспекте его пространственных характеристик: практикум для студентов-филологов / В.Ю. Прокофьева, Ю.Г. Пыхтина. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. – 99 с. 436. Пронькина, В. М. Художественное время и пространство в прозе У.М. Теккерея: дис. … канд. филол. наук: 10.01.03 / Пронькина Валентина Михайловна. – Нижний Новгород, 2003. – 168 с. 437. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 368 с. 438. Проскурина, И. В. Художественный мир Г.И. Шилина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Проскурина, Ирина Вячеславовна. – Ставрополь, 2011. – 220 с. 439. Пространство // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН, нац. общ.-науч. фонд; научно-ред. совет: В.С. Степин [и др.]. – М.: Мысль, 2001. – Т. 3. – 574 с. 330 440. Пространство и время в художественном произведении: Сборник научных статей / Сост. и науч. ред. А.Г. Прокофьева, С.М. Скибин, В.Ю. Прокофьева. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2002. – 276 с. 441. Профатило, И. И. Художественный мир прозы Б.А. Пильняка: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Профатило, Ирина Ивановна. – М., 2006. – 184 с. 442. Прохоров, С. А. Пространственные составляющие многомерного мира человека: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Прохоров Сергей Анатольевич. – Барнаул, 2005. – 164 с. 443. Прохорова, Л. С. Лондонский городской текст русской литературы первой трети XIX века: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Прохорова Любовь Сергеевна. – Томск, 2005. – 194 с. 444. Проценко, Е. Г. Литература «Путешествий» в России в 1840-1850-е годы: дис. … канд. филологических наук: 10.01.01 / Проценко Елена Георгиевна. – Л., 1984. – 221 с. 445. Пудова, А. С. Геокультурная топика в лирике Б.Л. Пастернака: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01/Пудова Анастасия Сергеевна. – Тюмень, 2011. – 204 с. 446. Пыхтина, Ю. Г. Теория и методика анализа художественного текста: пространственный аспект / Ю.Г. Пыхтина. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2007. – 113 с. 447. Пыхтина, Ю. Г. Деревня как модель национального пространства в творчестве Л.Н. Толстого / Ю.Г. Пыхтина // Вестник Военного университета. 2011. № 1(25). – С. 56-61. 448. Пыхтина, Ю. Г. Оренбургский текст в русской литературе как отражение провинциальной ментальности / Ю.Г. Пыхтина // Оренбургский край. Архивные документы. Материалы. Исследования: Сб. работ научно- исследовательской краеведческой лаборатории ОГПУ. Вып. 5. / Отв. ред. Прокофьева А.Г. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 172-175. 331 449. Пыхтина, Ю. Г. Сквозные пространственные образы в русской литературе: монография / Ю.Г. Пыхтина. – GmbH: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2011. – 150 с. 450. Раабен, И. С. В начале двадцатых // Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е. С. Булгакова и С. А. Ляндрес; вступ. ст. В. Я. Лакшина. – М.: Советский писатель, 1988. – С. 127-130. 451. Разин, Д. А. Художественный мир Е.А. Гагарина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Разин, Денис Александрович. – Архангельск, 2008. – 149 с. 452. Разувалова, А. И. Образ дома в русской прозе 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Разувалова Анна Ивановна. – Красноярск, 2004. – 240 с. 453. Разумова, Н. Е. Пространственная модель мира в творчестве А.П. Чехова: автореф. дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Разумова Нина Евгеньевна. – Томск, 2001. – 45 с. 454. Раков, Ю. А. Мистический Петербург: По страницам истории и литературы / Ю.А. Раков. – СПб.: ТЕССА, 2001. – 224 с. 455. Рассолова, С. В. Образная когнитивно-семантическая ассоциативная модель «явление внутреннего мира человека – явление природы» в русской языковой картине мира: на материале языка русской литературы XIX-XX вв.: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Рассолова Светлана Викторовна. – Омск, 2008. – 296 с. 456. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие / Б.В. Раушенбах. – СПб: Азбука классика, 2001. – 320 с. 457. Ревякина, Т. Л. Интертекстуальность поэтического слова в семантическом пространстве «Московских стихов» О.Э. Мандельштама: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Ревякина Татьяна Леонидовна. – Воронеж, 2004. – 155 с. 458. Ренов, Д. М. Проблема «внутреннего человека» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Ренов Денис Михайлович. – Тверь, 2006. – 172 с. 332 459. Ритм, время, пространство и целостность литературного произведения // Целостность художественного произведения и проблема его анализа в школьном и вузовском изучении литературы: Тез. докл. республ. научн. конф.(12-14 октября). – Донецк: Б.И., 1977. – С. 203-259. 460. Ритм, пространство, время в художественном произведении. – АлмаАта, 1984. – 134 с. 461. Рогожникова, Т. П. Агиографический топос в житийных текстах Великих Миней Четьих: синхронический и диахронический аспекты / Т.П. Рогожникова // Вестн. Омского ун-та. – 2000. – № 4. – С. 84-87. 462. Роднянская, И. Б. Художественное время и пространство / И.Б. Роднянская // Литературный энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклоп., 1987. – С. 487-489. 463. Роднянская, И. Б. Образ / И.Б. Роднянская // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н.Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – Стб. 669-674. 464. Романов, Ю. А. О словаре архетипических образов Ф.М. Достоевского / Ю.А. Романов // Культура народов Причерноморья № 60, Т.3 – С. 35-38. 465. Романова, С. И. Художественный образ в пространстве семиотических отношений / С.И. Романова // Вестник Московского ун-та. Серия 7. Философия. – 2008. – № 6. – С. 28-38. 466. Рон, М. В. Метаморфозы образа зеркала в истории: дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / Рон Мария Витальевна. – СПб., 2004. – 256 с. 467. Рудикова, Н. А. Образы Парижа в русской и французской литературах конца XVIII - середины XIX вв.: диалог культур: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Рудикова Наталья Александровна. – Томск, 2011. – 222 с. 468. Руднев, В. П. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. / В.П. Руднев. М.: «Аграф», 2000. 432 с. 333 469. Руднева, О. В. Концептуализация пейзажа в малой прозе И.А. Бунина: лингвостилистический аспект: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Руднева Ольга Викторовна. – Сургут, 2007. – 188 с. 470. Рыбакова, Н. В. «Парижский текст» в художественном сознании А. Ахматовой: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Рыбакова Наталья Васильевна. – Сургут, 2006. – 161 с. 471. Рябцева, Н. Е. Образы пространства и времени в поэзии Инны Лиснянской: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Рябцева Наталья Евгеньева. – Волгоград, 2005. – 241 с. 472. Савельева, В. В. Художественный текст и художественный мир: проблемы организации / В.В. Савельева. – Алматы: ТОО «Дайк-Пресс», 1996. – 192 с. 473. Савельева, В. В. «Внешний человек» и «внутренний человек» в художественном мире / В.В. Савельева // В.В. Савельева Художественная антропология. – Алматы, 1999. – С. 118-184. 474. Сагитова, Г. Р. Художественная картина мира в драматургии Аяза Гилязова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Сагитова Гузель Рамзилевна. – Казань, 2008. – 205 с. 475. Сальникова, Я. В. Художественная картина мира в прозе В. Белова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Сальникова Яна Вячеславовна. – Воронеж, 2011. – 176 с. 476. Сандберг, Н. Трансперсональная психология (I) / Н. Сандберг, К. Кётцер // Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1096 с. 477. Санькова, А. А. Картина мира постмодернистской литературы: типология массового и элитарного: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Санькова Алена Александровна. – Ставрополь, 2007. – 206 с. 478. Сафронов, Е. В. Рассказы об иномирных сновидениях в контексте русской несказочной прозы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Сафронов Евгений Валерьевич. – Ульяновск, 2008. – 329 с. 334 479. Сахарова, Е. В. Садово-парковый топос в русской литературе первой трети XIX века: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Сахарова Елена Викторовна. – Томск, 2007. – 241 с. 480. Свенцицкая, Э. М. Пространство, время и слово в творчестве А. Ахматовой: автореф. …дис. канд. филол. наук: 10.01.01 / Свенцицкая Эллина Михайловна. – Киев, 1996. – 22 с. 481. Свидерский, В. И. Пространство и время: философский очерк / В.И. Свидерский. – М.: Госполитиздат, 1958. – 200 с. 482. Свиридов, С. В. Структура художественного пространства в поэзии В. Высоцкого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Свиридов Станислав Витальевич. – М., 2003. – 234 с. 483. Свительский, В. А. Герой и его оценка в русской психологической прозе 60-70-х годов XIX века: дисс. … доктора филол. наук. 10.01.01 / Свительский Владислав Анатольевич. – Воронеж, 1995. – 415 с. 484. Селеменева, М. В. Художественный мир Ю.В. Трифонова в контексте городской прозы второй половины ХХ века: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Селеменева, Марина Валерьевна. – М., 2009. – 575 с. 485. Сергеев, О. В. Поэтика сновидений в прозе русских символистов: Валерий Брюсов и Федор Сологуб: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Сергеев Олег Витальевич. – М., 2002. – 563 с. 486. Середаш, Л. Человек в футляре – футляр в человеке (Анализ рассказа А.П. Чехова) / Л. Середаш // Slavica tergestina. – 1994. – № 2. – С. 33-54. 487. Силантьев, И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике: очерк историографии. Научное издание / И.В. Силантьев. – Новосибирск: Издательство ИДМИ, 1999. – 104 с. 488. Силантьев, И. В. Мотивный анализ: уч. пос. / И.В. Силантьев, В.И. Тюпа, И.В. Шатин / под ред. И.В. Силантьева. – Новосибирск: Нов. гос.ун-т, 2004. – 239 с. 335 489. Силантьев, И. В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев. Отв. ред. Е.К. Ромодановская. – М.: Языки славянской культуры, 2004 . – 294 с. 490. Силантьев, И. В. Сюжетологические исследования / И.В. Силантьев. М.: Языки славянской культуры, 2009. – 224 с. 491. Синицкая, А. В. Пространственность и метафорический сюжет: На материале произведений С. Кржижановского и К. Вагинова: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Синицкая Анна Владимировна. – Самара, 2004. – 202 с. 492. Синицкая, А. В. К проблеме пространственности в литературе / А.В. Синицкая // Вестник СамГу. – 2004. – № 1 (31). – С. 123-143. 493. Скобелев, В. П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов / В.П. Скобелев. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1975. – 340 с. 494. Скоропадская, А. А. Образы леса и сада в поэтике романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Скоропадская Анна Александровна. – Петрозаводск, 2006. – 213 с. 495. Скубач, О. А. Пространство советской культуры в творчестве В.М. Шукшина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Скубач Ольга Александровна. – Барнаул, 2002. – 172 с. 496. Слабких, К. Э. Художественный мир лиро-эпоса А.А. Ахматовой в современной интерпретации и критике последнего десятилетия: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Слабких, Ксения Эдуардовна. – М., 2010. – 314 с. 497. Славина, О. Ю. Поэтика сновидений: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Славина Ольга Юрьевна. – СПб., 1998. – 160 с. 498. Слепухов, Г. Н. Пространственно-временная организация художественного произведения / Г.Н. Слепухова // Философские науки. – 1984. – № 1. – С. 64-70. 499. Смирнов, И. П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б.Л. Пастернака) / И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: СПбГУ, 1995. – 193 с. 336 500. Смолина, Н. Ю. Художественная картина мира в поэме А.А. Блока «Возмездие»: структура и семантика: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Смолина Наталья Юрьевна. – Абакан, 2009. – 186 с. 501. Соболева, О. В. Венецианский текст в современной русской литературе: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Соболева Ольга Владимировна. – Пермь, 2010. – 166 с. 502. Современное зарубежное литературоведение. (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М.: Интрадо-ИНИОН, 1999. – 320 с. 503. Соколова, Т. С. Поэтика пространства и времени в лирике Георгия Иванова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Соколова Татьяна Сергеевна. – СПб., 2009. – 204 с. 504. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен [Электронный ресурс] / С.М. Соловьев // Сочинения: В 18 кн. – М.: Голос; Колокол-Пресс, 19931998. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/common/solovyev1/index.html. 505. Степанов, Ю. С. Семиотика / Ю.С. Степанов. – М.: Наука, 1971. – 168 с. 506. Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 3-е, испр. и доп. / Ю.С. Степанов. – М.: «Академический проект», 2004. – 982 с. 507. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 696 с. 508. Субботина, Т. В. Локус, топос, урбоним, микротопоним: к вопросу о содержании пространственных понятий / Т.В. Субботина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 24 (239). Филология. Искусствоведение. Вып. 57. – С. 111-113. 509. Супрун, А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А.Е. Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – С. 17-29. 510. Таборисская, Е. М. О понятии «пространство героя» // Проблема автора в художественной литературе. – Воронеж: ВГПИ, 1974. – Вып. IV. – С. 43-65 337 511. Тамарченко, Н. Д. Русская повесть Серебряного века (Проблемы поэтики сюжета и жанра): монография / Н.Д. Тамарченко. – М.: Intrada, 2007. – 256 с. 512. Тамарченко, Н. Д. Кризис «микромира» в русской повести рубежа веков [Электронный ресурс] / Н.Д. Тамарченко // Новый филологический вестник. – 2005. – № 1. – Режим доступа: http://ifi.rsuh.ru/vestnik_2005_1.html. 513. Тарасова, И. А. Художественный концепт: диалог лингвистики и литературоведения / И.А. Тарасова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Лингвистика». – 2010. – № 4 (2). – С. 742-745. 514. Тан, А. Москва в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / А. Тан // Декоративное искусство. – 1987. – № 2. – С. 22-29. 515. Татаринов, А. В. Формирование мифологического реализма в творчестве Леонида Андреева, 1898-1911 годы: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Татаринов Алексей Викторович. – Уфа, 1996. – 233 с. 516. Тевс, О. В. Семиотический аспект моделирования природы и социума в художественном мире В. М. Шукшина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Тевс Оксана Вячеславовна. – Барнаул, 1999. – 183 с. 517. Телегин, С. М. Термин «мифологема» в современном российском литературоведении / С.М. Телегин // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя: материалы Международной заочной научной конференции 9г. Астрахань, 19-24 апреля 2010 г.) / под ред. Г.Г. Исаева. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2010. – 289 с. 518. Темиршина, О. Р. Символизм как миропонимание: линия Андрея Белого в русской поэзии последних десятилетий ХХ века: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Темиршина Олеся Равильевна. – М., 2012. – 496 с. 519. Тендитник, Н. С. Художественный образ как концепция действительности (Пейзаж в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита») // Поэтика русской советской прозы. – Иркутск: Б.И., 1975. – С. 3-22. 338 520. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: В 3 т. / Абрамович Г.Л. и др. – М.: Изд-во АН СССР, 1962, 1964, 1965. – 452 с. 521. Теория литературы: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – Т. 1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 512 с. 522. Тихомирова, А. В. Жанровые особенности философской сказки в русской литературе второй половины XX - начала XXI в.: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Тихомирова Анастасия Владимировна. – Ярославль, 2011. – 181 с. 523. Ткачева, Р. А. Художественное пространство как основа интерпретации художественного мира: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Ткачева Раиса Андреевна. – Тверь, 2002. – 211 с. 524. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие /Б.В. Томашевский // Вступ. статья Н.Д. Тамарченко; Комм. С.Н. Бройтмана при участии Н.Д. Тамарченко. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 334 с. 525. Топорков, А. Л. Из мифологии русского символизма. Городское освещение / А.Л. Топорков // Мир А. Блока. Блоковский сборник. Уч. зап. Тарт. унта. Вып. 657. – Тарту 1985. – С. 101-111. 526. Топорков, А. Л Дом // Славянская мифология: энциклопедический словарь / А.Л. Топорков. – М.: Эллис Лак, 1995. – С. 168-169. 527. Топоров, В. Н. Пространство и текст / В.Н. Топоров // Текст: семантика и структура: сб. статей / отв. ред. Т.В. Цивьян. – М.: Наука, 1983. – С. 227284. 528. Топоров, В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) / В.Н. Топоров // Труды по знаковым системам. Вып. 18. – Тарту: ТГУ, 1984. – С. 4-29. 529. Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное / В.Н. Топоров. – М.: Прогресс. Культура, 1995. – 624 с. 339 530. Топоров, В. Н. Пространство / В.Н. Топоров // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Рос. энциклопедия, 1997. – Т.2. К-Я. – С. 340-342. 531. Топоров, В. Н. Модель мира / В.Н. Топоров // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Рос. энциклопедия. 1997. – Т. 2. К-Я. – С. 161-164. 532. Трушина, Л. Е. Образ города и городской среды: дис. … канд. филос. наук: 09.00.04 / Трушина Лариса Евгеньевна. – СПб, 2000. – 205 с. 533. Тураева, З. Я. Художественный текст и пространственно-временные отношения / З.Я. Тураева // Семантико-стилистические исследования текста и предложения / Межвузовский сборник научных трудов. – Л.: Изд-во ЛГПИ, 1980. – С. 3-11. 534. Тюленева, Е. М. «Пустой знак» в постмодернизме: теория и русская литературная практика: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01, 10.01.08 / Тюленева Елена Михайловна. – Иваново, 2006. – 322 с. 535. Тюпа, В. И. Тезисы к проекту словаря мотивов / В.И. Тюпа // Дискурс. – Новосибирск, 1996. № 2. – С. 52-55. 536. Тюпа, В. И. Мотив пути на раздорожье русской поэзии ХХ века / В.И. Тюпа // «Вечные» сюжеты русской литературы: «блудный сын» и другие. – Новосибирск, 1996. – С. 97-113. 537. Урукова, Л. А. Художественное пространство и время в произведениях П.А. Егорова и В.Н. Захарова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Урукова Любовь Алексеевна. – Чебоксары, 2003. – 173 с. 538. Успенский, Б. А. Поэтика композиции / Б.А. Успенский. – СПб.: Азбука, 2000. – 352 с. 539. Уэллек, Р. Теория литературы / Р, Уэллек, О. Уоррен // Вступ. статья А. А. Аникста; Комм. Б. А. Гиленсона. – М.: Прогресс, 1978. – 325 с. 340 540. Файзрахманова, А. А. Поэтика русской литературной утопии 1900 1910-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Файзрахманова Альфия Анваровна. – Бирск, 2011. – 233 с. 541. Фазиулина, И. В. Сон и сновидение в раннем творчестве Ф.М. Достоевского: поэтика и онтология: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Фазиулина Ирина Владимировна. – Ижевск, 2005. – 157 с. 542. Фарино, Ежи Введение в литературоведение: учебное пособие. / Е. Фарино. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. – 639 с. 543. Фатеев, Д. Н. Фольклорные пространственные мотивы в прозе Л. Леонова («Русский лес») и А. Солженицына («Матренин двор»): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Фатеев Дмитрий Николаевич. – М., 2006. – 178 с. 544. Фатеева, Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. Изд. 3-е, стереотипное / Н.А. Фатеева. – М.: КомКнига, 2007. – 280 с. 545. Федоров, Ф. П. Романтический художественный мир: пространство и время / Ф.П. Федоров. – Рига: Зинатне, 1988. – 456 с. 546. Федоров, Ф. П. Степное пространство в русской литературе / Ф.П. Федоров // ГОРОД, УСАДЬА, ДОМ В ЛИТЕРАТУРЕ: Сб. науч. ст. / Сост. И науч. ред. А.Г. Прокофьева, О.М. Скибина, В.Ю. Прокофьева. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. – С. 6-19. 547. Фещенко, О. А. Концепт ДОМ в художественной картине мира М.И. Цветаевой: автореф. дис ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Фещенко Ольга Александровна. – Новосибирск, 2005. – 18 с. 548. Флоренский, П. А. Обратная перспектива / П.А. Флоренский // Философия русского религиозного искусства XVI-XX в.в. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшина. – М.: Прогресс, 1993. – С.247-464. 549. Флоренский, П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П.А. Флоренский. – М.: Прогресс, 1993. – 324 с. 341 550. Фомин, С. В. Динамика русской постмодернистской литературы: культурологический аспект: дис. … канд. культурологии: 24.00.01 / Фомин Сергей Владимирович. – Саранск, 2006. – 169 с. 551. Фрейд, З. О сновидениях / З. Фрейд. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 189 с. 552. Фридлендер, Г. М. Человек. Мир человека. Время. Пространство / Г.М. Фридлендер // Поэтика русского реализма. Очерки о русской литературе XIX века. – Л.: Наука, 1971. – С. 77-138. 553. Фрэнк, Д. Пространственная форма в современной литературе / Д. Фрэнк // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М., Изд-во МГУ, 1987. – 514 с. 554. Хайдеггер, М. Искусство и пространство / М. Хайдеггер // Самосознание европейской культуры ХХ века. – М.: Политиздат, 1991. – С. 91-97. 555. Хализев, В. Е. Теория литературы: учебник. / В.Е. Хализев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 437 с. 556. Ханзен-Леве, А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм /А. Ханзен-Леве. Пер. с нем. С. Бромерло, А.Ц. Масевича и А.Е. Бархаза. – СПб.: Академический проект, 1999. – 512 с. 557. Хасанов, И. А. Две концепции пространства и времени / И.А. Хасанов // Вопросы философии. – 1966. – № 2. – С. 59-64. 558. Хейзинга, Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Й. Хейзинга; пер. с нидерланд. В. Ошиса. – М: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 539 с. 559. Хитарова, Т. А. Архетипические образы Верха и Низа в романе с притчевым началом (А. Платонов, А. Мердок, У. Голдинг): дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01; 10.01.03 / Хитарова Татьяна Александровна. – Краснодар, 2003. – 298 c. 560. Хомяков, В. И. Художественная картина мира в творчестве П. Васильева: из истории мировоззренческих и стилевых исканий в русской поэзии 342 1920-1930-х годов: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Хомяков Валерий Иванович. – М., 2007. – 386 с. 561. Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин; Под ред. Д.Н. Замятина. – М.: МИРОС, 1994. – 156 с. 562. Цивьян, Т. В. К семантике пространственных элементов в волшебной сказке / Т.В. Цивьян // Типологические исследования по фольклору. – М.: Наука, 1975. – С. 191-214. 563. Цивьян, Т. В. Дом в фольклорной модели мира: (На материале балканских загадок) / Т.В. Цивьян // Учен. зап. Тартуского ун-та. Вып. 464. Труды по знаковым системам. Х. Семиотика культуры. – Тарту, 1978. – С. 72. 564. Чаадаев, П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего [Электронный ресурс] / П.Я.Чаадаев. – Режим доступа: http://az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/text_0010.shtml. 565. Чепорнюк, Е. Н. Особенности художественного мира романов В.М. Шукшина: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Чепорнюк, Елена Николаевна. – Череповец, 2008. – 180 с. 566. Чепур, Е. А. Герой русской фэнтези 1990-х гг.: модусы художественной реализации: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Чепур Елена Анатольевна. – Магнитогорск, 2010. – 191 с. 567. Чернейко, Л. О. Способы представления пространства и времени в художественном тексте / Л.О. Чернейко // Филологические науки. – 1994. – №2. – С. 58-70. 568. Чернухина, И. Я. Основы контрастивной поэтики / И.Я. Чернухина. – Воронеж: Изд-во ВГУ 1990. – 197 с. 569. Чернышева, Т. Н. Художественный мир Н. И. Рыленкова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Чернышева, Татьяна Николаевна. – Смоленск, 2001. – 177 с. 343 570. Чернявская, В. Е. Интертектуальность как текстообразующая категория в научной коммуникации (на материале немецкого языка): дис. ... докт. филол. наук: 10.02.04 / Чернявская Валерия Евгеньевна. – СПб, 2000. – 448 с. 571. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность / В.Е. Чернявская. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 284 с. 572. Черняева, Т. И. Архитектоника социального пространства: дис. …доктора социологических наук: 22.00.04 / Черняева Татьяна Ивановна. – Саратов, 2004. – 306 с. 573. Чумак-Жунь, И. И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в русской лирике конца XVIII – начала XXI веков: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.01 / Чумак-Жунь Ирина Ивановна. – Белгород, 2009. – 407 с. 574. Чудакова, М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова / М.О. Чудакова. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988. – 672 с. 575. Шадриков, В. Д Мир внутренней жизни человека / В.Д. Шадриков. – М.: Университетская книга. Логос, 2006. – 392 с. 576. Шакиров, С. М. Мотив дороги как парадигма русской лирики: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Шакиров Станислав Маэлсович. – Магнитогорск, 2001. – 196 с. 577. Шамсутдинова, М. Ф. Поэтика дихотомии «внутреннее-внешнее» в характерологии ранней прозы Л.Н. Толстого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Шамсутдинова Миляуша Фаниловна. – Стерлитамак, 2011. – 192 с. 578. Шапир, М. И. «Versus» vs «prosa»: пространство-время поэтического текста / М.И. Шапир // Philologica. – 1995. – Т. 2. – № 3/4. – С. 7-47. 579. Шапошников, А. А. Естественно-природное и социальное в пространственной картине мира раннего творчества М. Горького: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Шапошников Анатолий Анатольевич. – Воронеж, 2008. – 204 с. 580. Шатин, Ю. В. В поисках утраченного пространства (Блок, Белый, Мандельштам) / Ю.В. Шатин // Творчество Мандельштама и вопросы историче- 344 ской поэтики. Межвузовский сборник научных трудов. – Кемерово, 1990. – С. 96113. 581. Шафер, О. Б. Пространственность человеческого существования: экзистенциальное измерение: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Шафер Олег Борисович. – Томск, 2008. – 141 с. 582. Шелемова, А. О. Поэтический космос «Слова о полку Игореве / А.О. Шелемова – М.: Изд-во РУДН, 2011. – 248 с. 583. Шешунова, С. В. Национальный образ мира в русской литературе :П.И. Мельников-Печерский, И.С. Шмелев, А.И. Солженицын: дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Шешунова Светлана Всеволодовна. – Дубна, 2006. – 368 с. 584. Шишко, Е. С. Мифологическое пространство в рассказах А.П. Чехова: дис. … канд. филол. наук. 10.01.01 / Шишко Елена Станиславовна. – Таганрог, 2006. – 190 с. 585. Шкуратова, И. П. Личность и ее жизненное пространство / И.П. Шкуратова // Психология личности. учебн. пособие под ред. П. Н. Ермакова и В. А. Лабунской. – М.: ЭКСМО, 2007. – С. 167-184. 586. Шмидт, Н. В. «Городской текст» в поэзии русского модернизма: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Шмидт Наталья Васильевна. – М., 2007. – 199 с. 587. Шульга, К. В. Поэтико-философские аспекты воплощения «виртуальной реальности» в романе Generation 'П'» Виктора Пелевина: дис. … канд. филол. наук. 10.01.01 / Шульга Кирилл Валерьевич. – Тамбов, 2005. – 158 с. 588. Шутая, Н. К. Художественное время и пространство в повествовательном произведении: На материале романа Ф. М. Достоевского «Бесы»: дис. … канд. филол. наук. 10.01.08 / Шутая Наталья Константиновна. – М., 1999. – 223 с. 589. Шутая, Н. К. Типология художественного времени и пространства в русском романе XVIII-XIX вв.: дис. … доктора филол. наук. 10.01.08 / Шутая Наталья Константиновна. – М., 2007. – 468 с. 345 590. Шушпанов, А. Н. Литературное творчество А. А. Богданова и утопический роман 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Шушпанов Аркадий Николаевич. – Иваново, 2001. – 237 с. 591. Щалпегин, О. Н. Своеобразие художественного мира романов А.Ф. Вельтмана: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Щалпегин, Олег Николаевич. – М., 1999. – 226 с. 592. Щукин, В. Г. Концепция дома у ранних славянофилов / В.Г. Щукин // Славянофильство и современность. – СПб.: Наука, 1994. – С. 33-47. 593. Щукина, Д. А. Пространство в художественном тексте и пространство художественного текста / Д.А. Щукина. – Спб.: СПГГИ, 2003. – 218 с. 594. Эйхенбаум, Б. М. Лев Толстой: исследования. Статьи / Б.М. Эйхенбаум. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. – 952 с. 595. Элиаде, М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / М. Элиаде. – СПб: Изд-во «Алетейя», 1998. – 250 с. 596. Эпштейн, М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной»: Система пейзажных образов в русской поэзии / М.Н. Эпштейн. – М.: Высш. школа, 1990. – 302 с. 597. Эпштейн, М. Н. Маленький человек в футляре: синдром БашмачкинаБеликова [Электронный ресурс] / М.Н. Эпштейн // Вопросы литературы. – 2005. – № 6. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/ep7.html. 598. Эпштейн, М. Н. Образ / М.Н. Эпштейн // Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Сов. Энциклопедия, 1987. – 752 с. 599. Эткинд, Е. Г. Внутренний человек и внешняя речь / Е.Г. Эткинд. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 448 с. 600. Юнг, К. Об архетипах коллективного бессознательного / К. Юнг // Вопросы философии. – 1988. – № 1. – С. 133-152. 601. Юнина, Т. В. Поэтика хронотопа автобиографической прозы Андрея Белого: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Юнина Татьяна Владимировна. – Волгоград, 2009. – 220 с. 346 602. Юнусов, И. Ш. Проблема национального характера в творчестве Л.Н. Толстого 1850-1860 годов. / И.Ш. Юнусов. – М. – Бирск: Бирс. гос. пед. ин-т, 1997. – 183 с. 603. Юрасова, Н. Г. Пространство и время в художественном мире В.В. Маяковского: дис. … канд. филол. наук. 10.01.01 / Юрасова Надежда Геннадьевна. – Нижний Новгород, 2008. – 229 с. 604. Юркина, Л. А. Гусев-Оренбургский С.И. / Л.А. Юркина // Русские писатели. Биобиблиографический словарь. В 2 ч. Ч.1 А-Л / Редкол.: Б.Ф. Егоров и др.; Ред.-сост. П.А. Николаев. – М.: Просвещение, 1990. – С.237-239. 605. Юрьева, З. О. Творимый космос у А. Белого / З.О. Юрьев. – СПб: Дмитрий Буланин, 2000. – 116 с. 606. Яблоков, Е. А. Лицо времени за стеклом вечности. Историософия Михаила Булгакова / Е.А. Яблоков // Общественные науки и современность. – 1992. – № 3. – С. 97-108. 607. Яблоков, Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова / Е.А. Яблоков. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 424 с. 608. Яковлева, Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) / Е.С. Яковлева. – М.: Изд-во «Гнодис», 1994. – 344 с. 609. Якубина, Л. В. Анализ пространственных отношений текста / Л.В. Якубина // Русская словесность. – 2002. – № 1. – С. 41-48. 610. Якунова, Е. А. Своеобразие художественного мира ранней лирики Георгия Иванова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Якунова, Екатерина Алексеевна. – Череповец, 2004. – 161 с.