Валерий СУХОВ. «Вспомнить о Есенине в
advertisement
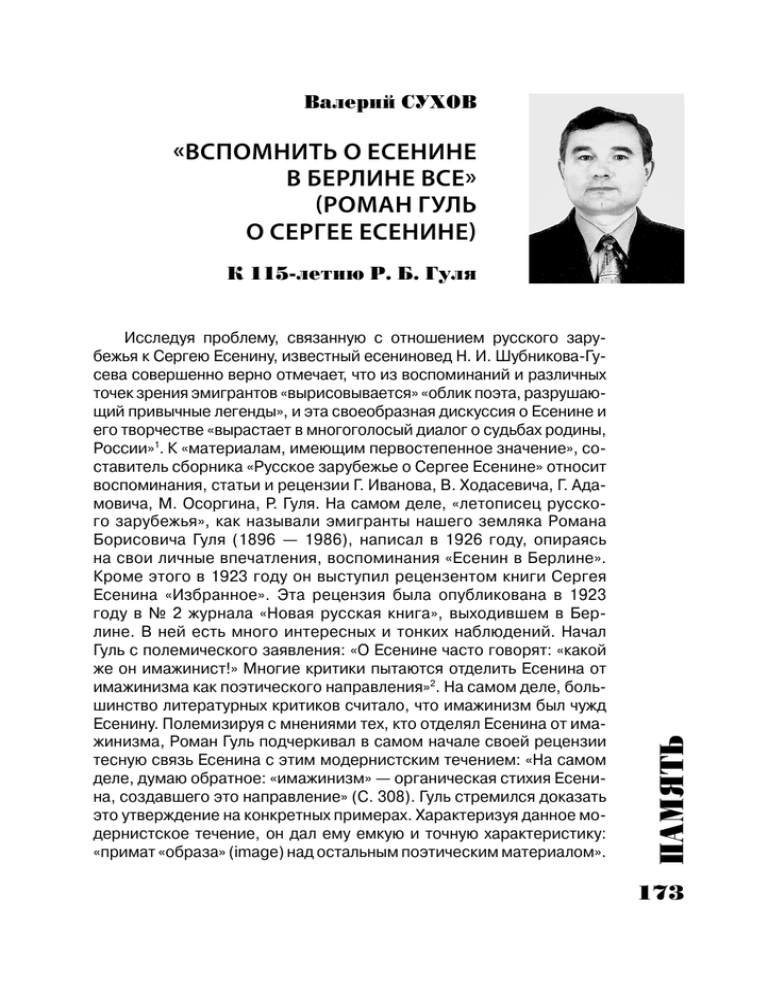
Валерий СУХОВ «ВСПОМНИТЬ О ЕСЕНИНЕ В БЕРЛИНЕ ВСЕ» (РОМАН ГУЛЬ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ) Исследуя проблему, связанную с отношением русского зарубежья к Сергею Есенину, известный есениновед Н. И. Шубникова-Гусева совершенно верно отмечает, что из воспоминаний и различных точек зрения эмигрантов «вырисовывается» «облик поэта, разрушающий привычные легенды», и эта своеобразная дискуссия о Есенине и его творчестве «вырастает в многоголосый диалог о судьбах родины, России»1. К «материалам, имеющим первостепенное значение», составитель сборника «Русское зарубежье о Сергее Есенине» относит воспоминания, статьи и рецензии Г. Иванова, В. Ходасевича, Г. Адамовича, М. Осоргина, Р. Гуля. На самом деле, «летописец русского зарубежья», как называли эмигранты нашего земляка Романа Борисовича Гуля (1896 — 1986), написал в 1926 году, опираясь на свои личные впечатления, воспоминания «Есенин в Берлине». Кроме этого в 1923 году он выступил рецензентом книги Сергея Есенина «Избранное». Эта рецензия была опубликована в 1923 году в № 2 журнала «Новая русская книга», выходившем в Берлине. В ней есть много интересных и тонких наблюдений. Начал Гуль с полемического заявления: «О Есенине часто говорят: «какой же он имажинист!» Многие критики пытаются отделить Есенина от имажинизма как поэтического направления»2. На самом деле, большинство литературных критиков считало, что имажинизм был чужд Есенину. Полемизируя с мнениями тех, кто отделял Есенина от имажинизма, Роман Гуль подчеркивал в самом начале своей рецензии тесную связь Есенина с этим модернистским течением: «На самом деле, думаю обратное: «имажинизм» — органическая стихия Есенина, создавшего это направление» (С. 308). Гуль стремился доказать это утверждение на конкретных примерах. Характеризуя данное модернистское течение, он дал ему емкую и точную характеристику: «примат «образа» (image) над остальным поэтическим материалом». ПАМЯТЬ К 115-летию Р. Б. Гуля 173 Исходя из этого, рецензент делал самый важный вывод: «творчество Есенина ничем не грешит против такой теории. Образ — его стихия» (С. 308). Гуль подобрал в подтверждение своей точки зрения самую выразительную есенинскую цитату из стихотворения «Не напрасно дули ветры» (1917), ярко отражающую особенности его образотворчества: «И невольно в море хлеба / Рвется образ с языка: / Отелившееся небо / Лижет красного телка». Опираясь на этот убедительный пример есенинского имажинизма, Роман Гуль с убежденностью заявлял о том, что поэт, «безусловно, ярый и яркий имажинист!» (С. 308). Характеризуя есенинское образотворчество, Роман Гуль глубоко проникал в его корневую суть. Рецензент отметил ту особенность, о которой Есенин писал в своем трактате «Ключи Марии». Она выражалась в тесной связи со славянской мифологией. Роман Гуль писал об этой особенности так: «вдруг из русского рязанского парня выглянет пращур — язычник. Когда заговорит Есенин языком древнего земляного эроса» (С. 309). На самом деле, народная мифология явилась одним из главных источников образности Есенина, а мифологическая параллель «природа-человек» стала основополагающей для его поэтического мироощущения. В конце своей рецензии Роман Гуль высказал достаточно спорное мнение. Он считал, что Сергей Есенин — это прежде всего «могучий русский лирик с исключительным даром чувства». Поэтому ему не следует писать поэмы, потому что эпос — это не его призвание. Автор рецензии делал в конце вывод: «Не надо искать попытки к освобождению «Инонией» и «Пугачевым» от своей же силы — лирики» (С. 310). Надо отдать должное Р. Гулю как тонкому ценителю есенинской поэзии. В короткой рецензии он смог верно охарактеризовать ее особенности и убедительно доказать, что именно образный язык является подлинной поэтической стихией Есенина. Но, естественно, нельзя согласиться с критическим мнением рецензента о есенинских поэмах, в которых лирическое начало органично сочеталось с эпическим. Особый интерес представляют воспоминания Романа Гуля «Есенин в Берлине», которые по праву можно отнести к жанру литературного портрета. Портретные зарисовки, сделанные Романом Гулем с натуры, вызывают большой интерес. Особый смысл придает воспоминаниям то, что они были написаны под впечатлением от трагического есенинского ухода. Когда Гуль решил написать о Есенине, после смерти поэта прошло всего два года. Не случайно он начинает именно с этого: «…Есенина нет. А я его очень люблю. И мне хочется — о Есенине в Берлине — вспомнить все»3. Таким образом, автор, определяя свои задачи, видел их в первую очередь в том, чтобы сохранить в памяти живой облик Есенина. Свое знакомство с поэтом Р. Гуль отнес к лету 1922 года. Его воспоминания интересны тем, что в них воссоздается есенинский образ, который неразрывно связан с его творчеством. Когда мы читаем описание есенинского выступления в Союзе немецких летчи- 174 ков, то перед нами предстает образ лирического героя «Москвы кабацкой», созданный по принципу контраста. Есенин выходит на эстраду: «во всем черном — в смокинге, в лакированных туфлях, — с колышашимся золотом ржаных волос. Лицо было страшно от лиловой напудренности. Синие глаза были мутны…» (С. 338). Конкретные детали, на которые обращает внимание автор, придают воспоминаниям живость и достоверность. Так, например, Гуль отмечал такую деталь. Во время застолья Есенин «синими глазами смотрел в пьяное пространство. Бутылки шли на стол, как солдаты» (С. 338). Читая описание этого эпизода, невольно вспоминаешь есенинские строки из стихотворения «Грубым дается радость» (1923):«Я уж готов… Я робкий… / Глянь на бутылок рать! / Я собираю пробки — / Душу мою затыкать» (4, 187)4. Таким образом, в воспоминаниях Романа Гуля о Есенине ярко проявляются черты интертекстуальности. Это связано с установкой их автора на своеобразный диалог с Есениным — поэтом. Принципиально отходя от штампов, согласно которым нужно писать о «красоте и стройности поэтов», Гуль дает неожиданно резкую и непривычную, построенную на контрастах, портретную характеристику поэта: «…Есенин был некрасив... Славянское лицо с легкой примесью мордвы в скулах. Лицо было неправильное, с небольшим ртом и мелкими чертами. Такие лица бывают хороши в отрочестве. Сейчас оно было больное, мертвенное, с впалым голубым румянцем. Золотые волосы и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани» (С. 338). По интонации воспоминаний чувствуется, что их автор искренне сопереживал трагедии поэта, понимая, что это не было простой игрой на публику: «Когда Есенин кончил читать, он полуулыбнулся , взял стакан и выпил залпом… Во всем: как взял, как пил, как поставил — было в Есенине обреченное, «предпоследнее» (С. 339). Подбирая точные эпитеты, Роман Гуль рисовал трагический образ Есенина, который отвечал лирическому пафосу его «Москвы кабацкой». Подтверждение тому мы находим в стихотворении «Снова пьют здесь, дерутся и плачут» (1922): «И я сам, опустясь головою, / Заливаю глаза вином, Чтоб не видеть лицо роковое, / Чтоб подумать хоть миг об одном» (1, 169). Особенно выразительно в воспоминаниях сравнение Есенина со «скакуном, потерявшим бровку и бросившимся вскачь целиной ипподрома» (С. 339). По своему характеру оно близко символическому образу есенинского красногривого жеребенка из «Сорокоуста». Роман Гуль старался подчеркнуть тесную связь между жизнью и стихами Есенина, ясно осознавая, что Есенина-человека нельзя оторвать от Есенина-поэта. Стремясь правдиво отразить противоречивый характер личности Есенина во всей его диалектике, Гуль обращается к приему речевой характеристики. После окончания литературного вечера Есенин, как на исповеди, признается Роману Гулю: «Знаешь, знаешь, я ведь ничего не люблю» (С. 340). В этом заявлении явно слышны интонации из есенинской поэмы «Черный человек», над которой, 175 как известно, поэт работал во время своей зарубежной поездки: «Друг мой, друг мой, / Я очень и очень болен» (3, 180). Но Есенин был бы не Есениным, если бы ограничился только этим заявлением. Поэтому сразу следует опровержение: «Только детей своих люблю… Мне бы к детям в Россию», а далее следует неожиданное признание: «Я Россию очень люблю. И мать свою люблю. И революцию люблю…» (С. 340). Последнее есенинское заявление своеобразно предваряет строки, написанные поэтом позднее. В «маленькой поэме» «Ответ» (1924) он заявляет: «Но ту весну, / Которую люблю, / Я революцией великой / Называю!» (2, 131 — 132). Заключительный штрих, которым Р. Гуль завершает образную характеристику Есенина, достаточно выразителен в своей трагической символике: «Последний раз я видел его на улице. Он шел трезвый. Растерянной походкой. Словно куда-то торопился, а сам не знал, куда и зачем» (С. 340). Своеобразным комментарием к этой последней портретной зарисовке может служить отрывок из есенинского письма А. Кусикову, которое было датировано 7 февраля 1923 года. В нем во многом объясняется причина того нравственного надрыва, который терзал Есенина в Берлине: «Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется…» (6, 154). Естественно, Роман Гуль не знал содержания этого письма, но он смог многое в есенинской трагедии интуитивно понять и передать в своих беллетризованных воспоминаниях. Есенин предстает в них не только и не столько человеком, сколько лирическим героем своих собственных произведений. В этом Р. Гуль близок А. Мариенгофу, писавшему: «Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь. Маска для него становилась лицом и лицо маской»5. Часто создается такое впечатление, что некоторые эпизоды из литературного портрета Романа Гуля «Есенин в Берлине» написаны автором «Романа без вранья»6. Роман Гуль, видимо, был согласен с убеждением своего земляка в том, что «только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам»7. Роман Гуль нашел определение, которое более подходит Есенину: «Образ — его стихия». Вот именно не лицо, не маска, а образ. Так, рецензия на есенинское «Избранное» оказалась удачно дополнена воспоминаниями о поэте, которые ярко характеризуют личность Сергея Есенина. Если сравнить размышления рецензента Романа Гуля о есенинском образотворчестве и его воспоминания о Есенине, то можно отметить в них много общего. Так, например, утверждение о есенинском «пращуре» — язычнике перекликается с эпизодом, в котором Гуль заводит такой разговор с поэтом: «Фамилия у тебя хорошая: осень, ясень, есень, таусень». На что следует есенинский ответ: «Да — это ты верно. Фамилия замечательная. Языческая. Коренная. Мы — рязанские…» (С. 340). В свою очередь нельзя 176 не отметить того, что почти все эпизоды жизни Есенина в Берлине, которые сохранил в памяти Роман Гуль, можно проиллюстрировать соответствующими есенинскими цитатами. В 1979 году Роман Гуль завершает новый вариант своих воспоминаний, назвав их «Сергей Есенин за рубежом». Они были опубликованы в «Новом журнале» (1979. № 136. С. 91 — 102.) и стали частью большой книги его трехтомных мемуаров «Я унес Россию. Апология эмиграции», изданной в НьюЙорке в 1981 году. Отличительной особенностью этих воспоминаний было то, что в них Р. Гуль не ограничился только своими личными впечатлениями о встречах с поэтом, но использовал и мемуары знакомых Есенина В. Левина и А. Ярмолинского. В добавление к написанному в 1926 году Гуль приводит несколько эпизодов, придающих повествованию ярко выраженный беллетризованный характер. Рассказывая о Есенине за границей, Роман Гуль в своей установке писать правду «без умалчиваний» близок мемуаристу Анатолию Мариенгофу. Не случайно Гуль упоминает его скандально известный «роман», когда речь заходит о знаменитом есенинском цилиндре, составившим неотъемлемую часть его имиджа: «Об истории «цилиндров» рассказал Мариенгоф в «Романе без вранья» 8. Характерной особенностью воспоминаний Гуля о Есенине была полемичность. Так, например, Р. Гуль полемизирует с М. Горьким, описавшим в своем очерке молодого Есенина: «Ничего схожего с этим портретом кисти Горького в Есенине я не увидел… Был он сложен как-то по-крестьянски, хотя и одет в модный дорогой костюм… От «приказчика из кондитерской» ничего в нем, конечно, не было…» ( С. 217). (Вспомним есенинские строки: «У меня — отец крестьянин, / Ну, а я — крестьянский сын» («Мелколесье. Степь и дали» (1925). В свете интертекстуального подхода к воспоминаниям Р. Гуля новый смысл обретает описание им одного из есенинских скандалов на вечере в Шубертзале. Поэт был «вдребезги пьян», вел себя так вызывающе, что вызвал шум в зале и протесты публики. Когда же Есенин начал читать «Исповедь хулигана», то в зале воцарилось спокойствие. Роман Гуль ярко описывает неподражаемую есенинскую манеру чтения: «Читал он криком, «всей душой», очень искренне… А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери… ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный, несчастный Есенин победил» (С. 220). К сожалению, надо это признать, попытка Романа Гуля расширить представление о заграничной поездке Есенина за счет мемуаров есенинских знакомых придало этим воспоминаниям «вторичный» характер. Здесь много язвительных замечаний, касающихся власти «пролетариата». Например, изображая танец Айседоры Дункан, он с едкой иронией писал: «Глядя на танцевальный «Интернационал» Айседоры, я чувствовал какую-то неловкость за эту в прошлом большую артистку. Тяжеловесная, с трясущимися под ту- 177 никой грудями Айседора выделывала какие-то па… и все это долженствовало «выявить мощь пролетариата». Бедный пролетариат» (С. 223). На фоне нового варианта мемуаров Романа Гуля его литературный портрет «Есенин в Берлине», написанный в 1926 году, явно выигрывает, привлекая достоверностью впечатлений очевидца событий. Объединяет же воспоминания «Есенин в Париже» и «Сергей Есенин за рубежом» ярко выраженная интертекстуальность. Отмечая «элементы интертекста» в прозаических произведениях мемуарного и автобиографического характера, современный исследователь мемуарной прозы Н. А. Николина писала: «Характер интертекстуальности, типы интертекстов и их функции во многом определяются жанром произведения… «Чужие тексты» способствуют созданию… образа эпохи и… образа повествователя»9. К этому можно добавить, что «скрытое цитирование» стихов Есенина связано с установкой Романа Гуля на психологическую достоверность образа поэта, о котором он стремился «вспомнить все». Этим можно объяснить его своеобразный «интертекстуальный диалог» с есенинским творчеством. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Шубникова-Гусева Н. И. «…Объединяет… звуком русской песни» // Русское зарубежье о Сергее Есенине. М., 2007. С. 7. 2 Гуль Р. Есенин. Избранное // Русское зарубежье о Сергее Есенине. С. 308. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках. 3 Гуль Р. Есенин в Берлине // Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников / Составление и общая редакция Н. И. Шубниковой-Гусевой. М., 1995. С. 337. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках. 4 Здесь и далее произведения С. А. Есенина цит. По: Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М., 1995 — 2002 (с указанием тома и страниц в скобках). 5 Мариенгоф А. Роман без вранья. Ленинград. 1927. С. 64. 6 См. Сухов В. Есть ли правда в «Романе без вранья» // Сура. № 6. 2005. 7 Мариенгоф А. Роман без вранья. С. 22. 8 Гуль Р. Сергей Есенин за рубежом // Русское зарубежье о Сергее Есенине. С. 217. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках. 9 Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы. М., 2002. С. 352 — 353. 178