1 3-1969 ПРОЗА Анатолий Кузнецов ОГОНЬ РОМАН Глава 1
advertisement
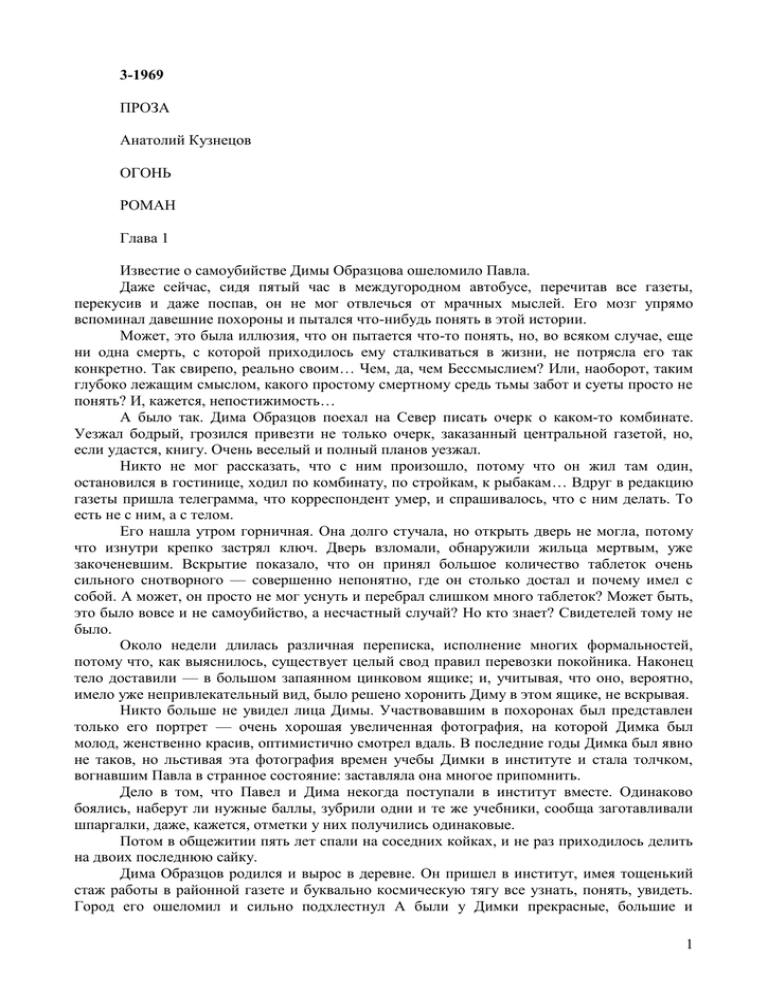
3-1969 ПРОЗА Анатолий Кузнецов ОГОНЬ РОМАН Глава 1 Известие о самоубийстве Димы Образцова ошеломило Павла. Даже сейчас, сидя пятый час в междугородном автобусе, перечитав все газеты, перекусив и даже поспав, он не мог отвлечься от мрачных мыслей. Его мозг упрямо вспоминал давешние похороны и пытался что-нибудь понять в этой истории. Может, это была иллюзия, что он пытается что-то понять, но, во всяком случае, еще ни одна смерть, с которой приходилось ему сталкиваться в жизни, не потрясла его так конкретно. Так свирепо, реально своим… Чем, да, чем Бессмыслием? Или, наоборот, таким глубоко лежащим смыслом, какого простому смертному средь тьмы забот и суеты просто не понять? И, кажется, непостижимость… А было так. Дима Образцов поехал на Север писать очерк о каком-то комбинате. Уезжал бодрый, грозился привезти не только очерк, заказанный центральной газетой, но, если удастся, книгу. Очень веселый и полный планов уезжал. Никто не мог рассказать, что с ним произошло, потому что он жил там один, остановился в гостинице, ходил по комбинату, по стройкам, к рыбакам… Вдруг в редакцию газеты пришла телеграмма, что корреспондент умер, и спрашивалось, что с ним делать. То есть не с ним, а с телом. Его нашла утром горничная. Она долго стучала, но открыть дверь не могла, потому что изнутри крепко застрял ключ. Дверь взломали, обнаружили жильца мертвым, уже закоченевшим. Вскрытие показало, что он принял большое количество таблеток очень сильного снотворного — совершенно непонятно, где он столько достал и почему имел с собой. А может, он просто не мог уснуть и перебрал слишком много таблеток? Может быть, это было вовсе и не самоубийство, а несчастный случай? Но кто знает? Свидетелей тому не было. Около недели длилась различная переписка, исполнение многих формальностей, потому что, как выяснилось, существует целый свод правил перевозки покойника. Наконец тело доставили — в большом запаянном цинковом ящике; и, учитывая, что оно, вероятно, имело уже непривлекательный вид, было решено хоронить Диму в этом ящике, не вскрывая. Никто больше не увидел лица Димы. Участвовавшим в похоронах был представлен только его портрет — очень хорошая увеличенная фотография, на которой Димка был молод, женственно красив, оптимистично смотрел вдаль. В последние годы Димка был явно не таков, но льстивая эта фотография времен учебы Димки в институте и стала толчком, вогнавшим Павла в странное состояние: заставляла она многое припомнить. Дело в том, что Павел и Дима некогда поступали в институт вместе. Одинаково боялись, наберут ли нужные баллы, зубрили одни и те же учебники, сообща заготавливали шпаргалки, даже, кажется, отметки у них получились одинаковые. Потом в общежитии пять лет спали на соседних койках, и не раз приходилось делить на двоих последнюю сайку. Дима Образцов родился и вырос в деревне. Он пришел в институт, имея тощенький стаж работы в районной газете и буквально космическую тягу все узнать, понять, увидеть. Город его ошеломил и сильно подхлестнул А были у Димки прекрасные, большие и 1 вопрошающие глаза, действительно что-то женственное. Он очень тонко чувствовал погоду, поражал всех точными предсказаниями… Пожалуй, что-то в нем было этакое есенинское, трогательное, что очень располагало к нему. Как парень способный, он вскоре стал отлично учиться. Удачно писал разные заметки, которые все чаще печатались, и каждый раз он приходил в восторг и очень мило, забавно гордился. Потом Павел стал замечать, что Димка иногда слишком уж задирает нос. Появились в нем нотки самоуверенности, он рассуждал все безапелляционнее, научился покрикивать и обрывать на полуслове всех, кого, видимо, считал глупее себя. Статьи его стали наступательно-воинствующими, и случалось несколько раз, что его материалами газеты открывали на своих страницах целые дискуссии. Сам он словно бы подрос, распрямил плечи, ходил широким, уверенным шагом, ни над каким вопросом больше двух секунд не задумывался, особенно отвечая на записки при встречах с читателями. Да, он очень полюбил эти встречи, и надо признать, что говорил он остро, напористо, убежденно, задиристо, а это слушателям всегда нравилось. Скорее всего ему хотелось походить на Маяковского, но, возможно, потому, что талант был не тот, Павел не раз с тревогой замечал, как Димка в общем-то убежденно толчет воду в ступе. Да еще подозрительно часто повторяется, и не лучшим образом. Видел Павел это лишь от случая к случаю, потому что, окончив институт, Павел и Дима стали работать в разных редакциях, к тому же в разных концах города, и встречались не часто. Павла всегда, всю жизнь отталкивали самоуверенные люди, которым кажется, будто они все на свете уже понимают. На эту тему они, помнится, не раз и не два крепко поговорили с Димкой, но тот ни с чем не согласился, а только, похоже, обиделся. Так и вышло, что они стали по полгода не видеться. Однажды дошел до Павла слух, что Дима Образцов сильно пьянствует. Спутался с компанией алкоголиков и неудачников. Напиваясь, костит всех и вся и почему-то особенно его, Павла. Однажды ночью вдруг явился к Павлу домой, угрюмый, злой, разбудил Павла и попросил рубль. Рубля не нашлось, Павел дал ему пять и, сколько ни уговаривал остаться, Димка и ухом не повел: хлопнул дверью и как провалился, даже спасибо не сказал. Вдруг Дима исчез. Как выяснилось, уехал на родину, в деревню. Не слышно о нем было примерно год. Снова приехал, опять бодрый, безапелляционно рассуждающий, косяками выдавал материалы, которые писал неизвестно когда, потому что продолжал жестоко пить. И вот наконец поездка на Север — и это снотворное… За окном автобуса пятый час тянулась одна и та же однообразная картина. Плоская, как стол, равнина до горизонта, изредка заваленный снегом городишко или быстро мелькнувшая деревня — и снова равнина, равномерно покрытая снегами. Вдоль шоссе тянулись, то взлетая, то опадая, провода; на обледеневших столбах изредка сидели нахохленные вороны, ветер ерошил их перья. Глядя на них, съеживающихся под пронзительным ветром, он с особым удовольствием думал, что автобус попался уютный да теплый. Печки грели что надо: откуда-то из-под сиденья так и пыхало жарким воздухом. Сиденья были в точности как в самолете, откидывающиеся, покрытые белоснежными чехольчиками, окно можно было задернуть занавеской — все это располагало к разморенной лени и сну. Пассажиров было мало, во всяком случае, и место рядом с Павлом и оба места по другую сторону прохода были пусты. Аналогию с полетом создавали еще мощный гул и лихая скорость, с которой этот серебряный венгерский «Икарус» буквально пожирал равнину, одним махом, небрежно обгоняя все, что ни попадалось на пути, — грузовик ли, легковушка ли. Павел посмотрел на часы: перевалило за четыре, — значит, скоро начнет темнеть. Его беспокоила гостиница, и вообще это было не очень умно — выезжать на ночь глядя. Но 2 срочное дело подгоняло, а с утра пришлось быть на похоронах, и Павел не простил бы себе, если бы не проводил друга в последний путь. Срочное дело было следующее. Задувалась крупная домна. Мало сказать крупная — по тем временам крупнейшая в мире, сверхмощная доменная печь. Заметка об этом случайно попалась Павлу на глаза — короткая информация ТАСС в пять строк. Внимание его остановило не то, что домна крупнейшая в мире. Их у нас строится много, и все крупнейшие, и мы уже привыкли к тому. Удивило его, что это должно произойти в поселке под названием Косолучье. Павел знал Косолучье, как свои пять пальцев. Там он мальчишкой жил, остались друзья, там даже случилась его первая любовь. Неприметный был поселок, пустяковый — и вдруг «крупнейшая в мире»… В мире — это все-таки значит: на всем земном шаре! Тот период жизни был не такой уж долгий: примерно от его десяти до шестнадцати лет. Отца перевели на Урал. От Косолучья в памяти остались равнины, лыжи, коньки да первый в жизни велосипед . Открытое всем ветрам и хлябям неуютное поселение да над грязной речкой, лишенной рыбы, дряхлый металлургический завод, истоки зарождения которого уходили в петровские времена. Осталась в памяти драка. Жуткая, безобразная драка, как говорится, на почве ревности — из-за той девочки. Не до первой крови, а до полного изнеможения сил. С Федькой… Как же его фамилия? Простая, невыразительная такая фамилия, чуть ли не Иванов. Пожалуй, что так и есть. Иванов… Дураки были оба, а ведь здоровые уже были лбы. Сейчас у Павла получилось «окно». Типография безбожно задержала гранки его последнего романа. Новую законченную повесть пока только читали члены редколлегии уважаемого журнала, с уважаемыми карандашами в руках. Написанный для газеты рассказ лежал пока «под вопросом». Уныло справляясь о его судьбе, Павел увидел эту самую тассовскую заметку в пять строк. Похвастался, что сам из Косолучья. Дальше было просто. Он подумал: «А почему не съездить на день-два? Время как раз есть». Будущий очерк (все с натуры: как задували домну, как дали первый металл) под далеко не оригинальным названием «Рождение гиганта» (условно, только условно!) был тут же вставлен в план, а Павел пошел оформлять командировку. Здесь время сказать, что о домнах он имел понятие весьма скромное. Чтобы не сказать никакое. Впрочем, для того, чтобы написать очерк с натуры, это не могло иметь решающего значения, и он храбро взялся. Конечно, Павел знал о домнах то, что знают все добрые люди: «Встав на предпраздничную вахту, металлурги…» Подобно другим зрителям в кинотеатре, скучал, глядя ту часть журнала «Новости дня», где льется металл, бушует пламя, сыплются искры и мужественные металлурги в рыбацких шляпах непременно шуруют длинными кочергами в огне. Но в конце концов невозможно нынче человеку знать устройство и технологию всего на свете. Телевизор у каждого в комнате куда ближе, чем домна, а многие ли в нем понимают? Ознакомиться с домной Павел решил на месте, впрочем, ведь и не в устройстве дело: для очерка важнее всего люди. В людях Павел более или менее мог разбираться, по крайней мере иногда в это сам верил. Одним из его правил при этом было: не спешить выносить суждение. Он не любил сам много говорить — любил больше слушать. Не любил, когда предлагали поверить на слово, — предпочитал увидеть дело. Древние, как мир, простые правила эти, как ни странно, не так уж популярны среди людей. На словах — о, да! Но на деле… Многие коллеги Павла недоумевали, откуда у него в книгах и то и се, критика писала о секрете его особенного видения жизни. Секрета не было. Дату и час пуска этой сверхмощной домны так и не удалось выяснить. Сколько ни звонил на завод, оттуда отвечали: «Да вот сейчас… Сейчас уже не сегодня-завтра. Вот-вот!» И Павел тревожился, как бы не опоздать. Вот почему он выехал на ночь глядя, да и на похоронах все возвращался мыслью к этой домне. 3 Похороны должны были кончиться рано. Назначили на девять утра, но пока прощались, собирались, задержки разные — автобусы выехали только в половине одиннадцатого. Ехали по городу, одолевая заторы, задерживаясь перед светофорами, приехали куда-то на другой конец города. Если бы спросили Павла, где он находится, он бы не смог сориентироваться, он никогда прежде об этом кладбище не слышал. Но кладбище было настоящее: мощная стена, широкие ворота, неизбежный магазинчик похоронных принадлежностей, мастерская по сооружению памятников, контора, облепленная прейскурантами различных кладбищенских услуг, старушки, бойко торгующие цветами. Павел нес один из венков. Он неблагоразумно оставил в редакции перчатки, руки его искололись и закоченели. Мерзли ноги в легких ботинках, и все вокруг пританцовывали, стучали ногой о ногу. Напарник Павла по венку, совершенно незнакомый мужчина, пошел в контору узнавать, а Павел, нахохлившись, грел руки в карманах и подпирал венок плечом, благо тот был предусмотрительно сделан на тонких палках-ножках. Редактор литературного отдела, который нес впереди процессии Димкин портрет, тоже замерз. Он поставил портрет в снег, прислонив к стене. Так все и ждали: Димка, оптимистично глядя вдаль; провожающие друзья, колотя ногой о ногу; тихо плачущие мать и сестра, специально приехавшие на похороны из деревни… Прибежал напарник, сообщил, что могила в таком-то квадрате; все поспешно построились и двинулись. Тяжелый цинковый ящик понесли на плечах восемь человек. Возле ямы сняли ящик с плеч, поставили, начали говорить речи. Все стояли закоченевшие, с посинелыми лицами, ждали. Не вынося больше неподвижности, Павел выбрался на аллею, прошелся по ней немного, миновал десятка два памятников — и ноги его приросли к земле: на черной гранитной полированной глыбе были золотом написаны полностью его фамилия, имя и отчество. В первый миг Павел ничегошеньки не понял, только почувствовал себя до идиотизма странно. Приблизился и вчитался: его фамилия, имя, отчество, но другой год рождения… и смерти. Это был другой человек, тезка, он родился лет за десять до Павла и умер в прошлом году. «От безутешной жены и детей». Павел постоял, потом медленно вернулся. В сущности, обычная, нормальная вещь, но ощущение такое, будто свой собственный памятник посмотрел. Прибежали трое могильщиков, потные, запыхавшиеся. Подняли ящик на пасы. Заголосили мать и сестра. Ящик провалился, гулко стукнув о дно ямы, все бросились швырять комья мерзлой земли, которые забарабанили, словно сыпали из мешка картошку. С кладбища не шли — бежали, все до последнего закоченевшие, не могли отогреться в автобусе, а, приехав в редакцию, где в задней комнате были накрыты столы — поминки в складчину, — жадно накинулись на водку, чтоб согреться, и только потом начались положенные: «Эх, Дима, Дима…», «Вот так, был Дима — и нету…». …Круто затормозил автобус. Павла кинуло вперед, и, взглянув в окно, он увидел, что уже темно, а автобус идет по городу со светящимися витринами и вывесками. Сделав великолепный разворот, «Икарус» ловко подрулил к освещенному зданию автовокзала, и зашипели, открываясь, двери. Приехали. Автовокзал стоял в центре площади — широкое приземистое здание с некрупными, подслеповатыми окнами и высокой остроконечной крышей, как пряничная избушка. По прихоти архитектора избушка эта имела роскошную, выступающую полукругом ротонду, по бокам ее — две широкие лестницы с какими-то курортными балясинами, а входная дверь в избушку хоть и была тесна, обрамлялась зато двумя дорическими колоннами. Внутри же было тепло, светло, современно: сплошные стеклянные кубы касс, обтекаемые пластиковые диваны для ожидания, светящиеся, мигающие табло и схемы — и 4 бодрый голос диктора: «Автобус семьдесят два — двенадцать рейсом на Павлихино отправляется!» Практично Павел все осмотрел, пластиковые диваны (на случай, если придется ночевать) одобрил и пошел на площадь. Мороз так и вцепился в лицо. Светила полная луна. Небо чистое, без единого облака, обдающее землю черным космическим холодом. У людей, топтавшихся на стоянке такси, вываливались, как у лошадей, клубы пара изо ртов. Освещаемая больше луной, чем фонарями, площадь была Павлу совсем незнакома. Незнакомы были высокие здания, обрамлявшие ее. Прежний город (из Косолучья сюда ездили трамваем) вспоминался Павлу низеньким, распластанным, сплошь купеческие особняки да косопузые деревянные домишки. Этого нового города он не знал. Скорее всего новые кварталы , местные «Черемушки». И, как это сплошь и рядом бывает, кварталы за этой площадью резко обрывались: стоял последний дом, и за ним ничего, тьма. Именно на последнем доме светилась вывеска гостиницы, и Павел, почти бегом перейдя площадь, задохнувшись от мороза, нырнул в ее дверь. В вестибюле был скандал. Швейцар с галунами защищал вход в ресторан от шумной, нельзя сказать чтобы трезвой, компании. За полированной ореховой стойкой читала журнал «Здоровье» полная, цветущая администраторша. Павел пошарил глазами, отыскивая привычную табличку «Мест нет», иногда писанную серебром, иногда бронзой, но такой не оказалось. Это его поразило. Администраторша бегло взглянула на его командировочное удостоверение, сказала: «Давайте паспорт», — и через три минуты он, не веря сам себе, ехал в лифте на пятый этаж. Лифт шел рывками, скрипел и попискивал, перекашиваясь, хотя и лифт и сам дом были явно новыми, но этот скрип показался Павлу истинной музыкой. Отведенный ему номер находился в конце коридора, уютный и скромный: деревянная кровать, стенной шкаф, письменный стол, телефон. В углу — раковина умывальника. — Туалет в том конце, — сказала горничная. — Ванна тоже там. — А! — сказал Павел. — Хорошо… Минуту он постоял, привыкая. Выглянул в окно. К сожалению, оно выходило ,не на площадь, а на противоположную сторону, в поле. Вглядываясь, Павел не смог увидеть ничего, кроме белеющей под луной плоской равнины до самого горизонта. Ветер ударял в стекла, заставляя их вздрагивать, и сквозь микроскопические невидимые щели несло ледяным холодом, но батарея под окном была раскаленной, казалось, чуть не докрасна, и Павел ощутил прилив отличного настроения, готовность немедленно ехать на завод. Не снимая пальто, он кинулся к телефону, достал записную книжку с номерами. Долго ему не отвечал ни один телефон, наконец доменный цех откликнулся сонным женским голосом. Нет, домну не задували, нет, и не ожидается, еще не скоро… Когда? А леший его знает, говорят, вот-вот. Оптимистично Павел подумал, что и это к лучшему: пока задержки, он успеет освоиться. Он повесил пальто в шкаф, достал из чемоданчика мыло, умылся, посмотрел в зеркало: не побриться ли? Нет, вроде не зарос. Лень. Бумаги рассовал по ящикам стола, положил на чернильный прибор две шариковые авторучки. «Отлично! — думал он, потирая руки. — Все складывается просто отлично! Хорошо!..» И вдруг перед его глазами ярко встала — как удар грома, как наяву увидел — черная глыба с золотыми буквами. «Зачем понес меня черт именно в ту сторону? — встревожившись, подумал он. — Теперь, гляди, еще сниться будет. А займемся-ка мы очерком!» Еще когда он ходил по кабинетам, оформлял командировку, получал аванс, у него сложились вступительные фразы, вернее, сами мысли, которые, очевидно, должны были открывать очерк. Разложив по столу чистые листы, он подумал и стал набрасывать: 5 «Черная металлургия — основа основ индустриальной мощи страны. Чугун — это хлеб промышленности… Организуя и подчиняя себе огненную стихию, человек переплавляет сырье, получаемое от природы, в нужный ему металл. По уровню выплавки металла судят о степени развития наций. Современный металлургический комбинат с его сверхмощными печами ныне один дает такую реку металла, какую прежде выплавляли печи всей огромной Российской империи, взятые вместе». Написал и задумался. Все было очень правильно. Настолько правильно, что даже подозрительно. Павел сложил листок вчетверо, сунул в ящик и решил подойти иначе, с плана: «1. Общая картина. Люди у домны. 2. Задувка со всеми деталями. Люди уверены, но волнуются. Напряженное ожидание. 3. Но вот брызнул первый металл. У горнового слезы на глазах (конечно, «от жара»). 4. И вот идет этот металл, из которого будут созданы станки и комбайны, автомобили и ракеты, мясорубки и перья для школьников…» Он перечитал этот шедевр мысли и почувствовал себя совсем неважно. Машинально скомкал лист, бросил в корзину под столом. «Одна головня в поле не горит. В поле не горит. В поле не горит», — написала его рука. Он опомнился и теперь уже всерьез испугался. Потрогал лоб — вроде нормальный, не горячий. «Нужен кофе, — подумал он. — Чашку крепкого черного кофе, вот чего мне не хватало с самого утра, конечно же!» Посмеиваясь, что затор в мозгах так просто объясняется, Павел спустился в скрипучем лифте на первый этаж, немного пообъяснялся со швейцаром, утверждавшим, что нет мест, и прошел в ресторан. Там было весело, шумно, дымно. Действительно, ни единого свободного стула. Сплошь загроможденные бутылками и обильной пищей столы, и все люди старательно ели. На низенькой эстраде коренастый певец, стриженный, как боксер, выкрикивал: Эх, Одесса, кр-расавица А-де-са!.. Ближайшие столики дружно хлопали ему в такт. Стрельнуло шампанское, и мимо уха Павла с жужжанием пронеслась пробка, Посмеиваясь, он поймал официантку, спросил кофейник с собой в номер. К сожалению, сказала она, номера не обслуживаются: не хватает штата. Это Павел предвидел и сказал, что обслужит сам себя. — Нельзя, — сказала официантка, начиная нервничать. — Кофейники в номера нельзя. — Я оставлю залог. — Нельзя все равно. Хотите кофе — садитесь за столик, вас обслужат в порядке очереди. Павел посмотрел на битком набитый зал, плюнул с досады и долго путался между столиками, пока не нашел заведующего. Тот, этакий видный, солидный джентльмен, охотно разъяснил, что кофейников мало, в номера нельзя, это снижает оборачиваемость кофейников. — Вот если вы принесете свою посуду, я дам указание отпустить, — смилостивился он и стал смотреть по сторонам, как человек, которого отвлекли по пустякам. Павел поехал на пятый этаж, попросил у дежурной кастрюльку или хотя бы банку, все равно из-под чего. Это ее здорово озадачило. Видя, что человек отчаивается, она его пожалела, пошла на другой этаж, долго ходила и принесла блестящий электрочайник, однако испорченный и без шнура. «Отлично!» — сказал себе Павел и снова поехал в лифте. Внизу он отыскал заведующего, тот распорядился отпустить ему кофе, Павел постоял в очереди в кассу вместе с официантками, которые над ним похихикали, отшучиваясь, сдал в окно свой чек и 6 подождал, пока кофе сварят. «Поменьше и покрепче, двойной, тройной!» — просил он, и все же сварили много и жидко. Торжествуя, повез чайник наверх. Он залпом выпил сразу полстакана кофе, и ему захотелось немедленно написать статью под рубрикой «Как вас обслуживают?», а в ней примерно такие слова: «Люди, измученные ожиданием, не орите на официантов: те не виноваты. Это все система гипертрофированной ответственности. Приняв ваш заказ, официант сам делает заказы, стоит в очереди в кассу, в буфет, на кухню — удивительно, как они ухитряются вообще нас обслуживать». Что-то очень знакомое почудилось ему в собственных словах. Не то сам писал, не то читал. Димкин стиль! Остро, наступательно, проблемно — по воробьям! Да, Димка писал о том, как плохо обслуживают в молодежном кафе, о безобразных затягиваниях сроков пошивочным ателье, поднимал дискуссии о проблемах свободного времени, восторженно сообщал о хорошем водителе троллейбуса, который рассказывает в микрофон о достопримечательностях города, с такой же легкостью брался за беды совхозного планирования и новшества в системе комсомольской политучебы. Павел заходил по комнате, как по клетке. Прижался лбом к стеклу и посмотрел в поле, ровное, гладкое, холодно белеющее под луной. «От безутешной жены и детей»… — машинально подумал Павел. — Он родился на десять лет раньше меня, умер в прошлом году. Вот странно, если бы мы были похожи. Он был таким, как я, потом еще прожил десять лет.,. Тьфу, бред, а если он просто попал в автомобильную катастрофу? Нестарый человек, а… Закончил все». Он присел за стол, отхлебнул остывшего кофе, потер глаза руками, подпер голову и задумался. Зачем распускать мысли? Есть конкретная, большая задача: домна. Сосредоточиться на этом, сосредоточиться и думать о домне. Но сосредоточиться ему помешали. Дверь без стука отворилась, и вошел Дима Образцов, уставший, растрепанный, с красными от бессонницы глазами. — Ты тоже сидишь? — сказал он. — Мне не спится: угловой номер, два окна, несет, как из трубы, и холод собачий. — Сделай, как я, — посоветовал Павел. — Задерни занавес и подоткни поверх батареи, тогда тепло идет внутрь. — Это все неважно, — сказал Димка, — Дело не в том. Понимаешь, они все говорят… — Кто? — Вещи. — Какие вещи? Что ты бормочешь? — Понимаешь, я гашу свет, ложусь, и они начинают разговаривать. Все: мой костюм, пуговицы, бритва, тумбочка, телефон… — О чем они говорят? — О многом. О какой-то шахте, где что-то утеряно, о погасших на аэродроме огнях. Очень интересно: обвиняют меня, будто я сам погасил, Хочешь, проверь. Погаси свет. Павел послушно выключил лампу, но, странно, в номере не стало темнее. — А вот! — воскликнул Димка, протягивая палец. — Слышишь? Телефон взорвался отчаянным, невероятным звоном. Павлу захотелось зажать уши, так нестерпим был этот звон. С большим усилием он открыл глаза, понял, что задремал за столом, но телефон действительно звонил. Павел схватил трубку. Сначала не понял. Ему показалось, что говорят нечто жуткое. — Диспетчерская? — допытывался голос. — Нет, вы ошиблись, — сказал Павел и положил трубку. Главе 2 7 Пятнадцать лет тому назад между Косолучьем и городом ползал по одноколейному пути трамвайчик № 3 — «тройка». Старые, дребезжащие вагончики бежали от разъезда к разъезду чуть ли не час в один конец, особенно зимой, потому что линия шла полем и ее на каждом шагу заносило. Неожиданности начались для Павла с остановки: «тройка» сохранилась точнехонько такой, как была. Еще в гостинице он узнал, что в Косолучье можно ехать и автобусом, быстрее, но он пошел на трамвай. Было утро, по городу бежали люди на работу, на остановках стояла черная толпа. Когда подползла дребезжащая, помятая и облупленная «тройка» с прицепом, толпа осадила ее так, что, казалось, сейчас или с рельсов снесут, или опрокинут. Павел хотел назад из толпы выбраться, не тут-то было. Его буквально внесли в узкую дверь. Работая локтями и изгибаясь, он пробился в угол площадки, его припрессовали к стене. И едва завибрировал под ногами пол, затряслись стекла, а кондукторша закричала, чтоб проходили вперед, на Павла вдруг дохнуло запахами юности, и словно враз открылись какие-то шлюзы памяти, одно за другим стало вспоминаться: и как этим трамвайчиком на елку в город ездили, и как с уроков «пасовали», и опять же таки на трамвайчик и в кино. Всплыли лица друзей, разговоры, проблемы, страсти!.. Едущие в трамвае разговаривали, многие знали друг друга, здоровались через весь вагон. Утренний трамвай — явление особое. На остановках его осаждали новые толпы, и никто не сходил, а все только втискивались, втискивались, прямо колдовство какое-то: кажется, уж лезвие ножа не просунуть, а снаружи стучат по стенкам: «Уплотнитесь маненько!» Еще пять душ вошло, веселеют, здороваются, подключаются к беседе о нарядах, прогрессивках, простоях… Трамвайчик крякает, тужится, бежит. Потом уплотнение кончилось: колея пошла по голой снежной равнине; по крыше барабанил, гудя, ветер. На редких разъездах трамвай подолгу замирал, поджидая встречного, и тогда особенно слышен был ветер и особенно громко звучал говор. Да, да, конечно, звали его Федей Ивановым, того паренька, с которым они так влюбились в Женьку и потом дрались. Павел ярко увидел этого Федю, как и других, словно вчера с ними расстался. От воспоминаний ему стало тепло и загудело внутри что-то протяжно… Он прикрыл веки, чтоб лучше видеть. ФЕДЯ ИВАНОВ добродушный был, спокойный, увалень такой, а здоров и силен, ну, медведь, как схватил тогда в драке — кости трещали. Только не умел он сознавать свою силу, точнее, не научился ее применять во зло. Был он из какой-то очень уж многодетной семьи, жили в бараке под косогором. Остротой ума не отличался, звезд с неба не хватал. Обноски старших братьев вечно донашивал. Однажды пришел в школу — башмаки проволокой подвязаны. Что-то ему выписывали, помнится, помощь какую-то. А в общем, серый был, малоспособный ученик, как говорят, середняк середняком. И, пожалуй, больше всего шансов встретить в Косолучье именно его. Такие трудятся и трудятся себе мирно, на месте. По логике жизни, пожалуй, он сколотил себе домишко, огород при нем, поросенок в хлеву. А то взял участок в общественном саду. В получку выпивает и ссорится с женой, в остальное время она его пилит. Покупает по два-три билета лотерей, ходит проверять, но выиграл только однажды рубль. Премий не получает, на досках почета не висит. Ему всегда с таким трудом вдалбливалось то, что другие схватывали на лету. ВИТЯ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — вот кто схватывал все с лета. Был самой яркой личностью класса, если не школы. Парень из хорошей, культурной семьи, единственный сын, всегда очень ухоженный, чисто и модно одетый, изящный, с легким налетом этакого молодежного снобизма XX века. 8 Мама у него была очень начитанная, интересовалась искусством и сыну усердно прививала любовь к нему. Он всегда был в курсе самых свежих новинок, самых модных веяний, удивлял знанием последних достижений культуры. Единственный из всего класса читал Норберта Винера, хорошо уже тогда знал живопись Пикассо, имел записи Стравинского и Бени Гудмана. Для тех, кто с ним общался, он был просто клад новостей. Папа его, значительный специалист металлургии, построил небольшую дачку в бору, километрах в шести от поселка, но так как был вечно занят, то на эту дачку родители выезжали редко, а Витька тут-таки и воспользовался этим на полную катушку. «Гнездо культуры века» там образовалось, как он сам назвал. Он выпросил у матери и перевез туда прекрасный по тем временам приемник «Минск» с приставным моторчиком собственного изготовления. Далее, целый ящик пластинок, половина импортные — папа понавез. Магнитофоны тогда только-только выходили, так у Витьки уже было какое-то страшное чудовище, однодорожечная запись, скорость — девятнадцать, и он ночами сидел, ловил по приемнику джазы и писал. И сочинял страшно сложные, глубокие стихи. Компания сложилась по принципу велосипедному. Ребята, у кого были велосипеды, закатывались к Витьке в «гнездо», бывало, каждый вечер подряд, слушали, смотрели, спорили до ночи. Дача эта была просто клад. Кричали до хрипоты, а то и кулаками начинали махать. Потому что компания собиралась весьма разношерстная. Например, тот же Федька Иванов — совсем чужеродное тело. Другие при нем говорили, щеголяли терминами, именами — он только рот разевал. Но приезжал часто, старательно на едва живом, насквозь проржавевшем велосипеде брата, с такими ветхими камерами, что каждые пятнадцать минут надо было останавливаться и подкачивать их. К огорчению мамы, Виктор увлекался физикой и математикой. И надо сказать, что способности у него ко всему были блестящие. Пропасть талантов, сплошные таланты. Когда он говорил, все моментально затихали и слушали. Решающее слово в спорах принадлежало ему. Никто не сомневался, что Виктор Белоцерковский будет выдающимся человеком — может, знаменитым ученым, физиком, исследователем, блестящим философом, а то, гляди, и поэтом… Павел с признательностью подумал сейчас, что ведь он многим обязан Витьке: имена Ренуара, Гогена, Мане, понятие о новейших стилях и направлениях в музыке, литературе, архитектуре — все это впервые он узнавал в «гнезде». Что же было с Белоцерковским дальше? Очень странно, что до сих пор его имя нигде не появилось в печати, например. А может, как это теперь часто бывает, гремит он в какой-то узкой области, где только специалисты знают друг друга. СЛАВА СЕЛЕЗНЕВ был самым преданным другом Виктора. Он вроде был и помоложе на годок, тоненький такой, как девочка, с ломающимся голоском, слабачок — в драках только зритель-болельщик, и в довершение всего отчаянно картавил. Одна его фраза стала в компании поговоркой, едва только садились на велосипеды: «Гебята! Гванем чегез гогу!» Он не обижался, смеялся вместе со всеми. Вот Славка, этот был просто влюблен в Виктора. Слушал его, разинув рот. Дневал и ночевал бы у него. Трогательно было видеть их нежную дружбу. Безграничный оптимист, всем улыбающийся и готовый услужить, добряк Славка был, к сожалению, лишен абсолютно всяких талантов. И, может, потому он был жестоко уязвим. Что Белоцерковский усваивал играючи, то Селезнев постигал ценой отчаянной долбежки. А к чему Белоцерковский прилагал усилие, то Селезневу было вовсе не по плечу… А ему очень хотелось быть значительным. Он из кожи лез, чтобы быть хорошим учеником. Лебезил перед учителями. Не раз был уличен в ябедничестве. Охотно брался за все, где можно заслужить похвалу. На него стали взваливать разные нагрузки, стенгазеты 9 там, металлолом и прочее — ни от чего не отказывался. Полюбил заседать, первый тянул руку выступать. Какой-нибудь сбор бумажной макулатуры — Славка первый тут как тут, как главный организатор и приемщик. Сажают деревья — Слава мечется, весь мокрый, размахивает руками, указывает, где и какие ямы копать. Впрочем, надо отдать справедливость, один своеобразный талант у него был: выпускать стенгазету. Он обожал ее выпускать и в этом смысле был находкой для класса, потому что обычно никто не хотел писать заметки. Славка и не просил: он писал сам. И рисовал стенгазету запоем. Именно рисовал, потому что главной ее частью всегда был заголовок на пол-листа. Стенгазета выходила пунктуально ко всем праздникам, это нравилось директору, ставилось классу в заслугу. Так вышло, что имя Славы Селезнева стало неизменно упоминаться на общих собраниях — пусть не как отличника, но зато как лучшего школьного активиста. МИША РЯБИНИН, четвертый велосипедист, парень, приятный во всех отношениях. На таких людях, как на китах, пожалуй, земля держится. Умница', рассудительный, не вспыльчивый, он был прочным отличником. И не потому, что, как некоторые, пыхтел ночами до седьмого пота, а потому, что имел добрую голову на плечах. Когда в «гнезде» особенно закручивались споры, рождалась истеричная перебранка и пахло дракой, Миша Рябинин неизменно выступал на сцену и сразу всех мирил. Как истый реалист, он говорил: «Братцы-кролики, жизнь сложна, и не нам с ходу распутать все узлы. Терпение — и распутаем. А тем временем нужно принимать жизнь, какая она есть. Уясним себе, какой это трудный орешек!» И был он феноменальный математик. Встречаются люди с такими способностями. Если кому-нибудь лень было умножать в столбик, скажем, 319 на 29, он спрашивал Рябинина, и тот, бровью не поведя, моментально отвечал: «Девять тысяч двести пятьдесят один». Старенький учитель математики Кирилл Прокофьич, качая головой, поговаривал: «Ты, Рябинин, если не свихнешься, далеко пойдешь. Глядите на него, это будущий Гаусс! Лобачевский! Не скалься! Учись!» А Мишка вправду скалился. Не весьма ценил свой дар, не задавался, и это было очень в нем симпатично. Сколько раз глухими зимними ночами, озверев от синусов и тангенсов, Павел завидовал Мишке Рябинину! Сам Павел был в математике чурбан чурбаном, таблицу умножения — и ту без запинки не выучил. Смешно теперь вспомнить, а тогда было не до смеха. Сколько сил отняла математика, но обиднее всего, что после школы вся начисто забылась. Сейчас Павел ни за что не решил бы самую пустячную алгебраическую задачку, а ведь было время — решал, сидел до утра, в глазах зеленело, а решал, потому что лез в отличники. Он был старательный до одержимости, и он стал отличником, однако не показывая виду, чего это ему стоило. Зайдет речь, спросит кто, он так небрежно: «Да пятак схватил, сам не знаю за что». И все она, любовь распроклятая. Он любил девочку, которая принципиально считала, что настоящий человек — он учится элегантно и легко, получая пятерки, как нечто само собой разумеющееся… ЖЕНЯ ПАВЛОВА — звали эту девочку. Была она подлинным украшением команды велосипедистов. Отчаянная девчонка — живая, как ртуть, умница, веселая, бесстрашная. Сам Виктор Белоцерковский иногда позорно пасовал перед ней в спорах, она была единственной, чью правоту он соглашался признать, конечно, только если уж очень она его к стенке припрет неотразимым аргументом. Женькино присутствие неизменно возбуждало и вдохновляло всех остальных. И когда она мчалась по поселку впереди всех на своем мужском велосипеде — в лихих 10 истрепанных брюках, в полосатой блузчонке, напоминающей тельняшку, с развевающимися по ветру патлами, а за ней усердно жали на педали целых пятеро рыцарей, это была картина. Стоит ли добавлять, что все пятеро, кто по уши, кто по ноздри, кто по гроб жизни, были в нее влюблены, за что ее и ненавидела половина девчонок класса. Кто-то сказал за спиной Павла: — Споем, что ли, русскую народную кирпичную?.. Два голоса затянули было что-то непонятное, но, не получив поддержки, скисли. А трамвай все тарахтел, дребезжал, и люди как-то утряслись, каждый нашел себе естественное положение, Павла перестали впрессовывать в стену, так что он покрутился, как винт, оказался лицом к окну, продышал во льду оконце и посмотрел. Снежная равнина тянулась до горизонта, по ней шагали опоры высоковольтной линии. Одноколейка порой ныряла в такие сугробы, что они достигали окон, и трамвай шел, как по тоннелю. Голоса вокруг гипнотически зудели, равномерное попрыгивание колес по стыкам убаюкивало, а дырка, которую Павел продышал, моментально покрылась тонкими узорами, похожими на листья ископаемых папоротников. Павел прикрыл глаза — и снова нахлынуло… — Вы темные, жалкие, беспросветные люди! Ослы! Человек, не понимающий новейших стихов и музыки, не может считаться полноценным человеком, ибо он невежда! Если ты говоришь: «Не понимаю», — то только из-за твоего невежества, необразованности и духовной лени, да, духовной лени! — Было бы чего понимать! Кривлянье! — Мальчики, мальчики! Я понимаю, когда в музыке красота, душа, мелодия. Моцарт, Бах, Чайковский — я это понимаю. Но то, что мы сейчас слышали, — это же ужас! — Правильно! С жиру бесятся. Уродство! — Когда Визе написал «Кармен», она провалилась, все говорили: «Уродство!» Когда появился Скрябин, кричали, что это конец музыки. Джаз был воспринят многими как ужасная, уродливая «музыка толстых», по определению Горького. — Все равно джаз — у-род-ство! — Нет, неверно, надо разделять: смотря какой джаз. — Вон Федька не любит джаз. Федька, что ты все молчишь? Скажи веское слово: ты любишь джаз? — Да ну… Пускай. Бывает ничего себе… Я вообще песни люблю. — Дайте слово Пашке! — Товарищи! Я согласен с Витькой. Мы все дико некультурны. Я думаю, что для того, чтоб отвергать, надо сперва знать. — Правильно! Правильно! — Товарищи, товарищи! Дайте докончить… Черти, кто поджег покрывало?! Гасите скорее!.. Я говорю: а почему обязательно надо противопоставлять? Народные песни прекрасны. Симфония, и симфоджаз, и джаз — у меня один критерий: чтобы это было талантливо! — Это всеядность, плюгавая бесхребетность, вот что я вам скажу, мальчики. И вообще выше Чайковского нет никого! — Нет, Пашка прав, а ты, старушка, ослица. И все вы ослы, вы мне надоели. Уши длинные, а не слышите. Я выключаю. Хватит метать бисер. — Слышь, а как я тебе врежу! Так сказать, по нашему, по-простому. С позиций упомянутого осла! — Тише, тише! Ну, Бетховен, ну, Шостакович, пущай. А в рыло-то зачем? Поставь, будь друг, Бунчикова, где он тут у тебя? Или Шульженко. 11 «Это поразительно, — думал Павел, — какие мы уже тогда были разные. Чертовски интересно, кто же куда за эти годы ушел. Следы можно разыскать, узнать. Наибольшая вероятность встретить Федора Иванова, а он, может, знает об остальных…» Пошевелив локтями, он ощутил достаточное пространство, чтобы достать из одного кармана записную книжку, а из другого ручку, и принялся суммировать в сжатую схему основные черты участников споров в «гнезде». К очерку это не имело никакого отношения, но было нужно лично ему самому. Он сделал попытку предсказать: кто кем является теперь? Кое-как, косо-криво, но разборчиво (а опыт у него был, приходилось постоянно записывать и в кузове грузовика, и на штормующем сейнере, и в кромешной темноте) соорудил следующее подобие ведомости: Имя, фамилия Ярослав Селезнев Федор Иванов Михаил Рябинин Крикливый, суматошный Тихий, серый Обстоятельны Живая, й, корректный отчаянная Школьная Блестящий успеваемос отличник ть Ни то ни се Троечник Отличник прилежный Любимый предмет Физика Ничего Химия Математика Отличница от способност ей Литература Любимый писатель Ремарк М. Горький Николай Островский Пушкин Р. Роллан Любимый художник Пикассо Рафаэль Левитан Репин Врубель Музыка Додекафония Бунчиков, Шульженко Без слуха Джаз Чайковский Таланты Уйма: наука, стихи Рисовать стенгазеты Никаких Математикфеномен Актерские Кем, по логике жизни, должен бы теперь стать? Блестящий ученый, исследователь , новатор. Труды переводятся за рубежом. Скромный служащий, обремененны й семьей, и активный зрителе телевизора. Обыкновенны й обыватель. Домино во дворе, а главное, «на троих». Преподавател ь вуза с ученой степенью, лысеющий кандидат. Интеллиген тная жена и мать троих воспитанны х детей. Поведение Виктор Белоцерковск ий Очень активный Женя Павлова Табличка предназначалась только «для себя», для_ проверки своих способностей .разбираться в людях. По той же самой логике жизни шансы попасть пальцем в небо были: пять к пяти. Существует странная, какая-то злая закономерность, когда подающие надежды молодые люди далеко не всегда эти надежды оправдывают. Подчас из вундеркиндов вырастают серые, беспомощные личности, из недоумков — вдруг гении. Хотя и многие вундеркинды выросли в гениев, хотя и большинство недоумков так и осталось недоумками. 12 Иной в юности гремит, блестяще идет в институт, там все ему прочат великое будущее… И вдруг хлоп! Исчез, как сквозь землю провалился. И забыли, что такой-то гремел!… Лишь случайно можно обнаружить его где-нибудь за столом, в тихом скромном углу, с девяти до шести с часовым обеденным перерывом: он уже ни на что не претендует, не будоражит умы, не горит. Выгорел. Существует категория людей с коротким запалом, которого хватает лишь, чтобы с блеском готовиться, а придет пора действовать, ради которой-то и была подготовка, весь этот сыр-бор и блеск, они выгорели… Обидная картина. Уверенно предсказать будущее человека в наш кибернетический век все так же невозможно, как и при скифах. …Кондукторша закричала: — Комбинат, конечная! — И Павел вместе со всеми повалился вперед, так бурно трамвай затормозил. Он выбрался из вагона. Оторопело огляделся. В первые секунды ему показалось, что он напутал и приехал не туда. Он ничего не узнал. Глава 3 Во времена детства Павла завод представлял собой скопление мрачных, закопченных зданий красного кирпича, внутри которых не прекращался гул, звон и стук, и среди них небольшая, дряхлая домна, сильно дымившая, а по ночам озарявшая небо красными отблесками. Вокруг раскинулся беспорядочный поселок — невероятные домишки, сарайчики, облупленные бараки, мусорные свалки. В порядке борьбы с этим хаосом тогда была проложена первая настоящая улица, названная Советской; ее от начала до конца застроили прекрасными двухэтажными домами с острыми крышами, античными портиками и множеством алебастровых украшений. Дома эти казались тогда фантастически красивыми, богатыми — прямо прообраз города будущего, хотя строились медленно, стоили дорого, и получить в них квартиру считалось делом тоже фантастическим: в каждом было всего восемь квартир. Озираясь и все еще подозревая, что заехал не туда, Павел рассмотрел наконец красные кирпичные цехи, знакомые с детства, но, бог ты мой, какие же они были крохотные, совсем потерялись, словно какие-то подсобные хибарки в циклопическом новом заводе! Огромнейшие цехи, такие длинные, что не всегда можно видеть, где они кончаются, закрыли серыми кубами территорию до самого горизонта. Неизвестно, куда пропала речка, склоны и вообще что-либо от естественной природы. Сплошные громады, переплетения металлических конструкций, целые зенитные батареи труб всех диаметров и мастей. Над всем возвышались три домны с обоймами кауперов — одна пониже, дымящая, другая повыше, тоже дымящая, а третья такой невероятной- высоты, что Павлу пришлось задрать голову и придержать шапку. Третья домна не дымила; он сразу узнал в ней крупнейший в мире гигант, потому что не узнать было невозможно. Они закрывали собою полнеба, эти домны е непрерывно работающими подъемными механизмами, оплетенные коленчатыми трубопроводами, напоминающими сочленения рыцарских доспехов, с всякими ажурными мостиками, лесенками, галереями. Все это глухо гудело, грохотало так, что казалось, дрожит сама земля, временами раздавался оглушительный лязг, свистки паровозов, тревожные звонки кранов, клокочущее змеиное шипение… И все дымило. 13 В безветренном морозном воздухе поднимались к небу дымы — серые, черные, бурые, оранжевые, желтоватые, голубоватые, ослепительно белые. Одни поднимались прозрачными пеленами, как испарения, другие вулканически извергались адскими клубами, третьи тонко струились дымком оставленной в пепельнице сигареты, а четвертые можно было заметить лишь по колебаниям раскаленного воздуха. «Ого-го…» — только и подумал Павел, чувствуя, как грохот гулко отдается в груди, и по спине у него прошел морозец. Что же это ты соорудил, человек, да как же это ты сумел?.. Новое Косолучье потрясло Павла не менее, чем завод. Опять он ничего не узнавал. Стояли до горизонта косыми рядами многоэтажные дома, эти самые новые, типовые близнецы, отличающиеся разве лишь разноцветными балконами. Прежняя Советская потерялась и скромно съежилась, и несовременные двухэтажные домики ее выглядели приземистыми и жалкими, как выглядит какой-нибудь облупившийся купеческий особнячок рядом с упирающимся в тучи стеклянно-алюминиевым отелем. Прежних бараков и хибар след простыл. Опять-таки до горизонта тянулись аккуратными прямоугольными кварталами частные каменные домики, густо обсаженные садами. Получились три ярко выраженные группы. Глядящий в будущее массив многоэтажных зданий, дружно-пестрый клан частных застройщиков, а между ними приунывшая двухэтажная улочка, явно получившая нокаут. Все это показалось Павлу чрезвычайно интересным: не исключено, что в облике Косолучья отражалось нечто гораздо большее, чем просто строительство жилищ, и если подумать, то можно прийти к значительным, а может, и неожиданным выводам. Но важнее всего было то, что завод и Косолучье выросли в десятки раз. Сколько же это тысяч человек? И судеб?.. Здание заводоуправления было построено в одном ансамбле с улицей Советской и в те времена как бы венчало ее: мощное, тяжеловесное, с колоннадой, лепными наличниками и розетками, оно имело величественную парадную лестницу с двумя гипсовыми статуями по бокам. Тогда эти статуи казались очень впечатляющими, весь поселок бегал смотреть на них, снимали их для газет и кино, одно время среди новобрачных была мода сниматься на их фоне. Это были два металлурга, высотой каждый в три с половиной метра, но скульптор изобразил, пожалуй, не столько людей, сколько, на радость кладовщикам, их неуклюжую спецовку. В вестибюле управления Павел задохнулся от душного тепла. Только тут он понастоящему понял, какой на улице мороз и сколько холода накопилось в его туфлях, пальто, шапке. Отопление Косолучья всегда славилось раскаленными батареями, хоть яичницу на них поджариеай, потому что трубы шли прямо с завода. Вдоль стен стояли многочисленные доски приказов и объявлений. Павел, оттаивая, бегло посмотрел, и у него зарябило в глазах от названий организаций, сооружающих домну: Металлургстрой Гипромез Центроэлектромонтаж Металлургуглестрой Союзтеплострой Энергочермет Металлургпрокатмонтаж Стальмонтаж 14 Мосшахтострой Центромонтажавтоматика Мосбассдорстрой Спецподземшахтострой И еще и еще, все такие же слова-монстры, которые неизвестно каким чудом терпит русский язык, и сами эти коллективы людей, наверное, умеющих работать хорошо, строить чудеса, наверное, и остроумных, и веселых, и грустных, и любящих, и озабоченных, и вдохновенных — и называющих себя «спецподземшахтостроевцами»… И еще некие слова встречались в приказах на каждом шагу: «субподрядные организации», — от них щека Павла сама дернулась, словно от зубной боли. Направившись было, как положено, в дирекцию, Павел заметил вдруг на одной из дверей броскую вывеску: «ПОСТ СОДЕЙСТВИЯ СТРОЙКЕ ДОМНЫ (ПССД)». Не долго думая, он постучал и вошел. Сперва ему показалось, ито он попал в кладовую. Есть такие кладовые, где хранятся плакаты, транспаранты и разные декорации к демонстрациям и вообще на все случаи жизни. Довольно просторная комната была завалена чуть не до потолка такими декорациями, хаотично разбросанными листами фанеры, рулонами бумаги, кистями и красками, кипами плакатов печатных и рисованных от руки, некоторые из которых можно было прочесть: «ТРУДИСЬ С ОГОНЬКОМ», «НЕ ДОПУСТИМ СРЫВА ГРАФИКА РАБОТ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ ЛИТЕЙНОГО ДВОРА!», «ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! ВАША ЗАДАЧА — КАЧЕСТВЕННО УЛОЖИТЬ 28-КМ КАБЕЛЯ И УСТАНОВИТЬ 5 500 СВЕТОТОЧЕК! БОРИТЕСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!» Запах клея и краски в этом помещении въедался в нос. У окна стоял залитый чернилами и красками стол с двумя телефонами на нем, и, отодвинув обрезки бумаг, двое молчаливых людей играли в шахматы — настолько углубленно, что даже не подняли голов. Один игрок был худой, с длинным красным носом, похожим на клюв, одет в крайне запачканный синий халат. Другой игрок был, наоборот, полный, цветущий, с кудрявыми золотистыми волосами, в чистом костюме, при галстуке и белом воротничке. Видя, что создавшийся на доске эндшпиль не обещает скорого окончания, Павел размахнулся и крепко хлопнул ладонью меж лопаток шахматиста, что был полнее. Тот возмущенно вскинулся, уставился на Павла и восторженно закричал, так мило, так забытознакомо картавя, когда волнуется: — Ба-ба-ба, Павка, бгатец ты мой догогой! Глазам не вегю! А я ведь за тобой сколько лет следил! — Что ты тут делаешь? — спросил Павел, когда прошла волна первых восторгов и восклицаний. — Как что? Пгивет! Я тут начальник поста — член завкома, ведаю соревнованием и наглядной агитацией. — Ты?! — Да, я. — Ну, даешь! — А что? Это наш пост, это, знакомься, художник. Работа кипит! — хохоча, сказал Славка, смахивая шахматы и складывая фигурки в коробку с поспешностью, которая заставляла подозревать, что его собственная позиция в данной партии не была выигрышной. Ярослав Селезнев здорово раздобрел, как-то выхолился и округлился, но энергия в нем оставалась прежняя, так и била ключом. — Да-да-да! — восторженно закричал он. — Это же великолепно, я два года этого жду! Очерк в центральную печать — слава на весь мир! Все, ты в моих руках! Не смей ни с кем больше общаться! Я лично ввожу тебя в курс дела, как самый главный ге-не-гал! А это наш художник, да познакомьтесь же! 15 Унылый художник, печально глядя мимо лица Павла, вяло подал потную и липкую от красок ладонь, затем он отвернулся, перекладывая картоны, и в дальнейшем участия не принимал. — Все понятно, нужен общий обзор, — бодро сказал Славка. — Считай, что бог на свете есть, он меня тебе послал — и лучше выдумать не мог! Спешим! Время дорого! Идем, я покажу тебе чудеса тгу-дового ге-го-изма! Он быстро облачился в толстое пальто с меховым воротником, нахлобучил огромную мохнатую шапку, кивнул художнику: — Ну, работай! На звонки отвечай: я на домне, вернусь к началу заседания. Ах, мой до-ро-гой, ах, мой молодец ты, что приехал! В приливе чувств Славка горячо и нежно обнял Павла, отстранил от себя, полюбовался и снова обнял, отчего Павлу стало, хочешь не хочешь, приятно, он подумал, что это и в самом деле отлично получилось, что Слава Селезнев первый встретился ему. Действительно — послало небо! Если уже на некотором расстоянии завод производил оглушающее впечатление, то на его территории Слава и Павел как бы совсем потерялись и перестали слышать собственные голоса. Вокруг нестерпимо лязгало и грохотало, и где-то вырывался пар с таким свистом, что звенело в ушах. Слава потянул Павла, толкнул, они едва успели отскочить от паровоза, который провез два внушительных ковша на платформах, вероятно, с металлом, потому что от них так и пахнуло жаром. Домна нависла над их головами так, как, наверное, бочка нависает над ползающим у ее подножия муравьем. Вокруг было сплошное столпотворение металлических конструкций, черных, поражающих циклопическими размерами, и этот грохот, грохот, дрожание земли… Пытаясь перекричать грохот, Слава Селезнев, надрывая голос, принялся добросовестно исполнять обязанности гида: — Те две доменки — пустяк, уже старье. Эта будет величайшей в мире, к сожалению, недолго, потому что у нас же, в СССР; заканчивается стройка сразу трех еще больших! Записывай: в сутки в нее будет загружаться десять эшелонов. В месяц даст столько металла, что можно построить три таких комплекса. Ты это обязательно отрази! Пиши, пиши! Люди — гиганты. Отрази! При закладке фундамента был поставлен мировой рекорд: вместо семидесяти двух часов забетонировали за пятьдесят! Он вел Павла напрямик, через рельсы, кучи балок, бетонных блоков. Павел посапывал и, размахивая руками, только и глядел, как бы куда не загреметь. Обошли домну и оказались среди нескончаемых лент транспортеров, которые шли и так и этак, ныряли друг под друга. Целое царство транспортеров, впрочем, неподвижных пока. — Бункерная эстакада! — гордо показал Слава. — Смонтирована в самый трескучий мороз. Ветер свищет, руки к металлу примерзают, а ребята дают — с огоньком!.. Я пришел, хочу «молнию» повесить: невозможно повесить, поверишь, ветер рвет. К чему привесить? Поплевал, прижал к металлу — моментально примерзла, висит! Вот так-то! Они прошли гигантский наклонный тоннель, четырехугольный, с окошками, по которому вверх, в немыслимую даль уходили неподвижные ленты транспортеров. Спустились в какие-то катакомбы и оказались в теплом каменном помещении. У железной печки, раскаленной докрасна, сидели человек десять рабочих в ватниках, шапках-ушанках. Сосредоточенно обедали, постелив газеты на земляном полу. — Здорово, орлы! — воскликнул Слава, делая рукой общий привет. — Вот это и есть они, эти ге-ро-и! Как оно ра-ботается? — Помаленьку, — добродушно ответил самый пожилой, по всей видимости, бригадир. — Летят рукавицы, Ярослав Пахомович, — беда. 16 — Видал? — повернулся к Павлу Славка. — Во, руки рабочие — рукавицы так и горят! На сколько выполняем, дядь Федь? — Двести в общем… — Орлы! Орлы! Слышишь, Паш, двести процентов, записать и отразить! Значит, скоро пустим, дядь Федь? . — Да вроде бы… говорят: вот-вот, — осторожно сказал бригадир, стреляя глазом на Павла: мол, что оно, важная ли шишка, или так болтается, бродят тут… — Нам бы, главное, рукавицы, Ярослав Пахомович! — Дядь Федь, — сделал Славка жалобное лицо. — Мы обращались к администрации — они сказали, что вы выбрали все, что положено, и боле того. Есть же стандартные нормы. — А я не знаю! — вдруг злобно сказал бригадир. — Али рукавицы гнилые, али стандарты — липа. Я требоваю! — Ну, знаете! — вдруг, тоже вмиг рассвирепев, заорал Славка. — Эту пластинку я уже сто лет слышу! Сказано, нет! И не положено! — А работать как? — Аккуратней надо! И вообще — перемените пластинку! Наступило молчание. Раздался осторожный стук: кто-то лупил яичко. Славка оглядел голые кирпичные стены, и вдруг глаза его панически округлились, как если бы он увидел привидение, хотя красные стены с застывшим в щелях раствором были совсем пусты. ~ А стенгазета где? — хрипло спросил Славка. Все тоже удивленно уставились на стену. — Вон, — радостно закричал кто-то. — Завалилась! Полезли за кучу деталей, вытащили упавший за нее добротно сколоченный щит на фанерной раме. — Тьфу ты, костыль выпал! , — Подай молоток! — Придержи! Нажми! Колоти! Теперь не упадет… Хар-рош! Дружно-весело они примонтировали щит к стене, как если бы ставили стальной бандаж. Стенгазета представляла собой дивный образец декоративно-фанерного искусства: лобзиком выпиленные и наклеенные аппликацией трубы, гидростанции, знамена, комбайны, роскошный, в золотой пудре, заголовок «За коммунистический монтаж» — все это заняло две трети щита,'а пониже, разделенные планками, были наклеены четыре куцых полоски заметок. Первая называлась «Пустим бункерную эстакаду к 15 января», а на последнюю материала не хватило, и там был изображен темно-синий почтовый ящик. — Устарело, — вздохнул Слава. — Уж и двадцатое прошло, а не пустили… — Ну, это к Новому году выпускали! — Вот-вот, я и говорю, что новую надо, пора! Все промолчали. При виде столь красивой стенгазеты Слава забыл свой гнев, пошутил о том, о сем, тронул Павла за рукав: — Ну, мы пошли! Новых вам подвигов! Работайте! Работайте! — А теперь навестим Федьку Иванова! — кричал Слава, ведя Павла по немыслимым трапам среди железных стен и шипящих труб; они ползали тут, как мухи, и, останься Павел один, он бы, пожалуй, и выхода сразу не нашел. — Он на заводе? — закричал Павел, чувствуя легкий толчок удовлетворения, что «предсказание» насчет Иванова сбылось. — Ага, обер-мастер доменного цеха! Держи карман! Они нырнули в железную дверь и очутились в огромном, как дворец спорта, цехе, но в отличие от дворцов темном, закопченном, полном едкого дыма. Одна стена его была полукруглая, выступающая, как бочка, и Павел понял, что это бок домны, что цех пристроен к ней. В самом низу этой бочки имелось ослепительное отверстие, из которого в канаву лилась белая жидкость. — Хорошо попали, как раз плавку дают! Вон он, вон он! 17 У канавы в сизом дыму стояли несколько человек в поблескивающих робах, болтали. Ослепительный металл бежал и бежал себе, домна словно истекала неторопливо. Все было очень прозаично, только дым уж очень ел глаза. Но ничего общего с виденными Павлом киножурналами, никаких снопов искр, шурующих металлургов в войлочных шляпах, сдвинутых на самую спину. Наоборот, все были в простых ушанках, только очень уж затрепанных. И на гигантов не походили: жиденькие такие, невзрачные мужички. Подошли ближе. Федор Иванов охнул, и они с Павлом обнялись. О, как Федор за эти годы катастрофически повзрослел! Чтобы не говорить, постарел… Лицо у него и прежде было своеобразное: близко поставленные маленькие глаза, крупный нос, большой рот, выступающие скулы и торчащие уши. Теперь глаза совсем провалились под нависшие, кустистые брови, нос стал красный, рот еще больше растянулся и окружился складками, и лоб весь в морщинах, и на переносице глубокие морщины — признак вечной озабоченности. А уши торчали, как бурые жеваные оладьи, и из них росли кустики волос. Одет он был не лучше. Ватная телогрейка, на голове бесформенный блин кепки, блестевшей так, что она казалась металлической. На ногах рыжие, сбитые сапожищи, в которые заправлены штаны. — Пошли, что ли, в красный уголок? — пробормотал Федор, и Павел со Славкой охотно поспешили за ним, потому что тут от дыма у них уже подкатывало к горлу. Прошли через будку мастеров, где на циферблатах дрожали стрелки, ползли валики самописцев, торчали внушительные рычаги, и вдруг оказались в длинном низком зальчике со сценой, рядами скамей, разными знаменами и вымпелами по стенам и кумачовым плакатом над сценой «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства». — О! Стенгазету так и не сменили! — с порога завелся Слава. — Гм… Я им говорил, — почесал затылок Федор Иванов. — От… мудрецы… — Слаба, слаба стенгазета! Нет, так дело не пойдет: полное отставание! — разорялся Слава, и уже кто-то побежал кого-то звать, искали ему какие-то сведения. — Ну, вот так, значит… — сказал Федор угрюмо; он огляделся, сел посреди зала на скамью, и Павел сел, чувствуя себя так, словно скоро начнется кино. — Да, ты все такой же, Паша, возмужал приятно. — Ты тоже возмужал. — Старею я… — Все стареем. Это потому ты такой мрачный? — Да не-е… Извини, настроение испортили, печь расстроили… мудрецы. — A! — Ты его обязательно отрази! — крикнул издали Слава Селезнев. — Орел! Гигант! Во всех газетах портреты! Большой человек! Федор Иванов смущенно-криво улыбнулся, передернул плечами, как бы от холода. — Да ну… врет все! Работа, как везде. Ты надолго приехал? — Пока домну пустите. — Ага, ну да… Ну, тогда еще увидимся. — Слушай, ты ведь кончал что-то для этой работы? — Политехнический. — Институт? — Ну да, наш. Потом сразу сюда… Что они там делают, мудрецы, что они там делают?! — воскликнул он, прислушиваясь. — Извини… — Беги, беги, понимаю! — Понимаешь, такая работа… Балет сплошной! — виновато сказал Федор и поспешно убежал. «Уставший, тупой, узко заспециализировавшийся, — с болью подумал Павел. — Домино во дворе, пожалуй, исключается… Такая работа: балет! Гм…» 18 Ему уже было совестно и неловко, что они вообще со Славкой сюда явились. Там печь расстроили, а тут изволь беседовать. Эту сторону журналистской деятельности он терпеть не мог: отрывать людей от дела, задавать им вопросы, записывать в блокнот; чувствовал себя в таких случаях чем-то вроде тунеядца. — …В каждой графе подробные сведения, не просто прочерк или «да — нет», а укажите, сколько, когда, почему, — втолковывал Славка парню, слушавшему с видом жертвы. Павел потянул его за плечи, и они пошли вон. Над канавой с бегущим металлом стояла ругань. Правда, когда Славка и Павел проходили мимо, ругань прекратилась. Славка сделал всем общий привет: — Ну, мы пошли! Желаем удач! Работайте! Уже пролезая в железную дверь на свежий воздух, Павел уловил, как возле канавы посыпался раскатами трех- и четырехэтажный мат. — Ну, теперь героиня наша, Домна Ивановна! — кричал Слава, продолжая обязанности гида. — Тут, брат, только обойти комбинат — неделю надо. Считай: доменный цех, литейный, сталеплавильный, кузнечный, механический, прокатный, электроремонтный, кислородный, водоснабжения, электростанция, паровоздуходувная, агломерационная фабрика… Один комплекс только одной этой домны — восемьдесят шесть объектов! Ну-ка, отрази! Павел только головой крутил. Он ощутил полную беспомощность, у него возникли сомнения насчет будущего очерка: сможет ли он когда-нибудь разобраться хотя бы в одной этой домне? Техника, техника века, человек тонет в ней… Опять нырнули в железную дверь и оказались в чем-то таком беспредельном, что Павел остановился, потрясенный. Это был тоже доменный цех, но раза в три больше того, который они только что оставили. Под потолком горело несколько звездно-ярких ламп, но отсюда они казались тусклыми,-и дальние углы этого черного зала терялись во мгле. Здесь можно было бы устраивать хоккей или футбольные матчи, собирая под крышей десятки тысяч зрителей. Выпуклая, бочкообразная стена домны поражала размерами. Сперва цех показался Павлу безлюдным, потом он разглядел множество людских фигурок, только они не замечались сразу, они были как соринки по корпусу домны. На огромной трубе, опоясывавшей домну, висел белый плакат, издали казавшийся приколотым к ней листком из блокнота: ДАДИМ МЕТАЛЛ 20 ЯНВАРЯ! — Плакат устарел, — сказал Павел. — Эх, чер-рт! — рассвирепел Славка. — Кричи-кричи, говори-говори — все как об стенку! Подожди меня, я сейчас им всыплю! Стыд! И он убежал, а Павел прислонился к железной колонне, и в голове у него уже творился полный кавардак, калейдоскоп от всех этих шумов, дымов, циклопических размеров… «Выплавка металла, — подумал он, — во все века была таинством, почти колдовством. Были умельцы, были секреты. Могла быть «легкая рука» мастера и наоборот… Но теперь это… это черт знает что! Это ни с чем не сравнимо. Прозаическое, реальное, научное… сверхколдовство! Если растут, как грибы, такие вот домны, то это означает не просто количественный рост промышленности. Это серьезнее, ибо количество переходит в качество…» Он вспомнил кедринское стихотворение о хлебе и железе. Кедрин писал с любовью о хлебе, а о железе — зло. Но, не будь железа, была бы цивилизация? Цивилизация не может быть злом. 19 — Один только ноль переделаешь в шестерку! — говорил Слава Селезнев, ведя какого-то долговязого парня. — Вместо «20» «26» — очень легко! Понял? — Понятно. — Как оно у вас вообще? Работа идет? — Да работаем… — Ну, работайте, работайте! Славка потащил Павла прочь, спохватившись, что уже опаздывает на заседание. Он был все так же возбужден, весело потирал руки, полный радостной энергии и жизнедеятельности, кругленький и розовощекий, но Павел поймал себя на том, что не чувствует к нему симпатии. — Кого еще из наших? — сказал Славка. — Постой, дай вспомнить… Северухина ты не знал? Нет. Мишка Рябинин. Ты его должен, конечно, помнить. Математик-то наш — повар! Да, да, повар столовой. Здесь у нас несколько столовых — и на заводе, и на стройке, и еще городские. Вот тут на стройке в одной из них Мишка шефом работает. Вон она, хреновая столовка, каждый день жалобы, драим ее, драим — как об стенку!.. Женька Павлова — та сейчас в библиотеке технической, в управлении, на втором этаже. Выходила замуж, неудачно, черт их разберет, что там случилось. В общем, живет одна, учти. Настроение у нее вечно этакое ин-тел-лекту-альное, высокие материи и печаль… Да, вижу иногда Белоцерковского, конечно, этот в городской газете молодежной, не то литработник, не то фотограф, не то сволочь. Кажется, все вместе! Вот кого я, Паша, ненавижу!.. Ух, видеть его харю не могу! Опустился, спился, алкаш законченный, гад и мерзавец. — Витька Белоцерковский? — не поверил ушам Павел. — Извини, не могу о нем говорить спокойно, спроси кого-нибудь другого, а то я буду необъективен. Я бы таких на месте стрелял! — Ну и ну!.. — пробормотал Павел, прекращая расспросы; от таких характеристик его прямо покоробило, но со своими выводами он не хотел спешить. В комнате поста содействия стройке печальный художник играл в шахматы с какимто лохматым и чумазым типом, отпустившим пейсики до самого подбородка. При виде Селезнева тип нехотя поднялся, расставив ноги, раскачиваясь и заложив руки в карманы. — Ну, зачем вызывали? — Ага, явился! Почему вчера не вышел на работу? — Квартиру искал. — Полюбуйтесь! Квартиру ищут в нерабочее время! — А мне жить негде! — Ты ведь жил у какой-то бабки? — А я с ней поругался. — Ну вот, ты с бабкой ругаешься, а я тебе что, квартиру ищи? Ну и что ж теперь? — В сарае ночевал. — Так помирись! — Не помирюсь. У нее взгляды отсталые. — Ладно… — вздохнул Слава. — Пиши заявление, отдашь Коблицевой, я поддержу… Бежим, Пашка, умоемся, как черти мы стали. Сажа эта, пыль от аглофабрики, подсчитали, ежедневно четыреста тонн вылетает в отход. — Четыреста тонн? — Четыреста тонн в атмосферу. Можешь этого не записывать и не отражать: никакой редактор не пропустит. Уборная была в конце коридора, и там никого не оказалось, только бурно бежала вода из скрученного крана. На двери выделялось глубоко процарапанное химическим карандашом сообщение: «Николай Зотов, старший горновой. Твоя жена гуляет с Ризо, а ты, дурак, ходишь с ней по ресторанам». — Ноги гудят, — признался Славка. — Вот так набегаешься туда-обратно! 20 — Ты бы со своим постом переселился поближе к домне, что ли. — А мы и так близко. Первый этаж, первая дверь. — Да, да… — сказал Павел. — Сейчас ты на завком? — Да, я член завкома. Извини, я тебя не приглашаю, — сказал Слава виновато. — Там будут одни недостатки… сор из избы. В общем… Я откровенно! — Я и не собирался, — заверил Павел. — Мне нужно что-нибудь почитать, ибо я смотрю и хлопаю ушами. Возьму учебник, проработаю. — Ну, работай, работай! — одобрил Слава. Глава 4 От библиотеки веяло суховатой технической строгостью. Хотя в ней,' как и во всем здании, было тепло и даже жарко, уюта при этом не ощущалось. Голые учебные столы стояли в три длинных ряда, за каждым зачем-то по два стула, — расчет на уйму народа, но во всем зале был один-единственный читатель, да и тот забился в дальний угол, сложив на подоконник пальто. Дубовый барьер отделял читальный зал от собственно библиотеки, стеллажи которой с несметными книгами уходили в тьму. За барьером сидела и что-то писала Женя Павлова. Она подняла глаза, и Павел споткнулся, зацепившись за половик. Он ожидал всего: что она постарела, располнела, возмужала, поблекла — все, что угодно, но, чтобы она стала ослепительной красавицей, не ждал. Была прежде этакая здоровая, упругая девочка с мальчишескими ухватками, с вечно запачканными руками, оторванными пуговицами, в царапинах и синяках, потому что всюду лезла очертя голову, а сейчас из-за барьера, широко раскрывая глаза, поднималась ему навстречу изящнейшая, тонкая, законченная женщина. Именно филигранная законченность была в ней, та законченность, которую драгоценный камень приобретает после шлифовки мастера. Она была яркая, словно сошла с цветной обложки модного журнала. Черные, как смоль, волосы, уложенные по самой последней моде; большие голубые глаза — редкое сочетание; очень нежный цвет лица; ярко очерченные малиновой помадой губы; пурпурное платье с глубоким вырезом; и в этом вырезе, вокруг изящной, точеной шеи, бронзовое ожерелье с позеленевшими подвесками, словно вчера выкопанное в каком-нибудь древнем кургане. Ошеломленный Павел в первую минуту говорил какие-то слова, Женя радостно улыбалась, и он радостно улыбался, но все это без участия его сознания, которое тем временем панически барахталось. — Да, да, — говорил он, смеясь, — запиши меня в число читателей. — Надолго ты? — Не знаю сам. — Послушай, сколько ж это лет? — Славка сказал, что ты в библиотеке… — Где ты остановился? Или еще нет? Я спрашиваю, потому что у тебя никто не спросит, а у меня знакомые… — Нет, я в гостинице, спасибо, это все уже в порядке. — Ну, я рада! — Я тоже рад, — сказал он, все еще не отрывая от нее глаз, но уже приходя в себя. — Так ярко помню все: велосипеды, разговоры, споры, а ты готова драться была за Чайковского… — Чайковский — выше всех. — Что, и сейчас? — Конечно! — Вот где постоянство! 21 — Я все твое читала. В одной книге есть на обложке справка: родился там-то, вырос в Косолучье. — Скажи мне о себе! Я вспомнил: волосы каштановые были… — Ну! Крашусь десять лет. — Очень идет, ты стала прямо как кинозвезда. — Спасибо. Только счастья не приносит. — Ты все мечтала быть актрисой, потом геологом: Тянь-Шань, Памир, восток Сибири… Женя грустно улыбнулась. — Кто не мечтал! — Да, ты ж ведь и стихи писала. Помнишь, нам читала? И мы орали от восторга, по траве катались. Они сохранились? — Да ну тебя! — вдруг с досадой сказала Женя, и в глазах ее мелькнуло раздражение. — Давно я ничего не пишу и ни о чем не мечтаю. — Привет. Что значит «ни о чем»? — Нет, вру. Мечтаю. Хочу поехать за границу по туристской путевке. — Жень! — сказал он, вспомнив. — А почему ты здесь, в библиотеке, как это вышло? — Как? Очень просто. Закончила наш «пед», потом Ильин сюда устроил. — Какой Ильин? — Ну, мужа брат… Да, ты же не знаешь. — Не знаю… И вдруг Есе оборвалось. Оба замолчали, и неприятно замолчали, причем Павел начал понимать, что он тому причиной, напомнив, кажется, не то, что нужно, и спрашивая не то, что надо. — Тебя записать? — спросила Женя, помолчав. — Да… Понимаешь, мне писать о домне. А в этом деле я профан профаном… Ты можешь дать мне что-нибудь такое, как для школьника, «от печки»? — Давай твой паспорт. — У, как строго! — Ну, по всей ферме… Тебе ведь все равно, а мне — число читателей. — Все так, — весело сказал он, отдавая паспорт, и все-таки почувствовал укол обиды. — Ты случайно зашел? Или знал, что я здесь? — А мне Славка Селезнев сказал. — Мне неприятен этот тип, Славка. Ты начал уже с ним водиться? — Полдня ходили по заводу. Я только ведь приехал… — Да, — сказала она рассеянно. — Заполни эту вот анкетку. Тут пришел из дальнего угла читатель, стал требовать какие-то таблицы, непременно «Металлургизда-та», последнее издание, потому что все другие «похабно устарели», и Женя поспешно, слишком поспешно, чуть ли не угодливо бросилась искать, а Павел машинально заполнил анкетку, получил обратно паспорт и спохватился, что не понаблюдал, как его Женя листала, потому что когда женщине попадает в руки мужской паспорт, она непременно хоть мельком взглянет на некоторые страницы. Он хотел еще говорить с ней, но читатель мешал. Женя небрежно сунула Павлу растрепанное «Доменное производство», продолжая заниматься с читателем, лицо ее вытянулось, став непроницаемо-усталым. Павел покрутил в руках книгу, постоял. Грохнула дверь, ворвались два чрезвычайно пижонистых молодых инженера, чуть не с порога потребовавших срочно-пожарно что-то о флюсах… А сами смотрели на Женю оценивающежадными глазами. Она изящно ходила, чуть покачивая бедрами, вдоль стеллажей, прекрасно зная, что на нее смотрят, и как на нее смотрят, и каково от нее впечатление, и что от флюсов треп перекинется на темы, от металлургии далекие. 22 Павел выбрал себе стол, устроился у окна с раскаленной батареей под ним. Окно выходило на площадь перед заводскими воротами, пустынную в этот час. Пошел снег, густо повалил хлопьями, значит, потеплеет. Павел развернул книгу и принялся за работу. Книга была толковая, и видно было, что написана она доступно, популярно, но половину текста Павел все-таки не понимал. Читал глазами слова, предложения, перечитывал и все равно не понимал, как если бы книгу эту писали люди на другой планете. Такие же люди, как у нас, но… на другой планете. Воюя с текстом, он иногда забывался, глаза скользили по строчкам, а мысли текли в другую сторону. Области людской деятельности расходились из одной точки, как лучи, и все .длиннее, шире, и все дальше друг от друга. Кажется, последний, кто еще мог охватить хотя бы самые главные эти лучи, был Леонардо да Винчи. Но теперь… Едва хватает жизни человеческой, чтоб охватить информацию и стать специалистом одной узкой, строго очерченной линии. Некоторые линии требуют, чтоб человек посвящал себя им уже с раннего детства. Цирковая акробатка и ученый-генетик, физик-атомник и лингвист, всю жизнь разрабатывая только свою линию, расходятся так далеко друг от друга, что поговорить между собой могут разве лишь о погода и спорте. Однажды Павел был в гостях у конструктора счетно-вычислительных машин. Когда темы погоды, последних фильмов и книг были исчерпаны, Павел попросил хозяина растолковать ему суть кибернетики. Но только просто, предельно просто, как пятилетнему ребенку. Мучительно выбирая самые понятные слова, упрощая, как для ребенка, конструктор говорил полчаса. Павел ничего не понял. «Но проще уже невозможно», — сказал, обидевшись, конструктор. Павлу тогда удалось взять относительный реванш, заговорив о потрясающих записках Аввакума; выяснилось, что конструктор и не слышал, что был такой протопоп. Все это было бы забавно, если бы стихийный и необратимый этот процесс имел какие-нибудь границы, но он безграничен, и к тому же мы вступили лишь в самую начальную фазу его… Что будет дальше? Уже сейчас, если не будет найден способ убыстрения учебы или не будет вдвое, вчетверо, впятеро продлена человеческая жизнь, встает угроза, что человеку придется только учиться с пеленок до гроба, овладевая пропастью информации одной только узкой, специальной линии, а на новые открытия и действия не останется времени. Сейчас это — еще преувеличение, но что будет дальше, если и сейчас уже обыкновенная выплавка металла становится сложна, как вычисление орбиты спутника? — …Что? — сказала Женя, собирая по столам журналы. — Ты что-то сказал? То ли от густого снега, то ли от приближения сумерек в читальном зале стало темно. Читатели ушли. — Если бы я был царь, — сказал Павел, — я бы издал указ, чтоб все думали над продлением человеческой жизни. И если бы в моем царстве была академия, я бы всем академикам, от самого важного до самого глупого, повелел бы работать над этим… — Зачем? — Не хватает этой жизни. Просто не хватает… — Некоторые не знают, что и с такой жизнью делать. Сделали два выходных, так многие знаешь что? Спят. Говорят: скука. Устраиваются все эти дискуссии о проблеме свободного времени. — Ты куда собралась? — Обедать. Сиди, я оставлю тебе ключ, запрись и работай, я быстро — в столовую. — Нет! Я тоже, — сказал Павел. Он подал ей пальто, снова поразившись тому чуду совершенствования, которое случилось с ней. Но она застегнула пальто — и вдруг словно погасла. Словно выключила свет. Пальто было старое, сильно заношенное, совершенно не в комплекте с пурпурным платьем. Закутавшись в платок, подняв линялый воротник, Женя в один миг превратилась в 23 прозаичную, задерганную заботами, усталую служащую, и даже, казалось, лицо ее приобрело забитое выражение. Парадный вид у нее, оказывается, был один: за стойкой среди книг. — Мишу Рябинина ты видел? — спросила она, запирая дверь. — Нет. — Тогда пойдем к нему в столовую. Что-что, а столовая у него знаменитая! Знаменитая столовая внутри представляла собой вопиюще большой, светлый, но какой-то неуютный зал, хаотично заставленный тьмой одинаковых голых столов на трубчатых ножках и таких же стульев, и все они были заняты, так что шум голосов, звяканье ложек, звон посуды сливались в один мощный звук, слышимый даже снаружи, как если бы тут работала какая-то необъятная машина. Это был крупный, поточный, массовый блок питания. Один за другим от стойки шли едоки, осторожно неся подносы с тарелками, стараясь ни с кем не столкнуться и не поскользнуться на гладком кафельном полу, который казался жирным. Дух в этом зале стоял типично «столовский», пресный. Раздаточных стоек было три, но работала почему-то только одна, и к ней стоял такой длинный и закрученный хвост, что Павел испугался, но Женя успокоила, что очередь пройдет быстро. Тут все по конвейеру. Собственно, помещение само по себе было неплохое, и при желании его можно бы сделать приятнее, если бы кого-нибудь это интересовало: чтоб окна не были просто дырами, например, а стены не так свирепо голы, но, к сожалению, единственным украшением стен была стенгазета «Пищевик», висевшая как раз над головами очереди. Как и та, которую Павел видел давеча у монтажников, она была из фанеры и аппликаций, вся в знаменах, золотой и серебряной пудре, но на нее никто не обращал внимания, и Павел оказался, кажется, единственным читателем из всей очереди. Передовая статья «За отличное обслуживание!» начиналась с анализа международного положения, переходила к достижениям нашего общества за пятьдесят лет в области промышленности, сельского хозяйства и культуры, а в конце было сказано, что работники общественного питания, «как и весь наш многомиллионный народ, должны еще более настойчиво бороться за достижение новых успехов, внедрять прогрессивные методы труда». — А вон и сам он! — сказала Женя, указывая на кухню, которая вся была видна сквозь этажерки стоек. — Рябинин! — заорал Павел сквозь стойку. Тот узнал, расцвел, подбежал с той стороны, протягивая руку. — Ста-рик! Пашка! Глазам не верю! Какими судьбами? Да что это вы, с ума сошли, в очереди стоите? Идите в ту дверь! Хотя стоп… нет. Совещание как раз кончилось… Вот черт! Минут пятнадцать подождете? И вдруг Павел буквально затылком ощутил холодок людей, стоявших вокруг в очереди, они даже как будто отодвинулись от него. — Брось ты, что ты!.. — пробормотал он. — Мы здесь. Перестань! Но Рябинину, наоборот, очень хотелось угодить, и он продолжал уговаривать, крича, что там чисто, и тихо, и надо ведь поговорить, и ах, как неудачно, что там сейчас полно. — Стоп! — воскликнул Рябинин. — Я сейчас распоряжусь вам без очереди… Фрося, подайте вот этим двоим! — Не надо! — зло остановил его Павел, не зная уже, куда и деваться. — Не надо, сказал! Женя вмешалась и выручила: — Миша, оставь! Ему, как человеку пишущему, надо знать, как люди живут, пусть постоит, как все. 24 — Ах ты, человек мой пишущий, — сияя, говорил Рябинин, — как же я рад тебя видеть! Ну, извини, извини… там приемка как раз… Не надо, Фрося!.. Я к вам еще подойду! Он бодро ушел, а Павел, чувствуя, как у него горит лицо, не смел взглянуть на очередь, и Женя тоже не смотрела на него. К счастью, черед их скоро подошел. Меню выбора не представляло: в нем было тринадцать названий, но большинство вычеркнуто. Из первых только «щи из кваш. кап. с/м». Была это мутная белесая болтушка, в которой все разварилось, но плавал небольшой, аккуратный квадратик мяса. Парень, который стоял за Павлом, охотно объяснил, хотя его никто не спрашивал (вероятно, в расчете на то, что «человек пишущий»): — «С/м» — с мясом значит. Варят щи отдельно, мясо отдельно. Потом по кубику на тарелку, сверху заливают. А без кубика, то уже будет «б/м». На второе были котлеты с синевато-сизым картофельным пюре. На третье — компот из сухофруктов. Правда, и стоило это совсем недорого. Балансируя с подносами, Женя и Павел долго были озабочены поисками места, но им повезло: освободились два стула у стенки, они только немного подождали, пока уборщица собрала гору посуды. Павел быстренько отнес подносы, прихватил по паре алюминиевых, почему-то погнутых ложек и вилок. Походил между столами, поискал соль, потому что щи оказались совершенно несолеными. Посмотрел на часы — все процессы самообслуживания заняли всего каких-нибудь тридцать минут. Отлично! — Так! — весело сказал он, принимаясь за щи. — Расскажи о себе. За все эти годы… Я почти ничего не знаю. — А какое «почти» ты знаешь? — спросила она. — Что ты разошлась с мужем, что-то там случилось… Живешь одна. Настроение у тебя сложное… — Прекрасная информация, — сказала она. — Извини, — сказал он. — Я задаю вопрос не из одного любопытства… Мне это надо. Как тут живут? Чем тут живут? Если не хочешь, не надо, давай о другом… — Нет, почему?.. Живу я хорошо. Ни на что не жалуюсь. — Ты очень изменилась, очень. — В чем? — Например, вокруг тебя стоят прочные стеклянные стенки, ты их поставила. Может, это только по первому впечатлению, но… — Нет. Это точно. А мне так надо. Во всяком случае, спокойно. — Погоди, спокойно — разве это надо? — Очень надо, Паша, — осторожно, почти незаметно вздохнула она. — Очень. — Потому ты живешь одна, больше замуж не выходишь? — Кому я нужна! — Перестань. На недостаток успеха ты не можешь жаловаться. Не так? — Господи, какой это успех! Какой? Нет, причина другая, проще. Женщин у нас больше, чем мужчин. Должны же оставаться какие-то женщины одни. До того дошло, в песенках по радио поют: «На десять девчонок по статистике девять ребят». Я десятая. — Что-то не верю, — признался Павел. — Ты красивая. В форме, как говорят пижоны, очень в форме. — Тряпки и косметика, все это умеют, много она мне стоит, эта «форма». Тут только он, пристальнее вглядевшись, заметил на ее шее поперечные морщины, которые искусно скрывало зеленоватое ископаемое ожерелье. Лицо ее было свежо и молодо, но выдавали руки — сухонькие, желтые, в той обильной микроскопической сети морщинок, которую упорное смазывание кремами, кажется, только усугубляет. И когда он это увидел, в нем что-то дрогнуло. Стеклянная стенка вдруг стала мягкой. — Ты красива, — упорно сказал он. — И не лги, одна ты не потому. 25 — Я по идейным соображениям, — сказала она, смеясь. — О! Это уже что-то! — Да, по идейным… Слушай, ты не женщина, вам это трудно понять. Но знаешь ли, что сотворила эта статистика, когда ее объявили, эти самые песенки?.. Мужчины моментально приняли это к сведению, женщины тоже. Мы перепугались, а вы, особенно молодежь, вы стали такими самоуверенными! Куда же: «Мы дефицитные мужчины, мы ценность!» Жена говорит мужу: «Я от тебя уйду». Он отвечает: «Уходи, десять других найду». А как сейчас ведут себя парни? Они хамят, грубят, издеваются, девчонки терпят, хихикают, словно так и надо: ведь это к ним снисходят, одаряют вниманием! — Допустим, девчонки ныне сами… такие хамоватые. — Это защита! От страха и борьбы за жизнь, а иначе ведь с вами пропадешь! Так и вылетишь в десятые. — Гм… — Они только не знают, что и в девятке остаться не великое счастье. Современный этот самоуверенный нахал, превратившийся в мужа… — А, в этом и причина, что ты решила быть одна? — Что ты, конечно, нет. — Не понимаю. — Я нарочно завела этот разговор, чтоб ты перестал проникать мне в душу: стеклянные стенки, видишь ли, и прочее… — Извини еще раз. — Все в порядке. Я думаю, это была последняя война, когда так выбили мужчин. В новой войне мы уже будем гибнуть одинаково: мужчины, женщины, дети, так что все выровняется. — Ты так безнадежно говоришь, словно война завтра… — О, я ничего не знаю!.. Была у нас читательская встреча в цехе. Я пошла посмотреть плавку — красиво. Стою, думаю: вот, как вы пишете, из этого металла будут тракторы и комбайны. И ракеты. Может, я стою над этим ручьем, а это льется как раз та самая ракета, и я смотрю на свою смерть. Вот так, тут, возле домны начиналась. — Наши с тобой смерти плавятся скорее всего где-нибудь в Руре, — заметил Павел. — Но ты не бойся: у нас есть чем защититься от их ракет! — Слушай! — вдруг, склонившись к его уху, быстро спросила она. — Я точно еще не старая? Скажи только правду! Очень прошу тебя! Я пригляделась, сама себя уже не вижу. Ты вот… свежим взглядом… Я старею? — Господь с тобой… — Только не лги! Пашка! — Женька! Все хорошо, — улыбаясь, искренне сказал Павел. — Я, знаешь, как тебя увидел, просто был… ну, повержен. Да. — Спасибо. Ты сам ке знаешь, как меня утешаешь!.. О боже мой, столько в этой жизни чудовищного: болезни, заботы, холод, старость, смерть, — а они еще — эти ракеты, бомбы, ракеты, бомбы!.. И чем же это мы, люди, занимаемся, вот ответь ты мне, писатель? Ты оптимист или пессимист? — Помесь, — сказал Павел. — Сложный оптимист, по Ромену Роллану: сквозь тернии к радости, с окровавленными ногами, но обязательно к радости. Насколько я помню, Ромен Роллан был твой любимый писатель. — Был… Забавно, на госэкзамене в пединституте он мне достался… — Почему ты не стала преподавать? — Я два года преподавала. — Ну и что? — Не умею. Вернее, не то. Школа требует долбежки. Я этого не смогла. — Долбежки не надо. 26 — Ну, это идеально, так все и говорят, но когда доходит до дел… Вероятно, я была неопытная, поддалась панике. В общем, ушла в библиотеку — тут в сто раз спокойнее. — Опять спокойнее? — Ладно. Давай о другом. — Где ты живешь? — Литейная, семь, квартира семь. Счастливые цифры. — Я не о том. Это отдельная квартира? — Нет, коммунальная. У меня комната. Любопытные соседки. — Не очень приятно. — Я привыкла, не обращаю внимания. Он представил себе на миг ее жизнь: приходит с работы, готовит что-нибудь на общей кухне, потом закрывается в комнате, лежит, читает книги. Иногда приходят знакомые, мужчины; соседки подслеживают и злословят. — А твои актерские способности? Забросила? — Ага. — В самодеятельности не пытаешься? — Да ну!.. Расстраиваться? — Тогда я не понимаю, чем ты живешь… — Чем живут многие. Надеждами. Инерцией. — Ну, братцы, едва вырвался! — раздалось над столом. Рябинин пришел прямо в колпаке, в замызганном фартуке, с закатанными рукавами на мощных, поросших рыжими волосами ручищах. — Что ж, давай обнимемся?.. Рад тебя видеть, босяк, без веревки на шее! Значит, первое: ты обязательно должен прийти ко мне. И уж там-то я тебя накормлю! — Не этим, ты хочешь сказать? — иронически спросил Павел, отодвигая свою тарелку. Рябинин засмеялся охотно. — Вот там, дома, поймешь, что значит настоящий повар. — А ты по крайней мере откровенный, черт! — сказал Павел. Рябинин радостно улыбался. — Эх, братцы, братцы, а помните наши встречи? Велосипеды! Музыку как слушали, спорили до ночи? Пашка, ты приходи, угощу тебя джазом. Теперь у меня стереофоническая радиола, два магнитофона, семьдесят кассет, я тебе такие джазы выдам, каких ты и у себя в Москве не слышал. Женя, скажи? — Правда, это так, — сказала Женя, не глядя ни на кого. — Приходи завтра! — Не знаю, как у меня сложится. Но буду еще несколько дней. — Прекрасно! Договорились в принципе. Дураки, не могли подождать, задняя комната уже свободна. — Вот наконец спрошу специалиста, — сказал Павел. — Меня мучает давно один пустячный кулинарный вопрос. Чепуха, но никак не могу понять. — Давай хоть сто вопросов! — Почему в столовых такие котлеты? — То есть… а как ты хотел? — Подожди, я объясню! Приезжаешь в Улан-Удэ или в какой-нибудь поселок, которого на карте нет, заходишь в столовую. Привет! Котлеты точно такие, цвет, вкус, подливка, как где-нибудь на Таганке в Москве. Ну, прямо, как домой попал! — Технология общая. — Это что, у вас в учебниках такая технология, что ли: чтоб брать продукт — и переводить? Нет, черт возьми, это же надо учиться, это же надо специально стараться, чтоб из хороших продуктов сделать такую дрянь! В чем ваш профессиональный секрет, скажи? 27 — У нас калькуляция, раскладка, — сказал Рябинин, добродушно улыбаясь. — Общий стандарт, точно все отмерено, не беспокойся, без воровства. — Ладно, калькуляции, раскладки, стандарты… Тогда скажи мне: как вы изловчаетесь гробить просто картошку? — А ты что, фельетон будешь писать? Напиши! — Нет, — сказал Павел, смеясь, — это я для себя хочу уяснить. — Ах, чудак, чудак! — сказал Рябинин. — Приходи ко мне домой, я покажу тебе свое умение. — Да я прочел вашу стенгазету, видишь ли… — Это я писал, — гордо сказал Рябинин. — Ты?! — Я! — Рябинин весело смеялся, этакий довольный, жирный, благодушный, почесывая волосатые руки. — Конечно, не все сам, с «Блокнота агитатора» содрал… А что ж ты думал: только вы одни строчите? Ну, ладно, так договорились, я тебя жду. Он вскочил и убежал, потому что его давно уже звали из-за стойки; помахал рукой, улыбающийся, довольный, трясущий пузом. — Ты что, в самом деле к нему пойдешь? — спросила Женя. — Все очень странно… Вы все. — Рябинин — явление, пойди, посмотри, как он живет! Это, может, и серьезнее домны… Строить домны до неба мы, в общем-то, умеем… Я тебе книгу правильно выбрала? Доволен? — Да, да, хорошая, — рассеянно сказал Павел. — Я даже срисовал… — Покажи. Он достал записную книжку. Косо-криво — схема, упрощенная. — А это что рядом? Домик для сравнения? — Да, — сказал Павел, чувствуя себя как чертежник несколько смущенно, — а этот прямоугольник слева — тридцатиэтажный дом. Глава 5 Так валит толпа с футбольного матча в Лужниках. Все шли только к заводу, ни одна душа навстречу. Ледяной воздух, казалось, вибрировал от сплошного шороха и скрипа ног по снегу. Площадь перед входом была беспорядочно забита маленькими пузатыми автобусами, которые, сигналя, рассекали толпу, высаживали кучки приехавших из города и окрестных поселков, вливающиеся в общий поток. Автобусы только высаживали, трамвай только высаживал, ворота только ненасытно проглатывали. Вокруг была мгла, туман опустился с ночи, скрывая горизонты, начисто скрыв завод, и даже крыша управления терялась в тумане. Только из-за ворот, из мглы долетал приглушенный грохот, гул и свист — картина фантастическая, поскольку глаз видел только море людей, куда-то идущих из мглы во мглу. В дороге Павел промерз, у него забило дыхание тяжелым холодным воздухом, а может, и от этой, такой невероятной картины, — ничего подобного он не видел прежде, он подумал, что, окажись на его месте гениальный режиссер, как Эйзенштейн, Антониони, он бы это снял… Был предпусковой день, 25 января. Накануне Павел уехал с таким пузатым автобусом: ему сказали, что это удобно, он вскочил, а потом в городе не знал, куда себя девать, досадуя и не понимая, зачем уехал, слонялся в одиночестве, осмотрел здешние новые «Черемушки», театр, цирк. Зато утром Павел уже знал, где ловить рабочий автобус, втиснулся, быстро доехал, хотя всю дорогу пришлось стоять, согнувшись, зато было весело, все шутили, парни прижимали девчонок, а старики толковали о расценках. 28 Павел сразу не пошел в ворота, а, выбравшись из толпы, вбежал по лестнице управления, подергал запертую дверь поста содействия стройке, подумал, что это даже к лучшему, что там никого нет, и направился наверх. Он вошел в партком в тот момент, когда там кипел великий спор. За столом стоял пожилой, худой и длинный, как жердь, человек с узким длинноносым лицом, пронзительно взглядывающими зелеными глазами, но, пожалуй, главной и забавной его особенностью была растительность на голове. Он сильно облысел, макушка так и блестела гладким полушарием, но вокруг нее волосы продолжали расти и держаться крепко, густыми кустами, и над центром лба упрямо сохранился спутанный, сильно прореженный клок, этакий наглый, бессовестный остаток прежней роскоши, неизвестно, что с ним делать: сбривать смешно, стричь нечего, а ходить с такой пародией на кок — тоже не фонтан. Автоматически приглаживая рукою кок, парторг увлеченно и страстно спорил по телефону. Вокруг стояли люди и тоже спорили между собой, разделившись на двойки и тройки. Двое махнули рукой и ушли, яростно хлопнув дверью, но тут же поспешно вернулись, крича новые аргументы, которые, видимо, пришли им в голову там, за дверью. Тема дискуссии была: свалились сметы, которые неизвестно какой головотяп составлял, неведомо где и кто утверждал, в которых перепутаны божий дар с яичницей, которые надо немедленно пересоставлять, так как они режут без ножа под корень, и это не укладывается в голове, не лезет ни в какие ворота и что в механическом цехе четвертый раз срываются политзанятия. Виновник срыва, маленький лысый толстячок, покаянно вздыхал, кивал головой, охотно и сразу признавая свою вину. Но парторга, видимо, это не устраивало: ему нужно было спорить как следует, чтобы сперва ему возражали, потом оправдывались и лишь потом признали свою неправоту. Павел постоял, послушал, решил выручить лысого толстячка и протянул парторгу свое удостоверение. Тот машинально взял его сухими, жилистыми руками с длинными пальцами, стал читать, быстро успокаиваясь, протянул руку Павлу. — Иващенко, Матвей Кириллович, очень приятно. — И тут же пустил в лысого толстячка еще одну стрелу: — Пожалуйста, товарищ из газеты, я вот дам ему факты о вас, прославитесь на всю страну! Толстячок совсем уж покаянно сник, готовый и к славе на всю страну. Другие спор прекратили и как-то быстренько, боком стали рассасываться из кабинета. — Пуск домны, как я понял, завтра? — прежде всего спросил Павел. — Кто вам это сказал? — удивленно спросил Иващенко. — Да ребята с поста содействия стройке. На домне даже плакат висит… Парторг хмыкнул: — Гм… Может, они и пустят завтра… гм. Чего же вы тогда у меня спрашиваете? Они сказали — пусть и задувают. — Но когда же? — немного испуганно спросил Павел. — А вот это если бы кто-нибудь мне самому сказал… Скоро уже! Вот-вот. Тут голова во-от таким кругом идет. Извините, давайте в темпе ваши вопросы, в темпе, в темпе! — Ну, естественно, я прошу подсказать, — заторопился Павел, — на что главное стоит обратить внимание, прежде всего на каких людей? — Ясно. Назвать вам список передовиков? — Ну, хотя бы… — Поразительно! — закричал Иващенко, воздевая руки к потолку. — Просто поразительно, как вы начинаете с этого и только за этим идете ко мне! А вы пойдите, а вы посидите, а вы потрудитесь, а вы разберитесь, а вы составьте список свой, свой, свой! И на Павла обрушился тот самый неизрасходованный запас стрел, от которого он так непредусмотрительно заслонил лысого толстячка: 29 — Па-ни-ма-ете! Изволь им завтра пустить домну! Немедленно! Они спешат! Дайте им список передовиков и факты героизма! Может, мне еще писать за вас? А? Саркастически задав этот убийственный вопрос, он на секунду замолчал. И в этот момент в тишине растворилась дверь, пропуская стройного, модно одетого мужчину с фотоаппаратурой на боку. Ничего не подозревая, широко улыбаясь, он направился к столу. — Вот! — торжествующе закричал Иващенко, указывая на него. — Вот и второй за списком! Стой! Мужчина так и застыл, широко улыбаясь. — Не, не, не, я не к вам, Матвей Кириллович, бог свидетель, я не к вам, я вот за ним! — воскликнул он. — Витьку Белоцерковского-то хоть вспомнишь, Павлушка? Я услышал: ты здесь… Нет, нет, мне не надо списков, Матвей Кириллович! — Вы должны ходить ногами, вы должны смотреть, изучать жизнь! — гневно кричал Иващенко. — По кабинетам нечего ошиваться! — Ого, начальство сегодня не с той ноги! — сказал Белоцерковский. — Ночью во сне вас, видно, на бюро драили, Матвей Кириллович? — Вот я тебя продраю! — Один только фактик, Матвей Кириллович! По старой дружбе! — Иди, иди! К людям идите! Убирайтесь с богом! — Извините меня, — искренне сказал Павел, — я думал… так лучше. — А у нас не лучше! — ударил ладонями по столу парторг, так что подскочили телефоны. — Бежим! — схватил Павла за плечи Белоцерковский. — Пока в шею не дали. Дочке привет, Матвей Кириллович! Как у ней зачеты? — Выперли. Нормально, — сказал Белоцерковский в коридоре, обнимая Павла. — Вижу, я вовремя явился. Не обижайся на него, он добрый старик, но должность беспокойная. Иной раз и покричит, а в целом ничего, живой, на днях в клуб автолюбителей записался, говорит: «Как меня из-за всех вас прогонят, уйду на пенсию, куплю «Запорожца», кто мне его будет водить?» — Что он на журналистов зол? — Да это я его замучил. Иной раз неохота по территории шляться, идешь в партком, фамилии, цифры списал — информация готова. Ну, он терпел, терпел, видит, что я совсем обнаглел… Отлично, Пашка, что ты здесь, гульнем же мы с тобой! — Я ненадолго. — Все зависит от того, как насыщать время. Пустые полгода не стоят единого насыщенного дня… Слушай, а давай свернем вот тут за угол, отличнейший магазинчик, и продавщица знакомая, она нам и стаканчик даст. — Ну, с утра пить… — Как джентльмены! Только одну! Я сам не могу много, у меня машина, я за рулем. — Тем более, — сказал Павел. — Я, понимаешь, если с утра выпью — потом весь день торчком летит. — А! Это бывает. Ну, смотри… А то у меня тут пара бумажек завелась, контрабандный гонорар с радио, вне домашнего учета, прямо карман жгут… Пошли! — Потом, потом. — У тебя какие планы? — Смотреть домну. — Господи, это пара пустяков, домна как домна, чуть больше других, поглядишь, как задуют ее, опишешь дым, реку металла, озаренные лица горновых, мне ли тебя учить? — Я хочу серьезно. — Ну и дурак. Извини, я без зла. — Значит, ты в газете? — Да, сооружаю что угодно — от стишат до фоторепортажей. 30 — Знаешь, у меня до сих пор в памяти некоторые строчки из твоих тогдашних модерных стихов… — О, Пашка, это я выбросил, начисто. И, кстати, не заговаривай со мной, даже не напоминай о стихах. — Почему? — Потому, что, как мы говорили в детстве, кончается на «у». Я знаю, что я с тобой сейчас сделаю. Идем вместе, и я в два счета открою тебе на этой домне самое главное, самую, так сказать, глубоко скрытую суть. Потому что у нас по редакции я к ней прикреплен, на ней зубы проел. Меня тебе сам дьявол послал. Радуйся! И быстренько освободимся. Завод утопал во мгле. Из нее причудливо выступали коленчатые конструкции, а над головой было сплошное молоко. Туман смягчал грохоты и свисты, словно закладывал уши, но вздрагивание земли замечалось сильнее. Проехал, сильно дымя, паровозик с огненнопышущими ковшами, но своими ватными клубами дыма ничего не добавил к окружающей мгле. — Так вот, крупнейшая в мире домна-гигант! — закричал Белоцерковский. — И в сутки будет пожирать шихты примерно… — Десять эшелонов! — Совершенно верно, и эти эшелоны будут зеленой улицей мчаться по стальным магистралям, ведомые знатными машинистами-богатырями, под лозунгом «Все для руды!», и при нашей великолепной электрифицированной, самой протяженной в мире сети железных дорог это главное! Курская магнитная аномалия содержит глобальные запасы железа, потому эти чудовища будут расти, пока не станут впритык, и каждое — четыреста, пятьсот тонн пыли в воздух. Задачка для школьников: четыреста тонн умножить на икс, ответ в конце задачника. Ты это пиши, пиши! Отрази! — У меня это уже записано, — улыбнулся Павел. Тем временем они оказались в царстве неподвижных транспортеров, и Павел узнал это место: Белоцерковский вел его точно таким же путем, каким вчера шли с Селезневым. — Бункерная эстакада, яркий пример трудового героизма! — торжественно объявил Белоцерковский. Они подошли поближе. Вчерашняя бригада во главе с пожилым дядей, дружно навалясь, передвигала железные рамы. Белоцерковского приветствовали, как старого знакомого, весело, несколько иронично, а на Павла опять настороженно покосились. — Становись, Михалыч, надо тебя снять, — велел Белоцерковский, открывая аппарат и лампу-вспышку. — Тьфу, вид у тебя, извини… — Такая работа, — пробормотал смущенно бригадир. — Небритый! На! — Белоцерковский достал из кармана бритву «Спутник», быстро накрутил ее. — Из-за вас, несознательных, специально бритву носи. Брейся и заодно отвечай — пишу. На сколько процентов? — На двести. — Пойдет. Кто отличается? — Да все… — Не пойдет. Конкретно три фамилии. — Ну, давайте на этот раз… Кузькина, что ли? Петрухина, Сомова. — Готово. Давай бритву. Шапку надо сменить. Павел, дай ему свою шапку. Ну вот, другое дело… Улыбка! Взгляд вперед и ввысь! Белоцерковский несколько раз щелкнул, бригадир изо всех сил пыжился, ребята похохатывали над ним, скаля зубы, потом Павел получил обратно свою шапку, бригада снова навалилась на раму, а Белоцерковский весело сказал, направляясь к лесенке: 31 — Полета строк на первую страницу в кармане. С фотографией плюс. «Образцы вдохновенного труда показывает, ведя последние предпусковые работы, славный коллектив…» — Ты гангстер пера, — сказал Павел. — Как же тебя в газете держат? — А, брось! Кто не гангстер, тот тупой мул, как этот Михалыч, на котором ездят все, кому не лень. Или убежденный мул, как Федор Иванов. — Как ты сказал — Федор Иванов? — Убежденный мул. Такая жизненно необходимая категория. Без вопросов. На полном серьезе залит по уши своим металлом и, кроме металла, ничего в жизни не видит. Металлические мозги, А был когда-то простой, приятный мальчишка, слушал наши беседы… — Да! — сказал Павел. — Скажи, долго еще у вас сохранялся кружок, когда я уехал? — Нет, почти сразу и распался. Ты уехал, у Федора сломался велосипед. Он им в проволоку врезался, и рама — пополам, а сам в больнице лежал.,. А потом ведь все расползлись учиться, кто куда. — Я вспоминаю наши встречи, словно это было вчера… — Черт его знает, маленькие мы все прелесть, вероятно, потому, что все спрашиваем. А потом уже не спрашиваем, а утверждаем — и превращаемся в какие-то столбы. — Себя ты к столбам не относишь? — Себя я отношу к огородным пугалам. Но этим я горжусь, ибо пугало — это всетаки личность, неповторимая индивидуальность, и его ночной горшок на голове — личный горшок, совершенно не такой, как у других. — А что случилось с Женькой? — спросил Павел. — Женька отличная была девчонка, помнишь, блестящие глазки, стремления, мечты, кристальность. Теперь — непроницаемое лицо, глухая усталость от жизни плюс высокомерие. Ее личная жизнь не удалась — значит, виноваты во всем мужчины двадцатого века, злодеи. Она все поняла и решила жить в высокомерном одиночестве, под ручку не ходит, водку не пьет, гнусные предложения отметает. Ненавижу таких святых дур! — Так злобно говоришь, — сказал Павел, — потому что это твои гнусные предложения отметены? — Ладно, она женщина, не будем говорить о ней гадости. Самым человечным, реальным и остроумным оказался, как это ни странно, Миша Рябинин, любитель джаза. Все это, конечно, весьма относительно, но мыслит он трезво, хотя, к сожалению, дурак. — У него были уникальные математические способности, что с ним стало? — Ничего не стало. А он их применяет сейчас более чем остроумно. О, как применяет! Ух, торгаш, захапистый мужик, шкура! Я к нему иногда захожу, глушим коньяк. Мишка очень забавный, только жаль, что дурак, такой врожденный, без фантазии, и потому хоть и сволочь, но чересчур уж примитивная… Но кого я ненавижу по-настоящему, зверски — так это Селезнева Славку. Вот где мразь! Этакий розовощекий, бодренький трепач, фарисей, дармоед, лодырь, карьерист, лицемер, общественный благодетель!.. — Хватит! Стоп! — закричал Павел, дивясь. — Ты мне выдал целый зоопарк. Слушай, нельзя же так в конце концов односторонне и пристрастно… — Ты не привык к моей' манере, еще не то от меня услышишь, — небрежно, но не без кокетства возразил Белоцерковский. — Я именно тем и славлюсь, что говорю то, что думаю. Они балдеют, думают — шучу. Одни считают меня шутником, другие шизофреником, третьи неопасным дураком… Среди строительного хаоса, примостившись у рельсов, закутанная тетушка в белом переднике продавала пирожки, словно в городе на углу; из алюминиевых кастрюль, накрытых марлей, шел вкусный пар. — С чем пирожки? С котятами? — С котятами, сынок!.. Гар-р-рячие, кому, с мясом!.. — Дайте шесть штук! 32 — Только бумаги у меня нету… Они набрали пирожков, стали есть их, обжигаясь, измусолив руки. Полезли по трапу к железным дверям доменного цеха. — Это верно, — сказал Белоцерковский, — я такой злой, потому что с утра не жрал. Но Селезнева ненавижу не меньше. — Тогда вы особенно дружили. Он смотрел тебе в рот, души не чаял, был влюблен в тебя! — А такие-то, братец, влюбленные потом становятся врагами насмерть! Он показался Павлу еще более грандиозным, этот цех, а выпуклый бок домны еще внушительнее, чем вчера. Туман проник сюда, стелился под потолком, и мощные лампы светили сквозь него мутными, в ореолах, шарами. В отличие от вчерашнего у домны теперь не было ни души. Только белел плакат «Дадим металл 26 января!», причем ноль был так хорошо переделан в шестерку, что самый придирчивый глаз не заметил бы следов. В полном безмолвии, спотыкаясь о разные железяки, громко переговариваясь, Белоцерковский и Павел полазили везде, как мальчишки, подобрались к дыре летки и посмотрели в нее. Она невольно вызывала уважение: шутка ли, именно здесь будет литься огненная лавина, а сейчас так себе, просто дыра в кирпиче, немного заиндевевшая, да еще в нее гулко свистал, всасываясь в домну, воздух. Вдруг Павел заметил в черной глубине дыры какие-то световые блики. Что-то там, внутри печи, звякнуло, возился кто-то живой. — Эге-ге-ей! — закричал в летку Белоцерковский. — Ку-ку! — Бу-бу-бу!.. — ответил человек изнутри, как из преисподней. И между ними состоялся такой короткий диалог: — Алло! Задувка когда? — Скоро! — Как скоро, сегодня, завтра? — Скоро, вот-вот. — А что из работ осталось-то? — Кой-чего осталось. — Ну, бог в помощь! — Бу-бу-бу!.. В летке зашуршало, и что-то полезло. Белоцерковский отскочил. Вылезла тонкая железная труба, покрутилась вокруг оси и замерла. — Ясно, что ничего не ясно, — сказал Белоцерковский. — А поехали-ка мы домой. Закоченел я, как собака. Поверь моей интуиции, что задувка состоится через неделю, не раньше… Глава 6 — Нет. нет, верный признак, — говорил Белоцерковский, живо ведя Павла к воротам, — если нет начальства и корреспондентов. Едем ко мне на хату, выпьем, вспомним былое, и это будет самое разумное. Ну, что ты можешь придумать умнее? — Библиотека, учебник доменного дела… — И-ди-от! — захохотал Белоцерковский. — Во-первых, Женька Павлова — это пас, полный пас! Во-вторых, лично я — кладезь местных знаний, я выдам столько, что никакой учебник не сравнится! Левое плечо вперед, сюда, вот это моя телега, ничего? — Ничего. — Все четыре колеса, только заводится несколько, гм, иррационально. В крайнем случае толкнем. 33 У заводских ворот, лихо заехав на тротуар, стоял заиндевевший «Москвич», старый, со следами царапин и вогнутостей. Белоцерковский открыл ключом дверцу, влезли внутрь, как в холодильник. Застывший мотор действительно долго не хотел заводиться. Белоцерковский открыл дверцу и кликнул парней, кучкой стоявших у проходной. Дружно, смеясь, они навалились и погнали машину по улице, к удовольствию прохожих и мальчишек. Павел, проваливаясь в снег и спотыкаясь, тоже изо всех сил толкал, а Белоцерковский из кабины кричал указания. Метров через пятьдесят драндулет затрясся, зачихал и завелся. Павел на ходу вскочил на переднее сиденье. — Понимаешь, — сказал Белоцерковский, — у меня там шаром покати, ни крошки нет, так мы заедем в магазин, сделаем закупки, и для скорости предлагаю разделить: один — горючее, другой — закуску. Ты что берешь? — Все равно. — А мотор оставим работающим, не бойся, теперь уж не остановится до страшного суда. Магазин, в который приехали, оказался великолепным, отделанным по последнему слову — сплошь стекло и дневной свет. Белоцерковский развил бешеную деятельность, толкался у прилавков, лез без очереди в кассу с криком «Доплатить!», накупил целую охапку колбасы, сыру, конфет, камбалы в томате, шпротный паштет, голубцы в банке, всего, кроме вина. Он хотел коньяку, а его не оказалось. Сложив покупки на заднее сиденье, отправились по дороге из Косолучья в город вдоль трамвайной линии, ехать было трудно, дорога скользкая, машину заносило, и водитель из Белоцерковского был дрянной. Сам он, впрочем, был другого мнения, кажется. — Что не восторгаешься мною за рулем? — спросил он гордо. — Мечтал я о машине, считай, с пяти лет — и, кажется, это единственная моя мечта, которая исполнилась… Невольно станешь пессимистом в этом болотистом мире. — Ты хочешь сказать, что ты законченный пессимист? — спросил Павел, насторожившись. За какой-нибудь час-другой общения с Белоцерковским у него появилось почти физическое ощущение чего-то нечистоплотного. Он уже жалел, что поехал. Следовало остаться и посидеть над книгами. С другой стороны, отличный случай понять, что же такое теперь Белоцерковский. «Спокойнее, спокойнее, не спешить делать выводы. Смотреть, слушать», — приказал себе Павел. — Пессимист не пессимист… Все сложнее, — продолжал говорить Белоцерковский. — Знаешь эти две притчи? Оптимист входит в театр и говорит: «Зал наполовину полон», — пессимист входит и говорит: «Зал наполовину пуст». Пессимист пьет коньяк, морщится и говорит: «Как пахнет клопами!», — оптимист давит на стенке клопа и говорит с удовольствием: «Коньячком пахнет!» Ну так вот. Я не подхожу ни под одну из этих схем. Я считаю, что зал уже наполовину, если не более, пуст, но клопов в нем развелось пропасть, и все пахнут коньяком! Видимо, Белоцерковский раздразнил себя такими разговорами, потому что, приехав в город, заявил, что сейчас умрет, если не достанет коньяку. Поехали в Заречье, в Кусково, обследовали «Черемушки», даже базар и два ресторана по пути, добрались до вокзала. Наконец из вокзального ресторана Белоцерковский выбежал с сияющим лицом. В каждой руке — по бутылке, завернутой в бумагу. — С ума сойти: болгарская «Плиска»! Лишь потому, что директор знакомый. Я кретин, следовало сразу к нему, но я, приберегал его уж как последний шанс. Хитрая лиса, всегда держит запас для особых гостей. Вот отрази-ка это ты в своих писаниях. Куда там, ведь не станешь, не возьмешься! — Взяться можно, но дело не в том, — рассеянно сказал Павел. Ему уже в третий раз за эту поездку приходил на ум тот странный сон в номере с Димкой, жаловавшимся на разговоры вещей, — и вспомнилась черная глыба с золотыми буквами. Каким-то странным 34 образом и этот сон и эта глыба имели прямое отношение к Белоцерковскому, ко всему происходящему сейчас, но Павел ни за что не смог бы объяснить, какое именно. Дима Образцов и Белоцерковский — что общего? Решительно ничего. Дима умер, лежит сейчас там, среди плит, далеко. А здесь затевается обыкновенная выпивка, и Белоцерковский говорит, говорит… — Есть коньяк — теперь у меня настроение на сто делений вверх… Посиди минутку, мне еще надо позвонить. Звонил он не минутку, а добрых полчаса. Истратил много монет, бегал по киоскам, меняя мелочь, снова упорно звонил, глядя в какие-то бумажки, записи. С кем-то подолгу говорил, улыбаясь и заискивая, то гневно ругался, швырял на рычаг трубку, то опять набирал номера, любезничал, убеждал. Павел совсем закоченел в машине, ожидая, но Белоцерковский пришел довольный, загадочно сказал: — Боролся за радость бытия, прости, что долго. Поехали! Машина углубилась в проулки, долго петляла и выехала на самую окраину города, за которой простиралось гладкое белое поле, точно такое же, как перед окном Павла в гостинице. Открытый всем ветрам, стоял последним в улице длинный, облупленный, баракоподобный дом, утонувший в сугробах, едва пробились к нему по скверно расчищенному проезду. Белоцерковский посигналил, но это было лишнее, потому что из подъезда уже бежали две девушки, застегивая на ходу пальто. Одна из них была высокая, с огромнейшей прической на голове, которую не смог целиком покрыть довольно объемистый платок, и она была ярко накрашена, как для выступления на эстраде. А другая, наоборот, совсем ненакрашенная, с круглым лицом, круглыми испуганными глазами, толстая, так что пальто на ней чуть не лопалось. Потеснили провизию на заднем сиденье, втиснули девушек. Представились: — Зоя. — Таня. — А он — писатель из Москвы, — важно сказал Белоцерковский. — Великолепно, имеем полный комплект. Теперь, Пашка, поедем на мою хату, дворец такой, какого сроду ты не видел! «Хата» оказалась весьма далеко, за рекой, на противоположном конце города. С трудом, буксуя в снегу, въехали во двор, полный сугробов, обстроенный старыми каменными домами, готовыми, кажется, развалиться, возможно, доживающими последние сроки перед сносом. Во всяком случае, красно-бурые кирпичи так и вываливались из стен, дома выглядели как побитые снарядами и осколками. В глубине двора стояла такая же дряхлая, разваливающаяся церквушка с заколоченными оконными проемами, и вместо куполов торчали одни голые ребра каркасов, образуя ажурные луковицы. Павел ничего не сказал, но про себя удивился, что Белоцерковский живет теперь в таком доме, но еще больше он удивился, когда тот повел всех не вверх на крыльцо, а куда-то под него, в полуподвал, по скользкой каменной лестнице, облитой помоями. Миновали темный тамбур, заваленный хламом, о который все по очереди споткнулись, свалили что-то, загрохотавшее жестью. Белоцерковский нащупал щеколду, открыл низкую, перекошенную дверь, и за ней оказалось жарко натопленное просторное помещение, оно же и передняя, и кухня, и жилье, судя по вешалкам, плите с кипящими чугунками и топчаном с матрацем и подушками. На топчане сидел густо заросший черной бородой, цыганского вида мужчина, латал валенок. Сухопарая старуха шуровала в топке. Они не очень приязненно ответили на приветствия, подозрительно-хмуро уставились почему-то на Павла. Белоцерковский непринужденно болтал, распоряжался, помогая девушкам снимать пальто, а старуха метнулась в соседнюю комнату и выволокла оттуда за руки двух детей, мальчика и девочку. 35 С полными руками провизии, с бутылками все проследовали туда. Было это узкое, но длинное помещение с признаками попыток поддержать порядок: этажерка застлана старой газетой, вытертый коврик на стене. Но пол был совсем прогнивший, с огромными зияющими щелями, а стены бугристые, в клочках сизых обоев. Под длинной стенкой стояли в в ряд продавленный диван и узкая колченогая кровать с проржавевшими спинками. Свет в помещение едва проникал сквозь занесенные снегом полуподвальные окна, тусклая лампочка под потолком немного к тому добавляла. Старуха вбежала, извиняясь, подобрала с пола куклу и игрушечный грузовичок без колеса, которыми, видимо, играли дети. — Вот это и есть моя сногсшибательная хата, — объявил Белоцерковский, торжественно выставляя бутылки на шаткий стол, покрытый стертой и порезанной клеенкой. — Никто о ней не знает, особенно — леди и джентльмены, прошу учесть! — моя дражайшая жена. Только для посвященных! — Мда-а… — сказал Павел, озадаченно оглядываясь. — Черт возьми, я думал, такие уже не сохранились. А оно… не завалится? — Нас с тобой оно, конечно, не переживет, держится, как бы сказать, на пределе, но в том-то и экзотика, шик-модерн! И ужасно дешево снимаю, почти задаром, но все довольны. Я могу сюда в любой момент приехать. Да вы рассаживайтесь. Девочки, вы — дома. Погодите… Тут у меня для полного шумового эффекта… Он полез под кровать и вытащил проигрыватель «Молодежный» с кипой пластинок и белых пленок, вырезанных из «Кругозора». Загремели ритмы. С помощью девушек закипела хозяйственная деятельность: принесли от хозяев кипу разномастных, надколотых блюдец, граненых стаканчиков, да заодно соленой капусты с огурцами. Резали колбасу, сыр, вскрывали банки, расставляли по столу. Белоцерковский распоряжался и торопился так, что, казалось, дрожал: одной рукой менял пластинку, а другой уже разливал коньяк. — Взяли, леди и джентльмены. За английского короля! — возгласил он, молниеносно рассказал старый анекдот, и девушки охотно, несколько визгливо рассмеялись. Павел выпил, надо сказать, с удовольствием, предвкушая тепло, последующее за сим, а закоченел он, пока сидел в машине, сильно, да и в подвале только сперва показалось тепло, а на самом деле чуть не пар изо ртов шел, особенно когда закрыли дверь из проходной комнаты с плитой. Коньяк сработал быстро и вкрадчиво, распустив тепло до самых костей. Но настроение не хотело подниматься. Видимо, это было заметно, потому что Белоцерковский обиженно закричал: — Вот уж мне эти сложные натуры, сидит с постной рожей! Ты веселись! Восторгайся! — Чем? — Коньяком, женщинами, хатой, мной, собой, наконец, чучело! Леди и джентльмены, давайте сразу, с ходу по следующей. За жизнь и за отсутствие в ней смысла! — Послушай, Виктор, — сказал Павел. — Ты прикидываешься или ты в самом деле такой дремучий пошляк? Виктор на секунду раскрыл рот, как бы задохнулся, все еще весело глядя на Павла, но в глазах его появились ледяные искры. Молча, залпом он выпил свою рюмку. — Прикидываюсь, — криво улыбнувшись, не то сознался, не то сыронизировал он. — Ну, слушай, ну, нельзя же постоянно быть вечно серьезным, вечно умным. А куда глупость девать? Пьянка тем прекрасна, что всем глупостям дает выход. О, господи, я тебе еще не то выдам! Это я еще мудрый. «За отсутствие в жизни смысла» — разве это такая уж глупость? — Махровая, — сказал Павел. — Ах, смысл в жизни е-есть?! — кривляясь, закричал Белоцерковский. — Ах, мамочки-папочки, я-то думал, нет. А, оказывается, есть? — Есть, — сказал Павел, не принимая его предложения перевести все в клоунаду. — Просто некоторые люди не всегда его видят. 36 — Ага. Это я. Я не вижу. Ни черта, никакого смысла. То есть он есть, условный, порой до того условный — лопнешь со смеху, то есть смешно до белого ужаса, поэтому я и условного подыскать не могу, как это ни печально. — Ну, тогда на какого лешего ты живешь? — зло сказал Павел. — Что тебя тут, на земле, держит? Белоцерковский перестал паясничать, вдруг сразу погрустнел. — А я сам не знаю. Неизвестно, зачем, — просто сказал он. — Ничто не держит. «Вот оно, значит, что, — подумал Павел. — Ну и ну!» — Паршиво это, — мрачно сказал он. — Да, паршиво… А что ты мне предложишь? — Изложи сперва посылки. Популярно. — Изволь! Популярно, как для школьников, от печки. Остап Бендер сказал: бога нет. Нет бога? — Нет. — Научный факт. Нет того света, нет рая, нет ада, ни черта нет. — Ну и отлично. — Отлично-то отлично, но что в нашем распоряжении? Нет, ты меня прости, но я пошкольному, от печки… В моем распоряжении смехотворный, юмористически короткий отрезок жизни на земле. Родился — покопошился — смерть. Весь отрезок. — А неплохой отрезок! — заметил Павел. — Довольно большой, интересный, ну и… живи в нем. — Я живу, живу. Дышу, ем, сплю, добываю блага, боюсь наказаний, развесив уши, слушаю ханжей и фарисеев, уверяющих кто в шутку, кто всерьез, что во всем этом есть какой-то смысл. Говорят: борись за добро, за какое-то гипотетическое светлое будущее, на черта оно мне, спрашивается, сдалось? — Ну, знаешь, старик, позволь! — вскричал Павел. — Есть вещи для человечества святые, и если ты свинья и если ты хочешь ею быть, то я просто встаю и… Тут даже девицы возмутились, закричали: — Витя, не надо так, нельзя так! Сядьте, сядьте, не ссорьтесь! — Не кричите так, хозяевам все слышно! — Нет, я выскажусь! — еще громче закричал Белоцерковский, залпом выпивая коньяк. — Пейте все и слушайте. Ты спросил о посылках, так дай же мне высказаться! Павел молча сел, весь кипя. «Не хотел я ездить, — думал он. — Но нет, ничего, пусть он высказывается. Слушать». — Я считаю, — торжественно провозгласил Белоцерковский, — что живу в мире бессмысленном, жестоком, лживом и ханжеском. Ладно, черт с ним, крохотный отрезок жизни у каждого — пусть каждый переводит его, как хочет. Так нет. Выясняется, что даже в этом я не свободен, мне велят жить только так и этак, а не иначе. — Ты живешь не один на каком-нибудь астероиде, ты живешь в обществе, — сказал Павел. — Но прошу не путать. Ты еще живешь в таком обществе, которое именно восстало против бессмыслия, жестокости, лжи, эксплуатации, ханжества. Общество это дает тебе великие цели, дает смысл, а ты, как паршивый поросенок, еще обливаешь его грязью. Это просто подло, наконец! — Я хочу жить так, как я хочу, — упрямо и пьяно крикнул Белоцерковский. — Я хочу свободы! — Какой свободы? Ходить с дубиной и бить всех по головам? Или скопить миллион золотых монет? Тогда ты просто опоздал родиться. — Нет, свободы не отрезать себе нос, когда все вокруг отрезают себе носы. Ладно, пусть я опоздал родиться, я изгой. К счастью, у меня есть еще вот такая хата, и я могу в ней быть самим собой, высказываться в свое удовольствие, выпить в свое удовольствие, и вообще я чайник! 37 Он изобразил из себя чайник, усиленно улыбаясь. — Такой прорвы пошлостей я, кажется, никогда не слышал, — сказал Павел с омерзением. — Я сейчас же ухожу. Мне противно все это слушать! — Ну, ладно, ладно, прости, я сам виноват, завелся, сам не знаю, куда я заехал. Да, да, я глупости порю! Девочки вот наши совсем приуныли. — Пластинка кончилась, — сказала Зоя. — Завели всякие разговоры… И на работе голова пухнет от этих разговоров. — Кончили! Мы с тобой, Пашка, еще поговорим, в другое время. Сейчас надо пить. Наливайте! Дамы, подняли бокалы! Подняли, подняли! — Не насилуй ты их. — Да что ты? Им только дай кирнуть да погулять. На свои ведь не здорово разгуляешься, особенно если такие вот… чулочки. Где покупала?.. Они ведь, знаешь, кто? Продавщицы. Только жаль, в овощном магазине, бред собачий. Вот ты бы перешла в винный, а ты — в комиссионный! Тогда бы мы зажили… Пашка, не сердись и выпей, не будем больше о серьезных материях, выпей просто как друг. Мы же были друзья! Ну, отрежь мне язык, вот он, вот он, без костей. «А, к черту, — подумал Павел. — Я тоже хорош. Он просто паясничает, а я воспринимаю все всерьез…» Павел налил себе полный бокал и выпил, сразу приведя этим Виктора в восторг. Стало еще теплее. — Скоро танцевать? — нетерпеливо спрашивала Таня. Проигрыватель зарыдал какой-то душу вынимающий мотив. Павел встал и пригласил Зою. Она была выше его на голову, худая, так что чувствовались все ребра. Она стеснялась своей длины, горбилась и приседала, виновато хлопая слипшимися от краски ресницами. — Вы видели кинофильм «Леди Гамильтон»? — спросила она, делая глаза «с поволокой» и сильно сжимая его левую руку. — Когда его убили, я так плакала, смотреть не могла, все на меня оборачивались даже… А какая она, красивая, скажите? — Да. — А он, правда, был некрасивый? Я не люблю таких мужчин. Он был, смотрите, совсем калека, а она его любила, вот была любовь!.. — Сколько вам лет, Зоя? — Девятнадцать. — Сегодня у вас что, выходной? — Ага, отгул. Он подумал и не нашел ничего лучше, чем спросить: — А что вы продаете? — Картошку, — сказала она. — Ну, потом еще огурцы, лук, лимоны, а вы приходите, посмотрите. Ой, с этой картошкой намучишься так, что потом вся спина болит. Пойдешь в кино, посмотришь, как люди живут!.. — Самой так хочется? — Кому не хочется? Да что ж, куда нам… Вы, правда, из Москвы? — Да. — А то, бывает, командировочный из Епифани какой-нибудь, выдает из себя, строит прынца иранского!.. В Москве вам хорошо, одних ресторанов сколько. — Вы ошибаетесь. Совсем не в том дело… — А в чем же, здрасте! У нас вон пойдешь, так тебе и нахамят и нагрубят, одно разочарование. Хорошо, что вот Витя хату снял! — Он вас всегда зовет сюда, когда у него гость? — Что вы! Что вы о нас думаете? Мы не такие! Что-то случилось с Павлом. Как-то он вдруг сразу стал покладистее. Ему захотелось сказать этой девушке нечто чрезвычайно важное, что она жестоко ошибается, что неправ Белоцерковский, — но мозги у него стали словно ватные, а глаза пытались уставиться в одну 38 точку. «Опьянел я, кажется, — тупо подумал он. — Хватит пить». Но тут же и забыл. Стал разглядывать всех и улыбаться. Коньяк давно кончился, пили водку. Белоцерковский наливал, настойчиво вставлял в руку Павлу стопку, которую Павел машинально выпивал, не протестуя, не закусывая, но все силясь вспомнить что-то такое важное, важнее этой чертовщины, до боли, до крика важное и нужное, и ему казалось, что еще вот-вот, и он вспомнит. Девицы куда-то уходили, возвращались, и вот оказалось, что уже и толстая Таня намазана и разукрашена. Почему-то полетела на пол и разбилась тарелка с капустой. — Ты обещал рассказать про завод, подожди, — сказал Павел. — Подожди, ты обещал про завод, сядь. — Что завод? — сказал Белоцерковский, тупо царапая клеенку вилкой. — Масса людей, объединенных тем, что тут за работу дают зарплату. Получить побольше, избежать нагоняя. Каждый в поте лица бьется за свой кусок. — Ты что, в самом деле так думаешь? — сказал Павел. — Врешь, циник! — А скажи, если б кусок можно было добыть, не ударяя пальцем о палец, строились бы эти домны? — Да. — Нет. Все бы сидели, не ударяя пальцем о палец! Но нужно загребать расплавленный металл, денежки-то платят за это, вот они и загребают. — Погоди, — возражал. Павел. — А куда ты относишь радость творчества, радость созидания? — А ты скажи, пошел бы кто-нибудь созидать, если б давали деньги просто так, ни за что? Просто каждому человеку такая стипендия, допустим, тысяча рублей в месяц? Работали бы? — Да. — Кто?! — Я первый! — Разве что ты.., с жиру и скуки. Да, кое-кто пошел бы, чтоб еще одну тысячу дали. — Ох, дура-ак ты, ох, дура-ак! — ошеломленно сказал Павел. — Интересно, что сказали бы тебе по этому поводу те, про кого ты тискаешь в газету «полета строк» и чьи фото сдаешь на первую полосу! В этот момент хмель ударил в голову Павлу, будто обухом оглушил; он плохо слышал и старательно удерживал сознание, готовое провалиться в яму. — За-бавно! — сказал кто-то, и Павел с трудом сообразил, что это говорит он сам, — За-бавно, как тебя такого держат в газете? — А я пишу, — донесся издалека голос Белоцерковского, — то, что им надо. Специально выучился. — Кому это — «им»? — А черт его знает, неизвестно! Если начать доискиваться, честное слово, концов не найти! Никому это не надо. Никому не надо, ни мне, ни редактору, ни читателю. Слова его показались Павлу отвратительными, он решил ударить Виктора и уйти, ибо еще минута, и он задохнется в этом дымном подвале. — Ты… ты… — сказал он, — ты… хамелеон! Таких гадов не только к газете, к заводу близко подпускать нельзя. На твоих глазах вырос город, строятся такие домны, каких мир не видел, куда ни глянешь — люди работают, творят, созидают, а ты жрешь их хлеб и смердишь, смердишь… Павел вскочил, шатаясь, прошел через кухню, где старики и дети испуганно на него посмотрели, высадил плечом дверь и очутился во дворе. Он распустил галстук, подставил лицо редким летающим снежинкам и стал жадно дышать, глотая воздух, как ключевую воду. Ему понравился живописный дворик, заваленный сугробами в человеческий рост, древняя церквушка, а ажурные остатки куполов умилили его до слез. У крыльца стояла прислоненная фанерная лопата, и, прежде чем уйти 39 навсегда, Павел решил поработать и прочистить дорожку. Но руки и ноги совершенно не слушались его. Безрезультатно проскреб ямки там и сям, отказался от затеи и положил лопату на лестницу. Ему стало грустно, невыразимо грустно. Он вспомнил девиц внизу, и его буквально передернуло. Ему хотелось бы поговорить с кем-нибудь умным, добрым и понимающим, поговорить так просто «за жизнь», без истерики, злобы и цинизма. С Женей Павловой, например, о которой этот сукин сын Белоцерковский говорил пакости. Он приметил, что под стеной есть, кажется, скамейка с чем-то торчащим. Он ухватился за это торчащее и сдернул ржавый лист железа с шапкой снега. Под листом оказалась сухая скамейка. Он обрадовался, сел. Стал лепить снежки и бросать в дерево. К удивлению, снежки попадали в дерево поразительно точно. Он даже удивился: откуда точность, если он так пьян, что голова болтается, как мячик? Он закрыл глаза, продолжая лепить и бросать, и странно: даже с закрытыми глазами он видел, как снежки попадают точно, так и лепятся в центр черного ствола. Уж это чудо он осмыслить никак не смог. — Эй! Ты! Замерзнуть решил? Белоцерковский стоял над ним, тормоша. — Ты неправ, Димка, — сказал Павел, очнувшись. — С такими воззрениями страшно жить, вообще непонятно, зачем жить. Но зачем же до такого цинизма докатываться? Чтоб кончить самоубийством? Какой позор, как это человека недостойно!.. Димка, Димка! Краем сознания он отметил, что вокруг совсем стемнело и светит фонарь. Значит, он просидел на скамье долго, но сколько, понятия не имел. — Я не заметил, как ты смылся, — говорил Белоцерковский. — Димка, брат, но в человекэ должно же хоть что-нибудь гореть! — сказал Павел. — Солнце. Костер. Свечка, наконец, черт возьми! — Ладно, ладно, твоими устами да мед пить, — добродушно говорил Белоцерковский, подталкивая его в дом. — Пошли одеваться. По-дурацки как-то напились. Во-первых, я не Димка… Тут Павел потрясенно посмотрел на него. Действительно, это ведь не Димка. Того Димки нет, он умер. Есть Виктор Белоцерковский. Как это он спутал? Ну и напился! И возник вопрос: почему спутал? Они же ведь совсем непохожи… Или похожи? Погоди, как же это получается: та схема, таблица, составленная в трамвае, она предсказывала Белоцерковскому нечто совершенно великолепное, блестящий новатор, труды переводятся за рубежом… И вот этот жалкий, цинизм, неверие ни во что… Да, ведь этим, именно этим мертвый Димка и живой Виктор сходятся. — С кем ты меня спутал? — Да, это я сейчас не с тобой говорил, — сказал Павел. — Видишь ли, был один случай, в высшей степени непонятный случай. Теперь вот я смотрю на тебя и, пожалуй, начинаю что-то понимать. В огне все дело, понимаешь, в огне, и, глядя на тебя, я и тот странный случай понимаю. — Чрезвычайно рад быть тебе полезным! — радостно сказал Белоцерковский. — Тихо, тихо, о корыто не споткнись. При виде заваленного объедками стола Павла затошнило. Он плохо помнил, как оделись. Потом вышли, размещались в машине, а она не заводилась. Суета, было много суеты, хозяин толкал, девицы толкали, Павел толкал и упал в снег. Полежал с удовольствием. Следующий проблеск: ярко светя фарами, машина летит с бешеной скоростью по улице, и Белоцерковский, $"охоча, говорит: «А вот с ветерком!» — Витя, тебя сейчас остановят! — визжали девушки, хватаясь за него. — Хотите на пари? У меня, брат, опыт! — смеялся Белоцерковский, нажимая на акселератор. «Сейчас врежемся», — без страха подумал Павел, наблюдая, как столбы с фонарями бешено проносятся слева и справа. Он уселся плотнее, стараясь угадать, в какой столб они 40 врежутся, но вдруг улицы кончились, и перед фарами не оказалось ничего, кроме черного неба и белого поля. Белоцерковский один отвел девушек до двери баракоподобного дома. Павел подождал в кабине, вздремнул. — Дамы остались тобой недовольны, — сказал Белоцерковский, усаживаясь за руль. — Надо же, как тебя разобрало, эх, не надо было водку с коньяком мешать. — В гостиницу, пожалуйста, — сказал Павел, путая машину Белоцерковского с такси. — Нет. Едем ко мне домой, в центр. — Я не хочу. Довези меня до гостиницы. — Нельзя, Паша, свинья ты будешь в таком случае. Я не развлекаться тебя везу, а для дела, как мужчину: для алиби перед женой. Понял? Мы были на вокзале в ресторане, пили «Плиску». Повтори! — Пошел к черту. — Ладно, я буду говорить, ты только кивай. Понимаешь, мне совсем не нужно, чтоб жена что-нибудь знала. Она мне пока верит… преданная такая, чудная жена. Пока ехали к центру города, Павел немного поспал и опомнился. Белоцерковский запер машину в гараже, и на этот раз поднялись по лестнице все-таки вверх. Жена оказалась совершенно не такой, как ее представлял Павел. Это было существо тощенькое, хрупкое, казавшееся очень молоденьким. Кожица на лице и ручках ее была белой до синевы и, казалось, едва-едва обтягивала косточки. Довольно кривоватые ножки, тонкие, как спичечки, были в туфлях на очень высоких каблуках, она словно на цыпочках стояла, а когда шла, качалась; казалось: вот-вот ножки подломятся… Зато прическа была великолепна, волосы крашены отменно, а изящные очки в золотой полуоправе придавали личику весьма интеллигентный, утонченный вид. — Явился, пропойца, ал-кр-го-лик, — четко выговаривая каждый слог, презрительно сказала она скрипучим, неожиданно властным голоском; знакомясь, она назвала имя, какоето странное, нелюдское имя, которое Павел сразу же забыл. — Вот это и есть Павлуша, я тебе ведь рассказывал, дорогая, золотая моя, — с трудом ворочая языком, приторно объяснялся Белоцерковский. — Понимаешь, столько лет… По городу, искали, искали коньяк, на вокзале нашли, болгарская «Плиска»… Извини, дорогая… извини… Я тебя люблю. Вот какая у меня женушка, Паша… Я ему говорю: поедем, непременно должен познакомиться! — Са-пож-ни-ки. Свинь-и, — ледяным тоном, отнюдь не тая, сказало скрипучим голосом хрупкое существо. — Дать лимон? — О, сделай, миленькая, ради бога сделай! О, как я тебя, дорогая, люблю!.. Она злобно оттолкнула его руки и ушла на кухню. Отпихиваясь от вешалки и стен, Павел ринулся за ней: — Зоя!.. Таня! — Луэллой ее звать, — подсказал Белоцерковский. — Луллочка! — Где у вас кран? . Супруги впихнули Павла в ванную. Он наклонился над раковиной, Белоцерковский держал его обеими руками под желудок, приговаривая успокоительно: — Страви, тебе легче будет. Павлу действительно стало легче, он, содрогаясь, подумал: какая мерзость, явился к людям, вусмерть пьяный, с порога в ванную… — …А ванную мы кафелем недавно сами обложили, — рассказывал Белоцерковский, как ни в чем не бывало. — Иди сюда. Вот книги отца, старина, золотой обрез, корешки. Собственно, мебель вся тоже его, только мелочишку подкупили. Он перед смертью сделал обмен квартир, все заботился, где нам с Луллочкой жить… 41 Квартира была просторная, добротная, состояла из многих комнат с высокими лепными потолками. Окна выходили на главную улицу, за ними мигали и вертелись огни реклам. Все вещи были старые, добротные, еще начала века: огромные, под потолок, книжные застекленные шкафы, беккеровский рояль, кресла, диваны, пуфы. — Просторно живете, как боги, — одобрил Павел. — Дом старый, еще дореволюционный, потолки три девяносто. Я не могу пожаловаться, для двоих — вот так. За излишки, однако, платим. — Вы только вдвоем? — Да! Небось, в Москве такого чуда не видал? — А почему детей нет? — О, на черта они? Себе хомут на шею. — Нет, это невероятно! — воскликнул Павел. — Прости, но рассуждаешь ты, как скот. — Не стесняйся и не извиняйся, я ведь жду этого, сам набиваюсь, — весело сказал Белоцерковский. — Циник! — Ага, на том стою. Вошла Луэлла, неся два стакана с чем-то мутным, с не растворившимся на дне сахаром. Это был выдавленный лимон, разбавленный водой. Павел с наслаждением выпил, глотал и с каждым глотком трезвел, трезвел… — Ну, я пойду, — сказал Павел. — Постой, оставайся ночевать, места полно. Чего ты там, в гостинице, не видел? — Я хочу побыть один, — признался Павел. — Не нравится у меня? — Квартира у тебя прекрасная, все нравится, но у меня потребность… подумать, коечто записать, — придумал Павел. — Запиши впечатления от меня, — с холодком сказал Белоцерковский. — Опубликуй. В негативном, конечно, плане, хотя можно и в позитивном, смотря какими фразами писать. Позитивный скорее пройдет, получишь быстро гонорар, вместе пропьем, а? Что-нибудь такое: «Строитель коммунизма Виктор Белоцерковский». — Не юродствуй, хватит! — зло сказал Павел и бросился вон. Осмотревшись и сообразив, куда идти, он побрел пешком — долго, медленно, чтобы успокоиться, выветрить спиртные пары. Ввалился к себе в номер, бросил пальто и шапку на кровать, присел к столу и обхватил голову руками. Сколько ни вслушивался в себя, не мог обнаружить там ничего приятного: одна гнусь, словно вывалялся в невесть какой подлой помойной яме… Подтянув стул, он сел, положил локти на подоконник. Задумавшись, посмотрел в окно на белые пустынные равнины. Глава 7 Он проснулся среди ночи, обнаружив, что спит одетый. Ему показалось, что спал он долго, очень долго, что уже не та ночь, а следующая. Часы на руке стояли. Это пустячное обстоятельство вызвало в Павле целую панику: раз часы остановились, значит, догадка верна, и он мог проспать до следующей ночи. Он включил свет и минут пять старательно, тупо, автоматически брился электробритвой, только потом спохватился, что по щетине мог бы определить, какие идут сутки, но не мог вспомнить, что именно он сбрил. «Худо, — подумал он, поспешно умываясь, полный горечи и презрения к себе. — Какая гадость, пошлость, стыд… Напиваться, приводить себя в дикое состояние? Да неужто в жизни нет подлинных радостей?! Зачем мы пытаемся вызывать ложные подобия их какими-то допингами, снадобьями, как те дикари, жующие ядовитый корешок, чтоб озвереть? Да, напиваясь ради веселья, или для разрядки, или с горя, или от серости бытия, 42 мы всего-навсего расписываемся в своем неумении жить подлинно. Расписываемся в своей бездарности!» И так это у него хорошо получалось, это самобичевание, он даже начал успокаиваться и чуть было не дал себе знаменитую клятву: «В жизни больше пить не буду». Но вовремя спохватился и взялся за телефон. Раз десять набирал номер, пока ответило Косолучье, потом минуты три не отвечала домна. Трубку взял глуховатый, по-видимому, дед, к тому же весьма некомпетентный. — Работают, как же, — сказал он. — Все там. — Да где там? — Мое почтение! Где! В печи, ясно. — В самой печи? — Дровишки кладут. — Зачем? — Мое почтение! Зачем! Так печь разжигать. Павел схватился за пальто. С ума сойти! Доменную печь дровишками растапливать, как какой-нибудь самовар?.. Не спросил у деда: и лучины, что ли, колют? Рассовав по карманам папиросы, блокнот, авторучки, не раздумывая, Павел выскочил из номера, пуговицы застегнул на ходу. Дежурная крепко спала на стульях, не стал будить, оставил ключ на столе. Швейцар внизу охотно вскочил, бросился открывать дверь, но она никак не поддавалась и открылась, лишь когда в руку швейцара перекочевали двадцать копеек. — Что ж, недавно пришли да опять гулять, не отдохнули? — сказал швейцар, приподнимая картуз. Павел махнул рукой, почувствовал радостное облегчение: ага, мол, это все-таки та же самая ночь, и как бы там ни было, он не опоздал, а домна еще не задута… Площадь была абсолютно пуста. По расчищенному обледенелому асфальту ветер гонял струйками колючую пыль. Не светилось ни единое окно в домах, отчего все они казались холодными, словно еще пусты, только что выстроены, подготовлены к сдаче, но не заселены. Даже автовокзал не сиял огнями, лишь над входом его тускло светила единственная лампочка. А над всем этим был черный ледяной космос, в котором ледяным же, негреющим светильником висела полная луна с идеально круглым туманным кольцом ореола. Мороз стоял крепкий, прямо звонкий. Павел поднял воротник, засунул руки поглубже в карманы, поплелся к стоянке такси. На стоянке такси чернела одна-единственная машина с тусклым, но несомненно зеленым огоньком. Мелко дрожа от холода, Павел постучал с одной стороны, постучал с другой: шофер, законопатившись, как рак-отшельник, долго не хотел просыпаться. — В Косолучье не поеду, — покрутил он головой за стеклом и вознамерился опять уснуть, но Павел не дал ему этого сделать: — И сверх счетчика накинем. — Нет, — сказал, подумав, шофер. — Туда заедешь, обратно холостой. Поняв, что его взяла за горло опытная рука и противиться бесполезно, Павел добавил уже невесело: — Оплачу обратный проезд. Тогда дверца распахнулась. Из нее вылетели клубы пара, и приятно было спастись от космоса хотя бы в эту теплую, уютную коробочку. Спросонья шофер погнал по улицам чересчур быстро, рискованно, но улицы-то были совершенно пусты, и автоматические сфетофоры напрасно мигали: такси лихо проскакивало и желтый и красный свет, шофер-ас не считал нужным сбавить скорость хотя бы для приличия. 43 Одним махом оставили позади город, вырвались в поле, на пустынное и темное, обледенелое шоссе. Ветер гудел в стеклах. Горизонт прорисовался над снежной равниной сизо-розовой полосой. Засветилось небо. Полоса в считанные секунды разрослась в огромное малиновое зарево. Оно полыхало, играло театрально-неправдоподобно. На дальних облаках вспыхивали то кровавые, то желтые отблески, будто кто-то освещал их цветным фонарем. И снежная равнина стала красной. По самой линеечке горизонта черными силуэтами виднелись корявые конструкции. Завод словно взорвался, словно горел. — Плавку дают, — сказал шофер напрасно, потому что это и так было ясно. — Красиво плавят… У меня двоюродный на мартене, я ходил, смотрел, ну, знаешь, не то, что баранку вертеть; черти, ну, черти! Потянулись окраины Косолучья, темные, широко разбросанные домишки, хотя до завода еще было порядком. — Мне к управлению, — сказал Павел. Завод вырос и выпрямился перед машиной во весь свой рост. Фантастические, провально-черные в ночи купола, трубы, эстакады, кое-где обтыканные точечками лампочек, исходящие паром и дымом. В воздухе над всем заводом светился плотный дымно-пыльный колпак. А когда Павел вышел из машины, расплатившись, у него даже в ушах засверлило: такая была острая в ночной тишине какофония свистов, шипения, звонов, ударов… Он постоял несколько секунд, посмотрел, даже передохнул. «Ох, чудище, ну, чудище!.. Много в мире настроил бородатый бог Жана Эффеля, много ему пакостил черт, но даже они такого придумать не смогли». Глава 8 Совершенно другой была печь в эту ночь. У ее подножия протянули целую иллюминацию из дополнительных лампочек, но и они, впрочем, с трудом вырывали из тьмы черные циклопические конструкции. Десятки людей возились на площадке, перекликались, волокли шпалы, бревна, которых тут уже была навалена гора: и разные старые балки и просто неошкуренные древесные стволы. Еловая, березовая, сосновая кора хрустела под ногами. Дровишки… В брюхе домны ярко светились два отверстия, в которые поминутно кто-нибудь пролезал или заглядывал. Это были размонтированы две фурмы, круглые металлические люки которых стояли тут же, прислоненные к стене. Обер-мастер Федор Иванов ругался насчет каких-то лопат, о которых — мудрецы, артисты! — никто не позаботился. — Ну, что? — Павел подошел к нему. — Приступили! — с яростно-восторженным блеском в глазах сказал Иванов. — Теперь господи помоги, выноси, сивка-бурка! — Задувать? — Погоди, сперва полок соорудить. Оказывается, это, видите ли, мы. Мы — задерживаем! Тьфу! — То есть как? — А вот так. Селезнев примчался: вы такие-сякие, из-за вас все стоит, все вас ждут! Накричал, поднял, бросил клич. Что же, двинем, за полком дело не стало. — А где Селезнев? — спросил Павел, оглядываясь. — Где? Клич бросил, пошел спать! Павел заглянул в отверстие. На уровне его внутри печи на протянутом проводе горела огромная ослепительная лампа. Такое впечатление, будто заглядываешь в цирк сквозь дыру 44 где-то под куполом. Лампа освещала копошащиеся глубоко внизу фигурки людей с метлами и совками, они подметали пол, подняв несусветную пыль, которая клубами достигала до самой лампы. И поскольку пол, или, вернее, под, печи был абсолютно круглый, он действительно очень походил на цирковую арену, которую готовят к представлению. Рядом с Павлом протиснулся пожилой замухрышистый дяденька в коробящемся брезентовом костюме с широким поясом, похоже, пожарник. С любопытством поглядел вниз, почесал затылок: — Ох, здорова-а… тетушка Домна Ивановна! Тут они оба вздрогнули и попятились. В отверстии прямо перед их носом выросла улыбающаяся потная рожа в ушанке. Крепко хватаясь руками, парень, пыхтя, полез сквозь фурму, спрыгнул, отряхнулся: — Ну, Федор, лестницу арапы сколотили: в рай по такой лезть, упадешь, костей не соберешь. Принесли лопаты? — Интересно, — задумчиво спросил пожарник, не обращаясь ни к кому конкретно, — а печь когда-нибудь чистят? — Вот те раз! — весело-деловито сказал парень. — Пожарник, а такие вещи спрашиваешь. А как же! Каждую зиму. Видал, как бабы в деревне на рождество чистят? И тут точно так. — Ну! — недоверчиво сказал пожарник. — Это ж надо становить… — Ну? И становят, студят, и горновые метелками ее, вениками — только сажа столбом! — Ох, мастера заливать!.. — пробормотал пожарник, отходя и неодобрительно крутя головой. — Николай Зотов! Хватит травить! — прикрикнул Иванов. — Жми сам за лопатами, быстро! Моментально у Павла всплыла в памяти надпись насчет жены, которую Зотов водит в рестораны, а она гуляет с Ризо. Он ужаснулся, что не стер ее тогда же, немедленно, хотя стереть, пожалуй, было бы мудрено: химический карандаш глубоко въелся в краску, разве со всей краской содрать… — Кто он, Зотов? — спросил он у Федора, который напряженно размышлял над какой-то мятой замусоленной бумажкой. — Зотов? — рассеянно сказал Федор, делая огрызком карандаша подсчеты. — Зотов — он старший горновой… мой лучший горновой… золото-человек… А, черт, мало!.. На бумажке у него был чертежик чего-то похожего на крынку с макаронами. — Слушай, — сказал Федор, — смотри на эту схему и слушай, я тебе объясню один раз, у чтоб ты больше ко мне не приставал. Я занят, у меня голова задурена, понял? — Понял. — Ухватывай с одного раза и ни у кого больше не спрашивай, а то эти артисты тебе такого наплетут, они мастера!.. Домну, кстати, не чистят. Никогда. Разожгли — и на зсю ее жизнь. — Ну, это-то я знаю… — Сейчас идет уборка. Вениками. Дальше под нужно засыпать чугунной стружкой. Лопатами. Дальше выстроить полок. Топорами. — Механизация! — А ты что думал? Смотри чертеж. Как начнется загрузка, сверху полетит черт те что целыми вагонами — разнесет и покалечит и лещадь, и летку, и фурмы, словом, горн. Создаем защиты, буфер, вот из этого леса: шпалы, шпалы, стояки, помост, снова стояки — это есть полок. Он примет на себя удар, заодно он же — дрова на растопку. Растопка обыкновенно… Печка как печка, только большая. Тем временем Николай Зотов принес охапку лопат и, покрикивая «берегись!», стал швырять их в дыру. Был он высокий, стройный, с иронично-улыбчивым, добродушным лицом. Есть такие лица, которые кажутся улыбающимися, даже когда они очень серьезны. 45 — Спасибо, — сказал Павел. — Последняя просьба: возьми меня в свою смену покидать лопатой, согреться. Федор удивленно, иронически осмотрел его с ног до головы, как бы раздумывая: что за баловство и стоит ли потакать? — Бледный ты какой-то, как с перепоя. — Замерз, — соврал Павел. — Ладно, полезай, — неохотно согласился Федор, смягчил шуткой: — Первая настоящая помощь от корреспондента. Постой, Пашка, псих, постой, надень вот это! Он достал из какого-то железного сундука тужурку — сплошной пух лохмотьев, забрал пальто Павла, положил в сундук. Павел облачился. — Ха-рош! — с удовлетворением сказал Федор, осмотрев его. — Полезай, только держись крепко, шею не сверни! Отвечай потом за вас! И сразу же отвернулся, побежал с криком: — Тише, вы, артисты, базар развели, не туда, к шлаковой давай неси! Хватаясь за каждую перекладину до побеления пальцев, Павел спустился по длинной шаткой лестнице на арену. В глаза ему ударил едкий дым, сразу вызвавший слезы, и, прогоняя их, щурясь, он не разглядел и сослепу спрыгнул прямо в кучу чего-то дымящегося, черного и горячего, как куча асфальта, и набрал этого добра сразу полные ботинки. — А вот подмога, — сказал пожилой конопатый рабочий, протягивая Павлу лопату. — Как там на улице, мороз? — Мороз. — И что за погода, как зарядило с самого Нового года по старому… Холодная зима. — Обещают еще похолодание. — И не говорите! Сады померзнут… — Должен бы снег пойти. — Если пойдет, — хорошо. Так беседуя, они разбрасывали подальше эти кучи дымящейся стружки, и вокруг в дыму сгибались, разгибались фигуры, крякая, вытирая пот, пошучивали: — Этак и прямо к чертям в ад, в отдел кадров. — Зарабатывай, зарабатывай стаж! — Ну, неси, чего там стал? Дома слезы тереть будешь. — Щиплеть… — Ну, брат, тебя только за смертью посылать. Щиплеть мужик бабу, понял?.. А дым — он, дым отечества нам сладок и приятен. Чему тебя в школе учили? — Да он на задних проспал! Тяжелая она была, эта стружка, и от каждого прикосновения лопаты дымилась, воняя асфальтом. Павлу стало тепло, потом жарко, потом он стал задыхаться. Лоб покрылся бисером пота, голова кружилась, а в дыму, как в душегубке, продышаться совсем невозможно. «Согрелся, дурак, пьяница, перепойщик, — костил себя Павел весьма старательно и искренне. — Вот упаду сейчас, будет для всех представление». — фу-х, сил нет, — сказал пожилой рабочий через некоторое время. — Пойти, что ли, к летке продышаться? И очень кстати он это сказал. Они пошли искать по стенам летку, но она сама дала о себе знать свежим сквозняком, несло в нее, точно как из вентилятора. Наслаждаясь, поглотали воздуха, присели на кирпичный выступ, который шел под стеной, как завалинка у избы. Крайний кирпич под Павлом свалился. Он пошатал соседний кирпич, песочнорозовый, огнеупорный, — и тот легко вынулся и упал. — Это что, вся домна так сложена? — испугался Павел. — Да нет… — усмехнулся рабочий. — Эта кладка вроде буфера, «на убой», все равно сразу выгорит… Да, скоро тут не посидишь. Знаете, реконструировали мы первую печь, 46 разобрали всю до основания, а к лещади че подступись. Месяц ждали, чтоб остыла, наконец начали ковырять, а она, чуть ломом проковырни — красная, как уголь. Не хочет остывать! Так пришлось ее, раскаленную, взрывать, не ждать же целый год. Раскидывали долго, ровняли, топтались, и дым перестал валить, а уже шел только легкий парок струйками. Круглая арена стала бархатно-черной, а вокруг — песочно-розовые стены, без начала и конца, по кругу, от чего теряется чувство расстояния и кружится голова. Фантастическая розовая замкнутость эта уходила вверх, в невероятную высоту, в тьму, и поскольку запирающий ее конус даже и не угадывался, все это походило не то на внутренность какой-то чудовищной вавилонской гробницы, не то на иллюстрацию к фантастическим повестям, где герои блуждают в изогнутом пространстве… — Эй, ты, комик, скажи Воробьеву, пусть шлаковые приборы ставит на место! — над самым ухом Павла закричал Николай Зотов, и всякая фантастика пропала: был просто горн, в котором шла подготовка к задувке, вот уж и шлаковые отверстия закрываются, скоро, скоро уже огонь… «Берегись!» — орали сверху, просовывая в фурмы шпалы; они покачивались лениво, потом с гулом, как снаряды, летели вниз, шлепались, толстые, как поросята, взбивая фонтаны черной стружки, сразу исковеркали ровную арену — старые шпалы, грязные и уродливые, с болтающимися железяками. Люди жались под стенами, а сверху все валилось это деревянное нашествие: балки, поленья, доски. — Во дают! — сказал Зотов. — Они там обрадуются, со двора все понесут. — Эй, головорезы, тише, убьете, я ж один сын у мамы! — Калории поберегите! — А мы сегодня в столовую ходили, — отвечали сверху, из дыры. — Давай, давай, я — во, подмогни немного!.. Вылезло громаднейшее бревно, кувыркаясь, сверзлось, ляпнуло прямо на доску, доска — в мелкие щепки. — Что вы, куда глядите? Чуть доску не сломали! Все хохотали, и Павел тоже смеялся, ему стало хорошо, прямо прекрасно, внутри такая бодрость, взволнованность. «Вот, наконец, началось настоящее», — с замирающим сердцем подумал он. Но теперь у него зубы тряслись от холода: из летки чертовски несло, чисто аэродинамическая труба, а в дыры телогрейки ветер свистал, и рубаха на теле Павла, давно став мокрой, теперь превратилась в ледяную. Он обрадовался, когда кончили валить, принялся вместе со всеми растаскивать, укладывать шпалы рядами. Тяжеленными они ему показались, прямо чугунными, и рубаха постепенно согрелась от нового пота. Думал он плохо, словно сквозь какую-то сетку, сердце часто отрывалось, и тело пронизывала дурная слабость, руки плохо слушались, ноги спотыкались, и от этого он все больше казнил себя за давешнюю пьянку. Вокруг ребята работали весело, азартно. Поднялся канонадой перестук топоров: загоняли обухами скобы, скрепляя шпалы. Каждый удар многократно отдавался под куполом, как в соборе: тахтах-тах-х-х!.. Великолепная работа: приставил скобу, тюк — наживил одно острие, тюк — наживил другое, гах! — вогнал одно, гах! — другое. Сидит. Следующую. — Как оно, греемся? — добродушно спросил пожилой рабочий, загоняя рядом такие же скобы. — Погляжу, сноровка у вас есть. Видать, приходилось? — Приходилось… — Нынешняя молодежь оторвалась совсем, гвоздя не забьют. — Ну, теперь в школах учат. — Учат-то учат, а придет на завод — всему от начала учи… — Так всегда было. — Не говорите! Я в восемь лет с батькой пахалкосил, а моей дочке лопату дай, она не знает, с какого конца ее взять. Невеста, в институте учится! 47 — Ну, вы сами виноваты. — Признаю. Но больше — мать. Как же, в люди выбились! Как это дочке начальника цеха, видите ли, черной работой заниматься!.. — Извините… вы… — Виноват, не представился. Начальник я доменного цеха, Хромпик Илья Ильич… Оч-риятно… Павел вытаращил глаза: не разыгрывают ли его? Но Хромпик продолжал как ни в чем не бывало жаловаться: — Из-за этой домны, поверите, сна нет: такой еще не бывало, опыта перенять не у кого, конечно, в Криворожье ездили, то да се, и все равно волнуемся. Конечно, все будет хорошо, и чугун будет, и режим подработаем, все со временем сделаем, но попотеть придется и понервничать придется. Вот я бы на вашем месте это главным образом описал. А то во многих книгах — ах, ах, ура, будто оно само сделалось, нам ништо, море по колено. Извините, может, не в свое дело лезу, со своим доменным рылом в калашный ряд… — Я с вами согласен, — сказал Павел, продолжая удивляться и тому, что «рабочий», оказывается, действительно начальник доменного цеха, и этому неожиданному разговору о литературе внутри горна доменной печи. Поговорить дольше не удалось, потому что принялись ставить вертикальные бревнастойки по всей арене, накрест скрепляли их, а наверху, качаясь, как воробей, Николай Зотов уже приколачивал первые балки помоста. Павел кидался со всеми подпирать плечом, загонял скобы, пилил двуручной пилой хвосты. Сыпались золотые опилки. Голоса, хохот, удары, звон пил, эхо до лязга в ушах. Запах железной дороги от угольно-черных шпал, запах лесов, запах дров… Он тоже влез наверх, сколачивал помост, досадуя лишь, что сил маловато. Азарт захватил его: уж больно ловко шла работа, уж так славно наметился будущий помост, и так ладно оно все сочленялось: бревнышко, стойка, шпала сверху плашмя, другая — рядом, две скобы в них — rax! rax! — готово, теперь на них переберемся, верхом… — Эй, кто там, подкиньте кто-нибудь шпалку! — Юрочка, радость, наверни ее с того конца! — Ага, стала! А говорила: не согласна… — Что, Вася, подмогнуть? — Сам с усам. — Ну, что ты с ней мутыжишься, обжал, как бабу. — Бабу, братцы, оно способнее. — Да, сегодня к бабе придешь — язык на плечо. — Справишься! Она уж те каши даст, воспрянешь. — Ну, артист! — Эй, вы, психи! — сквозь шум закричал кто-то сверху в дыру. — Смена кончилась, шабашьте! — Иди, иди! Бог подаст, — заорал Николай Зотов, задрав красное мокрое лицо, и тут же потянул следующую шпалу. Павел был с ним совершенно согласен: куда ж тут шабашить, когда только-только начал он становиться, этот великолепный полок. Спустился по лестнице Федор Иванов, посмотрел, упершись в бока, посмеялся, поплевал на руки, схватил топор… Скверно только, что у Павла заныли руки и ноги, сами мускулы в их глубине заболели этакой противной ноющей болью. Когда выпрямлялся, коленки дрожали и тело все потело, а топор приходилось уже держать двумя руками. А вокруг смеющиеся лица, носятся себе, как звери: балку, которую двоим с трудом двинуть, он, глядишь, ухнул, поднял, поставил на попа… Павел понятия не имел, который час. Смена кончилась, а когда она кончается? Ночь ли, день ли? Лампа над головой, да вокруг дурманящее песочно-розовое замкнутое пространство… Федор Иванов подходил, хвалил Павла, предложил уйти отдыхать — 48 Павел только отмахнулся, смеясь. Перепилили вместе пару балочек. — Конечно, верно, — сказал Федор, качаясь в тумане, — физкультура — она развивает человека гармонически… Гар-мо-ни… И исчез, как провалился. Павел тюкнул топором раз, два — и топор вырвался из рук, полетел вниз, куда-то под стойки. Очень внимательно, не спеша, старательно выбирая место, куда поставить ногу, за что ухватиться, Павел спустился с помоста и очутился среди стоек, как в густом лесу: ну и наставили ребята, обрадовались, с толстым пузом бы который сюда попади — застрянет, точно застрянет… Разыскивая топор, Павел нашел еще чью-то рваную рукавицу, решил наверху поспрашивать: может, кому надо? Топор лежал под отличным березовым стволом, кора такая белая, словно пудрой припорошена, белым пачкается — даже жаль, что вся эта красота сгорит. Присев под стволом отдохнуть, Павел понял, что неодолимо хочет спать, что он сегодня почти ведь не спал. Сверху там пилили, стучали, а тут можно было бы так уютнопреуютно прилечь, свернуться клубком… Эта мысль у него еще не кончилась, а он со всего маху клюнул носом и испуганно проснулся. Не стоило, конечно, спать. Он машинально подобрал среди щепок скомканную бумажку, разгладил — к удивлению, это оказался тот самый чертежик крынки с макаронами, над которым задумывался Федор у раскрытых фурм. Только теперь этот чертежик, видимо, он выбросил. Конечно, это была часть домны — горн с полком, но, органически не вынося безлюдья, Павел достал ручку и дорисовал человечков, после чего получился следующий симпатичный вид. Он лег на бок на кору и стружки, среди приятно пахнущих стволов берез и елей, надвинул шапку на самые глаза, и стало ему тепло-тепло, уютно, как в детстве. Звуки сверху он слышал, как сквозь туман, и они были прекрасной, убаюкивающей музыкой. Он провалился в сон, один из лучших, вкуснейших снов своей жизни. Наверху вскоре кончили без него (неловко, конечно, но уж так хочется поспать!), собрали инструменты, кто-то искал рукавицу (Павел думал: сейчас досплю, отдам ему), Федор Иванов кричал: ' — Никто не остался? Павел прекрасно слышал, но затаился, не хотел отзываться, хитро посмеиваясь во сне. Постепенно звуки затихли, похоже, убрали лестницу, звякали крышкой и ключами, завинчивая фурму. Павел все спал, переполненный тишиной и миром. Но по помосту зашуршало, защелкали какие-то камешки, и вдруг ужасающий грохот раздался, стойки затрещали, на Павла посыпались камни, уголь. Он ошалело сскочил и только тут по-настоящему понял все: что он проспал, что его забыли в домне и никто не хватился, что началась загрузка. Вокруг была кромешная тьма. Натыкаясь на стойки, продираясь сквозь них (опять ужасающий грохот, опять посыпалось!), он кинулся искать на ощупь стены и летку, чтобы хоть закричать в нее, может, кто-нибудь услышит. Наконец, он уперся в стену, продирался вдоль нее, щупал, щупал и нашел место с вывалившимися кирпичами, он узнал его, ужас сделал его каким-то прозорливым, но не было свежего тока воздуха. Он наткнулся на холодный, застывший раствор, выпучившийся из летки: ее запечатали… И тогда он понял, что безнадежно замурован. Загрузят домну, зажгут, и он будет метаться в полке, пока не сгорит, превратится в металл, вернее, в примесь к нему, пойдет в комбайны, и мясорубки, и ракеты… Почетнейшая гибель! Раствориться в комбайнах!.. Он сделал отчаянное усилие — и закричал. Закричал жутким, сдавленным, неестественным голосом, от которого и проснулся весь в холодном поту, и он еще несколько секунд ошалело лежал, уставясь на березовый ствол и туго, с трудом вспоминая, где он. В ушах лопнули пузыри, и он услышал, как наверху стучат, пилят, хохочут. 49 Он торопливо полез наверх, выбрался: ого, до окончания полка еще порядком и порядком!.. И его окутало с ног до головы жаркое счастье. Это было что-то необычное: один дух, один ритм, понимание без слов, азарт. Помост словно сам собой получался ровный, гладкий, ну, прямо хоть на велосипеде езди, хотя в этом не было решительно никакой надобности: ведь сгорит же, не все ли равно какой. Так нет же, видит Николай, что ошметок торчит, приладился, повис, пилкой чик-чик, аккуратно срезал ошметок, полюбовался: красиво. У Федора Иванова лицо совсем осунулось, глаза красные, шапку не то потерял, не то где оставил, волосы буйным колтуном, мокрые сосульки прилипли ко лбу. Отбросил кувалду, выпрямился, посмотрел, прищурясь, и вдруг расцвел, хлопнул руками себя по бокам: — Ах, ребятки мои!.. Молодцы вы мои! Да я вам… да я же вам… — По сто грамм к обеду поставлю, — подсказал Николай Зотов, скаля зубы. — Да черт вас знает, что вам уж и сделать, дьяволы. Ах! Федор сконфуженно махнул рукой, вытер платком лицо, отошел в сторонку, присел' на бревно, тяжело дыша. — Уж ты-то чего надрываешься? — спросил он Павг.а. — Я теСэ наряд не закрою. Твое дело — писать. Вот будешь писать, отметь: мол, работают отлично, стараются, не считаются с временем, если надо… — Здесь был… не вижу его, — сказал Павел, — Хромпик Илья Ильич, пожилой. Он что, вправду начальник цеха? — Привет! Мой начальник. — Он говорил, что задувка эта сложная, неизвестная. — Это так. — А что может случиться? — Да… все может случиться. Думаю, не случится. — Когда теперь зажигать? — Скоро. — Точнее. — Вот-вот. Уже дымом пахнет. — Ну, в котором часу? Сегодня? Или… завтра? — Эй, эй, мудрецы, не надо, не надо! — закричал Федор, срываясь с места. — Эту балку напоследок, замком, вам сказал! Наведя порядок, он вернулся, устало плюхнулся на бревно, внимательно посмотрел на Павла. — Слушай, Пашка, чем лезть ко мне с вопросами, пошел бы ты отдохнул. На тебе лица нет. Иди в будку мастеров, поспи. — Сейчас пойду, только скажи мне такую вещь. Могло бы случиться так, что ктонибудь внизу заснул, а все ушли, закрыли, забыли о нем, и он бы тут сгорел? — И правда ты уже одурел… — испуганно сказал Федор. — Да перед тем, как закрыть, я тут каждый сантиметр обнюхаю и общупаю. — Зачем? — Как зачем? Закрывается навсегда, так уж напоследок все проверишь. Потом, может, где инструмент забыли. Чего ж ему сгорать? — А, ну ладно, тогда пойду… Красивый помост, жаль, что сгорит. — Самому жаль… Осилив лестницу и пролезая на четвереньках сквозь фурму, Павел едва не столкнулся лбом с чьей-то головой. — А! — сказал парторг Иващенко. — Это вы? А я думаю: что за новый доменщик появился в ботиночках? — Так. Погрелся. 50 — Измазались вы, стойте, почищу… Это что, в столице всех так гоняют? Читаешь все: «Корреспондент переменил профессию». — Матвей Кириллович, — спросил Павел, — уж вы-то точно знаете. Когда зажигание? — Точно не точно, но уже скоро, вот-вот. как говорят доменщики, дымком пахнет. — А точнее? — Так вы бы у обер-мастера спросили: Иванов должен лучше меня знать. Павел развел руками. — Я ничего не понимаю… А Иванов молчит. Почему он молчит? — Ага! — усмехнулся Иващенко. — Это уж он такой. Точно. Даром языком болтать не любит. Скажи он срок, а что-либо подведет — он же и опозорится. — Но я успею поспать? — О да, поспать вам надо: вид у вас усталый… Я хотел вам сказать… Давеча наорал. Вы спрашивали, о ком писать. Ну boi, нашли же! Павел открыл железный сундук, развернул свое пальто, молча стал переодеваться. Иващенко подержал ему пальто. — Ах, золотые, золотые ребята, и ничего-то мы не умеем про них сказать! Вы непременно напишите, что работают люди не по обязанности — от души, можно сказать. «Ребята, надо!» Они отвечают: «Об чем речь? Надо — значит, будет сделано». Высока сознательность, коммунистическая ответственность перед обществом. Опишите, прошу вас, это как самое главнее! Без этого бы мы ничего не сделали! Может, вы даже записали бы, чтоб не забыть? Павел вытащил записную книжку и написал в ней: «Сознательность». Парторгу это понравилось, он удовлетворенно закивал: — Конечно, можно упомянуть еще и то, что коллектив, безусловно, политически зрелый. Регулярно, без всяких срывов в доменном цехе проводятся политзанятия и, отметьте, при большой активности участников. Очень большой. Иные лекторы приходят просто мокрые. Позавчера была у них очень бурная беседа о международном положении. Да, и самое главное-то: переходящее знамя доменный цех держит уже третий год! Забавно, но когда Павел тогда разбежался побеседовать, парторг на него накричал; теперь Павел очень хотел уйти, а парторг разговорился так душевно и горячо. — А хотите, так и быть, вам тему подарю? Отличнейшая тема, поле для размышлений! Вы подумайте: в старое время требовались десятилетия, а то целые поколения, чтобы какой-нибудь мужик из деревни или другой слой — горожане, мещане какие-нибудь превратились в индустриального пролетария. Тем более с социалистическим сознанием! А теперь этот процесс идет с колоссальной быстротой. Они проходят школу трудовых резервов, затем буквально считанные годы на заводе — и перед нами настоящий рабочий класс! — Да, — сказал Павел, — это так. — Вот что поразительно. И мы настолько привыкли, что не удивляемся! Тут подошел давешний пожарник, вмешался с вопросом: — А что оно, граждане начальники, загорится скоро? — Скоро, скоро, — сказал Иващенко. — Скоро только блохи ловятся. — А чего еще? Чиркай спичку да зажигай. — Вы полагаете, — спросил парторг, улыбаясь, — что домны зажигаются спичкой? Пожарник смутился и отошел. Павел тоже смутился: и он до сих пор не знал, как зажгут домну. Черт его знает, а в самом деле?.. — Вот так-то, — сказал Иващенко. — Я бы на вашем месте просто запутался, потонул бы в темах и проблемах, которые вертятся вокруг одной только этой домны, а она — это капля в море нашего движения. По недавней статистике в Советском Союзе каждые восемь часов вступает новый промышленный объект. Каждые восемь часов! Но я вас 51 заговорил, а вам и поспать-то негде. Вот ключ от кабинета политпросвещения, с утра там никого нет. Только ключ потом не забудьте вернуть! — Вот за это спасибо! — поблагодарил Павел. Он уже был у железной двери, когда вспомнил, что сегодня ведь должно быть двадцать шестое число. Он быстро обернулся. И только присвистнул or удивления. На домне белел плакат с совершенно отчетливыми цифрами: «Дадим металл 29 января!». Шестерка волшебным образом перевернулась вверх ногами! Павел, всем телом содрогаясь, стал беззвучно хохотать. Смех был несколько истеричный, потому что он не мог справиться с ним до самого управления: только вспоминал эту самую шестерку, так и принимался смеяться. В управлении он отыскал кабинет в самом конце коридора, очень тихий и просторный. Пахло газетами. Раскаленные батареи тихонько пощелкивали. Дивана, к сожалению, не было. Павел составил в ряд несколько стульев, подстелил пальто, положил под голову подшивки газет и только закрыл глаза — тут же и заснул, как в океан нырнул… Глава 9 Павел проснулся мгновенно, словно кто его ударил. В кабинете было темно, из окон падал на стены слабый свет уличных фонарей. Он вскочил, подбежал к окну и удостоверился: действительно стемнело. Первой мыслью было: все проспал, там давно зажгли, а его никто не разбудил. Поспешно заперев кабинет, кинулся в партком, подергал ручку, потом подергал ручку библиотеки: все закрыто. Он скатился по лестнице и стал трясти дверь комнаты, где помещался пост содействия стройке домны. — Чего ломишься, пожар? Давно все ушли, — сердито крикнула сонная вахтерша. — Ты кто таков? Павел сбивчиво объяснил и в доказательство предъявил ключ. — Ключ они велели у меня оставить, — сказала вахтерша. — А не слышали, домну не зажгли? — Не знаю, не знаю, какую еще домну… Павел побежал в доменный цех. Сколько ни вглядывался — огня издали не было видно, над домной ни малейших признаков дыма, это его несколько успокоило. Он поднялся по трапам, толкнул металлическую дверь — и растерянно остановился. Цех, или, как сказали Павлу вчера, литейный двор домны, был совершенно пуст. Даже многочисленные лампы под необъятным потолком были погашены, кроме одной, из-за чего цех стал похож на мрачную колоссальную пещеру. У печи не виднелось ни души, но два открытых отверстия фурм светились, и Павел поспешил к ним, полагая, что там, внутри, кто-нибудь есть. В домне так же ослепительно горела висящая на проводе лампа. Помост закончили, он был великолепен, но еще по всему гигантскому кругу были выставлены бревна, наклонно прислоненные к стенам, скрепленные скобами, так что внутри печи получилась как бы глубокая деревянная чаша, что-то похожее на треки мотогонок, что кочуют по ярмаркам, но не со столь вертикальными стенами. Стояла так же лестница, головокружительно пахло пилеными дровами. Но не было ни души, словно ударили тревогу, и все сразу сорвались и убежали, так все и оставив, не погасив свет… Павел, наверное, еще не совсем проснулся, потому что потряс головой, чтоб убедиться, не спит ли он, бесцельно походил у подножия печи. Его одинокие шаги по мостикам и металлическим трапам четко отдавались эхом, и он почувствовал сосущее чувство покинутости, одиночества, словно бы остался один на целой земле. 52 Поскорее выйдя наружу, он направился к старой домне, куда его водил Селезнев. Свист и грохот двора показался ему приятной музыкой, а старая домна — доброй, ласковой печкой; она умиротворяюще гудела, пышущая теплом, с запечатанной леткой, варила свое чугунное варево. Люди из бригады были Павлу незнакомы, он спросил у них, где найти обер-мастера. — Домой пошел, — сказали ему. — Но придет? Скоро? — Зачем скоро? Завтра придет. «Вот так черт возьми», — подумал он и спросил, где живет обер-мастер. Ему рассказали. Долго объясняли, подробно, даже нарисовали в записной книжке план, который, как вскоре выяснилось, был настолько толковым, что привел Павла прямо к подъезду. Федор Иванов жил в самой современной части Косолучья, в типовом пятиэтажном доме, квартира на верхнем этаже. Дверь долго не открывали, вероятно, потому, что не слышали звонков: за дверью был шум, возгласы, детский визг, какие-то удары. Наконец она распахнулась, на пороге появился сам Федор и радостно завопил: — Вот это да! Так заходи ж скорее, грейся, только хаоса не пугайся! Павел шагнул через порог и тут же чуть не полетел, споткнувшись о большой игрушечный паровоз: пол был весь усыпан игрушками. Из дверей побежали дети, много детей, как показалось Павлу, целый детский сад. Он снимал пальто, а они уже принялись дергать его за штаны, лезли в карманы, а один предпринял попытку взобраться на спину, откуда был, впрочем, тотчас Федором снят. — Надо же, — пробормотал смущенно Павел, — не знал, я бы конфет купил… — Не надо им конфет, обжорам, потом кашу не лопают. Брысь, дайте дяде раздеться, говорю! Брысь, головорезы! Из ванной выглянула сгорбленная старуха с мокрой пеленкой в руках: видимо, она там стирала. Павел поздоровался. Из кухни вышла белокурая рыхлая моложавая женщина в фартуке, видимо, жена Федора, улыбнулась приветливо. Павел поздоровался. Зашли в комнату, тесно заставленную кроватями, стульями, между которыми в промежутках валялись те же игрушки. Перед телевизором сидел дряхлый старик, который с любопытством уставился на Павла. Павел поздоровался. — Проходи, проходи, — бормотал Федор, подталкивая его, прокладывая дорогу среди детишек. — Господи, куда же тебя посадить? Давай сюда, вот зайца уберем… — Сколько вас тут? — пораженно и вместе с тем смеясь сказал Павел. — Да это соседские дети набежали! Своих-то у нас всего шесть, а соседских — не знаю, надо посчитать. — Шесть?! Мать честная, когда ж ты успел? — Мы люди простые, не задумываемся, — смиренно сказал Федор. — Вот так, значит, живем. Это моя жена Зинаида. Это мои книги. Это папаша. Ничего, не обращайся к нему: он глухой. Смотри, смотри себе, папаша! Это мой друг. Старик успокоенно отвернулся к телевизору, все последующее время смотрел его чрезвычайно внимательно и в дальнейшем никакого участия не принимал, словно его и не было. Жена вошла, сняв фартук, сразу сказала: — Если вы очень голодный, так я вас сразу покормлю, идемте на кухню. Павел отказался, и, поторговавшись, постановили, что кормежка будет позже, после детой. — Тогда извините, я — к своим горшкам. Федя, не забывай папаше телевизор поправлять! Да выключи звук, господи, Вавилон, вы друг друга не расслышите! Федор осторожно наклонил стул вместе со стариком, дотянулся, выключил звук (от чего, впрочем, тише не стало) и вернул папашу на место. — А он… понимает? — осторожно спросил Павел. 53 — Он? Еще как! Немного, правда, по-своему. Особенно он оперы лихо смотрит. — Твой папаша? — Жены. Мой-то помер. — Я бы не сказал, что просторно, — сказал Павел, оглядываясь. Федор даже обиделся: — А ты чего хотел? Отдельная двухкомнатная, да кухня, считай, три. Ничего, на квартирку не жалуемся. — По-моему, две комнаты для такой семьи тесно. — Видишь ли… Когда я эту квартиру получал, так нас было всего-то трое с половиной, четвертый на подходе. А потом расплодились. Стариков выписали. Конечно, не простор, зато еесело! — На расширение подай. — Ты что-о? У нас еще хвост до самой луны на квартиры стоит. Молодожены в общежитиях живут. Только одних расселят — трах-бах, новые переженились… — Все же ты обер-мастер. — Вот-вот! Выпроси я квартиру больше, так это ж разговоров хватит до двадцать первого столетия: начальники себе берут, а мы стоим… Нет уж, ну его!.. Да погоди, мы сейчас соседских выгоним, станет посвободнее… А ну, встань-ка, мы тут, кажется, мешаем. Зин, вот скажи ты, в квартире ли счастье? — Конечно, в квартире, — сказала Зина, доставая простыни и просматривая их на свет. — Эх! — крякнул Федор, смеясь. — Я же тебя, дурочка, учил, учил: счастье в борьбе! — Сам ты дурак, — добродушно сказала Зина. И странно: в этот момент, а не тогда, когда впервые увидел Косолучье, увидел всех по очереди, их, ребят, нет, не тогда, а именно в этот момент Павел по-настоящему понял, сколько же это времени прошло! Он смотрел на жену Федора и думал: «Вот она у него давно уже самый близкий человек, это видно по тем легким движениям, взглядам, мимолетной иронии, которые устанавливаются между любящими, крепко связанными людьми, спаявшимися, сжившимися за множество лет… А у меня сколько всего прошло за это длинное время, с тех пор, как мы были просто пацаны, все это время каждый жил, именно жил, сооружал свою жизнь, и все так разошлись, общего остались-то крохи, пустяк: воспоминание о езде на велосипедах, о спорах, о драке… Все главное же — разное, порой катастрофически разное. Это надо бы понять: почему порой катастрофически?..» — Я зашел ведь, — сказал Павел, — только выяснить… — Сейчас, сейчас выясним… Где бы нам, брат, с тобой приткнуться? Зин, мамаша все стирает? В ванной у нас тише всего. — Брось, я сейчас уйду, — сказал Павел, — только скажи мне наконец: да будет ли вообще задувка домны? То есть в ближайшее время? — Будет, — хрипло сказал Федор, сгибаясь под тяжестью влезающего ему на закорки сына. — Когда?.. Тихо, лягушата, дайте слово сказать! Понимаешь, эстакада не готова. — Так… А когда же она будет готова? — Бог ее знает. Может, сегодня, может, завтра. — Ага, все-таки не позже, чем завтра? — Может, послезавтра… — Великолепно работаете, — саркастически похвалил Павел. — Так же, как и вы, писаки, — парировал Федор, тут же срываясь с места: — Эй, ты, мудрец, положь книгу на место! Положь, положь. Вот я тебе картинки дам… Освоившись с шумом, Павел внимательнее оглядел помещение. Квартира была типовой, с пресловутыми низкими потолками, прессованными дверьми, тонкими стенками, выходом на узенький балкон, где за недостаточностью кладовки хранится разный хлам. 54 Обстановка была чрезвычайно ординарная: что продавалось в мебельном магазине, то, не мудрствуя лукаво, и покупалось и ставилось по соображениям не эстетики, а практики. На стенах — литографии только с Репина: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Крестный ход…». За стеклом буфета — парадная выставка фужеров, чашек и тарелочек с позолотой, употребляющихся либо по большим праздникам, либо вовсе никогда. На верху буфета — кипы газет, «Огоньков», вязанье с клубком и спицами, плюшевая мартышка и школьный глобус. Под потолком дешевенькая люстра о трех рожках. Зато было тут и нечто не совсем обычное — полстены книг под самый потолок. Полки были самодельные, некрашеные, из скверно остроганных досок, рядов десять, не меньше, и так плотно набитые книгами, что прогнулись под ними. Рядом с книгами — мобилизующая цитата, каллиграфически написанная на белом картоне: «НАМ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, ЧТО ЕСЛИ ДО 1917 ГОДА НЕДОСТАТОК ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ ПРИЗНАКОМ КЛАССОВОГО НЕРАВЕНСТВА, ТО В НАШЕ ВРЕМЯ ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРИЗНАК ДУШЕВНОЙ ЛЕНИ, ТУПОСТИ И ЗАЗНАЙСТВА!» (Кинорежиссер Сергей Герасимов.) — Так, собираю разные книжицы… — немного смущенно проговорил Федор, перехватив взгляд Павла. — Страсть. Сам понимаю, что глуповато, всего не соберешь, в библиотеку все равно бежишь, но не могу. Жена и та отступилась, вот только эти архаровцы таскают, сколько могут достать. Так я уж так и распределил: в самом низу — ;для тех, кто ползает, разная мура, терзайте! Повыше — для тех, кто переходит от обезьяны к человеку. А сюда вот достает уже народ сознательный, с ремнем знакомый, потому иногда ставит книги на место. Самое же ценное — под потолком. — Ну-ну, оригинальная система, — заинтересовавшись, сказал Павел. — Что же у тебя под потолком? — Металлургия, — гордо сказал Федор. — Две полки одной металлургии, капля в море, это же черт знает, сколько нового выходит, и все нужно знать, иначе пропал. Пониже — классики: Толстой, Достоевский, Пушкин, Бунин вот. Кое-кто из современных, достойнейшие. — А недостойные? — У пола. — Можно взглянуть? Присев на корточки, Павел принялся перебирать книги нижних полок — довольно пострадавшие, изодранные, разрисованные карандашами — и обнаружил знакомые имена, кое-кого из друзей и даже некоторых весьма маститых. Пожалуй, кой-кого хватил бы удар, увидь они эту, так сказать, составленную читателем Ивановым наглядную табель о рангах. — Не ищи, не ищи, там тебя нет, — успокоил, улыбаясь, Федор. — Как по знакомству, ты у меня посередке… На, пожалуйста, распишись на своей книге, может, в классики выйдешь, буду хвастаться. Павел с удовольствием расписался и воткнул книгу на место — между каким-то исследованием о скифах и книгой «Автомобиль «Волга». — Это зачем? — А как же, в каждую лотерею покупаю билет. В последний раз рубль выиграл. («Так. Одно «предсказание» оказалось верным», — подумал Павел, вспоминая свои предположения.) — Там за телевизором вообще-то мой рабочий стол, — говорил Федор, — только туда не пролезть, надо обойти. Они слегка подвинули папашу, внимательно смотревшего на экран (судя по всему, там шел КВН), протиснулись между столом и диван-кроватью, обошли телевизор, и тут Федор разложил откидную доску, вмонтированную в книжные полки, как стало модно делать. 55 Вместе с полкой вывалились кипа бумаг, чертежи и преогромнейшая растрепанная книга древнего вида толщиной в добрых два кирпича и с матерчатым переплетом, не то оборванным, не то объеденным мышами. — Это библия, — сказал Федор. — Что-о? — Библия. Большая ценность, — гордо сказал Федор, не без усилия взвешивая пухлый фолиант в одной руке. — На толкучке совершенно случайно купил, тридцать рублей и неделя домашнего скандала, дорого она мне обошлась… — Свят-свят, али в богословие ударился? — При чем богословие? Астронавтами интересуюсь. — Кем? — Астронавтами, ты ведь знаешь эти гипотезы — о космических пришельцах и прочее, нержавеющий столб в Индии, японские статуэтки в скафандрах, Баальбек, все эти изображения, в том числе и поиски в библии: мол, гибель Содома и Гоморры и все такое. Ну, я на толкучке как увидел, так и схватил: самому посмотреть! — Да, да, теперь понимаю… — Дед продавал, такой настырный попался, продать-то продал, но битый час лекцию читал: что бог есть. «Вы, случайно, — говорит, — не баптист?» «Нет, — говорю, — я доменщик». «А это что за секта такая?» «Мы, — говорю, — огнепоклонники». «Отдавай назад библию, — говорит, — вы язычники и еретики». Едва ноги унес. А книга, скажу тебе, великолепная, столько сказок своим лягушатам почерпнул! Какие легенды, какие предания, но ведь послушай, не из пальца все абсолютно высосано — за чем-то стоит жизнь, подлинные события? А про астронавтов я даже впятеро больше нашел! — Я читал, — сказал Павел, — но что-то не помню там никаких пришельцев… Заглянула в комнату жена Зинаида, крикнула: — Идите, бесприютные мои, на кухню, уже можно! — Пошли, — обрадовался Федор, — и эту грандиозную книгу возьмем, я кое-что тебе прочту — упадешь. Заинтригованный, Павел пошел за Федором, они едва протолкались через переднюю, где Зинаида одевала по одному и выставляла за дверь соседских детей. — Гляди не перепутай, — мимоходом сказал Федор, — своих оставь дома. Я потом сосчитаю. — Иди, иди, — отозвалась жена. — Своих я знаю, все в отца, чокнутые. Не путайся, а то заставлю всех укладывать. — Представляю себе: уложить шестерых, — сказал Павел. — Детей? Нет, их не трудно, — сказала Зинаида. — Деда трудно. — Дед упрямый до невозможности, — подтвердил Федор. — Весь в свою дочь. — Лучше скажи: с зятем два сапога пара. Павел обнаружил, что он уже отличает Федоровых детей от чужих: эти действительно были в отца, с близко посаженными глазенками, смуглые, большеротые, ушастые лягушата разных калибров. Вот так Федор, значит, и размножился делением. Ух, кровь-то, ну, копии Федора! Вот кому не приходится сомневаться: не в проезжего ли молодца… А, должно быть, приятно, черт бы его взял, смотреть и видеть себя в шести зеркальцах: умрешь, а ряшки твои будут гулять по жизни. Многодетным людям, может, и умирать чуточку легче… — Однако порубаем мы с тобой сейчас отлично, — говорил Федор, подталкивая Павла в чистенькую, уютную кухню, явно только что прибранную. На столе дымились две тарелки супа и на решеточке сковорода, полная горячей картошки с мясом. И тут Павел вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, и он почувствовал такой зверский аппетит, что все жилки в нем затряслись. Он накинулся на суп, потом на эту царскую картошку с мясом, вкуснее чего, казалось, ничего на свете выдумать невозможно. Он блаженствовал, наслаждался, стараясь изо всех сил только не слишком жадно хватать 56 куски. Федор же, наоборот, ел рассеянно, надолго забывая нести в рот ложку, но целиком нырнул в книгу, с уважением, осторожно листая ветхие бурые страницы. Нашел закладку. — Страница девятьсот восемьдесят третья, «Книга пророка Иезекииля», читал? — Не помню. — В том-то и дело, что никто эту библию от начала до конца не осиливает, а этот Иезекииль тут затерялся… Я удивляюсь исследователям: может, просто не заметили? Вот послушай: «И было: в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса — и я видел видения…». Понимаешь, он выдает себя за очевидца, этот парень. Может, вправду видел, может, от какого старика слышал, а врет, что сам видел, но суди сам, можно ли такое выдумать или увидеть в бреду? «4. И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. 5. А ил средины его как-бы свет пламени ил средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был, как у человека. 6. И у каждого — четыре лица, и у каждого из них — четыре крыла. 7. А ноги их — ноги прямыя, и ступни ног их — как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь (и крылья их легкия). 8. И руки человеческия были под крыльями их, на четырех сторонах их. 9. И лица у них и крылья у них — у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего». Послушай, Паша, но давай взглянем трезво. С огнем и вихрем прилетели четыре существа, похожие на людей, но и чем-то отличающиеся от них, с крыльями, обутые во чтото металлически блестящее. В лицах было что-то непередаваемое, этот парень явно запутался, пытаясь описать, и скоро ты поймешь, почему. «13. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад;, огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня… 15. И смотрел я на животных, — и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их… 19. И когда шли животныя, шли и колеса подле них; а когда животныя поднимались от земли, тогда поднимались и колеса». Учти, это пишется в библии, древняя, мучительнзя попытка описать что-то сложно техническое. Колеса, вертолетные винты? Быстрое движение с огнем и молнией — реактивные двигатели? Хорошо, теперь слушай главное, от чего у меня глаза полезли на лоб. «22. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их». Что это могло быть, если не прозрачный шлем скафандра? Ах, если б можно было знать, видел это он в самом депе или врет!.. Нет, ты прочти своими глазами! Павел перечитал: «…подобие свода, как вид изумительного кристалла…» — Описание, совершенно не типичное для мифов и сказок. Вопрос, можно ли такое выдумать? — Теория отражения, — сказал Павел, — говорит, что выдумать несуществующее невозможно. Наша фантазия привязана к реальности. Попробуй вообразить что-нибудь абсолютно уж несуществующее — и оно окажется скомпонованным из того, что существует. Авторы научной фантастики пытаются придумать самые невероятные формы, но в общем у них получаются какие-нибудь чудовища, составленные из крокодилов и карбюраторов, и, кажется, предел всего — мыслящий океан у кого-то, покрывающий целую планету, то есть что-то составленное из знакомых океана, мозга, пластичной амебы… 57 — Мудрец ты мой! — закричал Федор. — Значит, чтоб этот чудак Иезекииль смог такое вообразить, даже увидеть во сне и бреду, он должен был все эти детали видеть?.. Ты понимаешь, он так взволнованно пишет, повторяет одно и то же и так и эдак, силится выразить, прямо кричит: вот, вот, я видел, такое страшное, они летали, с колесами, крыльями, сводами над головой, и все это ужасно грохотало: <'2Л. И когда они шли, я слышал шум крыльев их. как-бы шум многих вод. как-бы глас Всемогущаго, сильный шум, как-бы шум в воинском стане; а когда они останавливались, — опускали крылья свои». Нет, скажи, зачем бы ему вообще это выдумывать, такую несусветицу, которой вряд ли кто и поверит? Ну, сказал бы, что явились ему ангелы с перьями или какие-нибудь там боги с рогами, ведь это же естественнее всего? Нет, он описал либо то, что сам видел, либо от кого-то слышал! — Да… Убеждать ты умеешь, — пробормотал Павел. — Но что там было дальше? — А!.. Дальше скверно. Этот дикарь, олух, конечно, страшно перепугался, решил, что перед ним посланцы господа, «пал на лице свое», а они что-то ему настойчиво говорили, но, вероятно, он не понимал и от ужаса слышал совсем не то. Они ему дали какие-то документы, он их сожрал. — Что-о?! — Слушай. Вот новая глава: «8. Ты же. сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе: не будь упрям, как этот мятежный дом;'открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. 9. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней — книжный свиток». И дальше — еще одна глава: <3. И сказал мне: «сын человеческий! напитай чоево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе»; и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Федор, прочтя это, даже с досады хлопнул по книге: — Ах, чтоб ты провалился! Они ему какие-то знания или послания пытались всучить, мол, это надо усвоить, головой понять, показывали знаками — я так полагаю. А он, дикарь проклятый, взял и сожрал!.. Ну, они убедились, что с такими каши не сваришь, полетали еще, подожгли при старте Содом и Гоморру и улетели себе, оставив память о сынах божьих, спускающихся с грохотом с неба, с нимбами вокруг голов и сиянием… Тут, брат, если начинаешь задумываться, такое в голову приходит, может, когда-нибудь за некоторыми религиозными штуками такое откроется зашифрованное… А ты вообрази себе: вот ты дикарь, и прилетают космонавты. Да тут не только их бумажки сожрешь — вообще разрыв сердца получишь! Ах, Иезекииль, ах, Иезекииль!.. А может, они ему просто шоколадку дали? Он огорченно замолчал, наложил себе остывшей картошки, стал ее молча есть, а Павел насытился, сидел осовело, тупо смотрел на библию. — Странное сочетание у тебя, — сказал он. — Доменная печь — и древние тексты… астронавты… — Чего странного? Это же дико интересно! — Ну да, но в эти дни, я думал, у тебя голова должна трещать о домне: как ее разжечь-растопить? — А растопим! Не боги горшки обжигают. Сложность, конечно, есть. Свихнешься — суй голову в петлю. А что не сложно? Ты давеча видел полок, казалось бы, чего уж тут, тяпляп, сколотил, а сложно! Автомашину выиграть сложно. Детей вырастить — сложно. — Ну, ты меня своей шестеркой удивил! Здоров, бродяга, сколько же это времени ты женат? — Семь… нет, уже восьмой год пошел. — Значит, в среднем по одному в год стреляете? — А что голову морочить? Для себя, что ли, жить? А с ними дико интересно, честное слово. 58 Павел машинально отметил про себя это второй раз «дико интересно». — Вчера я был у Витьки Белоцерковского, он и его Луэлла принципиально не имеют детей. — Вот, Пашка, кого я не понимаю, так это Витьку, — вдруг очень доверительно сказал Федор. — Да его многие осуждают, считают подонком… Я не хочу говорить о нем ни плохого, ни хорошего, потому что не понимаю. Иногда он мне дико неприятен, иногда же кажется, будто ему не хватает, очень не хватает… какого-то добра?.. Нет, не берусь, не знаю. — Это невероятно, как все мы изменились. — Просто углубилось то, что было и раньше заложено. То были хихоньки да хахоньки, смешные расхождения, теперь они выросли. — И ты со всеми ними перестал водиться? — Как сказать? Пожалуй, да. Работы разные. Сам посуди. Славка Селезнев — это врожденный холостяк. Добрый малый, правда, болтун, но дело не в этом, а главное, ведь я многосемейный. Рябинин Мишка — он своим домом живет, забот полон рот, чехвостят его в хвост и гриву по работе, но ведь сам согласись: работа-то какая… И смех и грех с ним, этим Мишкой! — Женя Павлова, звезда наша, — подсказал Павел. — Вот ей не повезло, — нахмурился Федор. — Добрая девчонка, умница; всякий раз, как увижу ее, думаю: и что оно за чертовщина, почему так бывает? Ведь славная девчонка, а так еще годок-другой и… — О каких девчонках речь? — спросила Зинаида, сваливаясь на кухню, как снег на голову. — Засекла, — сказал Федор. — Разговор чисто теоретический, — объяснил Павел. — Мы тут тихо, прилежно святую книгу читали. — Это в ней-то про славных девчонок писано? — Я пойду, — сказал Павел, вставая и в горячих выражениях принялся благодарить за кормежку. — Я только всех угомонила, — вздохнула Зинаида. — Думала послушать, что умные люди говорят… — В другой раз, — пообещал Павел. — Боюсь, опоздаю на трамвай. Федор посмотрел на часы. — Да, если хочешь уехать — спеши. Но лучше ночуй у нас. Я без дураков, постель сейчас найдем, только не гарантирую сверхудобства. — Уж извини, широкая душа, — засмеялся Павел, — вас и без меня тут, как сельдей в бочке. — О, ты не знаешь возможностей современных квартир. На Новый год у нас восемь человек одних гостей спало. Правда, Паша, если трамвая не будет — спокойно возвращайся, мы тебя куда-нибудь в уголок, в солому!.. Павел вышел, чувствуя себя приподнято-легко. Сбегал по лестницам пружинисто, поюношески, прихватываясь на поворотах за перила, выскочил во двор, вдохнул полную грудь воздуха — хорошо!.. «А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса… Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла…» И так это его все взбудоражило, что он думал об этих животных до самой гостиницы, и только в номере спохватился: ведь был он у обер-мастера доменного цеха, и надо было выспросить о печи, о доменном деле, а говорили (скажи кому, не поверит!) о космических пришельцах, библии, деторождении! Но ему было приятно, как Федор мягко, без злобы говорил о других: Белоцерковском, Рябинине… Что означает эта мягкость: мудрость? слепоту? В ящике лежал сложенный листок, развернув который Павел с недоумением прочел: «Черная металлургия — основа основ индустриальной мощи… Организуя и подчиняя себе 59 огненную стихию…» Он не мог поверить, что это сам написал. В тот первый вечер… Мелко порвав лист, он бросил кусочки под стол, но оказалось, что корзины там нет. Он подумал, что завтра, убирая, горничная помянет его нелестными словами, встал на четвереньки, все подобрал, отнес в унитаз и спустил воду. Затем он вернулся, подошел к окну и посмотрел на белые, пустынные равнины. Над полем светила луна, из-за нее звезды едва различались. Так захотелось чуда: чтоб явился вихрь, огонь с севера или с юга, и вдруг на это поле бы опустились «дико интересные» существа, сверкающие, как медь (и крылья их легкие). (Окончание следует.) стихи Леонид Мартынов * На одном Конце Москвы Дождик, слякоть, прелый лист. На другом Конце Москвы Белый снег и вьюжный свист. И хоть что ты ни одень. Но похоже, что сейчас Здесь в один и тот же день И в один и тот же час Будто целые века Совмещаются едва. Вот насколько велика Современная Москва! Полет над Барабой Подпирал своей я головой Этот самый купол голубой Над земною бездной в снежном блеске. Я летал над Барабой С Николаем Мартыновичем Иеске. Это был отчаянный пилот. Но однажды Наш ветхий самолет Оказался не в силах оторваться От снегов Барабинских болот: Вязли лыжи. Липли к снежной жиже — Дело было по весне. Иеске Бортмеханику и мне Крикнул: — Помогите, бога ради, Раскачаться сатане — 60 Подтолкните его сзади! Соскочили мы, ворча. Два юнца, два силача, И толкнули мы с разбегу «Юнкере», будто бы телегу. И потом уж на лету В воздухе наполовину, Набирая высоту Сквозь воздушную лавину, Завалился я в кабину. А как забрался на свое место бортмеханик. Окутанный какими-то собачьими мехами, Я даже и не помню, но и он ухитрился. И летели два часа почти. Не было мне и двадцати; Даже и не простудился. Прилетев, Мы пили ром, коньяк, И сердилась летчика супруга: — Николай Мартынович — маньяк. Все вы трое стоите друг друга! * И спросил я у кукушки. Сколько лет мне жить осталось. И сначала показалось. Что кукушка отмолчалась, Но потом закуковала В утешенье простаку Добродушная кукушка Бесконечное ку-ку. Лета Ночь. Отмыкается плотина. И медленно, почти незримо. По Истре проплывает мимо Не только муть, солома, тина, Но цвет люпина, зерна тмина И побуревшая от дыма Неопалимая купина Из Нового Иерусалима. И, как из Ветхого Завета, Поблескивают зарницы, Напоминая издалека Про старого Илью-пророка, 61 Который не на колеснице Носился, а на самолетах. В своих трудах, в своих заботах Там, на верховьях, жил он где-то. Отгромыхал и отворчался… Струисты Воды старой Истры. На берегу клочок газеты Шуршит, кто жив, а кто скончался. А берега ее холмисты И бродят, как анахореты, По ним и старые поэты, И живописцы, и министры. Но появляются туристы, «Победы» и мотоциклеты. И в заводях из малахита. Где водорослей волокита Не унимается все лето. Зияют ржавые канистры. Дар проезжающих… Все это Ты видишь, старая ракита, Застывшая над устьем Истры, Как будто Эта Истра — Лета. * Год двадцатый был. На Остоженке Крест над церковью Стынул, согнут. Шли мы к центру. Был моей кожанки Воротник широко расстегнут. Я сказал: — Береги свои пимики Потому, что они в заплатках. На углу продавали алхимики Сахарин в нечистых облатках. Чай морковный был, кофе — желуди. Ты печальна была, я — весел. В красных красках на белом холоде Я тобой еще только грезил. * Воспоминания зловещи, И, знаешь сам, они нередки: Соха, лучина, кнут — вот вещи. Которыми владели предки. 62 Все это мы храним не пряча И в старине души не чаем, Но и наследство побогаче Своим потомкам завещаем. Чтоб нас они не поносили Перед музейного витриной, В своей уверенные силе И в нашей слабости старинной. Разум бескрылых Сознанье есть во всей Вселенной — Есть смысл и в стуже и в огне, В небесной молнии и в пенной О скалы бьющейся волне. Осмысленность есть даже в птицах! И часто голубь-лицедей Перед своей голубкой В лицах Изображает жизнь людей. А та косит Надменным глазом На окна в секторе жилом: — Бесспорно, есть какой-то разум И у бескрылых за стеклом! Девушка и охотник Старую песню спой ты мне, Старый охотник! Но рассмеялся верхом на коне Старый охотник: «Приехала девушка, ой, хороша, Я, говорит, среди озерного камыша Желаю поймать Розовое фламинго! — Это что за розовое фламинго? — А вот Эта самая птица — Зиму в Африке она живет. Летом на КургальджинЛенисе гнездится. А я говорю ей: ты сама Розовая фламинго. А она говорит: ты спятил с ума — Я научный работник!» Красота Мир завистников и злыдней Все ехидней, все опасней… Красота все безобидней. Миловидней и прекрасней. 63 Чтоб они не смели трогать И сживать тебя со света. Покажи им острый коготь — Будь уверена, что это И тебя не опорочит И мерзавцев озадачит? А она в ответ хохочет Так печально, будто плачет. Ирина Озерова * Зеленый вкус незрелых яблок. Зеленый ливень кратких гроз… Наверно, больше не смогла бы Я ощутить его всерьез. Распались краски на оттенки, Увяла летняя страна. Смещают вкусы и оценки Осенние полутона. А для кого-то так же ярок И так же яростен до слез Зеленый вкус незрелых яблок, Зеленый ливень кратких гроз. * То полдень, то полночь… В природе Все встало сегодня вверх дном. Большая Медведица бродит. Как призрак, под Южным Крестом. Тяжелые, мокрые травы От ветра встают на дыбы. Налево иду, как направо, К судьбе ухожу от судьбы. Вчерашним иль завтрашним жаром Мне губы опять обожгло! Сомнение дождиком ржавым С дрожащей ресницы стекло. А песня о счастье кричала В чужом освещенном окне! Но в ней ни конца, ни начала Узнать не позволили мне. Бабы Когда-то бабы голосили, То от беды, то просто так, Как будто душу выносили На праздный пересуд зевак. Незрячи и простоволосы, 64 Причитывали мудрено… Их древнее многоголосье Не слыхано уже давно. Теперь мы стали терпеливей, Гром не гремит среди грозы… Но разве горше прежний ливень Одной теперешней слезы?! Лариса Васильева * Да ведь я никого не ждала, отцвели, отпылали сирени, равнодушно и тихо жила на скрещениях света и тени. Было просто былое забыть на скрещениях тени и света, я не знала, что можно любить и не ждать никакого ответа. Можно годы не видеть, смотреть не в глаза твои — в окна пустые. Мог ты (страшно сказать) умереть, окунаясь в туманы густые. Я люблю тебя! Эти слова мне высокую боль подарили, их сегодня шептала трава, а вчера облака говорили. И открытие разум прожгло, откровение сердце спалило. Сколько б новых веков ни пришло, сколько б старых за гранью ни плыло, вечно было, и будет, и есть это дерзкое чувство в народе — откровенная, добрая месть подарившей нам смертность природе. * Сжимает горло, леденит запястья великая и вечная тщета. За два мгновенья призрачного счастья я отдавала целые года. А после неизменная расплата: царапина на встреченном стволе, пустое равнодушие заката, пустой стакан на выцветшем столе. И все-таки — откуда, неизвестно — брела весна в оборванных стихах, и в тесной кадке восходило тесто, замешанное как-то впопыхах, 65 и резко звал рожок автомобиля и самолета непривычный гул, и в сказке детства ясный призрак были отчаянно и весело тонул, и снова я разбрасывала годы, в предвестье шла, не разобрав пути, чтоб сквозь туман и ветер непогоды твой взгляд найти и свой не отвести. Бося Сангаджиева * Как-то раз в гостинице под вечер Я включила свет. И замерла: На стене блестела в ярком свете Маленькая швейная игла. Вдалеке от дома, на высотной. На пустой гостиничной стене, — Вдруг игла! И легкий, мимолетный Дух домашний тронул сердце мне. — Ой, иголка! — я проговорила. Чувствуя, что знаю и люблю Женщину, которая так мило На стене оставила иглу. Захотелось тоже что-то сделать Для других. И как бы перед ней Я в ушко иголки нитку вдела И нашла ей место повидней. Перевела с калмыцкого Н. МАТВЕЕВА. Роберт Рождественский Утренние стихи Уже проснулся дом, потягиваясь тайно. В нем, как в лесу густом, движенье, бормотанье. Как тысяча рапир, зазвякала посуда. К зарядке приступил сосед — 66 работник ЦУМа. Звучат его шаги, как вечное возмездье. Сейчас пойдут прыжки, потом — ходьба на месте. Дверь хлопнула вдали. Окно в дождинках крупных. Вовсю гудят шмели в водопроводных трубах. Лифт ссорится с людьми от перенапряженья… Уже проснулся мир. Уже пришел в движенье. Под камни в темноту переползают крабы. В задымленном порту зашевелились краны. Будя себя самих, топорщатся пороги. Тяжелый грузовик ревет на повороте. Метро вошло в азарт. Открылись магазины. Заговорил базар. Гудки заголосили. Букашкой со стола срывается курносо гремящая стрела с груди авианосца!.. 67 Ворочаюсь впотьмах от радиофальцета. Ведь слышимость s домах и в мире равноценна. Несовместимость В криках «Осанна!», в разливах венчального звона тоже идет пересадка сердца живого… Высятся гордо зазывные глыбы салата. Возгласы «Горько!..» А может, и вправду несладко! Смех испаряется! Бездарно такое соседство, если в семье не появится общее сердце… Ветры вибрируют, лес накренился упруго… Жизнь оперирует лучше любого хирурга. Это — болезненно. Буднично. Неотвратимо. Тонкое лезвие власть над людьми захватило!.. 68 Сон отступает. Руки твои опустились… Горечью пахнет. Разлукою пахнет. Несовместимость. Несовместимость. Взглянув исподлобья на рану, суд, ощетинясь, разводы дает, как в награду… Несовместимость! Тебя проклинают, боятся! Ты превратилась в судьбу, в приговор, в постоянство. Несовместимость асфальтовой рани с тьмой непролазной. Несовместимость шалашного рая с детской коляской. Несовместимость пастушьей свирели с суетным веком. Несовместимость ветки сирени с атомным ветром… Мучает, подстерегает преступно, грозно, угарно несовместимость гнома-поступка и слова-гиганта… …Похолодели. 69 Прошли стороною. Взглядом простились. Несовместимость виною. Несовместимость. Голод Метелью ошарашен город. Дома в сугробах, будто в мыле… Я голодаю. Это голод на то, что происходит в мире. Мир кажется большим и ушлым. А мне его сенсаций мало! И для меня газета утром, как героин для наркомана. Я голодаю, голодаю, барахтаюсь в журнальной снеди. Спешу. Внимаю клокотанью событий на моей планете. От войн до сбора земляники, от спорта до проблем жилищных. Дурманный запах новой книги мне слаще запаха шашлычных. Не понимаю. 70 Понимаю. Приветствую. И осуждаю. Смиряюсь. Голову ломаю. И голодаю, голодаю. То важным занят, то мурою. Дышу. Найти себя пытаюсь. И голодаю. И порою пустыми слухами питаюсь. Вот возмутился, поперхнулся… Но если даже в снах витаю, мне снится, будто я проснулся и голодаю, голодаю. ПРОЗА С латышского Альберте Бэле ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА РАССКАЗ Неожиданно я заболел и несколько дней провалялся с температурой, головной болью, ломотой во всем теле. Когда поправился, мне дали три дня отдохнуть, а на четвертый выпало воскресенье. Дело было осенью, и, собираясь погулять, я надел пальто и шляпу. У каждого для прогулок есть свои излюбленные улицы, были они и у меня, «о в то воскресенье я немного отклонился от привычного маршрута и вышел к зданию техникума. Дворник поливал улицу, а погода выдалась до того теплая, что над мокрым асфальтом клубился пар. Я увидел похоронную процессию, которая медленно двигалась от техникума. Оркестр играл траурный марш. Прохожие останавливались посмотреть. Дворник привернул кран, водяная струя сникла, ее тонкий язычок втянулся в медную горловину, и усмиренная кишка-змея свернулась у ног дрессировщика. И только мокрый асфальт по-прежнему дымился. В рядах провожающих я с удивлением обнаружил кое-кого из бывших сокурсников. Я не виделся с ними много лет — с тех пор, как мы разбрелись кто куда. Здороваясь со мной, они сочувственно поглядывали на мое осунувшееся лицо, свободно висевшее пальто. Несмотря на теплую погоду, мне 71 почему-то стало холодно. И все-таки я решил присоединиться к процессии: было приятно повидаться со старыми друзьями, да и любопытство разбирало. — Кого хороните? — спросил я. — Старого Павила, — ответили мне. Старого Павила? Я запомнил его лучше остальных преподавателей из-за тех нескончаемых шишек, что сыпались на голову бедного математика. На его старую, бритую, бугорчатую голову! Под тупым, прямым носом тонкие губы, уши отвислые, голова круглая, как у леопарда, и мускулистое туловище гладиатора. Казалось, один из соратников Спартака на миг вышел из реки забвения и обрядился в костюм двадцатого века. Глаза были серые, отсвечивали сталью, как поверхность щита. — Собираетесь стать инженерами? Это вы-то, лодыри? Зарубите себе на носу, никогда вы не станете настоящими инженерами, если не научитесь ценить время! На первой лекции старый Павил достал из кармана серебряный брегет величиной с блюдце и, положив его на стол, объяснил: — Вторые по точности часы Советского Союза. Первые — большие часы радиокомитета. Получил от командира полка. Приз за меткую стрельбу. Мы гуськом подходили поглазеть на эти чудо-часы. На них было пять или шесть циферблатов, и они показывали год, месяц, день, число, атмосферное давление, отмеряли минуты, секунды. Что и говорить, мировые часы! У нас рты раскрылись от удивления, и на первом занятии мы сидели тише воды, ниже травы. Старый Павил начал лекцию. По загоревшимся в его глазах огонькам мы сообразили, что для нашего преподавателя нет вещи дороже, чем высшая математика. Старый Павил читал лекцию в полной уверенности, что его любимая наука станет и для нас родной и близкой. Теперь и вспомнить стыдно. Впрочем, это даже не стыд, тяжесть какая-то. Былого не вернешь, а годы ушли. Хотя не так уж много, годов этих чуть-чуть за тридцать. Старый Павил в нас верил, думал, мы станем не только хорошими инженерами, но еще и хорошими людьми. И, конечно, стали. Но почему так поздно? Почему с таким трудом? Диву даешься, сколько всякой чепухи лезло в головы пятнадцатилетних мальчишек. Стоило преподавателю запнуться на каком-то слове, и кличка готова: Заика. Неважно, что он отличный артиллерист, неважно, что осколок задел шею. Мы потешались над его воспоминаниями, подзадоривали вопросами о войне, потому что старый Павил ни о чем, кроме математики, не умел говорить толково. Получалось забавно, когда он горячо, но сбивчиво и косноязычно рассказывал о бое, где его контузило. — Огурцом соленым в ухо! Это ты, Карклинь, крикнул тогда, прячась за спинами товарищей. Старый Павил взорвался, подобно снаряду. — Молокосос! Вон из класса! У него был цепкий взгляд, он тебя сразу заметил. Ты, Карклинь, что-то лепетал, просил прощения, но старый Павил не дал тебе говорить. — Молчать! Вон! Что такое дорога из Капуи в Рим? Шесть тысяч непокорных рабов, распятых на крестах. Фашисты распинали миллионы сверстников старого Павила, не рабов, свободных людей, и война с фашистами была делом священным. Теперь-то я краснею. Черт побери, стыдно! Так стыдно, что я начинаю ругаться! Черт побери! А тогда посмеивался. И героем казался ты, Карклинь! Остальные были не лучше. Мы не удосужились заглянуть поглубже, не подумали, куда заведут нас плоские шутки. Стоило старому Павилу обнаружить свое слабое место, и мы принялись донимать его по любому поводу. Мы дождались, когда старый Павил забыл свои точнейшие часы в учительской. Запрятали в преподавательский стол будильник, поставив его на взвод задолго до конца лекции. В техникуме был электрический звонок, но будильник звенел удивительно похоже. — Звонок, звонок! — загалдели мы. 72 Старому Павилу и в голову не пришло; что мы его разыграли, он послушно собрал бумаги, извинился, что не успел объяснить материал, дать домашнее задание, и отправился в учительскую. Мы ликовали, мы покатывались со смеху. Кто-то ворвался из коридора. — Идут, — прокричал, — идут! Вошел директор со старым Павилом, мы сидели, присмиревшие, и с поразительным бесстыдством уверяли, что ничего не слышали. Старому, контуженому человеку просто показалось, что прозвенел звонок. Директор заколебался, не зная, кому верить. — Разбирайтесь сами, — наконец бросил он, — но чтоб это было в последний раз. Теперь мне кажется, что у нас был не очень хороший директор. Мы стали еще безжалостней. Когда старый Павил выводил на доске формулы, мы бросали в него ореховые скорлупки, норовя угодить в широкие штанины. Старый Павил'досадливо морщился, когда скорлупка попадала в цель. Он так погружался в свои расчеты, что, кроме них, на земле ничего не оставалось. Человек работал. Ему докучали мухи. Старый Павил не обращал внимания на мух. Закончив, он бодро повернулся и увидел летевшую в него скорлупку. Он понял все. И снова взрыв. А мы только того и ждали. Мы были в восторге. Вот какие мы смелые! Вот что мы сделали с человеком, который, конечно, умнее и лучше нас всех, вместе взятых. Что, небольшая контузия? Пустяки. Что делал ты, комсорг Буцынь? — Я смеялся вместе с другими. Вместе с другими? Неважно, над чем смеяться, лишь бы вместе с другими. Не тебя упрекаю, комсорг Буцынь, я упрекаю себя. Неважно, над чем, только бы вместе с другими. Те, кто думал иначе, те молчали. Бессловесные, тихие правдолюбцы. Я и сам был таким. Не одобрял, но отмалчивался, зная, что, если вступлюсь, никто мне голову не оторвет, разве что косо посмотрит, назовут подхалимом. На худой конец поколотят, может, сломают ребро. Но я не верил, что сломают ребро, и все-таки молчал. Ох, как красиво мы умели молчать, бессловесные, тихие правдолюбцы! Нас было много. Больше, чем бомбардиров с ореховыми скорлупками в карманах. Мы были сильнее. Если бы они не послушались по-хорошему, мы могли бы пустить в ход кулаки и одолеть их. Но мы молчали. Бомбардиры были едины, а мы — разрознены. Хотя в известном смысле слова заодно. Наше молчание делало нас соучастниками. Старый Павил научился себя сдерживать. Директору он больше не жаловался. Он знал, что этим ничего не добьешься. Он терпеливо сносил все. Старый Павил учил нас высшей математике. Осенью мы поехали в колхоз. Сложив несколько стожков гороха для просушки, мы схоронились под ними. Старый Павил, запарившись, пошел к меже скинуть лишнюю одежду. Обернувшись, он никого не нашел. Он расхаживал по полю в голубой тенниске и не в очень элегантных трусах, а мы лежали под стожками и давились беззвучным смехом. Старый Павил звал нас: — Мальчики, мальчики! Склонившись над стожком, попробовал кого-то вытянуть за ногу. Ужасно смешно, не правда ли? Старый Павил тоже улыбнулся, обнаружив нас. Он перестал улыбаться, когда его лягнули. Ужасно смешно, не правда ли? Нервы человека все равно что поводья игрушечной лошадки. А ну, пришпорим лошадку! Пошла, лошадка! Ох, ребята, потеха! В общем, ты был неплохим парнем, Ирбе, ведь ты же не хотел лягать по-настоящему, ты хотел лягнуть просто так, для острастки. Но не рассчитал. Всего-навсего не рассчитал. Где ты теперь? — Ты же знаешь. Все товарищи знают. Да, ты первым проделал тот путь, который сейчас совершает старый Павил. Тебя убило током в трансформаторном шкафу энергораздаточной станции. Ты работал, тебе дали время, час и пятнадцать минут, потом должны были подключить высокое напряжение. У тебя остановились часы, ты задержался, и дежурный включил линию. У остальных часы шли нормально. У дежурного тоже. Ты увлекся работой и, взглянув на циферблат, не заметил, что время остановилось, что вода перехлестывает через шлюзы. Если бы у твоих часов была секундная стрелка, ты бы легко заметил остановку. Стрелки движутся медленно, глаз 73 человеческий несовершенен. Может, ты забыл их завести? Может, рядом не оказалось друга, кто бы мог подсказать тебе, что часы стоят? Если друг не подскажет, что часы твои стали, такой друг ничего не стоит. Откроются шлюзы, и провалишься в кромешную тьму. Меня не было рядом, я был далеко, но мне пересказывали этот случай до мельчайших подробностей. Тебя убило током в трансформаторном шкафу энергораздаточной станции. Говорят, ты сам виноват. Не останавливать же всем часы из-за того, что у тебя остановились. И тех, кто делает часы, тоже не упрекнешь. Говорят, ты не проверил часы. Раз человек не проверил часы, отлично зная, что жизнь его зависит от бега времени, значит, в душу такого человека закралась ошибка. Где она, та ошибка, которая погубит меня? Не сидит ли она во мне с той поры, когда я видел, как лягают моего учителя, а я смеялся? Мне вдруг показалось, что я раскрыл в себе врага. — Кто ты такой, Лиепа? — спрашивают меня. — Инженер. Вывожу на себе весь завод. — Да, знаю. А помнишь? Конечно, это была случайность. С таким же успехом на месте старого Павила мог оказаться кто-то другой. Но вот знали мы или не знали, что в учительской остался только наш старик и что он скоро должен спускаться по лестнице? Чего не помню, того не помню. Сдается мне, это была простая случайность. Мы стояли на верхней площадке и поплевывали вниз, в узкий пролет лестницы. Интересно было наблюдать, как плевок, вертясь, раскручиваясь, падал вниз. «Плик», — доносилось каждый раз. На лестнице послышались шаги, но вскоре затихли, наверное, и старый Павил прислушивался к странным «пликам» снизу. Он просунул в пролет голову, чтобы посмотреть, что там такое. Вверх, вниз. Откуда? Что? Почему? Плевок шлепнулся прямо на лоб. Не только на высокий, бугорчатый, математический лоб, на самые мысли его! Какая мерзость — плевать на мысли человека лишь потому, что ты стоишь двумя этажами выше! Старый Павил достал из кармана платок, вытер лоб. Мы затаили дыхание. Старый Павил не бросился ловить нас, наказывать. Не пожаловался и директору. Даже не взорвался. Старый Павил был благороден. Его единственной заботой было научить нас высшей математике. Старый Павил в нас верил. Это все мальчишеские шалости. Образумятся со временем. Станут людьми. Образумимся? Станем людьми? Но когда же, когда? Когда начинается человек? Ты можешь сказать: завтра и начинаюсь. Буду чистый и светлый, как солнце. О нет, завтра слишком рано, лучше я начнусь с послезавтра! А почему с послезавтра? Куда торопиться, мне еще кое-кого надо оплевать да лягнуть одного, другого, третьего, на это уйдет по крайней мере неделя, а уж через неделю, тогда я начнусь. Но я-то лучше их, я начнусь через час! Что, неужели через час? К награде его, к награде! Когда начинается человек? Скотина тупо глядит, как убивают другую скотину. Хитрая рыба не клюнет крючок: пусть клюет другая. Овцы сигают через жердь загона лишь потому, что сиганул баран. Истины просты, высшая математика — штука сложная, особенно если взяться за нее с середины. Даже буханку хлеба не начинают с середины! Неужели не ясно? Человек не станет тупо смотреть, когда убивают другого. И язык иной раз может заменить кинжал. Но неужели человеку всегда необходима подсказка? Если он плавает у крючка — тогда другое дело. Только овцы сигают за бараном, когда жердь уже сняли. А человек? Много мыслей теснилось в голове, пока я шел за гробом учителя. Старый Павил был выше нас. Лишь теперь по-настоящему я оценил его мужество. Без колебаний, с жаром душевным исполнял он свой учительский долг. Старый Павил умер. Мне стыдно, что я лишь по-воле случая оказался на его похоронах. Больно. Такая потеря. Я взрослый. Я знаю, когда подводится черта. Под чертой ставится оценка. Положительная, отрицательная. Пока не подвели черту, можешь расставлять числа по своему усмотрению. Слова — это сложно, числа — просты. Только нужно знать математику. И начинать считать — прямо сейчас, сегодня. Может, завтра будет поздно. Я не хочу оказаться рядом с нулями. Больше всего я боюсь остаться равнодушным. 74 Когда я вернулся домой, в ушах еще звучала траурная мелодия. У калитки я нечаянно обронил носовой платок, и какой-то мальчуган его поднял. — Дяденька, возьмите, вы потеряли! Это я-то дяденька! Ха! А что если — да? Я остановился, запрокинул голову и посмотрел на небо. В погожий ли день проводили старого Павила в его последний путь? Перевод с латышского Сергея ЦЕБАКОВСКОГО. РАССКАЗ Геннадий Проценко А КРУГОМ СНЕГА, СНЕГА… К рассвету пурга выдохлась. Первыми проснулись взрывники. Они поспешили закончить свое невеселое дело, прерванное ненастьем. Взрыв стряхнул с поселка дремоту, и эхо побежало от дома к дому, стучась с печальным напоминанием в окна: готовьтесь хоронить охотника, который пришел к вам из тундры не для того, чтобы умереть от вашего щедрого гостеприимства. Сергей услышал, как завыли собаки и со стороны залива возник самолетный гул. Летчики начали греть моторы. Он быстро оделся, сунул за щеку сухую галету и, захватив пузатенький докторский чемоданчик, вышел на улицу. Было светло и безветренно. Валенки скрипели по снегу, как новые сапоги. Хотя диспетчер и сказал, что самолет еще будут вытаскивать тракторами из снега, потом заправлять, загружать, так что спешить некуда, Сергей все же прибавил шагу. Негоже опаздывать к своему первому .рейсу. Его беспокойство оправдалось. У самолета уже никого не было. Отлаженные моторы гудели спокойно и ровно. Сергей с опаской обошел винты, увидел в дверях человека. Небритый верзила в красных кожаных брюках и засаленном свитере втаскивал трап. — Э-гей, обождите, я тоже с вами. — Пушник, что ли? — Я врач, мне нужно на Малый. Это вам по пути. — Врач? — недоверчиво переспросил верзила. — А почему я тебя не знаю? — Еще узнаете. — Новичок, что ли? — Может, анкету заполнить… — Ты, паря, видать, шутник. Откуда к нам взялся? — Из Москвы я. — А здесь, запомни, не Внуково-два. Там с вами нянчатся. У нас не приглашают. Кому нужно лететь, тот уже в самолете. Обожди, не лезь, позову командира. Сергей разглядел мятый бок самолета, алюминиевые заплаты, подпалины. Подумал: под стать механику. В дверях показался командир. Он был постарше Сергея года на три-четыре. Золотое кольцо на пальце, тонкие, нервные руки. — Извините, доктор. Мне только что передали о вас. Доставим, как на ковресамолете. Вы на Трешкина нашего не сердитесь. Он извозчик, всю жизнь на Севере. Уважает лишь тех, кто оплачивает рейс. Сегодня мы «куплены» агентом «Заготпушнины»… Но с медициной нам всегда по пути. 75 В самолете вдоль откидных скамеек стояли ящики с водкой. Голубоватые бутылки позвякивали в деревянных сотах. — Поближе к кабине будет теплее. Водку можно подвинуть. Хозяин не против? — Отчего же, сделаем, раз гражданин-товарищ будет с нами. «Хозяин» — желтолицый старик с кожаной повязкой через лицо — дал знак помощнику, губастому парню в ватнике, и тот проворно переставил ящики. Сергей подсел к старику. — Куда же столько? Старик ухмыльнулся — видать, новичок, — ответил с ехидством: — Гостинец к праздничку. — Он тронул шершавой ладонью докторский чемоданчик и понимающе добавил: — У вас, поди, тоже запасец имеется? «Найдется на крайний случай», — подумал Сергей, но ничего не сказал. Старик сам за него ответил: — Без этого в Арктике трудновато, — и погладил бутылку, — ее у нас уважают. Низкие температуры… Самолет разбежался. Набрал высоту. Старик поправил ящики, пересчитал их. — До войны уголовники за банку спирта чуть меня не пришили, — сказал он, дотронувшись до кожаной повязки. — Доктора, спасибо вам, выживили и глаз новый дали. — Он сдвинул повязку, вынул стеклянный шарик, облизал его и вставил обратно. — Небось, и тебя по срочному вызвали? — Пустяк. Больше для профилактики. Радист у них немного поранился. Заряжал капкан… — Капканы ставить — тонкое дело, — подтвердил старик, — надо зверя перехитрить, чтобы сам шел в руки. Когда я охотился, на фарт не жаловался. Да и сейчас не обижаюсь. Знаю, где какую приманку бросить, — ухмыльнулся он, и доктора почему-то насторожила эта ухмылка. — Вот лечу к охотникам принимать добычу. Если надо хорошо взять, без водки не обойтись. Она всех сговорчивыми делает, ласковыми такими. Вы не думайте, не для себя стараюсь, для государства, у меня все по закону. — И водочка по закону? — Дело личной инициативы. Могу я хорошего человека угостить? Сергей вспомнил об утренних взрывах, о готовящихся похоронах охотника, спросил: — А тот, который… Давно охотился? — Которого хоронить будут? Слабак. Сезона не продержался. Климат здесь не для каждого, — заключил собеседник, и его здоровый глаз хитро прищурился. Еще до пурги взрывники начали бить динамитом могилу. В поселке говорили: принес охотник много песцов, сдал их и запил. Сам пил. Друзей поил. Гуляли несколько дней, потом сердце не выдержало. …Под крылом бегут и бегут снега, и нет им конца и края. Иногда лед рассекают рваные трещины, похожие сверху на серые молнии. Над открытой водой курится морозный туман. Крылатая тень самолета то скользит рядом, то отстает, напоминая какую-то странную птицу, которая устала парить над этой мертвой пустыней, хочет сесть и никак не решается. Белое безмолвие…. Сергей грезил им еще в мальчишеских снах. А теперь наяву было то, о чем мечтал молодой доктор. Арктика. Настоящая Арктика. Такая, какой видели ее любимые герои его детства: Папанин, Федоров, Ляпидевский, Отто Юльевич Шмидт. Ему с первых шагов понравилось на Севере. Днем белым-бело, на сколько хватает глаз. А ночь меняет краски по-своему. Снег становится голубым, замерзшие окна горят золотом, небо в серебристом сиянии зажигает то синие, то зеленые звезды. Даже пурга, налетевшая вдруг неизвестно откуда, была для Сергея что ни на есть желанной. Он одевался теплее, выворачивал карманы, чтобы в них не набивался снег, и, навалившись на упругую дверь, протискивался наружу. Его слепило, валило с ног, ветер жестко стегал по лицу, вышибал слезы, холодные и соленые. 76 Сергею хотелось кого-нибудь встретить из тундры, помочь тому добраться до места, дотащить его сани, снять с плеч поклажу, растереть онемевшие от мороза руки, оказать другую услугу — большую иль малую, все равно, какую, лишь бы люди видели, что к ним приехал стоящий парень. Но никто навстречу не попадался, и никому его помощь пока не требовалась. Для полного счастья недоставало Сергею настоящего дела. Слетать бы, к примеру, в глубь Арктики, где ждут не дождутся помощи и все зависит от того, как скоро к ним придет другой человек — сильный, смелый и знающий секреты здоровья. Лишь теперь, как бы между прочим, он напишет домой: «Летал по срочному вызову на операцию. Был на самой макушке Земли. Белые медведи бросились к самолету, еле отбились от них…» Самолет начал снижаться. На искристом снегу чернели железные бочки, расставленные пунктиром. Из одной шел дым, и ветер расплескивал его в разные стороны. Лыжи мягко коснулись наста. Вышел командир. — Мы на месте, доктор. Прибыли. Зайдем за вами на обратном пути. Заглохли двигатели, снежная пыль улеглась. Сергей увидел у самолета зеленый вездеход на гусеничном ходу. Рядом — несколько человек. Все в унтах, меховых куртках и пушистых шапках. Но один был почему-то в ботинках и клетчатом кепи. Полушубок расстегнут, под белым воротничком полосатый галстук, завязанный большим узлом. Люди перешучивались, улыбались. Сергей понял, что на острове нет тревоги. Верзила-механик открыл дверь, сбросил на лед металлическую лесенку и уступил дорогу Сергею: — Ну, валяй, лечи их, паря, чтобы не кашляли. Снизу доктора поддержали, и он очутился в объятиях дюжих парней. Тот, что в кепи, представился: — Николай Иванович, начальник зимовки. Докладываю: сделали все, как вы советовали по радио, кажется, пошло на поправку. Он сильно пожал Сергею руку, улыбнулся широко и открыто. «Какие они все загорелые, — подумал Сергей, — словно только что с юга. У начальника даже нос шелушится, но это не солнцем, а морозом прижгло». Из самолета выглянул старик. — Товарец есть? — Имеется, — ответил Николай Иванович. — Много? — Десятка полтора будет. — Отдашь сразу или торговаться станешь? — Пару ящиков — и сговоримся. — Водки нет, за все деньгами. — Зачем они нам, магазин далековато… — Николай Иванович понимающе подмигнул ребятам. — Извините, доктор, дело одной минуты, — и полез в самолет. Оттуда донесся его голос: — Да здесь на всю Арктику хватит, а нам хоть ящичек. — Все заказано. Ни бутылки лишней. — Видишь сам, гость у нас, принять как следует надо. Но старик стоял на своем. Кто-то из зимовщиков не выдержал, крикнул: • — Да черт с ним, Николай Иванович, пусть катится со своей водкой! Поехали, а то доктора заморозим. Николай Иванович, такой же улыбчивый и спокойный, словно и не было неудачного торга, спустился на лед, взял под руку доктора, и они пошли к вездеходу. Машину вел Николай Иванович. Он легко и сноровисто, будто играя, орудовал рычагами. «Должно быть, любая работа горит у него в руках», — подумал Сергей о начальнике зимовки. Спросил: — Медведи заглядывают? — У соседей намедни были, а к нам давно не наведывались. 77 Вездеход вскарабкался на скалистый берег. Показались радиомачты в инее, похожие на крымские тополя, ветряк, неуклюже машущий крыльями, и несколько дощатых домиков по самые крыши в снегу. На веревках, как белые полотенца, полоскались песцовые шкуры. — Вот и наша деревня. — Сколько душ? — С собакой семеро, но сегодня останется меньше. С вами улетит гидролог. Он закончил программу, и ему вот так надо на Большую землю. — Николай Иванович провел ладонью по горлу. — Приглашают в антарктическую экспедицию. Мечта полярника! В домике, где жили зимовщики, было тепло и уютно, пахло печеным тестом и свежевымытыми полами. Все сбросили в прихожей унты и поздоровались с «мисс Февраль» — обнаженной смуглотелой девицей, которая вызывающе глянула на Сергея с огромного, чуть ли не в рост цветного фото. — Здравствуйте, — тоже сказал Сергей и полюбопытствовал: — Не холодно так? Сергей надел халат и прошел к больному. Молодой белобрысый здоровяк покраснел от смущения, на лице проступили коричневые веснушки. — Как же вы так неосторожно? — укоризненно заговорил Сергей. — Могло совсем руку перешибить. — Пружина верткая. За пальцы боюсь, двести знаков давали, а теперь, как чужие. Сергей осмотрел рану. Достал из чемоданчика флакон спирта, промыл заживающую кожу, смазал бальзамом, прикрыл хрустящим пергаментом. Осторожно, но туго, пс сеем правилам медицины перевязал, оставив свободными пальцы. — Можете шевелить, сколько угодно. Ничего с ними не станется. Даже лучше, если будете шевелить. Гимнастика. Осмотрел и остальных зимовщиков. Никто не жаловался на болезни, но все охотно, явно с удовольствием проверяли давление, по команде с закрытыми глазами приседали, вытягивали руки, дышали так, как им велели. Он слушал ровные удары сердца, стучал по коленям резиновым молоточком и думал, что этим людям с отменной выдержкой и завидным здоровьем еще долго не потребуются советы медиков. Подошло время передавать метеосводку. Начальник зимовки включил рацию, широкой ладонью накрыл телеграфный ключ. В лампочке, похожей на маленький пузырек, в такт с радиосигналами забился оранжевый огонок. Где-то за тридевять земель отсюда радисты ло ,ли эти сигналы. Там собирали сведения о темпе этуре воды и воздуха, о ветрах, снегах, течениях, чтобы по ним составить прогнозы для летчиков, моряков, охотников, для всех, кто хочет знать, какая ожидается погода. Потом все сели за стол. На нем сладко дымился лосиный окорок, стоял остуженный и запотевший графинчик с разведенным спиртом. Николай Иванович, в отглаженном городском костюме, при галстуке, нарядный, как именинник, извинился, что для такого случая не удалось достать настоящей водочки, ругнул старика скрягу и поднял первый тост за гостя. Все дружно опрокинули рюмки и начали поздравлять Сергея, будто он совершил чтото очень важное, почти подвиг. Выпили за самого тихого парня, сидевшего в конце стола. Молодой человек с реденькой желтоватой бородкой весь светился от счастья. Если бы не докторский самолет, ждать бы еще неизвестно сколько по-путногс рейса. Уже завтра он будет на Большой земле, дома. А там, после малого отдыха, Антарктида. По комнатам рассыпались скороговоркой тире-точки. Стихли разговоры, люди прислушались к морзянке. — Ого! Наш самолет, — сказал Николай Иванович, — повернул обратно. Зайдет на соседние зимовки и к нам. Олежка, тебе пора собираться. Олег послушно поднялся, ушел, но вскоре вернулся. 78 — Не привык я таскаться с мешками. Пусть останется все полярке на память. Винчестер — вам, Николай Иванович, чтобы живность какую можно было при случае к столу положить. Транзистор я смогу купить новый, а этот, Толь, тебе. Слышь, увечный? Крути на здоровье. И унты мне домой совсем ни к чему. А ты, Петро, больше всех на снегу. — Олег щелкнул зажигалкой и отдал ее повару, снял часы, протянул мотористу. В руках у него появилась песцовая шкурка. — Это доктору от нас за заботы и хлопоты. — Как можно, что вы! — смутился Сергей. — Я сам благодарен за вызов. Мне совсем не трудно, даже интересно было лететь к вам. Николай Иванович взял шкурку, умелым жестом встряхнул, дунул на нее против шерсти. Мех вздыбился, вспыхнул голубыми искрами. — Это вашей жене. — У меня нет жены. — Маме, бабушке. Подружке. Кто-нибудь есть, наверное? Зимовщики рассмеялись, захлопали Сергея по плечу. Кто-то подал докторский чемоданчик. Николай Иванович скрутил шкурку в пушистый ком, сунул под лакированную крышку. — Теплая шапка получится. Морзянка затрещала резко и беспокойно. — Нервничают, — заметил Николай Иванович. — О чем они? — спросил Сергей. — Просят место посадки обозначить огнями. Все начали собираться. Николай Иванович отдал клетчатое кепи Олегу: — Будешь первым парнем на Большой земле! Сам надел теплую ушанку. Сбросил ботинки, натянул унты на толстой войлочной подошзе. Раскрыли двери. Потянуло холодом, стало неуютно в домике. Почувствовалось, что праздник кончился, наступала будничная работа, которую долго не прервут ни гости, ни самолеты, ни корабли. Затарахтел вездеход. Сергей взобрался на высокое, жесткое сиденье, пахнущее бензином. Рядом устроился Олег. Машина скатилась на лед и побежала вдоль берега по заливу. Начинало темнеть, усилился ветер, навстречу зазмеилась поземка. — К ночи снова закрутит, — с грустью сказал Николай Иванович. Над головой в подтверждение гулко и неожиданно, как лопнувший скат, хлестнула брезентовая крыша. — Ишь, шалит, окаянная! Сергей зябко подернул плечами. До дома еще полтысячи километров. Скорей бы взлететь, а то застрянешь здесь неизвестно насколько. Они обогнули скалистый мыс и увидели самолет. Он уже ждал их. Винты крутились. Открылась дверь, высунулся Трешкин, зло выругался и заорал на приехавших: — Чего мешкаете, из-за вас базарим горючее! — Он протянул Сергею руку и почти волоком втащил его в самолет. — Больше никого, машина и так перегружена. Сергей увидел, как за ним в двери просунулась желтая борода. — Куда лезешь, стиляга, говорят же, нагружены под завяз! — гаркнул механик и сильной рукой оттеснил Олега. Тот оскользнулся, потерял равновесие и упал под самолетное брюхо. — Что вы делаете? — Сергей бросился к механику. — Помалкивай, пассажир, говори спасибо, что тебя не забыли. Трешкин захлопнул дверь и закричал через весь салон: — Командир, порядок! Можно выруливать. Только теперь Сергей заметил, что в самолете людей, как в трамвае в час «пик». Никто из них не шевельнулся, не проронил ни слова. Похоже было, что такое они уже видели раньше и хорошо понимали: ничего не поделаешь, коль самих случайно взяли на борт. 79 Вдоль прохода, как и прежде, стояли ящики с водкой. Усилился рев моторов. Металлический пол задрожал, и на Сергея угрожающе поползли эти ящики. — Стойте! — закричал Сергей и, задевая чьи-то колени, ринулся к пилотской кабине. Пальто зацепилось за ящик, обитый железной лентой, по сукну будто чиркнули бритвой. Он схватил командира за рукав. — Обождите минуту, надо взять человека. Командир устало взглянул на Сергея. — Больной? Тяжелый? — Нет, он здоров. Но ему очень нужно. — Всем очень нужно, — кивнул летчик на тех, что заполнили самолет. — Идем и так с перегрузкой. — Я прошу вас, пожалуйста, может, вместо меня… — Трогай, командир. Чего разговаривать! — Трешкин плечом потеснил Сергея и передвинул какой-то рычажок у пилотского кресла. — Развели тут басни, а пурга вот-вот. Это вам Арктика, а не Внуково-два. Моторы взревели, как бешеные, готовые сорвать машину с места. И тут вдруг Сергей, и командир, и все, кто был в пилотской кабине, увидели перед самолетом человека. Он вынырнул откуда-то из-под машины. Ветер рвал распахнутую одежду. Он был без шапки, в белой рубахе и галстуке, который сбился набок и хлестал по лицу. Николай Иванович! Он поднял руки и что-то кричал. Самолет двинулся на него. Но человек не отступил. Он только шире расставил ноги, чтобы невзначай не поскользнуться на льду. Стало ясно, что он не сделает и шагу назад, хоть раздави его, хоть разруби винтами. Было удивительно, даже страшно видеть среди вечных сумеречных снегов одинокого человека, преграждавшего путь самолету. — Как вы можете… — закричал Сергей летчикам, но голоса своего не услышал. Из груди лишь вырвался какой-то хрип. — Пожалуй, вы правы, — сказал командир. Он снял со штурвала руки и выключил двигатели. Потом резко повернулся к механику, приказал: — Спустите трап! Пропеллеры засвистели, теряя скорость. Сергей прошел в салон и бессильно опустился на свободное место рядом с заготовителем. Увидел, как снова открыли двери. Пахнуло морозом, над ящиками закружились снежинки. Зазвенела лесенка, и в самолет поднялся Николай Иванович. Он не кричал, не ругался, никому не грозил. Начальник зимовки был спокоен и сдержан. О чем он говорил с командиром, не было слышно. После всего случившегося Сергею стыдно было подойти к ним. Потом командир вышел в салон и сказал пушнику: — Хозяин возьмет у вас несколько ящиков: освободим место. — Пусть отдает песцов. — Торговля закончилась, — холодно произнес командир. — А кто оплатит казенку? — Запиши на мой счет, на материке за все рассчитаемся, — сказал Николай Иванович и взялся за ящик. Он освободил его от веревок и понес к выходу. Подошел к дверям, но не стал спускаться по лесенке, а швырнул ящик вниз. — Зачем же так грубо, перебьешь все! — заворчал механик. — У нас снежок мягонький, — заметил Николай Иванович. Он взял второй ящик, третий… — И, пожалуй, хватит, а то все медведи спьянятся. Николай Иванович подал руку Олегу, втащил его наверх. Они обнялись и расцеловались. Люди подвинулись, Олег присел на краешек лавки у самого выхода и обхватил лицо руками. 80 Самолет тронулся. Все повернулись к окнам. И тут Сергей увидел невероятное. Вездеход тоже двинулся с места, наехал на ящики. Бутылки скользнули по льду, и гусеницы раздавили те, что не выскользнули. . Самолет очень долго бежал по заливу. Пролетели мимо бочки с горящим мазутом, а лыжи все бились и бились о лед и никак не могли оторваться. Наконец грохот под полом исчез. Внизу выплыли домики. Рядом с ними черные человечки прощально махали руками, палили из ракетниц. На небе проступили первые звезды, началась ночь. Люди устало дремали. Олег успокоился и что-то рассказывал соседу — кряжистому сиплому человеку. Появился механик. Постоял, разглядывая спящих. Пошел вдоль лавочки, трогая каждого: — Пристегнись, пристегнись, пристегнись… Подошел к Олегу, присел на корточки. — Ты, паря, вроде бы стоящий, не разглядел сразу. Разных мы возим. Не будь этих ящиков, никаких делов. Чтоб она, стерва, повыдохлась! То ее давай-давай, а в этот раз никому не нужна. Носимся с ней по Арктике. Сейчас на Каменном были. Слыхал, наверное, как охотнику повезло: за сезон — триста песцов. Для него самолет наняли, и водка ему. А он и бутылки не взял. Я, говорит, за своих песцов в селе музыкальную школу построю и оркестру куплю. Держись, борода, сейчас садиться будем. Боковик сильный, и командир сегодня чегой-то, как псих. Не ровен час, ахнем об лед, и родных не увидишь. А кепчонка-то где твоя? Погас свет. Стали тише гудеть моторы. Теперь слышно было, как храпит одноглазый. Самолет начал раскачиваться из стороны в сторону и как-то рывками проваливаться все вниз и вниз. Сергей прижался лицом к запотевшему иллюминатору. Под крылом тревожными красными пятнами блеснули сигнальные фонари. Фары высветили снежную пелену, и лыжи с хрустом ударили о бугристый лед. Самолет лихорадочно затрясло, развернуло и понесло боком. Сергей стукнулся головой о железную переборку. По ногам сквозь валенки больно резанул водочный ящик. Зазвенело стекло. Кто-то в страхе вскрикнул. Очнулся старик, завопил спросонья: — Держите, граждане, не дайте пропасть! Но никто уже ничего не смог бы сделать. В одно мгновение бутылки разметались по самолету. Одна поллитровка скользнула доктору на колени. Сергей брезгливо стряхнул ее на пол. Бутылка упала, не разбилась, покатилась к чьим-то ногам. Но там ее пнули так, что всех обдало водочными брызгами. — За такое я привлеку, — пригрозил в темноту заготовитель. — Умолкни, гад, придушу! — ответил осипший голос. Самолет развернулся и побежал вдоль ровной цепочки приветливо мерцающих огоньков. Перестало трясти. Зажегся свет, все невольно поджали ноги. На полу катались бутылки с водкой в немятых белых металлических шляпках. Одноглазый упал на колени и стал сгребать их, причитая: — Мой товар, мой товар, мой товар!.. Радист включил трансляцию. Москва пела о Севере: Меня домчат к тебе, когда зимовка кончится, Олени в нартах, самолеты и такси. Поверь, мне так твои глаза увидеть хочется… стихи С казахского 81 Аманжол Шамкенов Моя школа Напрягаю сознанье свое. Проникаю в людское житье. Ведь любой человек — словно повесть, В каждом сердце читаю ее. Кто-нибудь средь широкого дня Поглядит с теплотой на меня, И, как лист, потянувшийся к солнцу, Пью сиянье живого огня!.. Я читаю людские следы — Неуверенны или тверды. Все они для души моей стали Школой счастья и школой беды. Перевел Ю. АЛЕКСАНДРОВ. Мечта Сбегал я на прибрежный мыс, где бьется пенный вал, я на джайляу пил кумыс и на траве лежал. Я выходил в степной простор, чтоб ширь вместить в себя. Мне открывалась синь озер, прозрачностью слепя. Я устремлялся в трудный путь по горному хребту. Мне крылья, распрямляя грудь, дарили высоту. На состязаниях, с конем в одну сливаясь тень, я гнался за грядущим днем, и настигал я день. Мир прятал тайны, как скала, в недвижимой груди. И истина меня звала, маяча впереди. Вот так спешить навстречу дню, упрямо стиснув рот. всем телом наклонясь к коню, летящему вперед. Потомок, пусть сраженный 8 грудь, я упаду с седла, но помни: звонок был мой путь, звезда моя светла! Звуки Как звуками бывает мир богат! В нем звон ручья, в нем птиц перекликанье. 82 Но соловей зальется наугад любою песней — и замрет дыханье. А шум лесов, встречавший в детстве нас! Любимой голос над озерной чашей… А те напевы — кюи, что не раз к себе сердца приковывали наши! Да, мир богат. В нем шепчется трава, в нем тыщи звуков радостных и мудрых. Но что, скажи, прекраснее «уа!», которым дочь меня встречает утром?! Озера Кургальджино Средь сопок, к небу приподнявших спины, разбросаны осколками зеркал, они лежат, озера Кургальджино. В моем краю, обласканном акыном, я ничего красивей не видал. Когда лучи в рассветный час небрежно коснутся вод, алея на бегу, пройдут по глади лебеди неспешно и девушка задумчиво и нежно расчешет две косы на берегу. Тогда, джигит, прицеливаясь тайно в прекрасных птиц, скользящих чередой, не испугай красавицы случайно, всмотрись в нее. Ее глаза печальны, как будто бы у серны молодой. И знай, джигит: ты можешь быть отважным, ты можешь метко выстрелить. И все ж воды коснутся лебеди бесстрашно. а девушки, испуганной однажды, уже назад словами не вернешь! Так спрячь ружье и пристальней всмотрись-ка, как медлен ход застывших лебедей, как девушка, к воде склоняясь низко, ее ладонью трогает без риска и лик свой тихо созерцает в ней. Но ей шепнули травы на рассвете про рослого джигита на пути, и в юном сердце отозвался ветер… Озера Кургальджино! В целом свете мне ничего прекрасней не найти!.. Перевела Т. КУЗОВЛЕВА. Заветное Люблю я странный ветер Иртыша, Что в чащи входит, ветками шурша, 83 И тени сосен, брошенные в воду На темные метелки камыша. Но в жизни тенью стать я не хочу, Мне поиск и дерзанья по плечу… За тени сосен, за улыбку детства, Покуда жив, я песнями плачу. Перевел А. СЕНДЫК. TEАTP Б. Поюровский ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ХУДОЖНИКА Образ Владимира Ильича всегда занимал воображение художников. В последние годы интерес этот еще больше усилился: торжество ленинских принципов в руководстве партией и государством заставляет каждого из нас постоянно обращаться к трудам Владимира Ильича, советуясь с ним по самым важным вопросам жизни. Своеобразие ленинского характера — предмет многих исследований. Одних поражает редкий дар предвидения Владимира Ильича. Другие отмечают глубокое понимание дум и чаяний народных. Третьих удивляет всесторонность его интересов… Четвертые обращают внимание на остроту и мгновенность реакций, скромность, работоспособность, честность, любовь к знаниям… Возьмите в руки ленинские письма, и вы убедитесь, что, помимо прочих достоинств, многие из них обладают особым свойством: они кажутся обращенными непосредственно к тому, кто в данный момент их читает. И от этого ощущения письма Ленина не становятся менее личными. Даже напротив. Ленин — вождь, и Ленин — человек… Трудно сказать, какое из этих двух понятий для нас дороже. Да и можно ли их противопоставлять? У нас часто повторяют: «Ленин — человек с большой буквы». Как будто от этого определения образ становится значительнее. Между тем ленинские слова и поступки свидетельствуют о том, что сам Владимир Ильич относился к себе, как к человеку с прописной буквы, и требовал, чтобы так к нему относились другие. И это тоже необходимо учитывать, обращаясь к образу В. И. Ленина в литературе и искусстве. Уже на многие языки мира были переведены очерк М. Горького и поэма В. Маяковского об Ильиче, когда на сцене и в кино приступили к созданию образа Ленина. Вот что рассказывает М. И. Ромм, вспоминая о работе Б. В. Щукина: «Когда снимался Щукин, этот день называли «щукинским» днем. Это означало, что люди по коридору ходят тише, двери закрываются без стука, не толпятся, говорят шепотом. Это означало, что вся студия, начиная от посетителей и рабочих, вела себя в эти дни иначе, насколько это возможно в таком полуфабричном организме. Чем он этого добивался? Б. В. Щукин ничего, по существу, для этого не делал, кроме одного: он так сам отнесся к своей работе и такого отношения требовал от любого человека, кто с ним рядом стоял». Б. Щукин, М. Штраух, А. Бучма, А. Крамов, В. Немирович-Данченко, М. Ромм, С. Юткевич — каждый из них, соприкоснувшись в своем творчестве с образом Ленина, испытал, помимо всего, чувство особой ответственности перед историей. Им первым предстояло заставить поверить нас в истинность каждого ленинского слова, произнесенного со сцены или экрана, памятуя, что в зале могут оказаться люди, лично знавшие Ильича. Создание образа Ленина — задача трудная не только для тех, кто играет и ставит пьесы о Ленине. Но и для тех, кто их пишет. Н. Погодин, уже будучи лауреатом Ленинской премии, вспоминал: «…Я понимал, что при всем высоком трепете перед личностью Ленина я должен обращаться с образом Ильича, как с любым другим литературным образом, — иначе ничего не получится: образ утратит свою жизненную непосредственность, на первый 84 план вылезут цитаты, которые неизбежно будут выпадать из художественной ткани пьесы» 1. 1 Н. Погодин. «На подступах к великому образу». Журнал «Вопросы литературы», 1959 г., № 9. Казалось, сегодня слова эти должны были бы звучать как истина, не требующая доказательств. Но если вы откроете «Литературную газету» за 13 октября 1966 года, то в письме Ю. Ефремова, озаглавленном «Правда и домысел», прочтете следующее: «…прием, допускающий домысел и вымысел в изображении такой исторической личности, как В. И. Ленин, не правомерен». Как видите, мнение Ю. Ефремова не совпадает с точкой зрения Н. Погодина. И не только Н. Погодина. Спор о том, какое место должно быть отведено вымыслу в произведениях о Ленине, не нов. Мы не собираемся подводить ему итог, а хотим лишь высказать свое мнение. Прежде всего нужно отделить элементарное невежество, которое порою выдается за художественный вымысел, от тех случаев, где догадка приходит к художнику в процессе познания истины. Известны примеры, когда автор брал в основу произведения достоверную историю. Но от этого само произведение не становилось более подлинным. Потому что любой факт требует от художника не простой констатации, а глубокого осмысления, основанного на доскональном знании не только этого единственного случая, но и всех других, имевших место до и после него. Вот почему нам кажется схоластическим спор о том, возможен ли домысел в художественных произведениях о Ленине или невозможен. Не в частностях, а в главном следует разобраться, прежде чем решить судьбу любого произведения. А главное заключено не в том, как называлась деревня, в которой однажды случайно побывал Ильич. Куда важнее, что он там говорил и делал, с кем и о чем спорил или соглашался. Воспоминания очевидцев, рассказанные спустя полстолетия, — слабое подспорье. Они сами часто бывают уже дополнены вымыслом рассказчика. Куда большую помощь автору могут оказать труды самого Ленина, его письма, записки, речи, достаточно хорошо известные. Совсем не обязательно, чтобы писатель ограничивал свой труд элементарной компиляцией всех этих документов. Но он обязан их изучить, чтобы созданный им образ Владимира Ильича Ленина не вступил в противоречие с самим Лениным. В задачу этой статьи, однако, не входит рассмотрение проблемы факта и домысла в произведениях об Ильиче. Мне хотелось бы остановить внимание читателя на более узком вопросе, связанном с понятием «театральная Лениниана». Речь пойдет о пьесах и спектаклях, посвященных Владимиру Ильичу. Драматург А. Вербицкий написал пьесу «Заря над Питером». Ленин выступает там в роли адвоката крупного предпринимателя. К такой уловке он вынужден прибегнуть по соображениям конспирации: ему необходимо установить контакт… с рабочими. Естественно, что последние относятся к нему без особого доверия. Тогда Владимир Ильич объясняет им, что казненный по указу императора Александр Ульянов — его старший брат. И тут же раздает всем листовки… Трудно сказать, какой фальши здесь больше — исторической или художественной? Но это обстоятельство не смутило жюри Всероссийского конкурса на лучшую многоактную пьесу. «Заря над Питером» была отмечена премией, после чего появилась в репертуаре Алтайского и Вологодского театров. Позже Всесоюзное радио сочло необходимым познакомить с произведением А. Вербицкого миллионы своих слушателей, хотя к этому времени о нем уже появились критические отзывы. Реальная история легла в основу пьесы И. Кычакова «Сквозь грозы» 1 — ссылка Ленина в Красноярский край. В Минусинске на пристани перед самым прибытием туда Владимира Ильича происходит такой диалог: 85 «СОСИПАТЫЧ. …Эх, нашелся бы заступник, сказал бы такое слово! МИНЯЙ. Дедушка, а он и взаправду есть, заступник? СОСИПАТЫЧ. Ты ешь, ешь… А заступник, Миня, говорят, и взаправду живет. Лицом светлый, чистый. Только до нас еще не дошел. Горы у нас. Тяжело ему». Сосипатыч приехал в Минусинск к исправнику с жалобой на своего соседа-богача. Исправник, конечно, не дурак, он не станет защищать интересы бедного крестьянина. Но, на счастье Сосипатыча, в дело вмешивается Ленин, который тут же объясняет исправнику, как тот должен относиться к подобного рода заявлениям. Заступившись за Сосипатыча, Владимир Ил*ьич сразу же обрел в его лице надежного союзника. «СОСИПАТЫЧ. Спасибо, добрый ты человек… (Хочет поклониться.) ИЛЬИЧ. Не надо! Не надо, Сосипатыч… Смотрите, какие великолепные тополя. На них обрушивается ветер, а они стоят и не гнутся. Вот так же и мы: стоять и не сгибаться, бороться и побеждать!» А знаете, как, по мнению И. Кычакова, родилось название газеты «Искра»? «СОСИПАТЫЧ (сушил у костра трут и теперь пробует зажечь его кресалом). Вот ведь что искра делает! (Показывает тлеющий трут.) Тлеет — глазом не видно. А раздуй — всю тайгу спалить можно. (ИЛЬИЧ смотрит на тлеющий трут, и глаза его загораются новой мыслью.) ИЛЬИЧ. Да, да, искра… (Берет трут.) Глеб, вы слышите, — искра?! ГЛЕБ. Хорошо — искра! «Не пропадет наш скорбный труд, из искры возгорится пламя!» ИЛЬИЧ. Спасибо, Сосипатыч… У нас будет «Искра». И мы раздуем такой пожар, что небу станет жарко». Вроде бы все верно. Но, с другой стороны, как связать одни слова Ленина с другими, написанными в одной и той же пьесе? «ИЛЬИЧ. Нет, мы не любим пышных слов». Общеизвестно: Ленин действительно не любил краснобайства. Но чем же тогда объяснить все эти тирады про тополя, которые он почему-то адресует Сосипатычу? Для того, чтобы факт истории стал фактом искусства, необходим процесс осмысления его художником, иначе даже самый настоящий случай может выглядеть как чудовищный вымысел. Так, например, известно, что Фриц Платтен действительно заслонил собой Ленина, когда на него было совершено покушение. Этот случай подтвержден свидетельствами многих очевидцев. Драматург В. Усланов решил включить его в свою пьесу «Покушение на Прометея» 2. Вот как он выглядит там. Войдя в свой кабинет в Смольном, Ленин помогает Платтену перевязать рану, угощает его чаем. «ПЛАТТЕН. Поднят рук на Ленин — русский Промьетей?.. ЛЕНИН. Прометей… (Смеется.) Ох, уморушка — русский Прометей!.. Тогда… кто же вы, товарищ Платтен? Швейцарский Геракл?» 1 И. Кычаков. «Сквозь грозы», ВУОАП, 1959 г. 2 В. Усланов. «Покушение на Прометея», ВУОЛП, 1965 г. Сказав еще песколько слов, Левин, по заверению автора, уже думает совсем о другом. Внешне любезно выпроводив из компаты человека, который только что рисковал своей жизнью, Владимир Ильич продолжает как ни в чем не бывало работать. «ЛЕНИН. Больше не болит? ПЛАТТЕН. Низколко. (Владимир Ильич вдруг замкнулся, ушел в себя. Видно, что думает уже совсем о другом.) ЛЕНИН (механически повторяя слова). Больше не болит… Боль-ше не бо-лит… (Незаметно для гостя бросает взгляд на часы.) Ну, а о ваших швейцарских болячках мы потолкуем, очевидно, завтра? Можете не сомневаться — поможем всем, чем сможем». Что это? Бестактность или отсутствие элементарного художественного чутья? 86 В нашей театральной Леннниане есть и определенные удачи. Документальная драма М. Шатрова «Шестое июля» за три года обошла почти все сцены страны (а сейчас с успехом идет на экранах одноименный фильм). «Шестое июля» — это пьеса, созданная по законам своего, документального жанра. Далеко не все события того памятного дня вошли в нее. Автор отобрал лишь те из них, что понадобились ему для доказательства основной мысли драмы, которой он решил придать форму документа. Избирательность и типизация — неотъемлемые части художественного метода — позволили драматургу предпринять эксперимент, который, в основном, себя оправдал. Поиски в драматургии неминуемо влекут за собой и поиски в театральном искусстве. Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, первым поставивший «Шестое июля», стремился подчеркнуть подлинность событий, ведя рассказ от имени непосредственных участников и очевидцев. Спустя несколько месяцев, словно вступив в полемику с первооткрывателями, «Шестое июля» показал Московский Художественный театр. Аскетизму режиссера Б. Львова-Анохина и художницы М. Мукосеевой МХАТ противопоставил яркое театральное зрелище, которое от этого, кстати, не стало казаться менее подлинным (режиссер Л. Варпаховский, художник В. Ворошилов). Разные спектакли достигают одной и той же цели, потому что их создатели идут за автором, сохраняя при этом самостоятельность, как и должно настоящим художникам. Нелегкая была задача у первооткрывателей театральной Ленинианы. Но у тех, кто пытается продолжить их поиски, есть свои трудности. Пример в искусстве — вещь соблазнительная. И чем он лучше, тем сложнее удержаться от желания пойти по проторенному пути, то есть избежать штампа. Сегодня трудно назвать город, где бы не было своего актера на роль Владимира Ильича. Только за последние три года, по неполным данным библиографического кабинета ВТО, в образе Ленина выступало триста два исполнителя. В результате спектакли с Лениным перестали быть событием в жизни многих театров. Сознавая это, Министерство культуры СССР 22 июля 1966 года приняло постановление «О повышении требовательности к сценическому воплощению образа В. И. Ленина», где, в частности, говорится: «Воссоздание на сцене образа основателя Коммунистической партии и Советского государства В. И. Ленина является наиболее ответственной и почетной задачей деятелей советского театра. Каждый спектакль с образом В. И. Ленина должен быть крупным событием театральной жизни, имеющим большое общественно-политическое значение. Однако в последнее время в ряде театров наблюдается снижение требовательности со стороны руководителей театров, главных режиссеров, художественных советов при выборе пьесы, исполнителей роли В. И. Ленина и при приеме спектаклей». В этой связи обратила на себя внимание статья «Живое ленинское слово», опубликованная в журнале «Театральная жизнь» № 16 за 1966 год: «До начала собрания оставалось несколько минут. В комитете комсомола Куйбышевского областного телеграфа волновались: предстоял большой разговор о преемственности традиций старшего поколения… …На сцене — незабвенпый Ильич. Звучат знакомые ленинские слова: «Союз коммунистической молодежи должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь…» В роли В. И. Ленина — артист Куйбышевского театра юного зрителя Александр Викторович Васильев. С образом вождя он впервые встретился в пьесе «Именем Революции» М. Шатрова. Тогда же родилось желание продолжить сделанное, нести молодежи пламенные ленинские мысли. Так родилась композиция на основе ленинского выступления на III съезде комсомола», — пишет А. Гелис, усматривая в деятельности актера А. Васильева начинание, достойное популяризации в республиканском журнале. Иного мнения по этому поводу придерживается заслуженный артист РСФСР Н. Провоторов: «…Иногда приходят в театр комсомольские работники и говорят: «У пас 87 предстоит конференция, будем вручать грамоты и награды, президиума не будет. Выйдете вы в образе Ленина и произнесете его речь на III съезде комсомола…» В Казани я решительно отказывался от таких предложений и убедил товарищей, что не следует этого делать. Здесь, в Ростове, я сталкиваюсь опять с такого рода просьбами. Хочу сказать, что я категорически протестую против того, чтобы загримированный актер вне предлагаемых обстоятельств пьесы действовал перед собравшимися в зале от имени Ленина». Выступление Н. Провоторова на ростовской конференции ВТО дополнила корреспондент газеты «Советская культура» М. Саенко: «Недавно в городе Армавире в средней школе был детский утренник, посвященный Новому году. Была елка. И вот, к величайшему восторгу всех детей, вышел вместо Деда Мороза Ленин! Он вышел, стал раздавать детям подарки и разговаривал с ними, имитируя ленинский голос. Грим был довольно приличный. А после этого местный фотограф снимал каждого ребенка отдельно у него на коленях». Надо сказать, что многие отзывы о ленинских спектаклях, которые появляются в периодической печати, вызывают по меньшей мере чувство недоумения. Вот несколько из них. «…А Владимир Ильич уже смеется и шутит с иностранными журналистами, причем политически остро шутит. По-ленински склоненная голова, рука в кармане брюк, то, что мы знаем по портретам, и смех, заразительный, самозабвенпый смех. Похож, похож на Владимира Ильича исполнитель этой ответственнейшей роли артист В. Кожевников. И понятно волнение исполнителя, у него по крайней мере две причины для этого — такая роль, и на нашей сцене он появляется в этой роли впервые. Может быть, поэтому не все было гладко на премьере по линии внутренней жизни образа, по мысли — особенно. Нечего и говорить, что в такой роли, как нигде, опасно проговаривать текст, не показывая процесса рождения мысли», — пишет Л. Добронравова о спектакле «Покушение на Прометея» в Русском драматическом театре МАССР в статье «Страница истории», опубликованной в газете «Марийская правда» 17.IV.66 года. А вот цитата из сообщения ДальТАССа, опубликованного в газете «Тихоокеанский комсомолец» от 22.IV.66 года в связи с премьерой этой же пьесы на сцене Драматического театра Тихоокеанского флота: «Сложнейшая проблема была перед исполнителем главной роли в этом спектакле — роли Владимира Ильича Ленина — заслуженным артистом республики А. Ф. Крюковым. Надо было показать Ильича таким, каким он был с ходе повседневной работы… По-настоящему талантливо проводит заслуженный артист республики А. Ф. Крюков мизансцены бесед с прогрессивными американскими журналистами, товарищами по революционной борьбе». Можно было бы продолжить эти цитаты. Но думается, что и приведенных уже достаточно, чтобы убедиться в непрофессиональности тех редакторов и рецензентов, которые своими малокомпетентными суждениями вводят в заблуждение зрителей и театры. Естественно желание 'любого художника связать свою творческую судьбу с образом Ленина. Особенно это стремление растет в дни, когда мы готовимся встретить предстоящий великий юбилей. Но именно поэтому хочется напомнить сегодня слова актера Б. Смирнова: «Мы всегда должны помнить, что каждая новая работа о Ленине — достояние миллионов, всего народа». Этим и определяется мера ответственности художника, который стремится внести свой вклад в советскую Лениниану. стихи Александр Богучаров * 88 Я в родительский дом возвращаюсь, Как чужой, у порога стою. Ничего о себе я не знаю. Только здесь я себя узнаю. Мать подбросит в печурку поленья, Чай покрепче заварит отец. Вот и кончилось воскресенье. Этой встрече с родными конец. Ни звезды, ни свечи над округой. Дым за дымом. Мирское тепло. Отчий угол, заброшенный угол. Время вновь в города увело. Догорает моя сигарета. Мне — за тридцать. Отцу — шестьдесят. Над поселком зигзагами света Электрички ночные летят. * Судьбой даровано пространство, Но шатко шепчет плотный лес: «Живи под знаком постоянства. И да минуй тебя прогресс». А я, я не бегу прогресса. Я ткань его и часть его. Познав ночные тайны леса, Стою, не зная ничего. Куда пойти! На что решиться! В какой отважиться простор! А из-под ног вспорхнула птица, Прервав немолчный разговор. * Гармонии хотелось. Полноты Всех ощущений. Мыслей совершенства. Той мудрой и высокой чистоты. Которая дарует нам блаженство. И вдруг открылся пес. Октябрьский поздний лес В своем неповторимом откровенье. Словарь забытых .слов во мне воскрес, И вот явилось мне стихотворенье. Кипит листва на темных деревах. Есть тайный смысл в несказанных словах. * Верни мне первые признанья, 89 Да, я не скуп, не боязлив. Теснят меня воспоминанья, Года минувшие скостив. Ты молода, и совершенна, И безоглядна, и хмельна, А я угрюмо и смятенно Стою у черного окна. И звезды меркнут постепенно, И двор конюшнею гремит, И в печке мокрое полено До слез курится и дымит. Уже гудки у перевоза. Уже стыдливые слова. Боясь непоправимо прозы. Уходят, промелькнув едва. Твои начальные признанья, Дарованные полчаса… Теснят меня воспоминанья, Во тьму одетые леса. ПУБЛИЦИСТИКА Рена Шейко КОРОТКОЕ БОДАИБИНСКОЕ ЛЕТО 1 Я стою на палубе в тени. Смотрю на воду, желтую, перебаламученную, едва плывущую… Тихо. Течет медово-золотой зной. Сопки поджимают Бодайбинку, берега близки, видны лиственницы, поваленные тросом от драги. Сегодня она продвинется еще метров на пять-шесть, «съест» кусок берега, на котором воткнуты два красных флажка (между ними, на глубине, золотоносный пласт), и снова этот трос загубит деревья, зеленеющие нежно и обреченно… И реку драга тоже портит, перекапывает… Сзади, со стакера, сыплется пустая порода, насыпалась уже целая гора, белеющая на солнце камнями, как верещагинские черепа… Впрочем, кроме меня, никто, кажется, не замечает этих живописных некрасивостей. Опекает меня на драге Юра Клыпин. Он сейчас подошел, рассказал, что на эту вот сопку выходила медведица с медвежатами, посмотрел, не скучаю ли… Он милый, славный парень, из тех надежных ребят, за которыми как за каменной стеной — и женщине, и другу, и тем, кто рядом работает. Вчера драга стояла, и он, я видела, воспринимал это стояние как стихийное бедствие. Сломался вал колеса, остановился транспортер. Юра побежал в конец девяностометрового стакера и, по сути, всю смену провел там, в жаре и в пыли. Обломившийся стержень срезали, а потом головку выбивали кувалдой. Было неудобно, тесно и тяжко раскачивать ее и бить, бить, пока наконец не вышибли вон! Рубашки у всех взмокли, и лица были черны от копоти. Работало тут десяток парней — и те, кому положено по прямой своей службе, и те, кому это вовсе не положено, но кто все равно прибежал, потому что это убыток и «ЧП», когда золотая драга стоит. И во всю эту тяжкую смену я не слышала перебранки, разнузданных речей. И не потому, чтобы стеснялись дамы, так сказать, а просто на этой драге вот такой дух благопристойности, очень редкий в этих местах. Хотяг в сущности, так может быть везде, если только люди захотят… 90 И еще на этой драге — цветы. Простенькие, в сущности, цветочки, беленькие, розовенькие — вдоль всей палубы. Кажется, декоративные ромашки. А вот тоже редкость: цветы на драге! Они, наверное, единственные на всех Ленских приисках. И лифт единственный. Его смонтировали сами, и теперь поднимаются с большим достоинством, тогда как на других драгах бегают сто раз п день по гремучим лесенкам вверх-вниз.,. Я думаю: дня через два уеду отсюда, снова будет Москва, а потом снова уеду куданибудь из Москвы, и опять будут новые люди, и новые впечатления обступят глаза и душу… А человек ездит на эту драгу из поселка все по одной и той же дороге, вдоль Бодайбинки, и зимой и летом и уже знает все извивы и ухабы, все деревья… все гайки, наконец, валы и электромоторы этой самой драги, как самого себя… И нет в его жизни особой новизны, неожиданностей!.. Может быть, сломается вал колеса, или случится чтонибудь посерьезнее, или, наоборот, ничего не случится, драга будет спокойно вытрясать из Бодайбинки золото… И человек этот живет не менее интересно, чем я, и есть в нем основательность и изначальное крепкое достоинство — возможно, потому, что он знает пот и соль тоже изначальной работы… Когда я это пишу, я думаю и о Юре Клыпине, и о Мише Юлкове, красивом, сильном парне, который эту драгу монтировал, и о начальнике ее — Григории Дмитриевиче Верхотурове, Герое Социалистического Труда. Через месяц он уйдет на пенсию, уедет из этих мест в Тольятти, там он построил себе дом… К старости человек хочет быть поближе к теплу, к саду с яблонями и вишнями — бодайбинское лето так коротко, в сентябре уже снег… Впрочем, трудно про Верхотурова сказать, что он старик. Высокий, сутуловатый, всей статью значительный, неторопливый в речах и движениях. Когда он сидит, поза его полна благородства и чуть-чуть печального покоя. .Человек честно исполнил всю тяжкую меру труда — всегда был первым, а его драга — всегда лучшей. Он вправе теперь отдыхать… Унаследует верхотуровскую драгу Валерий Дмитриев. В двадцать восемь лет он получает второе высшее образование — учится на четвертом курсе экономического факультета Иркутского института народного хозяйства. Он умеет считать, он знает, как разложить себестоимость на составные, умеет заметить даже копеечную напрасность затрат. И не благодаря ли его умению сто шестнадцатая драга добывает самое дешевое на Ленских приисках золото?.. Я открываю дверь в нутро драги. Сразу меня обдает грохотом, лязгом, каким-то особенным металлическим постаныванием, даже повизгиванием. Видно, как вереница черпаков тяжко втаскивает дно Бодайбинки и опрокидывает его в люк, в адски вращающиеся, обливаемые белыми фонтанами внутренности. В бочку, куда попадает пульпа, страшно взглянуть. Камни там перекатываются в мощных струях, как души грешников. Вот уж поистине чистилище! Юра Клыпин что-то кричит мне, по голос его тонет в грохоте камней и водопада. Он тянет меня за руку. На драге сняли золото, можно посмотреть… Госконтролер, худая и строгая особа, в берете и с револьвером на боку, читает мой пропуск. И только потом допускает к тому, вокруг чего уже важно стоят доверенные лица. Это что-то вроде корыта, и в нем золота никакого не видно, только груда камешков. Корыто по-научному называется вашгерт, а тетя со скребком — доводчица. Она этим скребком чешет камешки, чешет, как гребешком, а текучая водица журкает по дну, камни побольше смываются вниз, помельче — остаются, и она вновь собирает их и подставляет воде… Руки у доводчицы старые, красные от холода и к драгоценному металлу, по-моему, совсем равнодушные. Наконец она берет обыкновенный магнит. Что-то похожее на черную тушь прилипает к нему, и сразу в корыте обнажается золото. Блеск у него сытый. Дают продолжительный звонок, слышный от самого дна и до верха, где сидит драгер. На минуту он выключает драгу. Становится тихо, и ничего не трясется. — Будем металл взвешивать, — говорит госконтролер и вдруг зевает. 91 Вот и все. Несколько горстей, добыча целых суток. Золото, а вокруг него — такой ореол обыкновенности… * — Ну, что заскучала? Съешь конфетку лучше. Помнишь в «Сильве»? «Нате вам по конфетке и будьте вы трижды счастливы…» Может, оттого, что сама я человек без иллюзий и все время делаю грубые попытки выяснить истину, я к таким легким людям, как Юра Рак, отношусь с нежностью. Совсем недавно он жил в Каховке, у него там было, кажется, все: дом, сын, завод, где он рассчитал новый сварочный аппарат и получил приличную премию. Наконец, высшее образование и даже свой катер. Ему не хватало денег только на «Волгу». В один прекрасный день они с женой взяли пятимесячную дочь, сели в поезд и поехали на Курилы. Морячок, сосед по купе, разъяснил им ситуацию: что в смысле денег на Курилах, конечно, заработать можно, но в смысле цунами им с ребенком будет сплошной кошмар. По тревоге придется хватать документы в зубы, ребенка под мышку и бежать на вершину гольца — пережидать. Притом, чем кончится, неизвестно. Им с женой этот цунами жутко не понравился. Тут же в поезде переориентировались и сошли в Иркутске, а оттуда полетели в Бодайбо. В конце концов зачем Курилы, когда и на золоте можно заработать? Действительно, он уже восьмой в очереди на «Волгу», сын — у деда в Одессе, у него же и премия от сварочного аппарата — на содержание внука, а они с женой здесь неплохо устроились. Квартира приличная… А на драге Юра, между прочим, замещает не кого-нибудь, а Валерия Дмитриева, пока тот в отпуске!.. * Если смотреть по карте, Ленские прииски тянутся от Бодайбо на северо-восток, как синяя вена. Ближе всех «Дражный», в 22 километрах, самый молодой прииск, и самый красивый при нем поселок — Балахнинск. Дома выглядывают из клубящейся зелени, за забором растут цветы, и улицы карабкаются по сопке совсем по-крымски… И Верхотуров, и оба Юры, и остальные ребята со 116-й драги живут в Балахнинске. Я же еду дальше, на самый северный прииск «Маракан», где строится шестисотлитровая драга. На перевале нас застигает туман, и в двух метрах не видно дороги… Шофер включает фары и ведет машину ощупью. По временам туман разгоняет ветром, на гольцах выступают одинокие сосны, косые, ветками на юг. Задавленный дождем, как-то потусторонне горит закат. Когда мы приезжаем на «Маракан», дождь наддает. А когда, оскальзываясь, подымаемся по висящим в воздухе лесенкам в будущую кабину драгера, то все кругом уходит в молоко, в ливневый мрак… В середине белого пространства я записываю фантастические цифры про эту громадину. Что вот вес у нее будет 10 500 тонн, есть детали в 50 тонн каждая… Длина ее — 240 метров, высота — 40. (В самом деле, смотришь в люк, на низкую, шершавую от дождя воду — кружится голова.) В цепи 169 черпаков, каждый черпак по 600 литров. На драге будет высоковольтное распределительное устройство и трехстадийное обогащение песков. Стоит этот гигант 12 миллионов рублей, вместе с поселком — 30 миллионов. Но запасы на «Маракапе» такие, что через несколько лет окупят все… Дождь редеет. Возвращаемся. Опять перевал. Плоскими петлями машина падает вниз, где вдоль старых рек лежат старые-старые прииски… Я, когда ехала в эти места, все думала, да и знающие люди мне обещали, что услышу адские истории с зарытыми кладами, с ножами, с красавицей, которую вожделеет пылкий золотоискатель и покупает самородками в кулак или дыню. И — ничего такого. Никакой золотой лихорадки. Конечно, когда-то случались истории, но они смыты временем, как и 92 самая та жизнь. А теперь все драги, механизированный, не романтический, соответствующий веку способ добычи. Золото украсть почти невозможно. Да и бессмысленно. Куда его денешь? Может, у кого-то и есть золотишко, от предков доставшееся или найденное в огороде, — но кто его купит? Так и лежит где-нибудь в бутылке за печным кирпичом… Мое воображение горожанки, привыкшей к очередям за обручальными кольцами, поразила одна старая фотография. Он — даже в точности не знаю кто: старатель, забойщик или откатчик (надо видеть его руки, похожие на черные корни). И она — его жена. На его пиджаке — золотые пуговицы. Персты сплошь — руки, конечно, на видном месте, на коленях, — в кольцах. С плеча на плечо — золотая и толстая, как аксельбант, цепь. И жена его туда же — вся золотая. Но главное — браслет. Мало что широкий, в три мужских ремешка, так еще весь увешан самородочками на цепочках. Темным, холодным погребальным забоем полз он через всю жизнь к краткой магниевой вспышке своего торжества. И добился. Остался сидеть. Он и она. И такой дядя эволюционировал сегодня в экскаваторщика, в драгера с высшим и средним образованием, в парня, который через год-другой сядет за пульт той же мараканской драги, будет нажимать свои кнопки, поглядывать за работой с помощью телевизионных экранов и самые крупные самородки улавливать электронным прибором. * Вместе со мною на старый прииск «Светлый» приехал из Москвы Алексей Алексеевич Чагин, инженер из Министерства цветной металлургии. В эти же дни ребятишки принесли в контору тетради, найденные в стене старого дома. Все, кто держал их в руках, отдали должное каллиграфическому почерку писаря, сохранившего потомству кусочек жизни, помеченной 1914 — 1915 годом. Собственно, это были не мемуары, а финансовая ведомость и что-то вроде дневника происшествий, случавшихся на прииске. «Кража четверти водки 29 октября с воза инородца Якутской области, Вилюйского округа, Сунтарского улуса, Егора Григорьева Иванова — Павлом Захаровым Тихоновым — четверть стоила 3 руб. 15 коп.». «Игра в «очко» 14 октября на Иннокентьевском прииске в казарме произведена рабочими: 1) Семеном Турсуновым 2) Степаном Наумовым»… и далее неразборчиво. И отметка: «От мирового судьи 2 уч. № 249 уведомление о том, что дело о Турсунове, Наумове к прочих назначено к разбору на 31-е». «Покушение на убийство 24 октября в 8-ом часу вечера на прииске Горнилова Парасковьи Константиновны Цыбукеевой 28 лет мужем ея Василием Николаевичем Цыбукеевым 35 лет, нанесение ей на левой стороне груди раны якутским ножом…» Сейчас на прииске никто дневника происшествий не ведет, хотя отнюдь нельзя сказать, чтобы их не было. На прииске работает несколько тысяч человек, народ наезжает пестрый, бывалый, и, представьте, ни одного милиционера. Не могут найти человека!.. Директор прииска Виктор Филиппович Король тому человеку даже кабинетик приготовил, но на кабинетике пока висит замок. Чагин в исторических записках буквально был пронзен статьей расхода в счете тогдашнего Главного промыслового управления: за содержание лаборатории рудного золота неведомому, давно смытому временем Кобылянскому было выплачено 416 руб. 66 коп. только за один месяц! Я взяла в толк, что это такое, когда мы прошли штольней Сухоложского гольца. Чагин, хотя и был сдержан, но втайне сотрясаем разрядами возбуждения, почти лихорадки. Он светил лампочкой на мокрые бока. Отколупывал кусочки, подносил их к носу и шел дальше, с восторгом втыкая ступни длинных ног в разъезжающуюся, плывущую грязь. Если хотя бы на десять процентов подтвердятся те отягченные золотом пробы, 93 которые здесь снимают геологи, — о, тогда в этих местах будет все! Цивилизация, тротуары, паровое отопление, теплый клозет, одним словом, все! Да, да… Все это явится сюда и двинется в рост, обязанное рудному золоту, а значит, и будущей обогатительной фабрике, которой хватит тогда работы па целый век. Почему здесь поселки так непригожи сегодня? Потому что жесткий расчет не позволяет тратиться на водопровод, ванну, зеленое дерево, кинематограф. Ведь рано или поздно земля оскудеет золотом, придется бросать насиженное место и уходить в поиск новых богатых разрезов, новых рек, которые стоит перекапывать драгами. А рудное золото — это гарантия долс ,е шости жития и бытия прииска, ненапрасности капитальных затрат в его благополучие. Недаром некто Кобылянский искал рудное золото еще в четырнадцатом году. А мы ищем еще и до сих пор… * Вместе с секретарем комсомольской организации прииска Саней Житорюком мы побывали у директора школы Евгении Александровны Балтачевой. У школы столько проблем! Вот окончили дети восьмой класс, а в аттестате по физике — прочерк. И химика не было полгода… «Никто не едет в нашу дыру!..» Учительница Валентина Михайловна Суворова приходила к мальчику Сажину Виктору — будить его по утрам. Мать у Виктора жизнь ведет пьяную, разудалую. Таких семей немало, таких детей тоже. Учителя озаботились, собрали беспризорную эту ребятню — при живых-то родителях! — тридцать человек в возрасте до шестого класса, и отправили учиться в школу-интернат в Бодайбо. Но все питомцы сбежали из интерната, кроме девочки Вострецовой и мальчика Лебедева. — Я сама себе по временам удивляюсь, почему я еще не сбежала! — говорит Балтачева. И помолчав, сама себе отвечает: — Потому, наверное, что здесь Король. Я смотрю, как он рвется, как тянет воз… Знаете, была у меня такая отчаянная минута — подала заявление об уходе. А он парты новые в школу купил, не считаясь с какими-то финансовыми законами. И потом у него вычитали, кажется, из зарплаты… И я заявление забрала назад. И решила делать тут все как можно лучше!.. А то я уеду, тот, другой — что же, он один останется? У нас тут каждое плечо в цене… * А мы с Люсей Гравчиковой, поддавшись сладкому соблазну, оставили Короля, пыльный прииск, сопки, драги и поплыли… в золотое свечение роз, в земли, где солнце с утра уже в силе, в музыку странных созвучий. Балеарские острова… Канарские… Сенегал… Мальта… И расхохотались, потому что реальность воззвала к нам голосом обознавшегося дверью мужика: «Не пускаете? Грамотные! Японская культура, да!» — А в общем, я не могла бы за границей жить, — мечтательно замечает Люся, поднося к губам золотую флорентийскую чашечку с кофе. — В Алжире я все время терялась. Пойду за угол и сейчас же потеряюсь… Пойду и потеряюсь… Провинциалка!.. Рим, Неаполь — конечно, красиво. И Мальта… И Балеарские острова… Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как путешествия!.. Мой и пристрастился. В Польше был, в Чехословакии, потом круиз совершил по восточному берегу Африки. А уж по западному поехали вместе… Мечтает, если не уедем отсюда, Индию посмотреть, Японию… — Она засмеялась. — Японскую культуру опять же… А тряпки, вещи — ну их! Я вон шифоньер только в этом году купила. И книжный шкаф… А на холодильник в очереди стоим… Она поднимается, подходит к кроватке, в которой спит маленькая Наташка. А я думаю, как она спокойно говорит об этих круизах. Им двоим путешествие по западному берегу Африки стоило тысячу двести рублей, и я не могу припомнить никого из своих московских друзей, кому бы это было по карману. А вот в Кропоткине (прииск 94 «Светлый», а поселок при нем — Кропоткин) в такой круиз уехали сразу три семьи. Та же Балтачева с мужем, бывший главный инженер Борис Александрович Бланков (теперь он работает на «Дражном,/), и вот Люся с Колей Гравчиковы — молодые всѐ люди. — Люся, а вы сами сколько зарабатываете? — Да не так уж много. Когда двести, когда триста рублей в месяц. У нас все от премии зависит… Она — бухгалтер в конторе. А ее Коля — драгер. Он работает на Ваче, в восьми километрах от Кропоткина. — Он у меня нежный, Коля… И непьющий в общем-то… Это сегодня получка, взяли с бригадой бутылочки и сидят, наверное, где-нибудь на сопках, на природе… А так он все больше за книгами… В этом году защитил диплом в Бодайбинском техникуме. Занимался как зверь… Нет человека дома — а все о нем уже знаешь. И хороший он, и нежный, и романтик… Так бы жил себе у мамочки, под Москвой, пил по утрам молочко (у них там корова), то, сѐ. После десятилетки — завод. А там бы в институт поступил, был бы инженером. Культурно и без случайностей. А он бросил все и уехал строить Красноярскую ГЭС. И надо же было так повезти, что в Красноярске неважно оказалось с жильем — он приехал сюда, на прииск. Он у Люси второй муж (вздох)… Первый был такой ' примитивный подлец — вспоминать не хочется! От того, первого, осталась девочка, славненькая такая, веселенькая — Галка… И все-таки они, Люся и Коля, живут тут, каждый год собираясь уезжать. Толком даже не знают, куда, но собираются — несмотря на огород, на кур и видимую оседлость — ехать на «материк», на «жилуху»… Конечно, там не будет своего дома и денег этих больших, и все-таки… — Нам ведь здесь этих денег негде тратить! В магазинах на полках консервы, поллитры или прошлогодние галоши — вы их видели сами!.. И одеты мы не с нашего привоза. А в отпуск берешь две-три тысячи, поехал в Москву… ГУМ, ЦУМ, как мешочники… У нас тут человек словно и живет от отпуска до отпуска. А уж на Большой земле позволяет себе все: рестораны, красивую жизнь, театры… Мой отец здесь на прииске в землянке жил. Он ходил иа шахту за пять километров пешком, хоть мороз бывал и в полета… Но тогда люди без понятия были: что им давали, то и ели. А теперь другие времена… Да мне, если честно, и ехать никуда не хочется, но, с другой стороны, сколько можно так жить? Ну, скажите?.. * Собственно, заскорузлая эта традиция — смотреть на прииск как на что-то временное и по временности своей донельзя непритязательное — идет из глубины всех прошлых старательских лет. Получив свой прииск два с половиной года назад, Король нашел тут такое запустение, такие дремучие завалы от прошлых лет, что дважды ездил к управляющему трестом в Бодайбо — от прииска отказываться. Это надо осмыслить, что коренной сибиряк, здравый, умный, сильный, всей жизнью наученный к хозяйствованию и местному обхождению (был он и забойщиком в шахте, и откатчиком, у него, несмотря на молодость, десять лет стажа одного только физического труда!), крепко усомнился в силах своих перед этим «Светлым»… Теперь он строит дорогу, монтирует новую драгу («Будет драга — будет золото, будет золото — будет план, премии, всѐ!») и, как истый хозяйственник, хорошо видит дело, прибыль и другие важные категории преуспеяния. Но при этом взгляд его свободен от утилитарного цинизма, ибо прежде самого важнейшего дела видит он и зеленое дерево, и ясли, и общежитие с занавесочками, и водопровод, и другие удобства для рабочего человека, и уже от этого ведет логическую прямую ко все возрастающему в весе опломбированному сосуду, в котором увозят отсюда в Бодайбо золотую добычу дня… 95 Между прочим, при нем прииск стал добывать золота в три раза больше. Получать премии, о котоDbix тут давно позабыли. И бурно застраиваться, обновляться. Возникли никогда не существовавшие прежде ясли, новая школа-десятилетка, стадион. Построены сотни новых квартир — Король строит жадно, осваивая фонды, ставшие богаче, стараясь даже прихватить у соседей, которые еще только почесываются, еще только продирают глаза на эти дома, бани, тротуары, цветы… Зарывшаяся в землю столовая скоро обрядится в золотолиственничный кокошник, который сколачивают и гладят рубанками мастера, от усердия выпустившие рубахи… То же и клуб. Это Король отдал распоряжение грузовикам пылить в объезд, а не по главной улице. Зимой сделал для детей каток. • Купил музыкальные инструменты. («Только вот музыкантов не найду!» — и, по обыкновению, резко разводит руками.) Вместе со служащими посадил возле конторы деревья. («Ведь жили ж люди! — говорит он с печальным азартом. — Ни дерева, ничего…») Надо видеть эти деревья! Они растут, кажется, из одной благодарности к руке Короля, которая однажды великодушно воткнула их в эту землю, полную мерзлоты… Забежав в гостиницу, он тут же озаботился слишком короткими и выгоревшими шторами и от штор прямо распорядился о ремонте. Кстати, его далекая приисковая гостиница уютнее, чем в Бодайбо. Одеяла тут пушисты, простыни ломки от крахмала, мухи знойно не жужжат. И хотя форточек нет, в комнатах пахнет свежо и сладко, потому что Нина, заведующая гостиницей, нарвала на сопках лиственницы и поставила всем в вазы. Я хотела к нему пойти в гости, посмотреть, какие у него дети и вообще как он живет. Но он смутился, а может, строгий поселковый этикет ему это не позволил. Он только сказал: «А что смотреть! Дом как дом… Не лучше и не хуже, чем у всех. Я себе лучше не строю. Мог бы, конечно… Ну, пошептались бы недельки две. Но не хочу… Пока всех людей не обустрою, не хочу…» Виктор Филиппович Король вместе со своими единомышленниками пытается приблизить жизнь и быт своего прииска к городской цивилизации. И при этом он хорошо улыбается, шляпа сидит на нем молодцевато и несколько боком, ворот рубашки расстегнут, вст душа его светит радостно, с азартом. И он мне говорит: — Конечно, жизнь у нас еще неинтересная, все, что тут накопилось годами, раз-два не расчистишь… Я от молодежи претензии принимаю… Но ведь и молодой человек, он к нам с каким настроением едет? На все готовенькое. Город его сильно избаловал… Ты ему не только спортзал сделай, поставь турник, но и к турнику этому за ручку подведи, подсади, да еще и подтолкни — тогда он будет доволен… Я, вот, может, тоже хочу жить в столице и ходить к тете в гости блины есть… А совесть мне не позволяет… У нас еще люди живут на Угахане, в Хомолхо, на Ваче, оторванные даже от поселка, без школы, без клуба, без цивилизации… — Он прошелся по своему кабинету, резко и коротко взглядывая на меня. — А почему, разве они хуже других? Вы не понимаете? Я тоже!.. Я, может, мечтаю их сюда перевести, в Кропоткин, дать им новые квартиры, а их детям — детсады, ясли, школудесятилетку. А на работу пусть ездят по хорошим дорогам в автобусах с занавесочками… Зазвонил телефон. — Да, — сказал Король, не вовсе еще остывая от своих планов. И вдруг рассердился, стал грозным: — Что за отключение было в столовой? Авария? А предупреждать надо или нет? Вы что, забываете, что мы тут людей кормим! И, откричавшись, снова улыбнулся. — Но на это надо года два-три!.. Вот тогда приезжайте. Жизнь тут будет славная… К этому идем! — И еще раз повторил: — К этому идем… К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ 96 Вл. Воронов РЫЦАРЬ ПАЛИТРЫ Петра Кончаловского называли счастливым человеком. В нем было такое полное ощущение жизни, ее конечного смысла, чувственной красоты, что художник умел пренебречь и житейскими невзгодами, насмешками непонятливых критиков, даже творческими неудачами. А у него было достаточно и побед и поражений. Бывало, закончив очередной холст, он долго стоял перед ним и после тяжкого раздумья тихо спрашивал: «Что ж? Резать, что ли?» — и слышал за спиной решительный голос жены: «Режь, Петечка». Художник писал много; для него работать у мольберта было столь же естественно, как ходить, есть, дышать. Константин Коровин, увидев однажды какой-то этюд гимназиста Кончаловского (а тому еще не было пятнадцати лет), решительно заявил: «Надо Пете подарить ящик с красками». Тут же повез мальчика к себе в мастерскую, с шутливой торжественностью посвятил его в «рыцари палитры». Кончаловский остался верен рыцарскому посвящению до конца дней своих в 1956 году, прожив почти до восьмидесяти лет. Он часто вспоминал первых своих наставников — Серова, Коровина, Врубеля. Серов, обычно очень скупой на оценки, в 1897 году писал в Париж Кончаловскому: «Одно могу сказать — рад за Вас, а если хотите, так и завидую, что же Вам еще? Талант есть, свежесть, бодрость, энергия». Конечно, не всякому художнику довелось услышать ободряющие слова от Серова или Коровина, от Врубеля и даже от Сурикова. С автором «Боярыни Морозовой» и «Утра стрелецкой казни» связывало Кончаловского многое: Суриков участвовал в издательских делах отца Кончаловского, а младший Кончаловский полюбил суриковскую дочь, и она стала его женой. В девятисотых годах Суриков и Кончаловский ездили вместе в Испанию: рисовали, изучали мастеров 17-го века — Веласкеза, Эль-Греко, Риберу, много раз ходили на корриду. В тесном общении с Суриковым легко было поддаться обаянию маститого живописца, начать видеть мир его глазами и утерять что-то очень важное в личном восприятии жизни. Кончаловский устоял. Позже он вспоминал, как Суриков одобрял его картину «Бой быков», написанную вначале весьма традиционно. А Кончаловскому именно это и не нравилось: «Хотелось сделать быка характернее, не таким, каким все его видят, а похожим на примитив, на игрушку. Я всегда любил народное искусство», — говорил Кончаловский. Художник переписал «Бой быков», и теперь уже Сурикову картина была не по душе. Но Кончаловский остался самим собой. Может быть, здесь сказался важнейший результат поездки 1910 года. Тот год вообще стал памятным для Кончаловского. Он утверждал свой живописный метод, свою творческую позицию, выставив знамепитый «Портрет художника Якулова», написанный дерзко, увереппо. Портрет с трудом поместили среди полотен других художников; многие картины просто не выдерживали соседства с ярким «Якуловым». Серов, услышав слова Кончаловского «Вешайте где хотите, мне все равно», заметил, улыбаясь: «Вам-то не страшно, а вот другим каково?» Но «Якулов» нравился Серову. Современников поражало в Конча\овском волевое начало его буйной, казалось бы, неуемной живописной стихии. В этом искания Кончаловского, Врубеля, позднего Серова перекликались с открытиями Ван Гога, Сезанна, Матисса. Зная о художественных течениях, сменявшихся одно за другим на европейском горизонте, Кончаловский примерялся ко многим из них, осваивая сложную живописную культуру своего времени. Для некоторых своих соотечественников Кончаловский был «русским французом». Но только на первый, поверхностный взгляд. Парижские же друзья художника чувствовали в нем самобытную натуру, мастера с крупно выраженным национальным русским характером. Вот какая сцена произошла однажды в 1913 году на юге Франции, в портовом городке Кассисе. То была пора 97 сезаннистских увлечений художника, когда он пытался выразить наиболее конструктивные ритмы увиденного, нарочито обобщая естественные формы. Кончаловский писалпейзаж с кораблями, когда подошли два француза и, вглядевшись в холст, спросили: «Вы не русский ли художник? Не автор ли портрета Якулова?» Для Парижа, Лондона и Рима Кончаловский был блистательным представителем русской школы живописи. Он прошел через искус многих художественных течений XX века и сохранил свой, независимый от модных поветрий взгляд на задачи искусства. Сохранил верность большой реалистической традиции. Он испытывал какую-то трепетную влюбленность в жизнь, в чем бы она ни выражалась — в ветке цветущей сирени или в обаянии молодого человеческого тела. Живопись Кончаловского празднична, она ликует всеми красками бытия. Наверно, поэтому столь близким оказалось искусство мастера жизнеутверждающему ладу революции. Об этом писал в свое время Луначарский, подчеркивая, что «жизнерадостность есть очень важная сторона социализма». В советские десятилетия особенно убедительно выявились народные истоки мировосприятия Кончаловского. В 20-е годы он восторженно открывает для себя древнерусскую живопись и архитектуру. Художник обратился к вековым корням родной культуры после многих лет постижения веласкезовской глубины и рембрандтовской духовности, тициановской гармонии и зль-грековской страстности. То, что интуитивно нащупывалось в испанском «Бое быков», стало осознанной программой. В 20-е годы Кончаловский трижды наезжает в Новгород и окрестности. Художник рассказывал, как старые русские фрески ошеломили его своей жизненностью, правдивостью местного колорита: «Выходишь из новгородской церкви на базар какой-нибудь и видишь кругом тех же «святителей», тот же склад лиц, подчас те же выражения…» В северных полотнах Кончаловский находит решение мучительных вопросов об эллинском равновесии и национальном колорите. Кончаловский ощущал себя обладателем художественных богатств, выработанных за тысячелетия человеческой цивилизации; он чувствовал себя наследником всех ценностей отечественной культуры. Он и сам стал одним из видных ее мастеров. Каждое утро для Петра Кончаловского было радостным, потому что оно обещало работу. Не оттого ли тысячи зрителей испытывают перед картинами художника истипное воодушевление? И сегодня полотна мастера продолжают нести радость людям. стихи Варлам Шаламов * Этот дождик городской, Низенький и грязный, О карниз стучит рукой, Бормоча несвязно. Загрохочет, будто гром, И по водостокам Обтекает каждый дом Мусорным потоком. Дождь — природный хлебороб, А совсем не дворник — Ищет ландышевых троп Среди улиц черных. 98 Отойти б на полверсты От застав столицы, Распрямить, шутя, цветы Алой медуницы… Мне бы тоже вслед за ним Пробежать по гумнам — За высоким, за прямым И вполне бесшумным. * Гиганты детских лет. Былые Гулливеры, Я отыскал ваш след У северной пещеры. Разбужены чуть свет Ревнителем равнины. Варили свой обед Ночные исполины. В гранитном котелке, А может быть, и чаше В порожистой реке Заваривали кашу. Кружился все сильней. Сойдя с земных тропинок, Весь миллион камней. Как миллион крупинок. * Какая в августе весна? Кому нужна теперь она! Ведь солнце выпито до дна Листвою, пьяной без вина. Моя кружится голова, И пляшет пьяная листва. Давно хрупка, давно желта Земная эта красота. И ходит вечер золотой В угрюмой комнате пустой. И осень бродит на дворе И шепчет мне о сентябре. Гляжу на наши небеса — Там невозможны чудеса. Давно уж темной пеленой Покрыто небо надо мной. И с небосвода дождик льет, 99 И безнадежен небосвод. И осень, видно, из нерях И мной задержана в дверях. Таких не видывал грязнуль Прошедший солнечный июль. И если б я хотел и мог, Я б запер двери на замок. Не может время мне помочь — Обратно лето приволочь. И все же в сердце зажжена Весна. * На этой горной высоте Еще остались камни те, Где ветер выбил письмена. Где ветер высек имена. Которые прочел бы бог. Когда б читать умел и мог. * Я не искал людские тайны, Как следопыт. Но мир изменчивый, случайный Мной не забыт. Тепло людского излученья В лесной глуши. Земные донные теченья Живой души. И слишком многое другое, Чему нет слов, Вставало грозное, нагое Из всех углов… * Золотой, пурпурный и лиловый, Серый, синий свет. Вот оно, кощунственное слово, И спасенья нет. Вот она — в кровавых клочьях дыма, В ядовитой мгле. Будущая Хиросима Встала на земле. Как глазурь — зеленый крик ожога, Сплавленный в стекло. 100 Вот она, зловещая дорога. Мировое зло. Девушке слепой огонь пожара Обжигает взор. …О судьбе всего земного шара Начат разговор. Цыганский романс Не в первый раз судьба нас сводит, Не в первый раз в вечерний час Друг к другу за руки подводит И оставляет глаз на глаз. Но мы выдергиваем руки Из рук настойчивой судьбы — Науки радостной разлуки Мы оба верные рабы. И я и ты на речи рока Не откликаемся затем. Что нет еще числа и срока Для наших песен и поэм. Но никого не искушая В последний час, в последний раз, Все разрешая, все прощая. Судьба соединяет нас… Капля Править лодкою в тумане Больше не могу. Будто я кружусь в буране, В голубом снегу. Посреди людского шума Рвется мыслей нить. Своего мне не додумать. Не договорить. Капля с каплей очень схожи — Падают они: День за днем, как день прохожий. День — калика перехожий, Каплют капли-дни. Разве тяжче, разве краше, Ярче всех других Та, что переполнит чашу. Чашу дней моих!.. 101 * Листок дубовый — как гитара, И сотни тысяч тех гитар Трясут изорванный и старый Незасыпающий бульвар. Притихший город пышет зноем И жадно дышит тишиной. А тишина — она иное. Чем все земное, даже в зной. Как мне минор шумящих листьев По нотной лестнице вести, Каких держаться скользких истин В таком запутанном пути! Как звать пейзаж в литературу И душу дуба оживить. Как драть с живого дуба шкуру И сердце с ним соединить! Быть может, проще слушать пенье Без кисти, без карандаша, И как награда за терпенье Его откроется душа. Поэту 1. Он из окон своей квартиры С такой же силой, как цветы, Вдыхает затхлый воздух мира, Удушье углекислоты. Удушье крови, слез и пота, Что день-деньской глотает он. Ночной таинственной работой Переплавляется в озон. И, как источник кислорода, — Кустарник, чаща и трава. Растут в ночи среди народа Его целебные слова. Нам все равно — листы ли, листья, — Как называется предмет. Каким — не только для лингвистов — Дышать осмелился поэт. 102 Не грамматические поры Нас в эти чащи завлекли — Глубокое дыханье бора Ценительницы земли. 2. Орудье высшего начала. Он шел по жизни среди нас, Чтоб маяки, огни, причалы Не скрылись навсегда из глаз. Должны же быть такие люди. Кому мы верим каждый миг. Должны же быть живые Будды, Не только персонажи книг. Как сгусток, как источник света, Он весь — от головы до ног — Не только нес клеймо поэта, Но был подвижник и пророк. Как музыкант и как философ, Как живописец и поэт. Он знал решенье всех вопросов, Значенье всяких «да» и «нет». И, вслушиваясь в травы, в листья, Оглядывая шар земной. Он встретил много новых истин И поделился со страной. И, ненавидя пустословье, Стремясь к сердечной простоте, Он был для нас самой любовью И путь указывал мечте. Валентин Кузнецов У дворянского гнезда По Бсжиным спящим лугам Бродил я, душою добрея. Я отдал зарю петухам, А полночь оставил себе я. Я в этой ночной глубине Все чувствую. Все подмечаю: Запахло землею — к весне. Синица свистит — отвечаю. Река протекает. На дно Угластые тени спустились. Дворянское вижу гнездо — 103 Какие здесь птицы гнездились?! Какие здесь зрели умы! Увидеть бы мне и понять бы… Остались ручьи от зимы Да камни от старой усадьбы. А где он! Усадебный свет. Манящий в окно вырезное. Ни дома, ни сторожа нет, Лишь крыша небес надо мною. Зачем я приехал! К чему Стою на обрыве высоком. Где смотрят глазами Муму Две мокрых звезды одиноко! * Мне, как иволге, Ветку, да гнездышко малое, Да апрельскую оттепель В звонком бору. Я не лез на глаза. Не был я запевалою И торжественных слов На себя не беру. Рад я каждому светлому Зернышку дождика и что ливневый день Наконец-то просох. Рад усталому пахарю, Кисти художника. Что прошел по лугам И оставил свой вздох. Рад сибирскому солнцу В шапчонке ворсистого инея, Что кружит и туманит Девчатам глаза, Что выходит охотник За птицею синею. Словно гусли, запели В округе леса. Я иду по земле. Человека приветствую. За обиды и боли Судьбу не корю. Я свободен, как бог! Я живу! Я главенствую! На родимой земле Я вольготно царю. Буду рад, если ветка Под тяжестью сломится И в суровое небо Отправит птенцов. 104 Буду счастлив вовек. Если время наклонится Над седыми могилами Павших отцов. А он стоял на берегу. На грани ночи и рассвета. Во всем похожий на тайгу В начале северного лета. Он закрывал рукой лицо, Накатывались к горлу слезы. Ложилось новое кольцо На просветленный ствол березы. И нарождалась песня в нем, В душе такая радость зрела. Что явь ему казалась сном, Казалось невесомым тело. Закрылись беды на засов, Другие звуки в сердце льются… И у порубленных лесов Живые корни остаются. Он видел русские поля И домик свой, глядящий в реку. Россия! Родина! Земля! — Все открывалось Человеку. НАУКА И ТЕХНИКА В. Ковсшов, академик Академии медицинских паук СССР ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА — ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ В декабре 1967 года мир облетела сенсационная весть — впервые в истории человеку успешно пересажено сердце! Обладателем сердца молодой женщины Дениз Дарваль, погибшей в автомобильной катастрофе, стал житель южноафриканского города Кейптауна Луи Вашканский. Совершил замечательную операцию профессор Кристиан Бернард. Люди всей планеты с волнением следили за исходом смелого, драматического, рискованного эксперимента. Со страниц газет не сходили сообщения о состоянии здоровья мужчины, в груди которого билось сердце женщины. Восемнадцать дней и ночей врачи кейптаунской больницы Хроте Схюр бережно и настойчиво поддерживали это биение. Всем страстно хотелось поверить в то, что чудо совершилось. Но, увы, Вашканский умер. Это был тяжело больной человек. Помимо далеко зашедшей болезни сердца, он страдал и диабетом, который всегда осложняет любое оперативное вмешательство. Саму операцию Вашканский перенес хорошо. Но надо было предотвратить отторжение «чужого» сердца, и больной получал большие дозы препаратов, подавляющих реакцию отторжения: имурана, преднизолона; кроме того, его еще облучали кобальтом. Сопротивляемость к инфекциям и без того ослабленного организма резко понизилась. Вспыхнуло двустороннее воспаление легких, развившееся на фоне диабета и изменений костного мозга. А тут еще появились первые признаки грозной реакции отторжения — и Вашканского не стало. 105 Профессор Бернард трезво оценил обстановку; он понял, что смерть не была вызвана его ошибками или техническими погрешностями, и уже 2 января 1968 года произвел вторую трансплантацию сердца — на сей раз больному-врачу Филиппу Блайбергу. Блайберг поныне жив и искренне горд тем, что второй год носит в своей груди чужое сердце. Есть на свете еще один сравнительно давний обладатель чужого сердца — Эверетт Томасе, пациент известного американского хирурга профессора Кули. Его оперировали 3 мая 1968 года. Однако в середине октября состояние здоровья Томасса резко ухудшилось; пришлось срочно пересадить ему третье сердце. «Поскольку техника трансплантации разработана, — заявили хирурги, — вопрос о количестве пересаженных сердец упирается исключительно в проблему наличия доноров». Не менее оптимистически высказался и сам больной: «Пока над моим гробом не захлопнули крышку, я отказываюсь признать себя мертвым». За год после первой попытки Бернарда в разных странах мира сделано уже свыше 90 таких операций: в США — Шаумвеем, Кантровитцем и Де-Бэки, во Франции — Дюбо, в Чили — Капланом, в Чехословакии — Шишкой, в СССР — А. А. Вишневским и другими. Успех, как правило, сопутствовал тем клиникам, где накоплен большой опыт операций на сердце и хорошо используется длительное искусственное кровообращение. Около половины оперированных умерли, и столько же живут, причем двум из них произведена повторная пересадка сердца. Итак, смелый эксперимент Кристиана Бернарда послужил толчком для новых дерзаний. Но тут же следует оговориться: первая операция вовсе не была делом случая; профессор Бернард готовился к ней несколько лет, тщательно отрабатывал все детали на животных, изучал опыты других экспериментаторов. В 1960 году он посетил Советский Союз, где ознакомился с техникой операций, разрабатываемых доктором биологических наук В. П. Демиховым. Вообще у пересадок сердца есть своя история. Первые такие попытки еще в самом начале века предприняли Ч. Гютри и А. Каррель. Эти ученые подшивали сердце щенка к сосудам шеи взрослой собаки. Подсаженное сердце жило, пока не отмирало из-за тромбов, возникавших в его полостях. Несколько лучших результатов добился в 30-х годах профессор Ф. Манн. Пересаженное им сердце билось на шее другой собаки 8 дней. В 1951 году Маркус, в 1953 году Довни, в 1959 году Сапег и Грехт, в 1962 году Бинг повторили операции по методике Манна. Все вместе эти работы доказали: восстановить функцию сердца, изъятого из чужого организма, и сохранить ее в течение какого-то времени можно! Названные экспериментаторы преследовали ограниченные, чисто физиологические цели; их интересовало, как ведет себя сердце в новых условиях, без нервных связей с родным организмом. Они не ставили перед собой задачу пересадить сердце в том смысле, как это понимают сейчас. В Советском Союзе в течение ряда лет также успешно ставили аналогичные эксперименты на холоднокровных животных — Н. Синицин и на теплокровных — В. Демихов. В. П. Демихов несколько лет работал в нашем коллективе — на кафедре оперативной хирургии Первого Московского медицинского института, — и мы имели возможность присмотреться к его методике. А она у Демихова особая: он первый стал пересаживать собаке сердце не на шею, а непосредственно в грудную клетку, рядом с ее собственным сердцем. Такая операция гораздо сложнее, она требует от хирурга высокой техники, ювелирного мастерства, огромного труда и упорства. Чтобы найти наиболее простую и совершенную схему операции, Демихов испытал более двадцати вариантов! На первых порах все до одного животные погибали еще на операционном столе. Но неудачи не охладили смелого экспериментатора, не заставили опустить руки. По мере овладения тончайшей техникой и совершенствования методики гибель животных в ходе 106 самой операции становилась уже редким явлением. Теперь животные погибали лишь через несколько часов. Причина гибели — в пересаженном сердце происходили необратимые изменения, в нем образовывались тромбы, особенно в тех местах, где проходил сосудистый шов. Когда экспериментаторы применили новый сосудосшивающий аппарат системы Гудова, количество тромбозов сразу резко сократилось. Животные стали жить гораздо дольше. И все же на девятый-десятый день они погибали: либо из-за инфаркта, либо из-за тромбоза кровеносных сосудов. Было, правда, радостное и памятное исключение: собака Гришка, которой в июне 1962 года подсадили второе сердце, прожила с ним 141 день! Впервые в истории медицины электрокардиограф почти пять месяцев «вычерчивал» ритмичную работу у собаки своего и чужого сердца. Самое ценное и поразительное в опытах Демихова состояло в том, что пересаженное им сердце продолжало жить в груди теплокровного животного и, будучи подшито к ответвлениям основных его сердечно-легочных сосудов, полностью включалось в общую кровеносную систему. У животного появлялся дополнительный орган кровообращения, второй «живой насос», значительно облегчавший работу собственного собачьего сердца. Ведь он перекачивал половину, а то и больше крови! Производил В. П. Демихов и другие эксперименты — удалял сердце и легкие у одной собаки и пересаживал их другой. Делалось это так: сначала в грудную клетку животного подшивали чужие органы — сердце вместе с обоими легкими. Минут десять параллельно работали два сердца и две пары легких. Потом собственное сердце и легкие животного удалялись, причем постепенно, осторожно, чтобы не нарушить кровообращение в головном мозгу. Важный успех Демихова состоял также в том, что все время, пока он переносил сердце из одной грудной клетки в другую, оно продолжало нормально сокращаться, жило. Даже нам, видавшим виды хирургам, было удивительно видеть, как на второй день после сложнейшей операции собака просыпается от наркоза, встает, ходит по комнате, пьет воду и с аппетитом ест. Помнится, в 1951 году одну из своих исключительно эффектных операций Демихов проделал в Рязани перед делегатами выездной сессии Академии медицинских наук СССР. Ученые были в восхищении! Собака с замененным сердцем и легкими шесть суток жила в фойе здания, где происходила сессия; она погибла от осложнения, связанного с повреждением гортанного нерва во время операции. Сам Демихов объяснял свои неудачи техническими причинами и последующим развитием инфекции. Он и сейчас полностью не признает существования тканевой несовместимости, иммунологической борьбы организма с навязанной ему чужой тканью. Ну что ж, каждый экспериментатор имеет право на собственные взгляды и собственные заблуждения! Мы же убеждены, что именно несовместимость тканей, а не техника — центральный вопрос всей проблемы. От преодоления этого «барьера» зависит успех пересадки органов 1. 1 О «барьере несовместимости» и путях его преодоления писал в «Юности» доктор медицинских наук Р. В. Петров. См. его статью «Биологические химеры» в № 7 за 1966 год. Логическим развитием работ Демихова явились исследования ряда отечественных и зарубежных ученых. В 1958 году Гольдберг с соавторами опубликовал результаты трех попыток заменить сердце трансплантатом. Но пересаженные им сердца работали очень недолго: от двадцати минут до двух часов. Веббу, использовавшему ту же методику, удалось продлить жизнь пересаженного сердца до семи часов тридцати минут. В 1960 году Н. Шаумвей предложил новую методику, тщательно отработанную на собаках. Сущность ее состоит в том, что удаляется не все, а лишь большая часть сердца — желудочки и нижняя половина предсердия. Верхняя же часть предсердия вместе с крупными венами остается на месте. У донора выкраивается таких же размеров и формы трансплантат, после чего переносится на место изъятого сердца. При подавлении тканевой несовместимости 80 — 90 107 процентов оперированных Шаумвеем животных выживали, в отдельных случаях они жили свыше года. Но вот новая сенсация!.. Двадцать седьмого января 1964 года в университетскую клинику медицинского центра Миссисипи (США) привезли 68-летнего больного в крайне тяжелом состоянии, без сознания. К вечеру начало резко падать артериальное давление, появилась мерцательная аритмия. Больного перевели на управляемое дыхание, применили целый комплекс реанимационных мер, но все безуспешно. В той же клинике находился другой больной — молодой человек, погибавший от опухоли мозга. Коллектив специалистов этой клиники давно уже готовился к пересадке сердца, исподволь отрабатывал методику, заранее был определен даже состав будущих бригад. Словом, психологически врачи были полностью готовы к осуществлению этой операции. Однако судьбе угодно было решить иначе. 29 января состояние 68-летнего страдальца стало угрожающим, неотвратимо приближалась остановка сердца, а намеченный донор был еще жив. Поскольку никаких надежд на его спасение не оставалось, родственники юноши разрешили взять его сердце для того, чтобы спасти другого человека. Однако врачи не решились забрать у больного, пусть даже обреченного, его бьющееся, трепещущее сердце. Но как быть с тем, умирающим? Его срочно взяли на операционный стол. Почти тотчас же у него остановилось сердце. Экстренно подключили аппарат искусственного кровообращения. И тут перед лицом грозно нараставших трагических событий врачи решились на смелый эксперимент. Хирург Джеймс Харди и его коллеги отсекли отработанное, пришедшее в негодность человеческое сердце и подшили на его место заранее подготовленное (на всякий случай) сердце… шимпанзе. И оно заработало! Тух. же, однако, стало очевидно: маленькое по размерам сердце обезьяны не может обеспечить достаточного кровоснабжения большого человеческого тела. Желудочки и предсердия то и дело переполнялись, и Харди приходилось проталкивать скопившуюся в полостях кровь рукой. Так продолжалось бесконечных шестьдесят минут… Потом наступила смерть. При всей внешней сенсационности эксперимента Харди его не следует недооценивать — на пути к цели важен каждый новый шаг, — любой штрих все же дорисовывает неоконченную «картину». Наука должна ее «дорисовать», должна во что бы то ни стало! И эксперименты, исследования продолжаются. У нас в Советском Союзе их ведут Ю. Бредикис, В. Бураковский, А. Вишневский, Г. Фальковский, А. Покровский, Б. Петровский, Г. Соловьев, В. Савельев, В. Демихов и другие. И все же, несмотря на ряд успешных операций, буквально взбудораживших мир, проблему трансплантации сердца никто не считает решенной. Дело пока не вышло из стадии экспериментов, пусть смелых и многообещающих, но все же экспериментов. И пусть никто не заблуждается и не переоценивает события: замечательные операции Бернарда, Кантровитца, Шаумвея, Кули и десятков их последователей тоже суть лишь эксперименты. Мне могут возразить: любая операция, а тем более произведенная впервые, содержит элемент неизвестности и, значит, тоже является в какой-то мере экспериментом. Верно! Но столь же несомненно и другое: каждый новый метод лечения допускается в клинике только после длительной, тщательнейшей, всесторонней отработки на животных, после того как все без исключения опасения и неясности сняты наукой. Разве так обстоит дело с трансплантацией сердца? Жизнь торопит, снова возразят мне, клиника зачастую идет параллельно с исследовательской лабораторией, а то и опережает эксперимент. Известно немало примеров тому из истории медицины. Пастер не успел еще проверить на животных эффективность своей вакцины против бешенства, как сама судьба в образе фрау Мейстер из Эльзаса 108 вынудила его взяться за лечение девятилетнего мальчика Иозефа Мейстера, искусанного бешеной собакой. Иозеф остался жив — ученый победил! Разработанный метод предохранительных прививок завоевал мир. Но все это произошло потом, а в тот момент, когда ученый дрожащей рукой делал первое впрыскивание своей еще не очень надежной вакцины, это был в чистом виде эксперимент на человеке. Почему же отказать в таком праве Харди, Бернарду, Шаумвею и десяткам других зрелых, сознающих свою высокую ответственность исследователей?! Я знаю, что каждая сложная и трудная операция ставит хирурга перед дилеммой: попытаться (пусть даже со смертельным исходом!) спасти больного или отступить; руководствоваться хотя и гуманным, но отражающим бессилие медицины принципом: «Только не вреди!» — или рисковать во имя той же гуманности и человечности? Меня лично больше прельщает второе. Я думаю, прав член-корреспондент АМН СССР профессор Н. М. Амосов, выдвигающий следующий принцип — активный, зовущий к отважным поискам: «Постарайся помочь обреченному!» Протоптанный и спокойный путь «на человеке — только после собаки!» — далеко не всегда оказывается на поверку самым лучшим, а главное — самым близким к цели. Действительно, все собаки, которым пересаживали сердце, за небольшим исключением, погибли, а более 40 процентов оперированных людей остались жить. Да и при неудачном исходе рискованного вмешательства ученого не в чем, по сути, упрекнуть. Не отважься Пастер, мальчик неминуемо погиб бы, — значит, преступлением против человечности была бы в данном случае как раз осторожность, а не отвага. Я пишу все это к тому, что сами по себе слова «эксперимент на человеке» не должны пугать. Надо только называть вещи своими именами: эксперимент значит научный опыт, поиски нового, и ничто другое, а связанную с этим опасность морально оправдывают конкретные обстоятельства: то, что операция предпринята в качестве крайней меры, когда все другие способы помочь больному полностью исчерпаны. Но хирург всегда помнит, что даже при самых чрезвычайных обстоятельствах всегда остается огромная разница между больным человеком и лабораторным кроликом. Необходимо подчеркнуть еще один, на мой взгляд, очень важный момент при пересадке органов: в отличие от всех иных операций объектом воздействия хирурга при этом становится не один, а два человека — донор и реципиент. Стало вполне обычной практикой, когда донор — совершенно здоровый человек — добровольно отдает другому для спасения его жизни один из своих парных органов, скажем, почку. В случае успеха выигрыш прямой: живыми остаются оба. Ну, а если трансплантируется такой орган, как сердце? Тут уж хирург поставлен перед выбором: кого спасать? Потенциального ли донора — человека, попавшего в силу грозных обстоятельств на самый край жизни, — или реципиента, который тоже уже ступил на этот трагический рубеж? Быть или не быть? — вот какая поистине гамлетовская возникает коллизия. Одна нью-йоркская газета в статье, посвященной первой операции Кристиана Бернарда, привела следующие слова своей читательницы: «Могу ли я быть уверена, что доктора сделают все от них зависящее для спасения моей жизни, если я попаду в катастрофу или внезапно заболею? Не окажет ли на них влияние мысль о том, что мои органы могут пригодиться другому человеку?» И дальше: «Можно ли будет доверить врачу роль верховного судьи в такой ситуации: на одной койке умирает человек из-за болезни сердца, на другой — из-за травмы мозга». В самом деле, кому что пересаживать? Кого спасать? Ответ, на мой взгляд, может быть только один: без всякого выбора — обоих! С полным правом гордимся мы созданными в СССР реанимационными центрами, готовыми в любой момент прийти на помощь пострадавшему. Известны сотни случаев возвращения к жизни людей после клинической смерти. Дружными усилиями ученых ряда стран попавший в автомобильную катастрофу замечательный физик был трижды возвращен к жизни. У известного советского хирурга 109 пятьдесят семь раз останавливалось сердце. Пятьдесят семь раз врачи «запускали» его вновь, и этот ученый поныне среди нас, живых. Нет, при всем, даже высочайшем опыте одному хирургу нельзя разрешить свободно определять судьбу предполагаемого донора, лишать кого-то права на жизнь, пусть даже измеряемую быстротечными минутами! Несколько десятков успешно выполненных пересадок сердца еще не свидетельствуют, что сложнейшая проблема трансплантации этого жизненно важного органа решена. Барьер тканевой несовместимости еще пугает своими заоблачными пиками. И хотя основная функция сердца механическая, а не химическая и не секреторная, никому не позволено «смахнуть со счетов» действие иммунологических факторов. В широкой прессе на первый план все еще выступают морально-этические, правовые аспекты проблемы, а не биологические. Это естественно! Представители разных слоев населения продолжают обсуждать вопрос о праве врача «забирать» чужое сердце, а у некоторых тяжелобольных невольно возникает недоверие к медикам. Одна из висбаденских автомобильных компаний выпустила даже плакат: «Водители, будьте осторожны — Бернард ждет!» Но… Если не поддаваться порывам фантазии, а оставаться на почве реальных фактов, то приходится признать, что телега тут оказалась впереди лошади. Человечеству пока еще не «грозят» массовые пересадки сердец. Даже в промышленности деталь ставят на поток только после тщательной подготовки всего технологического процесса. Что же говорить о сложнейшей операции на таком щепетильно тонком органе! Больных, нуждающихся в пересадке сердца, много, гораздо больше, чем возможных доноров — людей, погибающих при внезапных катастрофах. Где же выход? Его еще надо искать. Естественно, что самые лучшие «запасные» органы для трансплантации — свежие, не успевшие погибнуть. Не вижу, почему бы и впредь их не использовать. Тем более, что в нашей стране во взаимоотношениях врача с его пациентами нет материального расчета, следовательно, нет и условий, способных толкнуть людей к торговле своими органами. Содрогание и гнев по адресу строя, породившего такое уродство, вызывает, например, появившееся в Париже объявление женщины из Ниццы, подписавшейся инициалами Р. М.: «Продаю живое сердце!». «У меня нет ничего другого, — пишет эта несчастная, — и я хочу это сделать ради своей семьи… Ни один богатый больной не должен колебаться перед этой сделкой…» Трагическая, отвратительная гримаса капиталистического общества! Не случайно эта отчаявшаяся женщина обращается только к «богатым больным». Вдова М. Касперака, первого американца, которому было пересажено сердце, получила после смерти мужа счет от медицинского центра. За лечение и обслуживание покойного в течение пятнадцати дней с семьи потребовали 28 тысяч 800 долларов, не считая стоимости самой операции. Советские люди верят в разум, благородство, гуманность и высокое чувство ответственности своих врачей, посвятивших жизнь служению человеку, его здоровью и благополучию. В наших условиях решение всех ответственных вопросов, связанных с пересадкой органов, может быть, мне думается, доверено не одному хирургу, а компетентному консилиуму. Это исключит всякие недоразумения. Но неясности остаются. И основное среди них: что считать жизнью, и когда наступает смерть? Какой момент должен считаться самым последним, исчерпывающим все надежды на дальнейшую жизнь умирающего? Ответить на это должна наука! Расскажу в этой связи об одной трансплантации и обстоятельствах, при которых решался затронутый выше вопрос. 3 мая 1968 года в Национальном госпитале по сердечным заболеваниям профессор Росс со своей бригадой успешно произвел десятую в мире и первую в Англии пересадку сердца. Получил его сорокапятилетний Фредерик Уэст, страдавший тяжелой формой 110 сердечной недостаточности, а отдал — Патрик Райн, молодой столяр. Упав со строительных лесов, он получил тяжелую травму мозга. В реанимационный центр Райн был доставлен в бессознательном состоянии. Дважды останавливалось сердце, и дважды врачам удавалось восстанавливать его работу. Зрачки, однако, оставались расширенными и не реагировали на свет, дыхание отсутствовало; электроэнцефалограф и электрокардиограф упорно не фиксировали какой-либо активности мозга и сердца. Нейрохирурги, пытавшиеся спасти пострадавшего, столкнулись с несовместимыми с жизнью разрушениями жизненно важных центров — дыхательных и сосудодвигательных. Все специалисты единодушно пришли к выводу: дальнейшие попытки реанимации бесполезны! Вскоре еще одна группа специалистов, в которую, помимо нейрохирургов, входили анестезиологи, общие хирурги, ортопеды, констатировала: смерть! Был подключен аппарат «сердце — легкие», который некоторое время искусственно поддерживал в бездыханном теле кровоснабжение и дыхание. Родственники Райна сразу же дали согласие на изъятие его сердца для пересадки. Сотрудники лаборатории профессора-иммунолога Батчелора быстро установили наличие генетической совместимости донора и реципиента по двадцать одному фактору (это лишь на один компонент хуже, чем было у Блайберга). Прежде чем описать самую операцию, коротко скажем о реципиенте. Фредерик Уэст, 45-летний бизнесмен, уже три года страдал тяжелой формой сердечной недостаточности. За последнее время неоднократно лежал в клинике. Семь раз его сердце переставало биться. Исчерпав все терапевтические возможности, врачи предложили Уэсту пересадить новое сердце. Он с готовностью согласился: дни его были явно сочтены; по свидетельству родственников, он жил лишь благодаря усилиям воли. Две бригады хирургов приступили к операции одновременно в двух отдельных операционных. Первая, под руководством Кейта Росса, должна была извлечь сердце из грудной клетки Райна, вторая бригада, руководимая профессором Дональдом Россом, начала подготовку Уэста. После срединного разреза грудины и вскрытия перикарда обнаружилось едва живое, чуть трепыхавшееся сердце. Непосредственный его осмотр лишний раз убедил всех: никакое лечение уже не могло ему помочь. Подключили аппарат «сердце — легкие» и приступили к делу: пересекли аорту и легочную артерию, отделили желудочки от предсердий и отсекли перегородку у самых желудочков. Таким образом, на месте остались стенки левого предсердия с устьем легочных вен и часть правого предсердия с устьем полых вен. Наступил третий, решающий этап операции. Принесли сердце донора и бережно уложили его в полость перикарда реципиента. Теперь левое предсердие донора подшили швом к предсердию реципиента, таким же образом соединили легочную артерию с легочной артерией, аорту с аортой. Рану послойно зашили и перевезли больного в специально оборудованную стерильную палату. Сама операция длилась несколько часов, но подготовка ее отняла многие годы. Профессор Дональд Росс (кстати, сокурсник Бернарда) — один из лучших хирургов мира — произвел к тому времени уже около двухсот пересадок клапанов сердца. Последние четыре года он вместе с профессором Дональдом Лонгором экспериментировал в Королевском ветеринарном госпитале — пересаживал собакам отдельно сердце и сердце вместе с легкими. Как мы видим, за жизнь Уэста вступились не новички, не просто энтузиасты, но высокоэрудированные, хорошо и всесторонне подготовленные специалисты. На следующий после операции день состояние Уэста было весьма удовлетворительным, разговаривая с женой через стеклянную перегородку, он поднял большой палец руки: дескать, все хорошо! Весть обо всем этом молниеносно разнеслась по Англии; газеты и журналы разделились на два лагеря: одни считали операцию с медицинской точки зрения 111 преждевременной, а с моральной неправомерной, другие возражали, ссылаясь на пример Блайберга и на обоснованность риска. Кто прав — судить не берусь, это лучше сделает история. Хочу лишь сослаться на высказывание, пожалуй, самого компетентного человека — Филиппа Блайберга: «Теперь.., когда со времени операции прошло четыре месяца.., угадать, что готовит будущее, невозможно. Но я уже получил несколько месяцев нормальной жизни сверх положенного мне срока, и если даже на следующей неделе я умру от реакции отторжения, я все-таки буду считать, что меня оперировали удачно». В описанном случае больному Уэсту и спасавшим его хирургам «помог» трагический инцидент — падение со строительных лесов столяра Патрика Раина. Но можно ли строить врачебные расчеты на такой зыбкой почве: подоспеет ли донор? И с новой силой звучит вопрос: где же выход? Прежде всего, видимо, нужно усиленно отрабатывать методику консервации трупных тканей и органов. Ведь уже сегодня более 41 процента пересаженных в мире почек взято от трупов. Надо научиться быстрее и надежнее оживлять ткани. Нет никаких оснований считать, что и техника пересадки сердца полностью разработана. Технические трудности преодолены лишь частично. Важнейшими этапами на этом пути были разработка А. Каррелем методики соединения кровеносных сосудов и создание советским инженером В. Ф. Гудовым великолепного сосудосшивающего аппарата. Но до сих пор не найден еще наиболее подходящий метод вспомогательного кровообращения. Дело в том, что пересаженное сердце некоторое время работает слабо, ему трудно сразу справляться с той нагрузкой, которую налагает на него чужой организм. При пересадке почки роль некоего костыля играет аппарат «искусственная почка»; он на первых порах берет на себя часть очистительной работы и тем самым облегчает жизнь новой почке. Именно этот аппарат помог организму сотен оперированных больных миновать наивысшую точку реакции несовместимости, побороть «криз отторжения». Увы, аппарата «искусственное сердце», способного в течение многих часов и дней заменять собственное сердце, пока еще нет, хотя энергичные попытки создать его предпринимаются в СССР, США и других странах. Лишь после того, как рядом с пересаженным на какой-то срок забьется еще и механическое сердце, операции этого рода станут более надежными. Даже если говорить о пересадках почек, которые наиболее освоены хирургами, то и тут еще не преодолены все технические трудности. Почка очень чувствительна к кислородному голоданию, поэтому надо настойчиво. совершенствовать методы ее консервирования, хотя бы на время самой операции. Сегодня же решают буквально минуты. Хирургам приходится очень спешить и с тем, чтобы взять почку у донора, и с тем, чтобы подготовить для нее ложе у воспринимающего больного. Исследования; проведенные в нашей лаборатории, показывают, что срок хранения почки можно повысить до 3 — 12 часов. Для этого требуется охладить ее до +2 — +4 градусов, беспрерывно «подкармливать» с помощью аппарата искусственного кровообращения и содержать в барокамере при повышенном давлении кислорода. Но далеко не в каждом, даже крупном лечебном учреждении имеются такие условия. Экспериментальные пересадки сердца мы в содружестве с Институтом сердечнососудистой хирургии имени А. Н. Бакулева начали еще в 1966 году. Рабочая группа состояла из В. Бураковского, Г. Фальковского, А. Покровского и других. За это время проведено свыше пятидесяти опытов на собаках. Отрабатывая технику операции (в основном по методике Шаумвея), исследователи пытались получить ответ на ряд важных для клиники вопросов. Прежде всего: какое сердце предпочтительнее пересаживать — мертвое или живое? Сомнений на этот счет не осталось: идеальным трансплантатом является живое, работающее сердце, изъятое из организма в условиях умеренной гипотермии (охлаждения). 112 Подтвердился общеизвестный факт, установленный и экспериментаторами и клиницистами: безопасно пересаживать можно только работающее сердце. Но где и у кого его брать? Если трезво смотреть правде в глаза, то следует признать: пока мы не научились оживлять мертвые сердца, остается одно — использовать случаи заведомо несовместимых с жизнью травм таких органов, как головной мозг. Однако тут же нас настигает основной вопрос: что считать критерием смерти организма? Если наступит гибель головного мозга, то взятие трансплантата, отвечающего всем необходимым требованиям, вполне возможно. В самом деле, полное разрушение мозга можно точно установить с помощью электроэнцефалографии: когда писчики вычерчивают на ленте прямую линию, это — неопровержимое свидетельство гибели клеток мозга. Кроме того, можно ввести в сосуды мозга контрастное вещество и затем прибегнуть к рентгенографии, чтобы объективно определить степень, характер и локализацию повреждения мозгового вещества и решить, совместима ли данная травма с жизнью? Существенные данные о состоянии пострадавшего способна дать также операция, предпринятая для его спасения. Следовательно, и здесь на первый план выходят меры реанимации. Надо делать все, что в силах врача, что позволяет современная медицинская техника. Нетрудно представить, какая напряженная, нервная обстановка создается в операционной. Совесть врача кричит: не торопись, в пострадавшем еще теплится последняя искорка жизни. А разум хирурга требует: не упусти последнего мгновения, когда сердце еще может забиться, от этого ведь зависит еще одна жизнь! Наука давно уже бьется над тем, чтобы умерить этот драматизм, найти пути к восстановлению работы сердца вскоре после его остановки. Работы А. А. Кулябко, С. В. Андреева, С. А. Чечулина показали: добиться этого можно! Сердце, изъятое из организма животного, даже через час после его смерти пригодно для трансплантации в 80 процентах случаев, а через полтора часа в 70 процентах случаев. Почему должно быть исключением сердце человека? Видимо, и его можно оживить, надо только найти для этого наиболее верные пути. И тогда необозримо расширятся возможности для пересадки, а проблема донора перестанет быть «ахиллесовой пятой» трансплантации. Надежды экспериментаторов поддерживает то обстоятельство, что сердца, взятые от трупов людей, погибших от сепсиса, рака, гипертонической болезни, дизентерии, дифтерии, скарлатины, некоторое время сохраняют жизнеспособность. С. В. Андреев добился частичного возобновления сокращений у 222 из 397 трупных сердец, а у 28 — полного. Доказано, что сердца молодых людей лучше восстанавливают свое биение, чем взрослых и старых. Есть работы, показывающие, что через шесть часов после смерти полностью восстанавливались сокращения сердец в 33 процентах случаев, через двенадцать часов — в 22 процентах, а через сутки — в 11 процентах случаев. Повторяю, надежды есть, надо работать, искать, пробовать! Наши сотрудники Г. Фальковский и А. Покровский исследовали несколько способов сохранения трансплантата сердца до момента его пересадки. В одних случаях они в течение 15 — 65 минут охлаждали трансплантат; в других прибегали к общему искусственному кровообращению с умеренной гипотермией; в третьих изымали сердце под защитой . общей гипотермии, а затем «накачивали» в него обогащенную кислородом кровь. Этот последний вариант кажется наиболее перспективным, однако работу мы не считаем законченной. Предстоит еще попытаться законсервировать трансплантат при повышенном давлении кислорода в барокамере, сохранить его в жидких питательных средах при низкой температуре, испытать разные методы и режимы перфузии и т. д. Еще один вопрос требует пристального к себе внимания — о реиннервации сердца. Дело в том, что в ткани или органе, потерявшем обычные нервные связи с организмом, непременно происходят сложнейшие обменные и структурные изменения. Разрушение нервных связей (денервация) сопровождается резкими расстройствами белкового, углеводного, электролитного, гормонального обмена. Чтобы справиться с 113 тканевой несовместимостью, необходимо научиться быстро восстанавливать нервные связи. Возможно ли это в принципе? Возможно! Так показывают работы С. В. Андреева, Н. Н. Приорова, Д. К. Языкова, В. Д. Дедовой, Т. И. Черкасовой. Но нужны еще серьезные исследования, которые выявят реальные пути для ускоренной реиннервации пересаженного сердца. . Наконец, мы не располагаем сегодня убедительными тестами, которые бы с абсолютной точностью определили: сколько еще может функционировать трансплантат в данных условиях? Как влияет на него иммунодепрессивная терапия? Какова степень изношенности донорского сердца и тканей самого реципиента? Открытым пока остается еще один, не менее важный, чем все перечисленные, вопрос: кому и когда следует пересаживать чужое сердце? Не секрет ведь, что люди, перенесшие два, а то и три-четыре инфаркта, соблюдая предписанный им режим, живут годами. Когда же возникает необходимость и право подвергать их сложнейшим и пока рискованным операциям? Не очевидно ли, что в нынешних условиях показания эти должны быть максимально сужены, точно так же должны быть определены медицинские учреждения, где эти операции могут производиться. В ближайшие месяцы, если не годы, пересадку сердца можно будет производить лишь больным, находящимся в тяжелейшем состоянии, возникшем на почве сердечной недостаточности (множественные инфаркты с выраженной, близкой к разрыву аневризмой сердца, тяжелые, обезображивающие поражения клапанного аппарата сердца, не поддающиеся реконструктивным операциям). Попасть на операционный стол могут и дети с тяжелыми врожденными аномалиями развития сердца, не оставляющими надежду на последующее нормальное развитие и существование. Решаясь на пересадку сердца, хирург, естественно, должен строго учитывать также состояние других органов и систем организма, особенно легких, печени, почек: при их патологии трудно рассчитывать на успех. Проблем острых и менее острых, медицинских, правовых, социальных — множество. Они привлекают внимание не только врачей, но и физиологов, иммунологов, биологов, биохимиков, инженеров, юристов и даже… поэтов. Сдается, что в «гонке» пересадок, последовавшей за опытами Кристиана Бернарда, присутствует некий привкус азарта, и это огорчительно. Пусть же скорее наступит момент, когда ученые смогут более спокойно и трезво оценить все, что сделано, взвесить все «за» и «против», наметить дальнейшие пути. Наверняка появятся скептики, настойчиво убеждающие в бесплодности поисков и опасности экспериментов. Они есть и сейчас, ряды их приумножились после того, как «сам» Бернард заявил, что рано или поздно чужое сердце будет отвергнуто организмом. Имеются и безудержные «оптимисты», готовые требовать осуществления пересадок чуть ли не в любой клинике. «Как же, больные гибнут, разве не обязанность врача попытаться даровать им хоть еще неделю жизни!» Так или иначе, но кейптаунские события всколыхнули общественное мнение, подстегнули творческую мысль ученых — в этом их несомненная ценность. Мы тоже за то, чтобы мертвые все больше спасали своим угасшим телом живых, не давали им преждевременно уйти из жизни, полной радости и печалей, любви и страданий, творческого труда, смелых поисков и окрыляющих открытий. Но эти высокие слова останутся риторикой, если за ними не последуют трезвые, углубленные, очищенные от всего наносного, подлинно научные исследования. Ей, науке, принадлежит решающее слово! ВСТРЕЧИ Константин Симонов ЧАРЛИ ЧАПЛИН, ЛЕТ01946 ГОДА 114 Летом 1946 года, во время поездки по Соединенным Штатам Америки, я оказался в Голливуде и в первый же день своего приезда спросил у нашего консула, не может ли он мне помочь увидеться с Чарли Чаплином. — Что ж, надеюсь, что это возможно, — сказал он. — Чаплин вообще прекрасно относится к людям, приезжающим из Советского Союза. Я позвоню ему от вашего имени. На следующее утро, вновь увидев консула, я узнал, что он уже звонил Чаплину. — Чаплин просит вас заехать сегодня в два часа дня к нему на студию. Он просит извинения, что назначает вам свидание там, на студии, но он сейчас репетирует новый фильм, готовится начать съемки, с утра до вечера пропадает на студии и поэтому может принять вас только там. В половине второго мы вдвоем с переводчиком поехали на студию к Чаплину. Расстояния в Лос-Анджелесе изрядные, и мы проехали почти полчаса, прежде чем остановились на широкой улице около маленькой зеленой калиточки. За калиткой и забором виднелись невысокие деревья и несколько низких одноэтажных зданий. Я не сразу понял, что мы добрались до места, и, когда мой переводчик Бернард сказал, что это и есть киностудия мистера Чаплина, я был немножко удивлен. Простой заборчик, низенькие, как мне показалось, деревянные одноэтажные строения… Мне представлялось, что студия, в которой работает Чаплин, должна выглядеть совсем по-другому. Мы прошли между двумя палисадничками, вошли в какие-то маленькие воротца, за которыми находилась тоже маленькая проходная будка. Будка была совсем крохотная, похожая на телефон-автомат; справа — будка с маленьким окошечком, прямо — калитка во двор студии, а слева — несколько скамеек, на которых сидело три или четыре человека, должно быть, актеры. Я тоже присел на скамейку рядом с ними, а Бернард утонул головой в окошечке будки. Я услышал, как он повторяет «мистер Чаплин, мистер Чаплин», «два часа», «два часа», «мистер Чаплин, мистер Чаплин, мистер Симонов… два часа…». Он говорил что-тс еще, но я понимал только в пределах моего явно недостаточного знания английского языка. Девица в окошечке что-то отрывисто и, как мне показалось, даже сердито, отвечала ему, а он опять твердил свое: «Мистер Симонов… мистер Чаплин… два часа». Это продолжалось несколько минут, потом он повернулся ко мне и сказал с досадой: — Удивительное дело, она ровно ничего не знает! — Пусть она позвонит и напомнит Чаплину, может быть, он забыл, — сказал я. — Она отказывается ему звонить, потому что он сейчас репетирует. — Так что ж мы будем делать? — Придется ждать здесь. Может быть, придет кто-нибудь из тех, кто должен явиться к нему на репетицию, и я пошлю ему записку. А может быть, он сам вспомнит и позвонит сюда. Мы сели на скамейку рядом и стали ждать. Бернард, с которым мы ездили по Америке уже третий месяц, нисколько не стеснялся все это время ругать при мне все, что ему не нравилось в Америке с его позиций либерального американца, но в то же время с такой же горячностью хвалил все, что в американской жизни и в американском быту казалось ему хорошим и достойным подражания. В особенности он любил подчеркивать американскую точность, она была его коньком, тем более, что он сам в любых обстоятельствах оставался эталоном этой точности. А теперь мы сидели с ним рядом на скамейке перед закрытой дверью, сидели и абсолютно не представляли себе, сколько нам еще придется сидеть. Через полчаса молча клокотавший рядом со мной Бернард вновь подошел к проходной будке и попросил девушку позвонить Чаплину, но получил тот же самый ответ: что мистер Чаплин репетирует и, пока он репетирует, она не будет ему звонить. Бернард снова уселся рядом со мной на скамейке и на этот раз начал клокотать уже не молча, а вслух. — Вот эта вечная неточность! Эта вечная безалаберность! Эта вечная неразбериха всегда и всюду, где имеешь дело с артистами и им подобными людьми!.. 115 Он изъяснялся в этом духе довольно долго. Когда я снова посмотрел на часы, на них было уже несколько минут четвертого. Пошел второй час ожидания. Мне самому было досадно, но Бернард совершенно очевидно страдал еще больше меня, и я, чтобы прекратить его страдания, сказал ему, что нам, пожалуй, следует уйти. Мистер Чаплин — великий человек, но больше часа не следует ждать даже великих людей. Вернемся в гостиницу, а вечером позвоним — может быть, произошло недоразумение и нас ждали не сегодня, а завтра. Именно в этот момент открылась калитка студии и в ней появился высокий седой мужчина, к которому кинулся Бернард. Они перебросились несколькими словами, мужчина ушел и почти тотчас же вернулся и сказал, что мистер Чаплин просит бога ради извинить его, что он с утра беспрерывно репетирует, но скоро закончит и просит нам передать, чтобы мы пока шли на студию и ходили бы там всюду, где захотим, и делали все, что захотим. Седой мужчина исчез так же быстро, как появился, а мы вошли во двор студии. Это был обыкновенный студийный двор, только немного меньше и немножко чище, чем я привык видеть у нас. На этом дворе в разных местах стояло несколько одноэтажных домиков, а кругом них довольно много декораций, совсем новеньких, только что покрашенных и старых, обветшалых. Мы стали бродить между ними. В Голливуде благословенный для кинопромышленности климат: ни сильной жары, ни сильных дождей, ни снега. Поэтому не удивительно, что многие декорации стояли здесь в более или менее сохранившемся виде уже долгие годы. Мы бродили между ними, словно по смутно знакомому городу, то здесь, то там вдруг узнавая то, что мы уже видели в картинах Чаплина. Вот это стена парикмахерской из «Диктатора», а вот это часть стены дома из «Новых времен», а вот это фасад здания из фильма «Огни большого города»… Как потом выяснилось, после окончания съемок того или иного фильма на студии у Чаплина часть декораций так и остается в неприкосновенности до следующей картины, потому что потом их, не разрушая, заново перестраивают, приспосабливают. А некоторые куски декораций из каждой картины Чаплин оставлял намеренно, для памяти, как своеобразный музей. Мы бродили между декорациями, а в это время в центре студийного дворика человек сорок постановщиков неторопливо и почти бесшумно в разных местах строили большой новый комплекс декораций: несколько небольших интерьеров, какой-то домик, еще один домик, банковский подъезд, уголок сада, кусок какого-то зала, который мы потом узнали в фильме «Мѐсье Верду» как зал суда, и, наконец,, самую большую из декораций — тюремный двор. Мы бродили уже минут тридцать или сорок, как вдруг откуда-то из-за угла нам навстречу выбежал живой Чаплин. Я употребил слово «живой», потому что, хотя и готовился встретиться с Чаплином, мне все равно в первую секунду было абсолютно странно вдруг увидеть живого Чаплина. Выбежал живой Чаплин, улыбающийся, очень любезный, очень маленький, совершенно седой и очень красивый. Тонкий, изящный, узкий, очень милый, с вежливо-застенчивой улыбкой на лице. Эта была улыбка, которой он улыбался в фильмах, улыбка, которой он улыбался в гриме, и в то же время эта улыбка была его собственной, человеческой улыбкой. А, впрочем, это было уже невозможно разобрать, какая улыбка была его собственной: та, из фильмов, или эта, которой он улыбался сейчас, — робкая, застенчивая, именно застенчивая улыбка, которая из-за того, что на лице его не было грима, казалась совершенно естественной: в ней не было ничего резкого, ничего подчеркнутого. Он выскочил из-за угла и пошел, почти побежал нам навстречу. На нем была какая-то старенькая рубашечка в полоску или в клеточку, уже не помню, с просекшимся воротничком. А поверх рубашки — свитерок, застегивающийся на пуговки, тоже старенький, и серые шерстяные штаны с латками, обветшалые и протертые. Видимо, это был костюм, в котором он привык репетировать, и мне, когда я увидел на нем этот костюм, показалось, что он репетирует в нем, наверное, уже не первую и не вторую картину. Он 116 поздоровался и попросил у нас извинения, что заставил нас так долго ждать и что вообще все так вышло. — Я совершенно негодный, отвратительный, неточный человек, — сказал он. — И вообще со мной совершенно невозможно иметь дело и не нужно иметь дело. Мне кажется, уже никто и не желает иметь со мной дело. И, очевидно, правильно поступает. Все это было сказано с улыбкой. — Надолго ли вы приехали в Голливуд? Я ответил, что недели на две. Все, что говорил Чаплин, он говорил быстро, на ходу, и при этом мы все время как-то бесцельно, как мне показалось, передвигались, вернее, Чаплин быстро передвигался, а мы поспевали за ним. — Я сейчас репетирую последние дни, — говорил он. — Я вообще всегда репетирую до самой последней минуты. Но при этом я все еще не подобрал всех актеров, которые мне нужны. И сейчас опять пробую по нескольку разных актеров на несколько ролей. Никак не могу найти сыщика. Он вдруг спохватился. — Но вы же не знаете, в чем дело! Вы же не представляете, что будет у меня в картине. Я ответил, что кое-что читал об этом, что в газетах писали, что в его фильме будет рассказано что-то вроде истории Синей Бороды. — Да, да, — сказал он. — Но это будет безумно смешно. Вы даже не представляете себе, как это будет смешно. Он на несколько секунд замолчал, и по выражению его лица мне показалось, что он сейчас вспоминает какие-то ужасно смешные вещи из своей будущей картины и, вспоминая их, забавляется своими воспоминаниями. — Но мы сначала пойдем посмотрим декорации, — сказал он. — Вот это домик, где он будет обольщать свою четвертую жену. Это будет безумно смешная сцена. В сущности, в душе он ребенок. И очень застенчивый человек и вовсе не любит обольщать женщин. Он совершенно не любит этим заниматься. И при этом он еще очень, очень вежливый… И Чаплин каким-то неуловимым жестом и короткой смешной гримасой показал, какой вежливый его герой. — Он очень вежливый. А она очень шумная женщина. Очень большая, очень немолодая и очень шумная женщина. Неприятная женщина. А ему нужно ее обольстить. А потом убить. Понимаете? Но он очень не любит все это делать. Он прекрасный семьянин и очень застенчивый человек. Ему так неудобно обольщать эту женщину, и он так вокруг нее прыгает при этом, и у него все время толком ничего не получается. Это будет безумно смешно! Он обернулся на полуслове, заметив какого-то шедшего ему навстречу человека. Человек в руках нес несколько вещей, которые в такой комбинации можно увидеть только на киностудии: бутылку с наклейкой, длинный гвоздь и кандалы. — Сейчас, минуточку, — сказал Чаплин и подошел к своему сотруднику. — Очень хорошо. Бутылка, гвоздь и кандалы. Он взял у него из рук кандалы и стал примерять на свою руку. — Да. Кандалы хорошие. Эти годятся. Он повернулся к нам и стал объяснять: — Это будет нужно для тюрьмы. Его потом посадят в тюрьму. Вот с этой сценой в тюрьме я и имел самые большие неприятности с цензурой. Там есть такая сцена: когда его сажают в тюрьму, к нему приходит священник и говорит традиционную фразу, которую они говорят, приходя к заключенным: «Чем я могу вам помочь?» — Вернее, не говорит, а собирается сказать. А мой Верду, как только священник входит к нему, сам первый говорит священнику: «Чем я могу вам помочь?» И вот из-за этой фразы у меня было два месяца задержки, потому что наша цензура нравов, в которой главную роль играют католики, непременно хотела это место выбросить. Но я запротестовал и сказал, что без этого места я 117 вообще ничего не буду снимать, у меня в фильме обязательно будет это место… Пойдемте дальше, посмотрим декорации. Сейчас я вам покажу тюремный двор. Мы подошли к декорации тюремного двора, и Чаплин воскликнул: — Ах, четвертый день я опаздываю! Мы сначала не поняли, почему он заговорил об опоздании, но он, взглянув на часы, объяснил: — Вот видите, я опять не могу ничего как следует проверить. Это будет в самой последней сцене. Верду пойдет вот отсюда, и когда он пойдет, тень должна разрезать этот тюремный двор ровно пополам. Он пойдет вот отсюда, здесь будет яркий солнечный свет, а потом, как раз посередине двора, он из этого солнечного света перейдет в полосу тени, в почти полную темноту. И уже в этой темноте уйдет в ворота. Этим кончится картина. И я хочу проверить, где точно лежит эта тень, правильно ли поставлены декорации по отношению к этой тени. И вот четвертый день не могу сюда попасть ровно в половине четвертого, когда тень должна лежать так, как мне это нужно. Каждый раз забываю. И вот сегодня опять забыл! Он прошел с нами мимо всех декораций, в нескольких местах останавливался и говорил с постановщиками, потом присел вместе с нами на доски и снова стал рассказывать куски будущего фильма, причем сам страшно веселился. Он рассказывал о том, как в Марселе у его героя появилась женщина, безумно глупая и безумно шумливая. Он уже женился на ней, но никак не может выкачать из нее деньги. Раньше она была женщиной легкого поведения, но потом вдруг выиграла большие деньги в лотерею. У нее сто тысяч франков, которые Верду ужасно хочет вытянуть у нее, а она раздаривает эти деньги всем, кому угодно, кроме него. Она его очень любит, но денег именно ему не желает давать. И он ужасно мучается этим. — Это будет безумно смешно, — повторил Чаплин. После этого он продолжал рассказывать другие кусочки фильма, смеясь и в заключение каждый раз повторяя, что это будет очень смешно. Наконец он зашел в маленький домик и вернулся оттуда с синей папкой под мышкой. — Сейчас я вам кое-что почитаю. Снова усевшись на доски, он стал читать нам вслух кусочки сценария. Страничку из одного места, потом страничку из другого, потом страничку из третьего. Читая, он при этом сам очень веселился, смеялся, а иногда и заливался хохотом, причем трудность моего положения заключалась в том, что мне приходилось смеяться по два раза: сначала я смеялся просто потому, что глядел на смеющегося Чаплина, хотя и не понимал того текста, который он читал по-английски. Потом Бернард переводил мне этот текст, и я снова еще раз смеялся уже задним числом, сопоставляя этот смешной текст с тем, как смешно читал его Чаплин. Постепенно я все больше и больше чувствовал характер героя фильма, человека, которого изображал нам Чаплин. Читая кусочки сценария, он необычайно точно, и печально и уморительно одновременно, передавал застенчивость этого человека, его внешность, его манеры. — Он седой и немолодой, как я, — объяснял Чаплин. — С такими же усиками. Очень приличный. Очень застенчивый. Он очень не любит соблазнять женщин, но ему все время приходится это делать. И ему очень неловко перед ними. Он их убивает. Но ему все это очень, очень не нравится. Как мне показалось, его самого очень забавлял придуманный им характер мѐсье Верду. Наконец я, до крайности заинтересованный его будущим фильмом, спросил Чаплина: — Нельзя ли мне почитать сценарий? Мы сядем вечером с Бернардом если не за один вечер, то за два, он переведет мне его с листа. Чаплин минуту помолчал, словно что-то вызывало его колебания, но потом решительно сказал: 118 — Да, да, конечно. Я вам подарю экземпляр сценария. Сейчас подарю. Почитайте его. Но я очень вас прошу, чтобы его никто у вас не увидел и никто не украл. Я постарался успокоить его, сказав, что надеюсь, что у меня его никто не увидит и никто не украдет, но, вернувшись домой, мне хотелось бы перевести этот сценарий на русский язык и напечатать его где-нибудь в журнале. — Пожалуйста, — сказал Чаплин. — Я буду очень рад этому. Но только с одним условием: чтобы все это было не раньше, чем моя картина окажется на экране. А то украдут. То есть не у вас украдут, а у меня украдут. Почитают на русском языке, переведут обратно на английский и украдут у меня. Прочитают там, у вас, а украдут здесь, у нас. И чтобы он у вас ни в коем случае не пропал здесь. Пожалуйста! Озадаченный тяжестью падавшей на меня ответственности, я с сомнением сказал: — Так может быть, тогда не надо, если так обстоит дело? — Нет, нет, — сказал Чаплин. — Пожалуйста, я подарю вам его. Я очень рад. Я сейчас надпишу его. Мы зашли в его контору, небольшую комнату, и он, сев к столу, сделал на сценарии дарственную надпись. После этого мы снова вышли во двор. — Я сегодня же или в крайнем случае завтра прочту весь сценарий, — сказал я. — Нельзя ли будет после этого посмотреть хотя бы одну или две ваших репетиции? Мне бы очень хотелось. Чаплин на секунду замялся. Я сказал, что обещаю быть абсолютно безгласным зрителем, постараюсь ничем не помешать ему. — Считайте меня просто одним из стульев, которые стоят у вас в павильоне. Я буду просто сидеть и смотреть откуда-нибудь из-за угла, и мне это будет очень интересно. — Хорошо, пожалуйста, — сказал он после еще одной секундной паузы. Я уже потом понял, что это было очень большое доброжелательство с его стороны. За оба следующие дня, которые я провел у Чаплина на репетициях, я на них так никого и не увидел, кроме того худого седовласого человека, его помощника, который в первый день выходил нам навстречу, и актеров, вызывавшихся каждый для своей сцены. Очевидно, для самого Чаплина было непривычно, что кто-то сидит в углу павильона и глазеет на то, как он репетирует. И то, что он при всем этом все-таки разрешил мне присутствовать на своих репетициях, разумеется, следует отнести не за счет его внезапной симпатии ко мне, а за счет его давних симпатий к стране, из которой я приехал. Чаплин сказал, чтобы я приходил к нему на репетиции на следующий же день к десяти часам утра. — У меня последние дни репетиций, — сказал он. — Как только я закончу репетиции, я сразу же начну снимать. Съемки займут у меня десять недель. А после съемок я буду писать музыку и озвучивать фильм. А сами съемки не могут занять больше десяти недель. Я не могу себе позволить никакой затяжки. Студия замерзла. Она три года не работала. Была на консервации. А сейчас я нанял рабочих-постановщиков и всех, кто необходим для съемок, сроком на десять недель. И за эти десять недель я должен начать и закончить съемки. Иначе я прогорю. Я разорюсь. Этот сценарий — первый, который я написал именно как сценарий, как что-то похожее на литературное произведение. До сих пор я записывал все, что придумывал, все, что буду снимать, просто в своей рабочей тетради, а потом работал по этим записям. Потому что я сам все знал и сам все делал. А сейчас я в первый раз все это записал подряд, как сценарий. Это первый мой сценарий. Приходите завтра в десять часов, я буду репетировать, а в пятницу или в субботу приезжайте ко мне домой, мы с вами пообедаем. Я поблагодарил и на следующий день ровно к десяти утра приехал снова на студию, перед этим за вечер и ночь бегло прочитав с помощью Бернарда сценарий. Но хотя мы приехали ровно к десяти, Чаплин уже репетировал. Он начал еще раньше. 119 Репетиционный зал, в котором работал Чаплин, был легким деревянным строением, в сущности, не залом, а большой комнатой в пятьдесят — шестьдесят квадратных метров. В комнате стояло несколько стульев, в углу маленький шкафчик — и все. Кроме Чаплина и актера, с которым он сейчас работал, в комнате был всего один человек — тот самый, вчерашний — седой, высокий. Он был тоже очень вежливый, тоже застенчиво улыбающийся, тоже совершенно седой, как Чаплин; зрительно он был в этой комнате как бы еще одним повторением Чаплина, только выше на полторы головы. В течение всего дня репетиции он делал все, что было необходимо: быстро, безмолвно передвигал стулья, подавал Чаплину ту или иную вещь, нужную для работы в том или ином эпизоде, варил ему на спиртовке кофе или, на минуту скрывшись за дверью и проводив одного актера, вводил другого. Кроме всего этого, у него был под мышкой сценарий, и он, время от времени, когда это было нужно, подавал текст. В этот день Чаплин пробовал актеров на роль сыщика. В сценарии «Мѐсье Верду» есть сцена, когда к Верду приходит сыщик. Сыщик уже знает, что Верду убийца. Но Верду во время их разговора, налив вино, заставляет сыщика выпить яд. После этого сыщик всетаки арестовывает его и увозит, но, когда они оба уходят, мы уже знаем, что сыщик выпил яд. Чаплин на моих глазах пробовал трех сыщиков. Это были три разных типажа. Один был толстый сыщик, традиционный противник Чаплина из немых картин двадцатых годов, нелепый в своей толщине и огромности рядом с маленьким Чаплином, которого он преследует. Второй сыщик был крепкий, мрачный, набычившийся мужчина гангстерского вида. Страшноватый, но не такой огромный по своим объемам. Третий сыщик был долговязый, неуклюжий человек, внешность которого мало соответствовала профессии. Все трое знали назубок текст своей роли — видимо, помощник Чаплина с ними уже предварительно занимался, — а сам Чаплин встречался с ними в работе только сейчас, впервые. Я подумал тогда, а потом получил этому подтверждение от самого Чаплина, что он перед началом съемок пробовал новых актеров только на те роли, на которые раньше уже решил взять других актеров, но в последний момент передумал, по каким-то соображениям отменив первоначальное решение. Сам Чаплин тоже знал наизусть текст, вложенный им в уста Верду, и, если изредка у него происходила крошечная заминка перед соответствующей репликой, помощник мгновенно «подавал» ему текст. Самым интересным для меня на этой репетиции было то, как Чаплин, играя мѐсье Верду, на каждой репетиции, с каждым новым актером играл его иначе, применяясь именно к этому актеру. Или, пожалуй, точнее будет сказать, что он не просто примерялся к партнерам, а применительно к факту существования их на сцене, применительно к своему тому или иному ощущению их физического появления менял рисунок собственной роли. Он общался с худым, долговязым, неуклюжим сыщиком иначе, чем с громким и толстым и чем с третьим из них — мрачным и набычившимся. Он себя иначе физически чувствовал с каждым из них. Если ему по рисунку роли надо было при разных пробах повторить одну и ту же мизансцену — обойти кругом сыщика, — одного из них он обходил так, а другого — совершенно иначе. Мимо одного он пролезал, мимо другого проскальзывал, а третьего обегал бегом. У него были совершенно разные выражения лица, когда он разговаривал с каждым из них, потому что в роли Верду он совершенно по-разному ощущал их. С одним он был застенчив и суетлив, с другим был спокойнее, почти все время сохраняя на лице улыбку, а с третьим вел себя с внезапной развязностью перешагнувшего через собственный страх робкого человека. Все, что происходило на репетиции, происходило очень быстро, живо, но при всей быстроте избранного Чаплином темпа его не покидала в общении с актерами мягкая 120 вежливость. Он стремился, вводя актеров, дать им почувствовать, что сейчас они будут участвовать в очень веселой репетиции, где им предстоит сыграть очень смешную сцену. — Понимаете, — говорил Чаплин, — он вас отравляет гуманно. Не все так делают, не все так отравляют людей. А как вы думаете вести себя с ним? Как вы думаете действовать, в свою очередь? Он вас хочет отравить, зная, что вы хотите его арестовать. А вы хотите его арестовать, еще не зная, что он вас хочет отравить. Как, по-вашему, вы будете говорить с ним в этих обстоятельствах? Пробуя актеров одного за другим, Чаплин наконец остановился на худом, неуклюжем сыщике. И выбрал его. Видимо, его привлекало несоответствие функции этого человека, который должен был арестовать Верду и в итоге привести его на гильотину, и неуклюжей, какой-то даже неумелой внешности, плохо сочетающейся с расхожим представлением о том, каким должен быть сыщик. К этому сыщику, играя Верду, Чаплин примерялся гораздо дольше, чем к другим, — и так и эдак, менял то одно, то другое в самом поведении сыщика, и снова сам примерялся уже к этому новому поведению. Он несколько раз спрашивал у этого актера советов, с одним из советов вдруг радостно согласился, был очень доволен этим советом, долго смеялся, радовался и почти сразу же после этого быстро-быстро закончил репетицию. Мне показалось, что прошло совсем мало времени, хотя на самом деле прошло четыре часа. На Чаплине, так же как и накануне, была шерстяная кацавейка на пуговках, а на гвоздике на стене репетиционного зала висел серый пиджак с латками на локтях. Обношенный, уютный стандартный пиджак, из тех, какие носили в конце двадцатых годов. После репетиции мы сразу же выбежали на улицу. Именно выбежали. Впереди бежал своей стремительной походкой маленький Чаплин, а сзади — я и массивный, запыхавшийся Бернард. Сначала побежали вдоль по улице, потом перебежали улицу, ныряя между машинами, потом перебежали еще какую-то вторую улицу и вбежали в маленький кафетерий. Он был почти пуст. Мы влезли на высокие стулья перед стойкой, и Чаплин, словно все еще п'родолжая бежать, хотя он уже сидел перед стойкой, быстро-быстро заказал себе кофе и бутерброд с котлетой — традиционную еду американских забегаловок. Бернард выпил несколько стаканов молока, я — кофе, и через десять минут мы уже шли обратно на студию. На этот раз не бежали, а шли, впрочем, довольно быстро. Войдя в репетиционный зал и повесив пиджак обратно на тот же гвоздик, Чаплин сказал своему седому помощнику: — Давайте подбирать мадам Гроней. — И, повернувшись к нам с довольным видом, объяснил: — Это будет безумно смешная сцена. Я, как и обещал заранее, в меру сил сохранял весь этот день упорное молчание: сидел в углу на своем стуле, как гвоздь, смотрел и молчал. Но Чаплин несколько раз за время репетиций сам прерывал это молчание, вдруг подходил ко мне и спрашивал: — Верно, это смешно? Верно, забавно?.. А вот с этим сыщиком, поверьте, будет просто уморительно. Вы только представьте себе: он еще чувствует себя полным хозяином положения, а на самом деле он уже отравлен, его уже не существует. Теперь, после перерыва, ожидая, когда придет нужная ему актриса, он сказал: — Мне для этой сцены необходима актриса, которая могла бы играть очень тяжелую, глупую женщину, очень глупую и при этом очень самодовольную. Такую очень большую и очень самодовольную женщину. Чтобы он все время бегал вокруг нее и никак не мог к ней подойти. Мне нужно, чтобы, отчаявшись во всех других способах, он попытался повлиять на нее при помощи магнетизма, замагнетизировать ее. А потом, когда он наконец начнет обнимать ее, как раз в этот момент войдет агент по покупке домов и он, увидев агента, сделает вид, что ловит мух за ее спиной. И все это будет безумно смешно… Вот вы увидите. Через несколько минут пришла актриса, как мне показалось, опытная и хорошая. Чаплин начал с ней репетировать, и все получалось действительно безумно смешно. Он 121 испытывал над ней силу магнетизма, таращил на нее глаза, говорил о провидении, о таинственных силах, которые должны их соединить, обнимал ее, делал вид, что ловит мух за ее спиной, прыгал вокруг нее, делал массу других смешных вещей. Едва успев закончить репетицию с этой актрисой, он сразу же вызвал другую, тоже, на мой взгляд, хорошую и опытную, но несколько другого стиля поведения и внешности. Первая женщина, с которой он репетировал, была не столько большая, сколько самодовольная, плотная. А эта, вторая, более худая, но зато высокая, возвышалась над ним, как башня. И у Чаплина по отношению к ней сразу появились другие оттенки физического действия. Он стал применяться к ее росту, по-другому тянуться к ней, по-другому ходить вокруг нее, по-другому обнимать ее. При этом, как я заметил, его не только не утомляла необходимость поисков нового рисунка роли. Наоборот. Эта необходимость радовала его и даже веселила. Все эти новые примерки к роли совершенно очевидно доставляли ему удовольствие, такое естественное, словно он и не представлял себе вообще, как все это может быть иначе, без этих упорных и в то же время быстрых и веселых поисков и находок. У меня возникло ощущение, что, работая с актером, он как бы чувствует своего партнера всем своим телом. Он не существовал в пространстве отдельно от партнера. В его сознании и даже физическом ощущении оба тела — его тело и тело партнера — находились в пространстве не сами по себе, а как бы в постоянной физической зависимости друг от друга, и поэтому по отношению к одному партнеру каждое движение и каждый поворот тела у Чаплина были другими, чем те же самые по общему рисунку движения и повороты к другому партнеру. Начав в половине десятого утра, Чаплин кончил репетицию в пять часов вечера. И мы расстались до завтра. На следующий день ему предстояло репетировать с девушкой, с Ренэ, которую он в роли Верду приводит к себе в дом, чтобы попробовать на ней действие яда. Но вместо этого в конце концов отпускает ее. Предшествующий этому разговор между Верду и девушкой Чаплин и репетировал всю первую половину следующего дня. На этой второй репетиции я почувствовал всю меру его тщательности, дотошности. Теперь это была уже не просто проба актеров. Вчера он только примерялся к актерам, решая, кото из них взять на роль. А с этой девушкой, исполнявшей роль Ренэ, он работал уже не первый день. Это была очередная репетиция, и тот крошечный кусок, который они готовили на этой репетиции, он повторил при мне восемнадцать или девятнадцать раз. На мой взгляд, девушка была очень мила, и у нее все с самого начала очень хорошо получалось. Но Чаплин был неудовлетворен и после каждого нового повторения без всякого раздражения, с улыбкой, спокойно говорил: — А теперь еще раз! Наконец, когда они прорепетировали этот кусок восемнадцать или девятнадцать раз и он отпустил актрису, закончив на сегодняшний день все репетиции, я в ответ на его вопрос сказал ему, что, по-моему, актриса в этой роли очень хороша. — Ах, нет, — сказал он, — у меня с ней еще ровно ничего не получается. Я уже семь месяцев с ней бьюсь, и пока все равно ничего не выходит. Потом вздохнул и вдруг, серьезно и впервые за все время устало спросил: — Ну, что ж вам еще показать? Я сказал, что хотел бы посмотреть один из его фильмов. — Какой? «Диктатора»? Вы его, наверное, не видели? Я ответил, что как раз «Диктатора» я видел. — Где вы видели? — заинтересовался Чаплин. Я рассказал ему, где я видел «Диктатора». Это было еще во время войны, в сорок четвертом году, в Южной Италии. Муссолини уже был свергнут, город, в котором я видел фильм, был освобожден союзниками, и итальянцы впервые видели своего бывшего диктатора в карикатурном виде. 122 Я рассказал Чаплину, какие не поддававшиеся описанию сцены происходили на моих глазах в кинотеатре. Как итальянцы стучали ногами, топали, свистели, заливались слезами от хохота. Он, посмеиваясь, выслушал меня, потом спросил: — Так что же вам тогда показать? — Если можно, я хотел бы посмотреть то, что вы сами больше всего любите. — Лучшая картина, которую я сделал, — это «Пилигрим», — сказал Чаплин. Потом задумался и добавил: — И потом я покажу вам еще «Чаплин на фронте» — это антивоенная картина. И еще я очень люблю картину «Пьяница». Придете завтра на студию, и я вам покажу эти картины. На следующий день Чаплин встретил меня в небольшом просмотровом зале на студии. — Ну что ж, давайте смотреть. Он распорядился, в какой последовательности показывать картины, посидел несколько минут рядом со мной и ушел работать — репетировать. Когда я через четыре часа посмотрел все, что он распорядился мне показать, в том числе блистательные ленты «Пилигрим» и «Чаплин на фронте», Чаплин, закончив работу, уже уехал со студии. И в этот день мы уже не увиделись. На следующий день я поехал к нему обедать. Чаплин жил, по голливудским представлениям, недалеко: всего в пяти-шести милях от гостиницы, где я остановился. Его дом стоял на небольшой возвышенности, окруженный парком. Мы поднялись по покатой дороге, остановились у подъезда. Уже не помню сейчас, каким был этот дом. Это как-то не осталось в памяти. Осталось в памяти только то, что Чаплин — заядлый теннисист и пловец и что у него там, рядом с домом, бассейн для плавания и теннисная площадка. От других я слышал, что Чаплин играл в теннис великолепно, а сам он рассказывал мне, что с ним играет Тильден, бывший чемпион мира по теннису. Упомянув об этом, он сказал, что, хотя Тильден уже давно не выступает в соревнованиях, у него и теперь нет ни одного лишнего грамма жира. Мне хорошо запомнилось, каким тоном профессионального уважения сказал об этом Чаплин. Мне даже показалось, что где-то внутренне это было сказано не только о Тильдене, но и о себе самом, о том, что человек, продолжающий работать, не имеет права ни на один лишний грамм жира. Было совершенно очевидно, что Чаплин соблюдает это правило по отношению к самому себе. Он был в тг время очень сухощав, изящен, элегантен, пропорционален и необычайно точен и ловок в движениях. Встретив, он провел нас в комнаты и познакомил с женой — молодой красивой женщиной на вид двадцати одного, двадцати двух лет. Чаплин женился на ней всего два года назад. И за это время у нее родился не то один, не то два ребенка. Во всяком случае, мне запомнилось, что, когда Чаплин привел нас в комнату, он сказал, что жена задерживается, придет через несколько минут, потому что укачивает ребенка. На обеде у Чаплина, кроме нас, был один из известных тогда американских театральных деятелей и немецкий эмигрант, антифашист, знаменитый композитор Ганс Эйслер, больше всего тогда известный нам по песням Эрнста Буша. Мы много разговаривали и перед обедом, и за обедом, и после него, но мне показалось, что Чаплин более оживлен и весел и вообще чувствует себя гораздо больше в своей тарелке, когда он работает, чем когда отдыхает. Он и дома оставался оживленным и веселым, но все это было не так непринужденно и естественно, как там, на студии. Словно что-то неуловимое было утрачено при переодевании из того латаного серенького, старенького студийного пиджачка в этот темный вечерний костюм, в котором он принимал нас дома. За обедом, и в особенности после обеда, Чаплин много говорил о том, какие тяжелые настроения возникли в Америке после войны, в каком трудном психологическом состоянии 123 оказались люди, какие настроения послевоенного пессимизма и разочарования все сильнее проявляют себя в искусстве. Разговор на эту тему был долгим, много раз возвращался к одному и тому же, и мне трудно вспомнить его во всей последовательности. Но зато я хорошо помню чувство, которое у меня отчетливо возникло тогда, во время этого разговора: Чаплина очень беспокоило то состояние растерянности, бесперспективности, которое все больше овладевало после войны американским искусством. И очень волновало, нет ли чего-то похожего и там, у нас. И ему очень хотелось, чтобы этого не было у нас. В разговоре участвовал и Ганс Эйслер. Он произвел на меня впечатление большого умницы и глубокого человека. Ему, как и Чаплину, это чувствовалось по его вопросам, хотелось укрепить себя в ощущении, что пессимизм и бесперспективность, с которыми они сталкиваются вокруг себя в Америке, не есть явление, свойственное вообще всему миру. Разговоры, впрочем, шли не только на эту тему. Еще до обеда Чаплин, узнав, что я недавно был в Японии, сам стал вспоминать о своей поездке туда, о японских театрах и начал меня расспрашивать, какие театры сгорели во время бомбежек и пожаров и какие остались целы. Он вспоминал и театр «Но» и театр «Кабуки», но, пожалуй, больше всего говорил о кукольном театре в Осаке, спрашивал, как мне понравился этот театр, и, услышав, что понравился, тут же стал показывать движения японских актеров, работающих с куклами, позы, которые они придают куклам, условно выражающие грусть, любовь, страдание, ревность, тоску. Показав несколькими штрихами работу японских актеров с куклами, он вернулся к разговору о театре «Но» и «Кабуки» и с невероятной точностью стал показывать, как движутся на сцене актеры старинного театра «Но». При этом он не повторял и не копировал их движений, а изображал короткими зрительными намеками, как двигается актер в театре «Но», как он страдает, как он говорит. Интонации голосов Чаплин повторял только в одну десятую силы, тоже лишь намеками, но такими точными, что для меня, видевшего и слышавшего все это совсем недавно, а не десять лет назад, как Чаплин, за этими намеками заново возникала вся атмосфера театра «Но». Потом, когда ему надоело показывать актеров театра «Но», он стал показывать, как движутся по сцене актеры «Кабуки», совершенно по-другому, чем движутся актеры «Но». Он показывал это, как бы делая на бумаге несколько, один за другим, штрихов карандашом. Но за этими штрихами сразу угадывалось целое. От театра «Кабуки» он перешел к разговору о японской гравюре, начал показывать гравюры, привезенные им с собой из Японии, и жене с трудом удалось оторвать его от этого, чтобы идти к столу. После того, как мы съели на первое бульон, Чаплин спросил: — Как вы думаете, что у нас будет на второе? Что бы вы хотели съесть на второе? Надо сказать, что на всех или почти на всех американских парадных обедах принято подавать на второе курицу. Я уже третий месяц ездил по Америке и почти каждый день бывал или на парадных обедах, или на парадных ужинах по разным официальным и полуофициальным поводам и каждый день, или днем, или вечером, или и днем и вечером, ел на второе жареную курицу. Никак не предполагая дальнейшего, я ответил Чаплину, что, учитывая американскую традицию официальных обедов, на которых я уже третий месяц сижу почти каждый день, я буду рад съесть на второе что угодно, кроме курицы. После маленькой паузы Чаплин сказал без улыбки, мрачным тоном: — К сожалению, я не оригинал. У меня на второе будет курица. Мы все расхохотались и одолели эту очередную курицу. После того, как с ней было покончено, Чаплин стал рассказывать за столом историю о двух маленьких птичках, о том, как молодой аристократический воробей поселился в НьюЙорке на одной из самых аристократических крыш и как он однажды, полетев на окраину и 124 познакомившись там с одной молоденькой воробьихой, очень хорошенькой, но по его представлениям несколько вульгарной, сгоряча, от избытка чувств, пригласил ее побывать у него на его аристократической крыше. И как на следующий вечер, когда они — золотая воробьиная молодежь — собрались и болтали между собой на аристократической крыше, вдруг, по его приглашению, о котором он уже успел забыть, к нему прилетела эта хорошенькая молодая, но вульгарная воробьиха с окраины. Чаплин очень смешно показывал, перебирая по столу пальцами, как эта хорошенькая, но вульгарная воробьиха летела оттуда, с окраины, сюда, в аристократический район, с крыши на крышу, как она спешила и как, наконец, прилетела на эту аристократическую крышу к пригласившему ее молодому воробью. А он, когда она прилетела, посмотрел на нее, потом оглянулся на своих друзей и сделал вид, что не заметил ее. И как она была этим расстроена и как она, расстроенная, полетела обратно, с крыши на крышу, из аристократического района к себе на окраину. Казалось бы, в этом маленьком рассказе не было ничего особенного, но Чаплин с таким удивительным юмором и точностью изображал, как она весело и быстро перелетала с крыши на крышу, стремясь к нему, и как печально и медленно, тоже с крыши на крышу, летела обратно, и с каким презрительным выражением своего воробьиного лица он отвернулся от нее, что все это, вместе взятое, воспринималось как смешная и печальная, уже не воробьиная, а человеческая история. В следующий раз я увидел Чаплина на приеме, который был устроен в нашем консульстве. Как мне сказали, Чаплин редко бывал на приемах, но в данном случае он пришел демонстративно, проявив этим свои симпатии к Советскому Союзу. На приеме было много народу, одни сменяли других, приезжали и уезжали, но Чаплин пробыл весь вечер до самого конца. Мне уже было пора уезжать из Лос-Анджелеса, и у меня в последние дни возникло чувство душевной необходимости как-то ответить на гостеприимство, которое мне, человеку, приехавшему из Советского Союза, оказали в Голливуде самые разные люди. Меня принимали как своего гостя известный голливудский режиссер Майльстон, популярный в те времена киноактер Гарфильд, одна из самых крупных американских актрис, Бет Девис, и, наконец, Чаплин. Я стал раздумывать над тем, как же мне быть, как устроить им всем ответный дружеский прием. В нескольких десятках миль от Голливуда на одном из причалов в это время стоял наш, пришедший сюда из Владивостока танкер. Находившийся в Лос-Анджелесе представитель торгпредства надоумил меня в случайном разговоре: а что, если мне принять своих гостей на нашем танкере, на советском корабле, который всегда и всюду остается частицей нашей земли. Через день после обеда у Чаплина я посоветовался на эту тему с консулом, а консул, в свою очередь, посоветовал мне поговорить с капитаном танкера. Я позвонил по телефону и пригласил капитана позавтракать вместе со мною в гостинице. На следующий день он приехал. Это был сорокапятилетний моряк, неулыбчивый, сдержанный, неплохо говоривший по-английски. 1 Я. кратко изложил ему свою просьбу и поначалу не нашел сочувствия. Его смущало, что все это будет происходить на его танкере, потому что танкер во время войны беспрерывно совершал рейсы между Америкой и Советским Союзом, а после войны так и не ремонтировался; давно пора было отремонтировать I что-то такое в машинном отделении, да и внешний. вид танкера не устраивал капитана. При этом он почему-то особенно напирал на поручни, которые облезли и их заново надо было обивать медью. Я ответил ему, что едва ли Чаплин будет надевать белые лайковые перчатки и, подобно придире-адмиралу у Станюковича, проверять при помощи этих перчаток, насколько идеально чисты поручни в машинном отделении. 125 В конце концов я все-таки уговорил капитана, и он, взяв у меня деньги на предстоявшие расходы, уехал к себе на танкер готовиться к приему. Перед этим мы подсчитали, сколько гостей можно разместить у него в кают-компании, и я решил пригласить восемь человек: Бет Девис с мужем и Чаплина, Майльстона и Гарфильда с женами. Когда я стал звонить по телефону и приглашать моих голливудских знакомых, оказалось, что Бет Девис нездорова и не сможет приехать, а все остальные с охотой согласились. Идея побывать на советском пароходе всем понравилась. Когда я позвонил Чаплину, он сразу сказал, что непременно будет, но спросил, в котором все это произойдет часу. Я ответил, что послезавтра в семь часов, а на следующий день я должен улетать. — В семь немножко поздно, — сказал Чаплин. — Если можно, я бы попросил вас устроить это часа в четыре. Потому что к десяти мне нужно вернуться обратно в Голливуд. На следующий день у меня начинаются первые съемки фильма, и перед этим у меня правило, во-первых, как следует выспаться, а во-вторых, не пить. Так что прошу меня не уговаривать, — рассмеялся он. В день, назначенный для этого обеда, у меня после завтрака была встреча с голливудскими сценаристами. В программе встречи были вопросы и ответы главным образом на тему о положении драматургов, сценаристов, режиссеров и актеров в советском кино и театре. Мы заранее договорились с Чаплином, что я к нему заеду после того, как кончится встреча, но, к моему удивлению, он сам появился на этой встрече с самого начала. Когда она кончилась, мы вышли вместе с ним. — Поехали, — сказал он. — Только не уговаривайте меня пить, ладно? Судя по этой повторной просьбе, я понял, что Чаплину уже приходилось иметь дело с русским гостеприимством, и я клятвенно обещал ему, что не буду уговаривать его пить. Мы заехали к нему домой за его женой, он сел за руль в свой старомодный, старый «фордик», рядом с женой, и предложил мне вместе с переводчиком тоже пересесть к нему из своей машины, чтобы было веселее ехать. Мы довольно быстро, за час с небольшим, сделали пятьдесят или шестьдесят миль до стоянки нашего танкера и остановились на причале. У трапа нас встретил капитан танкера и еще один наш советский капитан со стоявшего тут же поодаль парохода. Почти одновременно с нами на своих машинах приехали Майльстон и Гарфильд с женами. За столом в кают-компании, кроме шести приглашенных американцев, были мы с переводчиком, наш консул, работник торгпредства — «красный купец», как он сам себя отрекомендовал, капитан танкера, его третий помощник — молодая женщина и тот капитан с другого нашего парохода, который встретил нас у трапа, старый морской волк, человек лет под шестьдесят, прекрасно говоривший по-английски. Когда капитан танкера два дня назад спрашивал меня, как лучше организовать у него на борту этот обед, я сказал ему, что нужно просто-непросто приготовить хороший русский обед и на первое обязательно сварить борщ. — А что будем пить? — спросил капитан. — Водка у нас кончилась, водки нет. Водки не было и у меня, оставалось только четыре-пять бутылок из-под нее. Тогда я решил, что бог меня простит за этот невинный подлог, и попросил капитана, взяв с собой эти бутылки, налить в них продававшуюся в Лос-Анджелесе американскую «русскую водку» с пышными наклейками на бутылках: «Смирнов, поставщик двора его величества». Я был убежден, что если настоять эту водку на перце или лимонных корках и перелить ее в бутылки из-под московской водки, то не только американцы, но и мы сами, грешные, не разберем, какая это водка — американская или русская. — А что приготовить 1 на второе? — спросил капитан. ' ' - 1 •• 126 И тут в наш разговор вмешался Бернард, который, прожив в тридцатые годы несколько лет в Советском Союзе, всем на свете кушаньям предпочитал беф-строганов. — Приготовьте беф-строганов, — сказал он. — Самоѐ вкусное, что я ел в Советском Союзе, — это беф-строганов! На том и порешили. Когда мы явились на танкер, моряки на трапе и на палубе с интересом поглядывали на Чаплина и сердечно приветствовали его. Мы прошли в кают-компанию и сели за стол. Я держал слово и не уговаривал Чаплина пить. Но он сам, едва попав на танкер, сразу же забыл о собственных просьбах и без малейших настояний с моей стороны опрокинул сначала одну рюмку водки, потом другую, потом третью. На танкере служила буфетчицей тетя Маша, уроженка Владивостока, уже немолодая женщина, лет шестидесяти. До войны она была домохозяйкой, но в 1943 году ее сын, моряк, погиб во время перехода из Владивостока в Америку на корабле, торпедированном, очевидно, японцами. И она, оставшись одна, пошла работать буфетчицей на этот танкер и уже три года ходила на нем в плавание. Это была пожилая русская женщина, высокая, полная, со следами былой красоты на спокойном, приветливом лице. Она была очень приветлива и заботлива, обладала прирожденным чувством собственного достоинства. Трогательно заботясь о Чаплине, она в то же время принимала его на корабле, как у себя дома, как хозяйка. — Милости просим, — говорила она ему. — Милости просим, покушайте хорошенько. Может, еще тарелочку борща вам налить? Нравится вам борщ? — Борщ очень хороший, — подтверждал Чаплин. — Так я вам налью еще тарелочку. Он начал отказываться. Это ее огорчило. — Вы скажите ему, объясните, — обратилась она к Бернарду, — что другой раз он когда еще такого борща попробует! После этого объяснения Чаплин съел еще тарелочку борща. Принимала она его так приветливо и радушно не потому, что он был знаменитый человек, важный гость, а потому, что видела две его картины — «Новые времена» и «Огни большого города» — и он в обеих этих картинах ей очень понравился как артист. — Вы ему переведите, что он очень хороший артист, — говорила она. — Я его картины по нескольку раз смотрела. Они мне очень нравятся! ' Все это она говорила с сознанием важности того, что ей понравились картины Чаплина, и с уверенностью, что ему это должно быть приятно. Ему и было приятно. Наверное, он достаточно привык к постоянно поднимавшейся вокруг него суете, для того, чтобы ему по контрасту понравилась та естественная независимость и то внутреннее ощущение равенства, которое он чувствовал в этой старой буфетчице. Еще когда мы вместе ехали сюда в машине, Чаплин заранее деликатно, но достаточно твердо попросил меня, чтобы там, где мы будем, на нашем пароходе, не было ничего официального, чтобы его принимали без всяких, как он выразился, «манифестаций». Потому что, если будут какие-нибудь «манифестации», это испортит ему все настроение. Никаких «манифестаций», разумеется, не было, но, когда мы уже пообедали и на стол подали кофе, тетя Маша подсела на диванчик, рядом с Чаплином, и протянула ему маленький букетик цветов. — Переведите, — сказала она, — что я дарю ему эти цветы за то, что он хороший артист. Чаплин неожиданно для меня вдруг растрогался, и, когда брал этот букетик, у него на глазах показались даже слезы, а тетя Маша, увидев слезы у него на глазах, тоже растрогалась и прослезилась. 127 Во всем этом, наверно, сыграло свою роль и то, что еще в середине обеда, когда тетя Маша выходила из кают-компании, капитан рассказал Чаплину историю того, как она попала на их танкер. За столом мы просидели довольно долго и довольно много выпили. В одиннадцатом часу, когда было покончено и с обедом и с кофе, капитан позвал баяниста, баянист присел с нами за стол, заиграл на баяне, и мы начали петь песни — и новые советские и старые русские. У нескольких человек оказались хорошие голоса, и мы пели песни одну за другой. Потом, в паузе, Чаплин вдруг сам затянул по-русски «Гай-да, тройка, снег пушистый». Он пел всю песню, хотя и не помнил всего текста, а баянист тихонько подыгрывал ему. В заключение на стол поставили шампанское, и мы собирались завершить им затянувшийся ужин, как вдруг неожиданно для всех нас дверь в кают-компанию настежь открылась и на пороге появились две здоровенные фигуры в плащах, руки в карманах, на груди — камеры с блицами, а карманы оттопырены, видимо, набиты запасными лампочками. Сомнений не могло быть: неизвестно как, но на корабль прорвались корреспонденты. Войдя, они сразу же повели себя довольно развязно; я от неожиданности еще не нашелся, как с ними быть, но Чаплин, как на пружине, вскочил из-за стола и спросил: — Вы что? От Херста? Из херстовских газет? Они ответили, что да, они из херстовских газет. — Тогда убирайтесь к черту! Сейчас же убирайтесь отсюда к черту! — крикнул Чаплин и снова сел за стол. Надо сказать, что как раз в это время в херстовских газетах, занимавших доминирующее положение на всем Западном побережье Америки, был очередной прилив травли Чаплина. Его пытались на этот раз привлечь к суду за какое-то мнимое прелюбодеяние с какой-то мифической девицей и, мало того, старались сделать из него отца какого-то неизвестного ему ребенка. Травля Чаплина шла уже беспрерывно четыре года, она началась сразу же после того, как он в сорок втором году на огромном массовом митинге резко выступил за скорейшее открытие второго фронта, и с тех пор не прекращалась. Но так как газеты не могут всегда писать с одинаковым рвением об одном и том же, то в этой травле были свои приливы и отливы, и как раз сейчас был новый прилив. Чаплин, обругав корреспондентов, сел и выжидательно посмотрел на меня. Я поднялся и сказал корреспондентам, что я хозяин этого обеда, что мне известен весь список приглашенных и, так как они оба не значатся в этом списке, я прошу их оставить каюткомпанию и вообще корабль. Во время поездки по Америке у меня бывали разные разговоры с разными людьми, бывали и откровенные, бывали достаточно дипломатические. Многое в этих последних разговорах зависело не только от моих собственных чувств, но и от обстоятельств, в которых я порой оказывался. Бывали случаи, когда мой прогрессивно настроенный переводчик сетовал на то, что я разговариваю с тем или иным джентльменом не с той прямотой и резкостью, которой ему от меня хотелось. Но на этот раз возможность перевести мои слова доставила Бернарду истинное удовольствие, и он отчеканил по-английски все сказанное мной с явной радостью на лице и, быть может, даже в еще более резкой форме,; чем это было сказано по-русски. Корреспондентам ничего не оставалось, как повернуться и выйти. Капитан попенял дежурному помощнику на то, что он пустил на танкер корреспондентов, и сказал, чтобы больше никого не пускали. Наступила пауза. Я спросил: — Что будем теперь делать? Спросил, потому что мне показалось, что никому не хотелось уходить. 128 — Может быть, показать вам нашу кинокартину? Чаплин с удовольствием согласился. Капитан вытащил листочек со списком картин, которые были на танкере, и я выбрал «Медведя» и «Выборгскую сторону». — Если вы не устали, то, может, посмотрим две картины? — сказал я. — Давайте две, — сказал Чаплин. — Очень хорошо. Я давно не видел советских картин. Пока в кают-компании наводили порядок, вешали экран, мы все вышли на палубу. Была холодная звездная ночь. Баянист прислонился к поручням и заиграл русскую. Мы вернулись вниз, в кают-компанию, и сначала посмотрели «Медведя», а после него — «Выборгскую сторону». «Медведь» Чаплину не особенно понравился, а «Выборгскую сторону» он смотрел с большим интересом всю, от начала до конца. Когда кончилось кино, мы выпили еще по чашке кофе и поднялись на палубу, чтобы ехать обратно в Лос-Анджелес. И тут произошло нечто совершенно неожиданное, во всяком случае, для меня. Черная ночь, высокий борт танкера, длинный и узкий, спущенный вдоль борта трап, слабые, скупые фонари на причале, и там, внизу, под этими фонарями, человек двенадцать или пятнадцать в пальто и плащах, шляпы надвинуты на лоб, а спереди, под плащами, что-то топорщится. Я не сразу сообразил, что это спрятанные под плащи фотоаппараты. Мы стали цепочкой спускаться rfo трапу, и едва начали спускаться, как все эти пятнадцать человек кинулись к трапу, распахнули плащи, пальто и начали один за другим щелкать аппаратами. Одна вспышка, другая, третья… десятая. Мы спустились при этих вспышках по трапу, Чаплин остановился и, глядя на толпу корреспондентов, стоявших между ним и его «фордиком», резко, обеими руками распахнул на груди пальто. — Снимайте, снимайте! Ну, что ж вы? Снимайте! Вы, американское гестапо! И его жест и выражение его голоса были такими, словно он говорил: — Стреляйте в меня… И они «стреляли», снимали его один за другим, одна за другой новые и новые вспышки, до последнего момента, пока он не сел с женой в машину. Я сел вместе с переводчиком в. свою машину, и мы поехали сзади, вслед за Чаплином. На следующее утро я проснулся в гостинице у себя в номере от стука в дверь. Вошел Бернард, прижимая к животу целый ворох газет. Все это были херстовские газеты, в ЛосАнджелесе, в то время других крупных газет не выходило. И во всех них первая полоса состояла из сплошных фотографий Чаплина, его жены, трапа со спускающимися по нему людьми. А над фотографиями были огромные заголовки: «Кинозвезды на красном корабле…» Бернард стал переводить мне тексты, а я начал рассматривать фотографии. И странная вещь: ни на одной из них не нашел себя, хотя я спускался с танкера вслед за Чаплином и одновременно с ним стоял на трапе, хотя и внизу, там, на причале, я стоял недалеко от него. Но моей персоны ни на одной фотографии не было. Не фигурировала моя фамилия и в подписях. В тексте было написано, что вчера вечером в таком-то пункте побережья на советском красном пароходе была устроена оргия, на которую в сопровождении русского консула приехали известный своей левизной знаменитый Чаплин и Майльстон с женами, которых читатели могут увидеть на этих снимках: вот они стоят рядом с русским консулом на фоне красного парохода. Оргия, которая была устроена на красном корабле, длилась до четырех часов ночи… Дальше в газетах с разными вариациями сообщалось, что оргия была безумной по размаху, что кинозвезд поили десятками бутылок шампанского, которое перед ними 129 расставляли на столах красные матросы, в то время как на экране шел советский революционный фильм «Медведь». Так выглядел на страницах херстовских газет наш, правда, затянувшийся, но довольно скромный ужин с борщом и беф-строгановом. Я в первую минуту не понял, почему я не оказался ни на одном из этих снимков и почему ни в одной из газет не была упомянута моя фамилия. Мне даже показалось это какой-то странной деликатностью. Но недоумение длилось недолго. В чем дело, было не так трудно догадаться. Если бы дать на фотографиях рядом с Чаплином и меня — а о моем приезде в то время довольно много писали, — и если б сообщить все так, как оно было, что советский писатель на борту советского парохода давал обед своим американским друзьям и в их числе Чаплину, то по крайней мере три четверти сенсационности и уж, во всяком случае, загадочности безнадежно пропало бы. А вот написать, что Чаплин был на красном пароходе и что его принимал там советский консул, и снять его рядом именно с советским консулом — вот это была сенсация! Вот это было загадочно и подозрительно! Это могло стать дополнительной лептой в ту кампанию травли, которая велась против Чаплина. Ночью мне надо было лететь в Нью-Йорк, а вечером перед этим Майльстон устроил у себя дома ужин, с которого я поехал прямо на аэродром. На этом ужине были и Чаплин с женой. Когда мы, простившись с Майльстоном, вместе уходили оттуда, Чаплин повернулся ко мне и спросил: — Как, читали сегодня газеты? — Да, читал, — сказал я. Накануне мы говорили с ним о возможности его поездки в СССР, и, может быть, под впечатлением того искреннего гостеприимства, которое ему оказали моряки, и в особенности буфетчица тетя Маша, он сказал, что если поедет в СССР, то ему хотелось бы поехать не торопясь, на таком вот, как этот, торговом пароходе, пропутешествовать на нем от Лос-Анджелеса до Владивостока, а потом поехать до Москвы по Великому сибирскому пути. Тогда этот разговор оборвался, перешел на другие темы, но сейчас, прощсг.сь со мной, Чаплин вдруг вспомнил о нем. — Если дело пойдет и дальше так, как сегодня с этими газетами, — мрачно сказал он, — то может оказаться, что я приеду к вам ргньше, чем сам предполагаю. Есть люди, которые хотят довести дело до высылки меня отсюда, из этой страны. Он пожал мне руку, первым сел в машину и уехал… ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ЕМУ ДЕВЯНОСТО ДВА В апрельском номере «Юности» за 1966 год была помещена небольшая публикация С. Левиной «Осторожно, варенье». Автор рассказывал, как в 1897 году группой харьковских студентов была нелегально издана книга «Экономическое учение Карла Маркса», которая ныне хранится в отделе редких книг Библиотеки имени В. И. Ленина. С одним из этих харьковских студентов, Константином Васильевичем Зубковским, я хорошо знаком. Сейчас он живет в Таганроге, ему исполнилось девяносто два года. В 1897 году, докладывая царю о нелегальном издании и распространении харьковскими студентами тысячи экземпляров книг «Экономическое учение Карла Маркса» Каутского и «Экономическое положение женщины» Клары Цеткин, министр юстиции писал: «Непосредственное участие в распространении изданных… преступных произведений принимали: Константин Васильевич Зубковский (21 год, дворянин, православный, холост, студент Харьковского университета)…» А начальник Харьновского 130 губернского жандармского управления в своем письме от 30 ноября 1897 года на имя прокурора судебной палаты указывал, что при обыске у Зубковского «были найдены сочинения Каутского и Цеткиной» и что принимавшие участие в издании и распространении марксистской литературы студенты, в том числе и Константин Зубковский, «подвергнуты задержанию и содержатся в Харьковской губернской тюрьме». Царские власти еще не раз арестовывали Зубковского за революционную деятельность. Бурный 1905 год он провел в Симферополе и был выслан затем в один из северных уездов Вологодской губернии, но бежит из ссылки и вот уже в Орле собирает деньги в пользу политических заключенных… Константин Васильевич сейчас по-прежнему много читает, живо интересуется всеми событиями, происходящими в стране и за рубежом. Биография этого человека, прошедшего путь от народничества до наших дней, зримо приближает нас к событиям далекого прошлого. Б. ГОЛЬДИН, слово ветеранам революции Анастас Микоян Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год) Из воспоминаний Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 — 1968 годы, а также за 1969 год в №№ 1, 2. ПОЕЗДКА В РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ Кажется, в конце июня 1919 года, приехав в Тифлис на заседание краевого комитета партии, я решил хотя бы на два-три дня заехать в родную деревню, повидаться с близкими. Деревня Санаин расположена километрах в девяноста от Тифлиса. Поезд шел днем. Вместе со мной в купе вагона оказался незнакомый мне чиновник. Судя по всему, он направлялся к месту службы. Дело в том, что рядом с нашей деревней был медеплавильный завод, а весь этот район входил в так называемую «нейтральную зону» между Арменией и Грузией. Районом этим тогда управляли чиновники, назначаемые английским военным командованием. Мой попутчик был грузином. Он спросил меня, куда я еду и кто я такой. Я ответил, что еду в деревню Санаин погостить у матери, что я работаю в Баку конторщиком на нефтепромыслах, и назвал свою настоящую фамилию. Скрывать ее не имело смысла, так как при желании ее нетрудно было узнать, а кроме того, я знал, что у местной администрации не было оснований почему-либо придираться ко мне. Я поддерживал беседу на самые разные темы, избегая, однако, политических споров или даже разговоров. Я избегал, он не навязывал. Поезд въехал в узкое ущелье; с обеих сторон вплотную подступали крутые скалы; железная дорога вилась по самому берегу быстрой реки Дебет. Речка эта небольшая, но необычайно быстрая и шумливая. Я любовался красотами родной природы; сейчас все это трогало меня гораздо больше, чем раньше, в детстве. Я не был здесь уже несколько лет, полных бурных событий, трагических и радостных переживаний. Во множестве мест побывал я за эти годы, совпавшие с началом моей 131 сознательной жизни, с переходом от юности к зрелому возрасту. А переход этот происходил в наше время чрезвычайно быстро, сокращаясь во времени до предела, как и все в революции. Возвращался я сюда, можно сказать, другим человеком. Но ощущение родины только усилилось. Все вокруг казалось мне необычайным, неповторимо прекрасным: нигде не видел я и, казалось, уже никогда и не увижу такой красоты, столь близкой моему сердцу, таких гор, покрытых лесами, таких диких скал и бурных речек… К середине дня прибыли в Алаверды. На этой станции и находилось промышленное предприятие — старый медеплавильный завод, принадлежавший французской компании. Еще в дороге мой сосед рассказал, что рабочих на этом заводе гораздо меньше, чем раньше, что работает завод с неполной нагрузкой в связи с техническими неполадками, из-за плохой организации работ и т. п. Я знал, что на этом заводе существует подпольная партийная организация: в 1917 году я выступал у них на рабочих митингах, на собрании большевиков, которые избрали меня делегатом на Кавказский краевой съезд партии. Однако, учитывая принадлежность моего соседа по купе к чиновному миру, я, естественно, не мог и не стал проявлять особого интереса к заводу, а тем более к его рабочим. Сойдя с поезда, я встретил у станции знакомого односельчанина, и мы вместе отправились в путь. Деревня наша, как и многие другие деревни в этом ущелье, была расположена на высоком плато. Мы шли по крутой пешеходной тропе, хорошо знакомой мне с детства, взбираясь по скалам, поднимаясь на высоту в 400 — 500 метров над уровнем реки, протекавшей в ущелье. Мой спутник рассказывал о жизни деревни, спрашивал, где я был, откуда приехал, как у меня дела. Он вообще был очень удивлен моим появлением, так как здесь ходили слухи, что я погиб. По дороге нам повстречался еще один знакомый односельчанин. Надо сказать, что у нас в деревне было принято здороваться с каждым встречным, независимо от того, знакомый он или нет. Так вот этот односельчанин, проходя мимо, кивнул, но меня явно не узнал. Тогда мой спутник спросил: «Ты что, не узнаешь его?» Тот посмотрел внимательно, отошел на несколько шагов назад и, видимо, крайне удивленный, развел руками и сказал: «Чтобы труп ожил — этого еще не бывало!» Потом он подошел ко мне, стал меня обнимать: мы были когда-то хорошими знакомыми. Хотя до нашей деревни было не больше трех километров, из-за крутого подъема мы добирались почти целый час. Мать с радостью бросилась ко мне, стала обнимать, целовать, по щекам у нее текли слезы. Она все время благодарила бога за то, что он сохранил ее сына живым. Собралась вся моя многочисленная родня; каждый спрашивал, всем приходилось отвечать. Было как раз обеденное время, и я с большим удовольствием съел все, что мать поставила передо мной на столе. Она была наверху блаженства: сидела рядом, смотрела на меня и, казалось, не могла насмотреться. В политике она не разбиралась, поэтому о политических делах я с ней не говорил; сказал, что живу хорошо, служу в Баку и она может обо мне не волноваться. Она стала спрашивать: «Как же, ведь были разговоры о том, что ты арестован англичанами и убит». Пришлось объяснить, что арестован я действительно был, но потом рабочие добились моего освобождения. После обеда я прошелся по деревне посмотреть, что в ней изменилось. В деревне мы все друг друга знали, поэтому моя прогулка превратилась в многочисленные беседы. Старшая сестра настояла на том, чтобы я зашел в ее дом, и угостила ароматным домашним медом. У нее был двухкомнатный домик с верандой под черепичной крышей и садиком, где и стояли ульи. Семью нашу содержал мой старший брат. Отец умер годом раньше. Я пошел на кладбище на его могилу. Подсознательно я чувствовал какую-то вину перед отцом. Весной 1918 года, когда железнодорожное сообщение между Тифлисом и Баку было очень ненадежным и все ожидали, что оно вот-вот оборвется вообще, я получил телеграмму из деревни. В ней сообщалось, что отец серьезно болен и хочет, чтобы я приехал с ним попрощаться. Сыновний долг обязывал меня немедленно поехать, но это означало, что я был 132 бы лишен возможности вернуться обратно в Баку; бросить же революционную работу в Баку с риском не вернуться обратно я не мог. Теперь, стоя перед могилой отца, я мысленно прощался с ним. Как я уже говорил, семью в то время содержал старший брат, он был рабочиммолотобойцем. За два года до первой мировой войны его призвали в армию, где он прослужил более шести лет и вернулся на родину в конце 1917 года. Теперь он работал плотником — по профессии отца. По тем временам семья жила неплохо: при отце у нас не было коровы, были лишь две козы. Теперь появилась и корова. Младший брат (будущий авиаконструктор) закончил к тому времени сельскую четырехклассную школу, и я решил устроить его для дальнейшего обучения в Тифлис, надеясь на гостеприимство моей тетки, Вергинии Туманян. Так и произошло: с сентября 1919 года брат стал жить у нее в Тифлисе и ходить в школу. Вечером мы всей семьей сели за стол на веранде — ужинать. Появился сын соседа, с которым мы были друзьями в детстве. Он подошел ко мне, поздоровался, а потом отвел в сторону и сказал, что он служит в милиции нейтральной зоны и пришел специально, желая предупредить, что его начальство решило меня арестовать. Он предложил мне убежать этой же ночью. Я его поблагодарил. Мы продолжали ужинать, никому ничего не сказав. Когда все разошлись и настало время сна, я сказал матери и старшему брату, что должен уехать этой же ночью. Они были удивлены, очень огорчены и никак не могли понять, что же произошло. Тогда я вынужден был объяснить, что, если я не уеду этой же ночью, меня арестую!. Это на них подействовало, они перестали спорить. Я решил хотя бы несколько часов поспать. До этого мы посоветовались с мужем моей младшей сестры Акопом, рабочим-медеплавильщиком, как бежать, чтобы не попасть в лапы полиции. Самым опасным местом был единственный, очень древний каменный мост через речку. На мою удачу никого около моста не оказалось, мы благополучно перешли через него и пошли в сторону, противоположную Тифлису. Было ясно, что мне нельзя ждать поезда на станции Алаверды. Мы направились на станцию Санаит, но решили, что и там мне появляться сразу не следует. Поэтому Акол отправился туда один и зашел к нашему родственнику, имевшему небольшой ларек на этой станции, что нас в данном случае очень устраивало. Акоп передал ему деньги на билет для меня и договорился, чтобы перед приходом поезда он укрыл меня у себя в ларьке от посторонних глаз. После этого мы отправились с Акопом в ближайшую деревню Узунлар, где жила моя тетка; та очень хорошо нас приняла. Может быть, здесь стоит рассказать об одном курьезе, который тогда произошел. Помню, в разговоре тетка сказала, что моя мать усиленно хлопочет о женитьбе старшего моего брата на дочери ее соседки. Мать этой девушки была согласна на этот брак, а вот отец все еще что-то колебался. — Давай сходим к ним! — сказала мне тетка. — Заодно ты познакомишься с этой девушкой, с ее родителями, а там, глядишь, и поможешь мне уладить это сватовство! Я согласился. Встретили нас очень радушно. Хорошо угостили. Девушка, которую прочили в невесты брату, мне понравилась. Ее родители — тоже. Когда мы разговорились, я напрямик спросил у отца девушки, согласен ли он выдать свою дочь за моего брата. Он внимательно посмотрел мне в глаза, подумал что-то и после небольшой паузы сказал: «Я согласен выдать свою дочь, но только не за твоего брата, а за тебя!» Такой неожиданный поворот меня не только удивил, но и возмутил: ведь как-никак я пришел сюда в роли свата от родного брата! Однако я сдержался и сказал, что жениться пока еще не собираюсь. «А кроме того, — сказал я, — вы же знаете, что по старым обычаям жениться раньше старшего брата мне нельзя!» На том наш разговор и закончился. Так неудачно завершилась эта моя случайная миссия в роли свата. 133 К вечеру мы снова направились в путь, чтобы к приходу поезда быть на станции. Было уже темно, Акоп пошел вперед — разведать обстановку. Вернулся он довольный: все было спокойно. Мы уже вместе пошли на станцию. Минут через 10 — 15 подошел поезд. Переждав это время у хозяина ларька, я взял у него свой билет, незаметно вошел в вагон и сел в уголке. Поезд тронулся. На платформе Алаверды он остановился на три минуты — это был самый напряженный момент: вдруг полицейские войдут в вагон и станут проверять документы? Но этого не произошло. Благополучно миновав эту станцию, я прибыл в Тифлис, а потом и в Баку. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АРЕСТ В начале июля 1919 года я приехал в Тифлис на заседание краевого комитета партии. Место заседания было выбрано на окраине города, в последнем ряду домов на склоне горы Мама-Давыд, в доме портного Раждома, проверенного, но ничем особенно не известного коммуниста. Полиция в этом районе почти не бывала, и нам казалось, что это место, с точки зрения конспирации, выбрано очень удачно. Было решено, что на заседание каждый придет поодиночке. В нескольких десятках шагов от этого дома находился наш товарищ, который был обязан следить, чтобы за кем-нибудь из нас не увязался «хвост». Я шел к Раждому спокойно. Мне казалось, что по моему внешнему виду политикой от меня и «не пахнет». Еще не доходя до места, я решил проверить, не увязался ли за мной «хвост», вошел в магазин, пробыл в нем минуты две-три, делая вид, что хочу что-то купить, потом вышел на улицу. Не увидев ничего подозрительного, я пошел далее уже более уверенно. В доме Раждома я застал уже прибывших туда двух товарищей — Георгия Стуруа и еще одного товарища из Владикавказа. Прошло несколько минут — и вдруг в дом входят двое полицейских. Старший из них обращается ко мне: «Вы Микоян?» «Да», — отвечаю я. «Вы арестованы». «За что?» «Имею указание начальника особого отряда Кедия». (Это был меньшевистский отряд по преследованию коммунистов, пользовавшийся очень дурной славой.) Полицейский объявил арестованными и двух других товарищей. Георгий Стуруа, который в таких случаях чувствовал себя в своей стихии, тут же начал разговаривать с полицейским, фамилия которого была Липартия. Он уговаривал его, чтобы меня не арестовывали, приводя на этот счет всяческие аргументы. Говорил он то погрузински, то переходил на русский: «Меня и этого товарища вы можете арестовать — мы не возражаем, пойдем с вами в тюрьму, но Микояна вы ни в коем случае не должны арестовывать». Объяснял, что за Микояном следят деникинцы и английское военное командование и, если его арестуют, меньшевистское правительство передаст его англичанам, те — Деникину, и он будет казнен. «А ведь вы знаете, — говорил он, — что через непродолжительное время, может быть, даже через полгода, большевики победят на Кавказе. Вот тогда и станет известным, что вы, Липартия, виновны в аресте и смерти Микояна. Тогда вам придет конец. Поэтому в первую очередь подумайте о самом себе». Полицейский начал объяснять, что должен беспрекословно выполните приказ начальства. «Тем более, — сказал он, — что, когда Микоян проходил по улице, Кедия лично смотрел из окна и, узнав его, поручил мне идти за ним и арестовать. Как же я могу не арестовать его и вернуться ни с чем?» На все эти рассуждения полицейского Стуруа находил какие-то новые аргументы, которых я сейчас уже не припомню. В конце концов Липартия сказал: «Ну, хорошо, я вас обоих оставлю, а Микояна возьму. Без него я не могу появиться перед начальством». Тогда Стуруа заявил: «Мы без Микояна не останемся и пойдем вместе с ним». Так мы и пошли все вместе, хотя я его всячески отговаривал. Георгий и на улице продолжал все 134 время твердить, что меня нельзя арестовывать и что полицейскому будет впоследствии из-за этого очень плохо. Наконец у полицейского появились какие-то нотки колебания. Он сказал: «У меня семья, как же я буду ее содержать, если меня прогонят с работы?» Стуруа сразу же сориентировался и ответил, чтобы тот об этом не беспокоился, так как ему будет оказана нужная материальная помощь. Липартия замолчал. Тогда Стуруа сказал: «Тебе и твоему товарищу будет дано 5 тысяч рублей. Если вы, отпустив нас сейчас, придете вечером к Казенному театру, там будет стоять девушка с деньгами. Вы подойдете к ней, скажете свою фамилию, и она вручит вам эти деньги». Липартия согласился, и мы все трое разошлись по разным переулкам в свои конспиративные квартиры. Помню, это произошло в тот момент, когда мы подходили к зданию судебной палаты — недалеко от штаба Кедия. Свое обещание мы выполнили. Вечером Липартия получил обещанную сумму. Эти деньги ему передала моя невеста Ашхен, которая, работая учительницей под Сухуми, была в это время на летних каникулах в Тифлисе. Любопытно, что лет через пятнадцать после этого я получил письмо от Липартия. Он описывал все( что тогда с нами произошло, и просил меня письменно подтвердить, что он действительно освободил меня от ареста: это было нужно ему для получения пенсии. Я с любопытством читал его письмо и, решив, что он, хотя и под угрозой и за деньги, все-таки сделал это, дал ему подтверждение, о котором он просил. РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА В ДАГЕСТАНЕ Я уже говорил, что Дагестан был одним из главных очагов революционных событий того времени. Там сложилась довольно крепкая партийная организация. Под знаменем Советской власти успешно развивалось повстанческое движение. Смелые и решительные набеги партизанских отрядов Дагестана на тылы деникинской армии наносили им весьма существенный урон, дезорганизуя всю их работу. Активную революционную борьбу вели железнодорожники Дагестана и портовики Петровска. Большевики Дагестана всегда были тесно связаны с Бакинским комитетом партии и опирались на его поддержку. Большевистские организации Азербайджана под руководством Бакинского комитета оказывали большую помощь дагестанским товарищам, отправляя им оружие, деньги, литературу, посылая людей. Следует отметить особую роль во всей этой работе члена нашего крайкома Гамида Султанова. Надо сказать, что среди передовых бакинских рабочих и коммунистов было немало выходцев из отдаленных аулов Дагестана. Они поддерживали крепкую связь с земляками, активно влияли на них. Мне, например, хорошо запомнились колоритные фигуры двух выдающихся рабочих-дагестанцев — активных коммунистов Казимамеда и Мухтыдыра Айдинбекова. Помню, какую большую помощь они оказали, в частности, мне весной 1917 года, когда я только что прибыл в Баку для партийной работы. Дагестан был связан не только с Баку, но и с Астраханью. За развивающимися в Дагестане событиями политической борьбы внимательно наблюдал С. М. Киров. Именно при его непосредственном участии в начале 1919 года в Дагестан был отправлен из Астрахани с группой военных работников видный большевик Буйнакский, сыгравший большую роль в общем укреплении партийной работы в Дагестане и установлении тесной связи с нами. Постепенно, ближе к середине 1919 года, влияние коммунистов в Дагестане значительно возросло (особенно в горных аулах), и уже реально встал вопрос о вооруженном восстании. Оно должно было начаться в мае 1919 года, и дагестанские товарищи были уверены в его успехе. Однако сроки восстания почему-то несколько затянулись. За это время горское контрреволюционное правительство решило перейти в наступление и разом покончить со «смутой». Выследив, когда руководители подпольной 135 большевистской организации собрались на конспиративное заседание, полиция схватила их и бросила в тюрьму. 19 июля 1919 года я сообщал в ЦК партии по этому поводу: «Правительство Горской республики путем открытого предательства в половине мая прекратило войну с Деникиным, заключило с ним соглашение, переарестовав всех наших товарищей (до 35 человек) — руководителей готовящегося восстания и передало'их в руки добровольцев Петровска. Они до сих пор не были расстреляны, т. к. арестованные в Ленкоране деникинцы были объявлены нами заложниками. На днях состоялся военно-полевой суд. В результате пять лучших товарищей — Уллуби Буйнакский, Абдул Багаб Гаджи Магома-оглы, Абдурахман Измаилов, Саиб Абдул Халимов и Маджит Алиоглы — приговорены к смертной казни». После гибели Буйнакского и его товарищей осенью 1919 года, когда горское правительство было уже разогнано (на этот раз самими деникинцами), в Дагестан из Баку был направлен товарищ Казбеков. Его хорошо знали в Дагестане: в 1918 году он был членом Дагестанского ревкома, а после временного падения там Советской власти работал в Бакинской партийной организации. Прибыв в Дагестан, Казбеков активно включился в работу Дагестанского обкома партии, председателем которого был тогда Д. Коркмасов. Уже позже нам стало известно, что в июне 1919 года С. М. Киров направил из Астрахани в Дагестан еще одного руководящего партийного работника, представителя Реввоенсовета XI армии, хорошо нам известного Бориса Шеболдаева, который принял самое деятельное участие в подготовке трудящихся Дагестана к июльскому антиденикинскому восстанию. Бюро нашего краевого комитета партии все время оказывало Дагестану всемерную поддержку и помощь в подготовке восстания и в военных действиях против армии Деникина. Следует сказать несколько слов о роли местного духовенства в общей борьбе дагестанцев. Оно было расколото на две группы. В противовес реакционному духовенству во главе с имамом Гацинским, отражавшему интересы эксплуататорской верхушки, в Дагестане были духовные лица, стоявшие на стороне революционной бедноты, нередко даже координировавшие свои действия с коммунистами. Надо сказать, что в годы гражданской войны дагестанские большевики не раз использовали в своей борьбе активных деятелей панисламистского движения Али-Гаджи Акушинского и Узун Гаджи (имевших тогда большое влияние в массах) для ослабления позиций внутренней контрреволюции и для организации борьбы против интервентов и белогвардейцев. В частности, они оказали немалую помощь дагестанским товарищам в деле привлечения широких слоев бедноты в повстанческие отряды. Рассказывали, например, что Али-Гаджи Акушинский активно содействовал проведению в аулах Дагестана мобилизации бедноты для борьбы против Деникина, причем им «по своей линии» была даже установлена определенная «разверстка»: каждые десять дворов должны были выставить одного солдата с оружием и обмундированием, а содержание солдата за время службы возлагалось на остальные девять дворов. Повстанческое движение охватило горцев многих районов Северного Кавказа. Бои шли с переменным успехом. Но при всех случаях набеги партизан наносила серьезный урон белогвардейским частям, а самое главное — отвлекали часть деникинских вооруженных сил от фронта борьбы с Красной Армией, оказывая ей тем самым серьезную поддержку в те трудные дни. В ноябре 1919 года я написал специальную статью для «Правды» о характере и движущих силах восстания горцев на Кавказе. Содержание этой статьи и сегодня может представить определенный интерес для читателей. Поэтому сошлюсь на нее. Я указывал, что в силу исторически сложившихся обстоятельств при царизме горские трудящиеся массы были еще очень далеки от участия в политической жизни. Мало что сделала в этом отношении и Февральская революция. 136 Только после Октябрьской социалистической революции и в особенности по мере роста и укрепления Советской власти на Северном Кавказе широкие массы трудящихся горцев, ингушей, чеченцев, осетин, дагестанцев и других народов Кавказа политически прозрели, осознали свои классовые и национальные интересы и активно включились в революционную борьбу на стороне Советской власти, грудью встав на защиту этой власти от белогвардейских банд. Именно Октябрьская революция дала им возможность впервые почувствовать себя свободными и равноправными с другими народами. С помощью Советской власти они избавились от невыносимого казачьего гнета и произвола и смогли вернуть себе те земли, которые были насильственно отняты у них царизмом и переданы зажиточному казачеству. Говоря о нашествии деникинских банд, я писал, что вначале горцы «еще недостаточно осознали характер надвигавшейся на них генеральской контрреволюции: вопрос о том, быть или не быть Советской власти, еще не был понят ими как вопрос их жизни и смерти». И хотя они понимали, что последовавшее вскоре временное падение Советской власти станет (и стало!) для них подлинным несчастьем и что жить при Деникине им будет во много раз хуже, все же положение не казалось им настолько уж плохим, чтобы нельзя было переждать до той поры, пока вернется Красная Армия и восстановится Советская власть, а в это они твердо верили. Вот почему горцы вначале и не отдавали на борьбу с «добровольческими» бандами «всего, что могли, не напрягали всех своих сил и тем самым невольно облегчили падение Советской власти на Кавказе». Однако поучительные «предметные» уроки, которые получили горцы от деникинских властей, привели, как и следовало ожидать, к усилению коммунистического влияния и коммунистических настроений среди полупролетарских и крестьянских масс горского населения. «Если Советсная власть, — развивал я свои мысли в статье, — втянула горение трудящиеся массы в революционную борьбу, то неслыханные зверства и насилие генеральских опричников и казачьих «молодцов», разорительные контрибуции и невыносимые тяжкие поборы бросили их в бездну гражданской войны. Деникин в первые же дни достаточно ярко, без всяких замаскировок показал свою дьявольскую физиономию. Его достойный соратник, кровавый усмиритель и палач революции в Персии, бравый генерал Ляхов сжигал и уничтожал дотла аулы, не щадя расстреливал всех попадавших ему на глаза мужчин, женщин, детей и стариков, последовательно придерживаясь в этом вопросе принципа безусловного «равенства для всех». Так, в январе и феврале были стерты с лица земли десятки ингушских и чеченских аулов. В апреле, а потом в июле в Дагестане и Ингушетии то же самое было повторено для большего эффекта. Внушив таким -путем страх и «уважение» к своей власти, деникинцы назначили своих маленьких царьков для каждого горского народа — «правителей» Дагестана, Чечни, Ингушетии и Осетии, создали из офицеров и контрреволюционно настроенных горцев карательные отряды, наложили на горцев невыносимо тяжелую контрибуцию, уплата которой повлекла за собой полное разорение и без того небогатого горского населения, а беднота вообще не могла дать и половины требуемого. Для примера унажу размер контрибуции, наложенной на ингушей в июле. Контрибуция состояла в том, что каждый двор должен был дать винтовку с двумястами патронов, револьвер «наган» с 50 патронами, 25 пудов кукурузы и 2000 рублей николаевских денег; к тому же каждые два двора обязаны были дать лошадь с седлом, одну корову и четыре барана. При всем том все боеспособное население мобилизовывалось для борьбы против Советской власти. Чувствуя свое устойчивое положение на советском фронте, Деникин подкрепил свое требование в уплате контрибуции и выдаче горских полков — угрозой, что в случае неисполнения в назначенный срок все будет взыскано в двойном размере. 137 После этого вопрос о той или другой власти в России стал вопросом жизни и смерти горской бедноты. Усвоив основательно «предметный» урок, данный им помещичьебуржуазной контрреволюцией, набрав силы и выполнив необходимую подготовительную работу (а надо учесть, что в то время горцы еще не имели крепких политических партий, газет и кадры интеллигенции), трудящиеся массы горцев, спаянные единодушием и твердой решимостью биться с наглым врагом, приняли на своих съездах решения: ничего не давать Деникину и начать с ним борьбу не на жизнь, а на смерть. Свободолюбивые орлы Кавказских гор поднялись на священную борьбу за свою свободу против генеральской черной реакции. Больше трех месяцев широкие массы всех горских народов были охвачены пожаром всеобщего восстания». Для нашей партии и Советской власти, писал я в своей статье, очень важно выяснить характер движения горцев, ибо только после этого можно правильно определить наше отношение к этому их движению. Надо сказать, что и в движении и особенно в восстании горцев ясно проступали элементы их социальной, классовой дифференциации. Восстание горцев являлось выражением одного из величайших порывов борьбы горской бедноты против Деникина, его агентов и наемных опричников из горской среды. «Если при продвижении деникинских банд на Кавказ горская беднота со скрежетом зубов оказывала им явное или скрытое противодействие, то в отличие от них имущие слои горцев, бывшие чиновники, офицеры и кулаки не только всемерно помогали Деникину укрепиться в горах, но и просили, умоляли его поставить свои гарнизоны в крупных аулах для защиты их имущества; они охотно поступали на службу к палачу своего народа, занимая посты правителей («наместников» Деникина), начальников округов, старшин, пополняя отряды для расправы с беднотой. Все свое черное дело угнетения и грабежа горского народа Деникин хитро проводил руками горских контрреволюционеров. Поэтому безграничная ненависть бедноты к своим поработителям распространялась не только на деникинцев, но и на «своих» горцев-контрреволюционеров. Как только дагестанцы решили не давать мобилизованных полков Деникину, а направить их против него, они заявили: «Прежде чем начать войну с нынешним врагом, необходимо очистить свой собственный дом от изменников и предателей». И действительно, из агентов Деникина, из его старшин, начальников, офицеров и прочих уцелели только те немногие, которым удалось заблаговременно скрыться от народного гнева. В Ингушетии поступили еще более решительно, очень сурово расправившись с горцами, продавшимися Деникину… В горах оставалось еще немало русских красноармейцев. Много пошло и добровольцев на помощь восставшему народу. Горцы-мусульмане не только давали приют, но с распростертыми объятиями принимали русских большевиков, относясь к ним с особой любовью и признательностью, идя с ними рука об руку в бой против русских генералов и офицеров. Людям, незнакомым с горским бытом, все это может показаться несущественной деталью, но тот, кто знает о давней ненависти горцев к русским, существовавшей еще со времени покорения их царскими войсками, поймет, какой это был тогда грандиозный переворот в сознании и всей жизни горских народов. Положение, в котором очутились горцы, дало им возможность правильно понять характер своего движения и искать союзников. Они обратились не к азербайджанскому, мусульманскому, буржуазно-помещичьему правительству, а к Комитету большевиков, прося его о помощи и желая знать, скоро ли вернутся к ним большевики и Красная Армия. Восставшие трудящиеся массы горцев, решив победить или умереть, повернулись спиной к буржуазно-лакейским правительствам свох единоверцев и социал-предателей. Партизаны Кавказских гор протянули свою братскую руку Красной РабочеКрестьянской Армии и не отступят, пока не разобьют контрреволюционную стену, воздвигнутую черносотенными бандами между горскими народами и социалистической Россией». 138 Я прошу прощения за такую длинную цитату, но эта статья, пожалуй, довольно точно передает настроения тех лет и наше общее отношение к революционной борьбе дагестанских братьев. НОВЫЙ АРЕСТ В БАКУ В Баку мне приходилось в то время работать в строго конспиративных условиях. Я не принимал участия ни в каких легальных собраниях. Бывал только на конспиративных пленарных заседаниях Бакинского комитета партии, которые обычно устраивались в рабочих районах. Заседания эти проходили, как правило, в клубах, за сценой, причем для маскировки во время заседаний в клубном зале проводились репетиции групп рабочей самодеятельности. Заседания же бюро Бакинского крайкома партии (ввиду малочисленности его состава) проводились на городских конспиративных квартирах: то у Каспаровых, то в квартире Черномордика или еще у коголибо из наших надежных товарищей. В то время я жил на квартире у Черномордика. Квартира была пустая — хозяева жили на даче. Однажды вечером ко мне зашел Гогоберидзе с двумя товарищами. Один из них — Авис Нуриджанян, которого я хорошо знал по работе в Баку. Другой — Юрий Фигатнер, с которым я познакомился недавно. Он нелегально прибыл к нам в Баку — через Грузию — с Северного Кавказа, где до временного падения Советской власти был народным комиссаром Терской республики. Фигатнер только на днях вернулся из Дагестана, куда он нами был направлен для выяснения обстановки. Он зашел ко мне, чтобы рассказать о своей поездке. Оба они — и Нуриджанян и Фигатнер — были хорошими и верными коммунистами. Мы долго обсуждали вопросы текущей политики. Много говорили о положении в районах, о деятельности Рабочей конференции. Наметили ряд предложений, которые намеревались поставить на обсуждение Бакинского комитета партии и бюро крайкома. Встреча наша состоялась довольно поздно, а никто из нас еще не успел пообедать. Аппетит у нас был, как говорят, «зверский», но главное, что угнетало, — это невыносимая жара. В квартире было трудно дышать. И тогда Гогоберидзе неожиданно предложил: «Пойдем искупаемся в море. Думаю, что никакой опасности нет. Вряд ли, Анастас, полиция ждет тебя в морской купальне!» Жара настолько нас «расплавила», что я, не колеблясь, принял это соблазнительное предложение. Вечерело. Выйдя из дома, мы переулками благополучно добрались до городских купален, заняли одну из кабин и разделись. Море было очень спокойное. Мы долго и с большим удовольствием купались в теплой воде. Купание нас настолько освежило и приободрило, что мы совсем забыли о нестерпимой жаре, а к тому же она стала спадать. С другой стороны, купание еще больше усилило чувство голода. Но как у меня, так и у моих друзей никакой еды дома не было. Тогда все тот же инициативный Гогоберидзе предложил отправиться в какой-нибудь ресторан и хорошенько поесть. Я высказал мысль, что лучше пойти в какую-нибудь столовую, но Гогоберидзе отклонил мое предложение, заявив, что с точки зрения конспирации нам все же лучше пойти в ресторан. Обычно за рабочими столовыми полицейские шпики ведут наблюдение; там меня как раз и могут узнать. А в богатом «буржуазном» ресторане с точки зрения безопасности спокойнее всего: никто не ожидает встретить там большевиков. Доводы были как будто убедительные. Гогоберидзе повел нас в ресторан «Тилипучур», в котором он уже раньше бывал. Ресторан был ярко гЗсвещен. Вокруг сидели, смеялись, выпивали хорошо одетые мужчины и женщины. Гогоберидзе повел нас через весь зал к свободному столику, стоявшему в несколько затененном углу. Заказал он бифштексы «с кровью» и, как помнится, кахетинское вино. 139 Ели мы с большим аппетитом, настроение было самое преотличное. Мы забыли о какой-либо опасности. Покончив с бифштексом, мы уже подумывали: «А не повторить ли нам?» В это время в зале неожиданно появился пристав с двумя полицейскими. Стало ясно, что мы «влипли». Я лишь успел, пока к нам через зал подходил пристав, шепнуть Гогоберидзе, чтобы он затеял с с ним спор по поводу нашего ареста, так как только в этот момент вспомнил, что у меня в кармане лежат несколько конспиративных документов. Я стал лихорадочно думать, как мне от них избавиться… Тем временем Гогоберидзе в острой и резкой форме протестовал против своего ареста, поскольку он являлся тогда председателем Рабочей конференции Баку и поэтому был, так сказать, лицом неприкосновенным. Пристав, конечно, смотрел на него, а двое полицейских смотрели то на пристава, то на Гогоберидзе. Я огляделся вокруг. Вижу, никто не обращает на меня никакого внимания: даже окружающая публика смотрела на Гогоберидзе и на пристава. Тогда я незаметно достал из кармана документы и подсунул их под скатерть стола. Только после этого я облегченно вздохнул. Теперь я мог уже разыгрывать из себя кого угодно. Надо сказать, что среди' спрятанных под скатерть документов находился мандат, который был написан на маленьком (с современный театральный билетик) куске белого полотна. В нем указывалось, что выдан он товарищу Эшба, командируемому ЦК партии на Кавказ для ведения партийной работы. Мандат этот был подписан секретарем ЦК партии Еленой Стасовой и скреплен печатью Центрального Комитета РКП(б). Накануне этого происшествия Эшба действительно приехал в Баку, был у меня и оставил этот мандат. Я его положил в карман и не успел никуда спрятать. Эшба, как и Нестор Лакоба, был общепризнанным руководителем коммунистов Абхазии. Наконец, прервав перепалку с Гогоберидзе, пристав обратился ко мне с вопросом, кто я такой. Я ответил: «Учитель, беспартийный, приехал из Тифлиса в поисках работы. Фамилия моя Тер-Исраелян (на эту фамилию у меня имелся паспорт). Был на приеме у председателя Рабочей конференции с просьбой устроить на работу. Он обещал помочь и пригласил меня с двумя другими товарищами, которые также были у него на приеме по вопросу трудоустройства, отобедать с ним». Остальные товарищи дали ему аналогичные ответы. Мы все трое держались тихо, спокойно. Нас вывели из ресторана и в сопровождении полицейских повели в ближайший, кажется, пятый, участок полиции. По дороге я лихорадочно соображал, какую же квартиру мне назвать при допросе как свое местожительство? Квартиру Черномордика — нельзя, так как в ней хранились важные партийные документы. Лучше всего было назвать квартиру по улице Станиславского, 67, где ничего секретного не хранилось, а хозяин был предупрежден, что в случае необходимости я укажу, что являюсь его временным жильцом: это была наша резервная конспиративная квартира. На улице совсем стемнело, но народу было много. Совершенно случайно навстречу нам попалась Ольга Шатуновская. Она была очень удивлена, увидев нас в сопровождении полицейских. Благодаря толкотне прохожих на этой оживленной улице я успел ей шепнуть, чтобы она предупредила товарищей и привела в порядок квартиру на улице Станиславского, 67. В участке к допросу приступил уже другой пристав. Гогоберидзе повторил ему все то, что он говорил в ресторане, и вновь потребовал своего немедленного освобождения, ничего не говоря о нас. Мы трое, каждый в отдельности, рассказали приставу свои «легенды», которые как будто бы не вызвали со стороны пристава никаких подозрений: он принял все на веру. Мы просили освободить нас, так как ни в чем не виноваты. Все-таки нас не освободили, а, наоборот, объявили арестованными. Ночь и половину следующего дня мы провели в этом полицейском участке. Вспоминается один приятный эпизод, связанный с пребыванием в этом участке. 140 Хозяин одного из бакинских ресторанов был земляком Левана Гогоберидзе и хорошо к нему относился. Леван довольно часто у него обедал. Каким-то образом он узнал, что Гогоберидзе арестован, — возможно, ему рассказали об этом те, кто был в ресторане во время нашего ареста. И вот утром к нам вносят от него большую корзину. В ней оказался отличный шашлык, свежий хлеб и большой арбуз. Для нас это был неожиданный и приятный сюрприз. Наконец в середине дня нас посадили в два фаэтона и под охраной повезли на окраину Баку, в Баиловскую тюрьму. Там нас всех четверых поместили в одной небольшой камере. На койках были только голые доски: матрасов и подушек не было. Но это нас особенно и не огорчило. Лежать на досках нам было привычно. А одеяла не были нужны, так как стояла страшная жара. Кормили очень плохо, пока через два дня товарищи не наладили передачу нам продуктов на имя Гогоберидзе. Ему удалось к тому же установить хорошие отношения с одним из надзирателей: он уговорил его передать на волю по определенному адресу письмо, пообещав хорошо заплатить за эту услугу. Не исключая, конечно, что это письмо могло попасть в руки тюремной администрации, мы написали его эзоповским языком. Смысл же письма состоял в том, чтобы товарищи через лицо, передавшее письмо, сообщили нам, какие меры они принимают для нашего освобождения. Еще до нашего ареста нам стало известно, что в этой тюрьме сидит арестованный дней десять назад Борис Шеболдаев. До этого он возглавлял всю военную работу Бакинского бюро крайкома партии и был начальником разведки, организованной нами в тылу у Деникина. По своему характеру Борис Шеболдаев человек был очень спокойный и выдержанный. Обычно он никогда не раздражался, в спорах не горячился, говорил обдуманно, не любил лишних слов. Это был прекрасный человек и коммунист. Мы не могли даже догадаться, каким образом он был арестован, предполагая тогда, что выдал его, очевидно, кто-нибудь из тех, кто помогал ему достать документы из английского военного штаба для поездки в стан Деникина в качестве офицера этого штаба. Помню, я высказывал даже мысль о том, что, может быть, Шеболдаева арестовали не сразу, а после того, как проследили, установили его связи, явки и тем самым раскрыли в какой-то степени нашу агентурную сеть. Это было наиболее опасно и для самого Шеболдаева и для многих других товарищей. Во всяком случае, теперь, когда мы попали в ту же тюрьму, где находился и Шеболдаев, мы решили не торопиться устанавливать с ним связь. Помочь ему мы ничем не могли (как, кстати, и он нам), а усложнить положение было очень легко: достаточно было обнаружить, что между нами и Шеболдаевым есть что-то общее, как немедленно и его и наше положение резко бы ухудшилось. Надзиратель, о котором я уже говорил, оказался человеком порядочным. Он не только отнес тогда наше письмо, но и принес ответ. И так делал не раз. Товарищи с воли наметили два варианта нашего освобождения. Первый из них состоял в том, что они пришлют нам пилы, которыми можно распилить решетку на окне, выходившем на улицу. Ночью в условленное время мы должны были выбраться на свободу через это окно. К этому времени часовой был бы уже изолирован, а ожидавший неподалеку фаэтон отвез бы нас в условленное место. Другой план состоял в том, чтобы через надзирателя доставить нам в тюрьму пистолеты. В условленный день перед закрытием камер на ночь мы должны были обезоружить надзирателей, запереть их в нашей камере и, пройдя по коридору тюрьмы, выбраться на улицу, где нас ожидали бы товарищи с фаэтоном. Мы обдумали эти варианты. Оба были очень рискованными. Провал был возможен в том и другом случае: нельзя было заранее предвидеть все возможные осложнения. Сообщили товарищам, чтобы они готовили оба плана, пока мы окончательно не решим, какой из них принимается. Одновременно мы просили наших друзей, чтобы Караев, как депутат парламента, принял энергичные меры к освобождению Гогоберидзе как 141 председателя Рабочей конференции, арестованного незаконно. В этом случае все могло решиться много проще. В камере было невыносимо жарко. Дышать становилось все труднее. К тому же, попав сразу после напряженной работы в непривычную обстановку полного безделья, мы оказались в каком-то особо угнетенном состоянии. Появилась даже какая-то расслабляющая лень. Меня все время мучила мысль о том, как это я, нарушив правила конспирации, согласился с предложением Гогоберидзе, допустил неосторожность и подвел и себя и своих товарищей. Выходило, что мы сами себя загнали в тюрьму. Это было тем более досадно, что за ее стенами нас ждала так внезапно прерванная большая партийная работа. Я думал о том, что бывают ошибки неисправимые; эта была именно такой. Конечно, я не мог особенно упрекать Гогоберидзе, потому что гораздо большая ответственность за происшедшее ложилась на меня: я был старше Левана и по возрасту — мне было 24 года — и по опыту политической работы, а поэтому должен был проявить больше бдительности. Все эти тягостные мысли, однако, развеивал тот, же Гогоберидзе. Жизнерадостный, веселый, он всегда вносил оживление, много шутил, и это нас приободряло. А Авис Нуриджанян, напротив, был особенно подавлен. Все время он напевал на азербайджанском языке какую-то заунывную песню, содержание которой, как помнится, не шло дальше утверждения, что В камере моей жарко и тесно. А на душе горестно… Авис был человек чувствительный и впечатлительный. Прошло менее года, как он вступил в партию. Надо сказать, что в тех условиях вступление в партию нередко сулило перспективу попасть за решетку, а то и вообще лишиться головы. Однако он до конца твердо стоял на позициях коммуниста. Забегая вперед, скажу, что примерно через год Авис оказался одним из активных руководителей восстания и борьбы за победу Советской власти в Армении и показал себя в этой борьбе преданным и самоотверженным борцом. Заунывные, тоскливые песни, которые распевал Авис, раздражали Гогоберидзе: он постоянно просил его замолчать и не играть на нервах. Третий наш товарищ по камере — Юрий Фигатнер — всегда был серьезным, сосредоточенным, не шутил и не любил, а может быть, не понимал шуток. Угрюмо устремив свой взгляд в потолок камеры, лежа на койке, он подолгу о чем-то думал. Мне казалось почему-то, что он опасался, как бы ему не пришлось разделить трагическую судьбу хорошо известного ему коммуниста Анджиевского, председателя Пятигорского Совета рабочих депутатов. Это был талантливый оратор и популярный деятель; одно время имя его буквально гремело на Северном Кавказе. Ему удалось весной 1919 года вместе с группой товарищей пробраться через Кавказский хребет и Грузию к нам в Баку, где он сразу же включился в партийную работу. Я с ним несколько раз встречался. Он производил впечатление энтузиаста, энергичного работника, преданного революционера, который не мог сидеть сложа руки, а должен был действовать, работать, бороться. Анджиевский вскоре был арестован мусаватскими властями и, видимо, по требованию деникинцев передан английскому командованию, которое, в свою очередь, переправило его на Северный Кавказ — в лапы к деникинцам. Все это было проделано так быстро, что мы не успели даже вмешаться. А вскоре мы узнали, что Анджиевский был повешен в Пятигорске. Помню, все мы с большой горечью переживали эту потерю… В камеру стали поступать газеты, которые передавали товарищи с воли. Это внесло известное оживление в нашу однообразную жизнь: мы стали приобщаться к текущим событиям, обсуждать их. Так прошло около недели. Однажды вечером, часов около десяти, старший надзиратель открыл дверь нашей камеры и сказал: «Господа! Приготовьтесь, вас должны перевести из Баиловской в Центральную тюрьму». Это неожиданное сообщение всех нас сильно встревожило. Мы знали, что обычно в 8 часов вечера ключи от дверей всех тюремных камер передавались начальнику тюрьмы и только на следующий день в 7 часов утра они возвращались обратно к надзирателям, которые вновь могли открыть камеры. А тут вдруг в ночное время ключи 142 оказались у надзирателя и нас так поздно хотят переправить в другую тюрьму. Помню, мы подумали: не может быть, что нас просто переводят в Центральную тюрьму. Мы единодушно и твердо заявили, что не согласны ночью переходить в другую тюрьму и из своей камеры не выйдем. Надзиратель ответил, что в контору тюрьмы прибыло большое начальство, которое приехало специально для нашего перевода. На это мы опять заявили: «Идите и доложите начальству, что мы категорически отказываемся уходить». Надзиратель ушел, а мы стали обмениваться мнениями: что бы все это могло означать? Пришли к единому заключению, что это не перевод в Центральную тюрьму. Скорее всего нас хотят отсюда вывести, чтобы ночью посадить на пароход и передать в руки англичанам. Мы решили категорически отказаться от ночного вывода, рассчитывая, что днем удастся связаться с волей и, может быть, принять какие-то меры. Через некоторое время в камере появились начальник жандармского управления, надзиратели и много полицейских, заполнивших весь коридор. На требование немедленно выйти из камеры Гогоберидзе ответил: «Мы не можем согласиться с вашим требованием. Мы никуда не пойдем ночью. Завтра днем, пожалуйста, переводите нас куда хотите». Тогда жандармский начальник вновь повторил свое требование, заявив, что если мы не согласимся идти добровольно, нас переведут насильно. Посмотрев друг на друга, мы подумали, что, пожалуй, они действительно могут так поступить, к тому же изрядно нас избив. Посмотрели на Гогоберидзе. Подумав, он сказал, что мы протестуем, но вынуждены подчиниться силе. Нас тесно окружили полицейские и повели через коридор в контору тюрьмы. Через несколько минут видим: вводят Бориса Шеболдаева. Новая неожиданность! Никакого общего дела у нас с ним не было. О нем нас ни разу не допрашивали. Вообще в разговорах с нами фамилия его не упоминалась. И вот тогда, в тюремной конторе, мы еще больше утвердились во мнении, что нас собираются не просто переводить в другую тюрьму, а хотят вместе с Шеболдаевым передать английской военщине. Когда Бориса Шеболдаева ввели в контору, вид у него был довольно заспанный. Он осмотрелся по сторонам, узнал нас, провел рукой по лицу, издав какой-то непонятный звук, и сказал: «А, теперь я все понимаю!» Для нас было ясно, что и он заподозрил что-то неладное. Однако мы никак не реагировали на его реплику и даже не поздоровались с ним, делая вид, что мы незнакомы. Стоим в ожидании, что будет дальше. Вдруг входит какой-то надзиратель с длинной толстой веревкой и спрашивает у начальства: «Эта годится?» Я не удержался и в шутку спросил: «Вы что, господа, повесить нас собираетесь?» На мою реплику начальник тюрьмы ответил: «Дело в том, господа, что наручники находятся в Центральной тюрьме, а у нас их сейчас нет. Поэтому вместо наручников мы свяжем вас всех вместе этой веревкой». Так и сделали. Каждому из нас заложили руки за спину, связали их веревкой и одновременно привязали друг к другу. После этого через плохо освещенный коридор, гуськом, под усиленной охраной нас вывели на улицу. Там был приготовлен грузовик. Однако забраться в кузов со связанными руками мы никак не могли, поэтому полицейским пришлось взять всех нас пятерых за ноги и таким образом погрузить в грузовик через открытый задний борт машины. Вместе с нами в кузов забрались и полицейские. Стояла теплая, безветренная, лунная ночь. Дышать свежим воздухом после камеры было приятно, но на душе было невесело. При полицейских мы между собой не разговаривали, да, собственно, и говорить было не о чем. Все примерно догадывались, что может нас ожидать… Дорога, по которой мы ехали, проходила мимо набережной. Когда наш грузовик подъезжал к пристани, мы все ждали, что вот-вот он остановится и нас погрузят на корабль. Когда же, не замедляя хода, мы проехали мимо пристани и направились к Центральной 143 тюрьме, на душе стало гораздо легче. Наконец-то мы поверили, что нас действительно переводят в другую тюрьму. В отличие от Баиловской тюрьмы, расположенной на окраине, эта тюрьма находилась в центре города. Кругом нее были жилые здания. Сама тюрьма разместилась в здании мельницы, построенной азербайджанским капиталистом Тагиевым, который потом подарил это здание царской власти под тюрьму. Поэтому ее в народе обычно называли «тагиевской тюрьмой». Нас провели на 5-й этаж, в корпус вечных каторжан и смертников. Мне уже приходилось раньше сидеть в этом корпусе. Здесь нам развязали руки. Арестанты в соседних камерах проснулись и глядели на нас через дверные отверстия. Вдруг из одной камеры раздался голос: «Товарищ Микоян?» На счастье, рядом не было полицейских. Я тут же подошел к двери этой камеры и очень тихо сказал: «Я не Микоян, а ТерИсраелян». Видимо, меня поняли, потому что больше из этой камеры не раздалось ни звука. Все это произошло так быстро и тихо, что надзиратели ничего не заметили. Нас повели дальше и поместили в камеру, расположенную в конце коридора. Через несколько дней мне удалось все-таки, когда нас выпустили в коридор, подойти по дороге в туалет к двери той камеры и спросить, кто там сидит. Оказалось, что там находился один из бывших красноармейцев бригады, где я был комиссаром. Лично его я не знал, но он меня запомнил. А главное, выяснилось, что это был человек, который по решению нашей партийной организации и приказу своего бывшего командира совершил террористический акт и убил из маузера бывшего коммуниста, некоего Геловани, оказавшегося провокатором. Но об этом — несколько позже. В тюремном корпусе, где мы находились, арестованные сидели в камерах-одиночках. Нас же пятерых посадили в одну такую камеру. Мы спали прямо на бетонном полу. Но, несмотря на это, спали очень крепко и хорошо. Вскоре нам прислали с воли простыни и подушки, была налажена и передача продуктов — опять на имя Гогоберидзе. Кроме газет, мы стали получать даже и книги. Помню, с каким большим удовольствием я читал рассказы Чехова, которые до этого мне удавалось читать лишь урывками. Теперь же у меня появилось много свободного времени, а главное, я гораздо лучше понимал эти рассказы, и мна они больше нравились, нежели в юности. Доставка к нам продуктов, книг и газет проводилась группой школьниц старших классов, членов коммунистической молодежной организации. Делали они это с большим увлечением, очень аккуратно, и надо сказать, что им как-то хорошо удавалось незаметно для надзирателей, проверявших передачи, всовывать в упаковку продуктов записки с необходимой для нас информацией. Из газет мы узнали: английское командование, видимо, решив, что влияние и общие позиции англичан в Азербайджане окрепли и уже ничто здесь не угрожает их господству, приступило к выводу из Азербайджана своих войск, оставив в Баку лишь представителя. Из полученной с воли записки мы узнали также, что наши товарищи в Бакинском комитете партии активно обсуждали этот вопрос, споря о значении такого события для нашей революционной борьбы, пытаясь понять истинные причины ухода из Баку оккупационных войск, поскольку были серьезные опасения (позднее, правда, не оправдавшиеся), что, уходя, англичане могут сдать город деникинцам, которые к тому времени продолжали одерживать на юге России большие победы. Вдруг неожиданно в нашей партийной печати возникла дискуссия. Будучи редактором газеты, Ломинадзе, без одобрения Бакинского комитета, опубликовал большую путаную передовую статью, в которой, между прочим, утверждал, что вывод английских войск из Закавказья означает крах не только английского, но и мирового империализма. По мнению коммунистов, находившихся тогда в тюрьме, эта статья была ошибочной, идущей вразрез с политикой нашей партии. Через два дня появилась статья Саркиса, под 144 псевдонимом «Даниельсон», в основном правильно критикующая статью Ломинадзе. Еще через день мы прочитали ответную статью Ломинадзе. Так неожиданно для всех нас началась дискуссия в печати. Мы были крайне возмущены: не только, конечно, тем, что Ломинадзе высказал свои ошибочные взгляды, но главным образом тем, что на страницах нашей партийной печати развернулась открытая дискуссия между коммунистами. Мы написали из тюрьмы товарищам на волю довольно резкое письмо, в котором осуждали факт этой дискуссии, ненужной и даже вредной в то время для нашей партии. По существу же вопроса мы заявили о своем согласии с точкой зрения Саркиса и несогласии с позицией Ломинадзе. Мы потребовали немедленного прекращения дискуссии. Товарищи и сами поняли, что допустили ошибку: дискуссия была прервана, а сами разногласия безболезненно ликвидированы. До этого ареста я не курил. Сидящие со мной товарищи, в особенности Гогоберидзе, курили — и очень много. Гогоберидзе, например, настолько нравилось курение, что он и меня стал уговаривать закурить. Я упорно отказывался, говоря, что это ни к чему, что никакого интереса к курению у меня нет. Конечно, тогда я не думал о своем здоровье. Леван же настойчиво убеждал меня, что от курения человек испытывает очень большое удовольствие. Агитатор он был отличный — стоит только вспомнить купание и обед в ресторане! Я и на этот раз поддался его уговорам и понемножку стал покуривать. Вначале это занятие мне не очень нравилось, но постепенно я втянулся. Забегая вперед, скажу, что курил я после этого двенадцать лет подряд, уничтожая ежедневно папиросы в очень больших количествах. Это отрицательно сказалось на моем здоровье: были серьезно задеты верхушки легких. Через двенадцать лет я бросил курить окончательно и никогда больше в жизни уже не курил. Гогоберидзе, очевидно, в силу молодости и особой жизнерадостности характера были свойственны почти детские шалости. Вспоминается такой случай. В нашей камере, находящейся на пятом этаже, окно было расположено очень высоко — у самого потолка, значительно выше наших голов. Мы видели через него только небо. Перед наружной стеной камеры находилось одноэтажное здание с плоской крышей, по которой взад и вперед ходил часовой, наблюдая за окнами тюрьмы. В камере у нас была всего одна табуретка. Гогоберидзе ставил ее у окна, вставал на нее и долго глядел на часового и крышу, по которой тот ходил. Выждав момент, когда часовой шел в противоположную сторону, повернувшись к нам спиной, Гогоберидзе громко кричал ему: «Аскер, ай аскер!» (поазербайджански — солдат). Часовой оборачивался, а Гогоберидзе быстро наклонялся. Никого не увидев в окне, часовой продолжал свое хождение. Вновь улучив удобный момент, Гогоберидзе повторял свой выкрик, и так продолжалось много раз. Солдат чуть с ума не сходил от крика; он все время вскидывал винтовку и искал, в какое окно выстрелить, но в окнах никого не было видно. Гогоберидзе же хохотал от удовольствия. Я стал его уговаривать прекратить эти «шалости», говоря: «Леван, ты пойми: своими криками ты треплешь солдату нервы. А чем он виноват? Он простой человек, выполняет воинский приказ, несет службу и ничем тебе не мешает. А ты его дразнишь, и он ведь всерьез может выстрелить. В тебя он вряд ли попадет, но если даже пуля через окно ударится в потолок камеры, рикошетом она может попасть в кого-нибудь из нас. Нехорошо так делать, да к тому же это и опасно». Только после таких уговоров Гогоберидзе переехал дразнить солдата. Мы часто думали, что же надо предпринять, чтобы нас освободили. Товарищи с воли старались это сделать, но пока что у них ничего не выходило. Вспоминаю один случай. Юрий Фигатнер, всегда серьезный, однажды во время обсуждения этого вопроса, нахмурив брови, сказал: «Надо бросать лозунги рабочим, лозунги бросать!» — и при этом выразительно жестикулировал руками, как оратор на трибуне. Это немедленно подхватил Гогоберидзе и, юмористически копируя Юрия, стал повторять: «Надо бросать лозунги, лозунги бросать!» 145 Мы смеялись. Смеялись не только потому, что Гогоберидзе очень смешно копировал Фигатнера, но и над самим предложением Юрия, который хотя и не говорил об этом, но явно волновался за свою судьбу. Он не без оснований побаивался, что в случае если полиции удастся раскрыть его подлинное имя, его действительно может ожидать участь Анджиевского, о котором уже было сказано несколько раньше. Что же касается существа предложения Юрия — «бросать лозунги», — то оно было просто бессмысленно в тех условиях. Мы не сомневались, например, в том, что Гогоберидзе, как председателя Рабочей конференции, все равно должны освободить. Товарищи с воли принимали для этого все меры. Следовательно, из-за Гогоберидзе созывать рабочих на демонстрацию и «бросать им лозунги» не имело смысла. Что же касается всех нас остальных, то это предложение тоже было бессмысленным, потому что все мы сидели в тюрьме под чужими фамилиями, ничего не говорящими бакинскому пролетариату. Раскрывать же наши подлинные имена означало создать для себя действительно огромную опасность. Нужны были другие средства. И мы не сомневались, что наши товарищи сделают для этого все необходимое. К тому же, когда Гогоберидзе освободят, он и сам включится в это дело. И в Баиловской тюрьме и здесь нас, как, впрочем, и других арестованных, на прогулку во двор не выпускали: весь день мы находились в камере. Ежедневно в установленное время всех заключенных выпускали в туалет. Тут-то мы и могли видеть других арестантов, уголовников: они относились к нам с большим уважением, как «к политикам». К тому же Гогоберидзе был известен всему городу, пользовался большим уважением, а мы были его товарищами. Особенно большое внимание оказывали нам двое грузин. Надзиратель у нас был русский, пожилой человек, довольно доброго нрава. Иной раз даже жалко было на него смотреть, когда арестованные игнорировали его приказание — после туалета сразу же возвращаться в свои камеры. Они не обращали на него никакого внимания, продолжая разговаривать между собой. Он приказывал, а его не слушались. Вспоминаю такую сцену в первый же день нашего пребывания в этой тюрьме. Мы были очень удивлены, какие странные взаимоотношения сложились здесь между арестантами и надзирателем: он чуть ли не плакал от своего бессилия и неумения «справиться» со своими арестантами. Вдруг один из грузин, среднего роста, коренастый, лет так тридцати, интересный по внешности, с характерным волевым лицом, видимо, пользующийся уважением среди остальных заключенных, желая продемонстрировать свою власть, неожиданно крикнул: «Что вы безобразничаете, черти! Немедленно в камеры!» Это было сказано таким властным, не терпящим возражения голосом, что все вдруг вокруг стихли и стали молча расходиться по своим камерам. Мы находились в это время в своей камере и наблюдали через открытую дверь всю эту картину. Грузин подошел к нашей камере и сказал: «Это, знаете, такие безобразники, что, если не вмешаешься, никакого порядка не будет. Надзиратель ничего сделать с ними не может». Потом, уже зайдя к нам в камеру, он спросил, нет ли у нас закурить. Гогоберидзе предложил ему папиросу. Тот закурил, и мы разговорились. Держался он с большим достоинством местного, так сказать, вожака. Когда он ушел, мы долго обсуждали между собой, какие же достоинства этого уголовника дали ему возможность забрать в свои руки такую власть над остальными арестантами, да и не только над ними: нам пришлось вскоре убедиться, что и надзиратель относится к этому человеку с особым уважением. Как-то раз открывается дверь нашей камеры, и зашедший надзиратель сообщает, что у него есть приказание вывести нас пятерых во двор тюрьмы для фотографирования. Для нас это было не совсем приятно: после выхода из тюрьмы полицейским сыщикам, имеющим наши фотографии, легче будет следить за нами. Я поделился этим соображением с Гогоберидзе, тот согласился со мной и предложил придумать что-нибудь, чтобы испортить 146 наши фотографии. Когда нас повели из корпуса тюрьмы, тот самый грузин, о котором я выше рассказывал, все время крутился вокруг Гогоберидзе и вышел вместе с нами во двор. Когда мы спускались по лестнице, Гогоберидзе о чем-то с ним разговаривал по-грузински и что-то ему объяснял. Мне он шепнул, что сговорился с этим своим земляком, чтобы он засветил фотопластинки, на которые нас снимут: для этого мы должны завязать беседу с фотографом и отвлечь его внимание от фотоаппарата. Я этому очень обрадовался. Было нас пять человек, сесть во дворе было не на что, и мы все стояли. Такая группа фотографа почему-то не устраивала. Тогда кто-то из нас взял два ржавых ведра, валявшихся во дворе, опрокинул их и превратил в «стулья». Я и Фигатнер, как старшие по возрасту, сели на эти «стулья», а остальные встали за нашими спинами. Когда фотографирование закончилось, мы начали оживленную беседу с фотографом на самые разные темы. Фотограф оказался очень разговорчивым. Мы окружили его тесной стеной. Краешком глаза я видел, что наш грузин возится около фотоаппарата. Через некоторое время он, видимо, кончил свою «работу» и отошел в сторону. Заметив это, мы закруглили беседу и попрощались с фотографом. Подошел грузин и сказал, что «все в порядке, кассеты испорчены». Мы были очень довольны, что все так хорошо получилось. Уверенность, что наша групповая фотография не получилась, была у нас до тех пор, пока в 1920 году, после провозглашения Советской власти в Баку, товарищи, проверявшие дела жандармского управления, не показали нам обнаруженную ими в архивах этого управления фотографию, которую мы все считали несостоявшейся. Но на этот раз мы обрадовались тому, что она «состоялась». Как-никак эта фотография очень живо напомнила нам о тех уже прошедших днях нашей жизни и борьбы. Фотография эта сохранилась у меня. С воли не поступало никаких утешительных сведений о нашем освобождении. Мы, со своей стороны, не могли прийти ни к какому определенному выводу о том, что же собираются дальше делать с нами жандармы. Ясно было только, что рано или поздно освободят Гогоберидзе. Но вот почему к нашей группе присоединили Бориса Шеболдаева, этого мы понять не могли. Мы даже не допускали мысли, что у них есть какие-либо компрометирующие материалы о связи Шеболдаева с кем-либо из нас. Было удивительно и то, что после допроса в участке никого из нас больше ни разу не допрашивали: следствие ведут, а нас не допрашивают. Это было непонятно! У меня из головы не выходила мысль о тех документах, что я оставил под скатертью стола в ресторане. Не было сомнения, что при уборке ресторана официанты их обнаружили. Вероятно, они их уже передали в полицию. Это было, конечно, очень серьезное дело. Полицейские вполне могли приписать эти документы кому-либо из нас, и тогда это сильно компрометировало всю нашу группу. Пущенная нами при допросе «легенда», что мы беспартийные, приезжие и ищем работу, выглядела бы нелепой. Но тогда, рассуждал я, нас наверняка стали бы вновь допрашивать. А этого не было. Значит, в полицию документы не попали. Потом оказалось, что официанты при уборке действительно нашли эти документы, но ни администрации, ни полиции их не передали. Один из официантов отнес их в Рабочий клуб и отдал секретарю Рабочей конференции для передачи Бакинскому комитету партии. Хочется отметить, что этот официант не был коммунистом, да и вообще в том ресторане среди служащих не было ни одного коммуниста. Уже этот факт в какой-то мере характеризует, какая политическая обстановка была к тому времени в Баку. Пока мы продолжали размышлять на все эти темы, нас перевели в другое отделение тюрьмы, где содержались обычные уголовные арестанты. Коридор здесь был значительно длиннее, а камеры больше. Вместо стены, разделяющей камеру и коридор, — сплошная железная решетка с калиткой, которая запиралась на ключ надзирателем. В каждой камере содержалось много народу. Нас водворили в камеру справа по коридору, где других арестованных не было. Надзиратель, проходя, по коридору, постоянно наблюдал, что происходит в камерах. Только когда он поворачивался к камере спиной, можно было что-то 147 делать незаметно. Когда же он был близко, от него трудно было утаить даже наши разговоры. Правда, в коридоре постоянно стоял невероятный гул. Из камер несся непрерывный шум от ссор и споров между арестованными. Случались там и драки. От этого гула и шума у нас дико болели головы. Ночью было немного спокойнее. Спали мы и здесь прямо на каменном полу. Как-то через день зашел в наше отделение старший надзиратель еще с каким-то типом. Надзиратель подошел к нашей камере и, обращаясь ко мне, спросил: «Вы Микоян?» Я, как говорится, и глазом не сморгнув, отвечаю: «Откуда это вы взяли? Я Тер-Исраелян. А с Микояном я даже не знаком». В наш разговор вмешался Гогоберидзе. «Разве вы не знаете, — говорил он, — что Микоян давно в Тифлисе? Он бежал из этой тюрьмы и сейчас находится там». На этом разговор окончился. Когда они ушли, мы стали обсуждать этот случай. Было ясно, что кто-то меня узнал, но вот насколько точно узнал? Рассеяли ли мы сомнения у надзирателя? Поверил ли он тому, что Микоян в Тифлисе? Была не исключена возможность, что он не поверил, и тогда, конечно, нетрудно было меня окончательно разоблачить. В полиции можно было найти людей, которые знали меня в лицо. Особенно беспокоился Гогоберидзе. Он предлагал передать на волю записку, чтобы какой-нибудь человек, уполномоченный нашими товарищами, срочно встретился бы с этим надзирателем и пригрозил ему, что если он чтолибо донесет о сидящих в тюрьме политических арестованных и их положение в связи с этим ухудшится, то он понесет за это ответственность своей головой, а если даст обещание не делать этого, то получит деньги. Так и было проделано. Впоследствии выяснилось, что меня узнал именно он, но обещал молчать. Еще через 2 — 3 дня пришел старший надзиратель и сообщил, что Гогоберидзе из тюрьмы освобождается. Все мы этому очень обрадовались. Прощаясь с нами, Гогоберидзе сказал, чтобы мы не унывали: он примет меры к скорейшему нашему освобождению. Прошла еще неделя. К нам заявился все тот же надзиратель с сообщением, что трое из нас освобождаются, а в тюрьме остается только Борис Шеболдаев, вопрос о котором еще не решен. Такое сообщение о Борисе было очень неприятно, тем более что его дело было прямо связано с деятельностью нашей военной разведки. Мы были сильно обеспокоены за его судьбу и понимали, какие трудности придется преодолеть, чтобы его вызволить. Однако внешне мы своей тревоги не выдавали, так как делали вид, что до совместного заключения даже не были знакомы. Отпуская нас на волю, начальник тюрьмы заявил: «Азербайджанское правительство не хочет, чтобы вы оставались в Азербайджане». Нас высылали за пределы Азербайджана. На сборы нам дали три дня. Мы даже не могли возражать, поскольку при аресте представились людьми, недавно приехавшими в Азербайджан в поисках работы. В тот же день мы встретились со своими товарищами на конспиративной квартире у Каспаровых. Обсуждался вопрос: куда в связи с создавшимся политическим положением мы должны выехать? Было решено, что с точки зрения безопасности лучше всего выехать в Грузию или Армению. Давлатову было поручено организовать получение для нас необходимых виз в представительствах этих правительств в Баку. Но представительство Армении, к которому в первую очередь обратился Давлатов, отказалось принять нас, зная, что речь идет о большевиках. Обращение к представительству Грузии дало положительный результат. Нам троим были выданы въездные визы. Решено было ехать каждому в отдельности, чтобы не бросаться в глаза. Опасаясь, что азербайджанское правительство знает, что Тер-Исраелян — это Микоян, и захочет по дороге расправиться со мной, товарищи решили, чтобы меня до границы сопровождал член парламента Караев. Караев должен был ехать как депутат по своим депутатским делам в район, близлежащий к границе. Нам были куплены с ним билеты в одном и том же купе. Ехали мы как люди незнакомые. Меня сопровождал до границы азербайджанский полицейский, но, видя, что рядом со мной сидит член парламента, в купе 148 он не заходил, а почти все время стоял в коридоре. Сознательно выйдя к нему в коридор, Караев завязал с ним оживленную беседу на азербайджанском языке и, видимо, расположил его к себе. Когда мы с Караевым, уже «познакомившись», заказали чай, то не забыли и полицейского. Все складывалось очень неплохо. Всю дорогу, оставаясь вдвоем в купе, мы вели с Караевым теплую беседу. Это был очень симпатичный, интеллигентный, простой человек и очень приятный собеседник. Кроме текущих дел и своей работы, он много говорил о прошлом, о том, как он работал в Тифлисе, и о своем переезде в Баку. Я знал и раньше, но здесь особенно оценил высокую степень искренности Караева. Должен вообще сказать, что Караев фактически на моих глазах совершил весь свой переход на сторону большевиков: в сложных условиях он показал себя впоследствии вполне устойчивым и выдержанным политическим деятелем. У грузинской границы нам предстояла пересадка в другие, грузинские вагоны. По указаниям, которые имел сопровождавший меня полицейский, он должен был официально передать меня полицейским властям Грузии. Это было, конечно, для меня очень нежелательным. Было бы гораздо лучше, если бы я мог, как обычный гражданин, купивший билет до Тифлиса, пересесть в грузинский поезд, чтобы грузинская полиция хотя бы на первых порах не знала о том, что я к ним выслан. Поэтому Караев опять пригласил моего полицейского в купе для чаепития и начал с ним дружественную беседу. Полицейский был очень польщен таким вниманием депутата парламента. В конце беседы, когда полицейский окончательно размяк, Караев объяснил ему, что, вообще говоря, он должен проследить, чтобы высылаемый действительно выехал за пределы Азербайджана: этим он выполняет свой служебный долг. И совсем не обязательно передавать меня «с рук на руки» полиции Грузии. Мой полицейский легко согласился с этим. Поэтому, когда мы прибыли на пограничную станцию, Караев вместе с полицейским только проводил меня до грузинского вагона, я зашел в этот вагон, попрощался с ними, и поезд тронулся. Полицейский воочию убедился, что я «выслан». А я с облегченной душой пересек грузинскую границу и спокойно приехал в Тифлис, как обычный пассажир, с паспортом на имя Тер-Исраеляна и законно полученной въездной визой. Пробыв несколько дней в Тифлисе, переговорив в крайкоме партии, я снова, но уже под другой фамилией, нелегально вернулся в Баку и включился в подпольную партийную работу. А в это время Гогоберидзе и Караев по поручению крайкома партии бились над освобождением из тюрьмы Бориса Шеболдаева. Были пущены в ход разные средства воздействия и на прокурора и на других начальствующих лиц, от которых зависело это дело. По всему было' видно, что серьезных компрометирующих материалов против Шеболдаева у властей не было. И на самом деле он ничего против азербайджанского буржуазного правительства не делал, а возглавляемая им разведка работала в тылу у Деникина, поэтому особых оснований у азербайджанских властей раздувать дело Шеболдаева не было. Бакинское бюро крайкома партии было особенно встревожено одной запиской Шеболдаева. В ней сообщалось, что его начали преследовать уголовники, требуют денег, в противном случае угрожают расправой. Дело в том, что Шеболдаев регулярно получал с воли через наших молодых товарищей продукты. Видимо, подумав, что Борис — богатый человек, уголовники и решили заняться вымогательством. Борис писал, что если этим уголовникам даже и дать какую-то сумму в виде выкупа, то это не поможет: шантаж и вымогательство будут продолжаться. Поэтому он просил не денег, а более радикального вмешательства. Это письмо нас очень встревожило. Гогоберидзе взялся помочь ему более реально. Зная кое-какие бытовые нравы и традиции бакинского уголовного мира, он добился через все того же своего знакомого владельца ресторана встречи с одним грузином, очень влиятельным в уголовном мире. Гогоберидзе рассказал ему о Шеболдаеве. Сказал, что он очень хороший, честный человек, революционер, но что над ним нависла угроза со стороны 149 уголовников. «Зная, что ты пользуешься очень большим влиянием среди тех людей, которые сейчас сидят в тюрьме вместе с Шеболдаевым, мы очень просим тебя повлиять на них и уговорить их прекратить шантаж, вымогательство и угрозы по отношению к нашему товарищу», — сказал Леван. Такая беседа возымела свое действие. «Вожак» сказал, что он очень уважает Гогоберидзе и вообще большевиков за их стойкость и справедливость и сделает все, что нужно. Через день он рассказал Гогоберидзе, что, наняв фаэтон, он поехал в тюрьму. Его пропустили в контору тюрьмы. Там его знали и, видимо, считались с ним. Он попросил вызвать на беседу каких-то двух уголовных арестантов. Когда они пришли, он сразу напал на них, велел немедленно прекратить шантаж и угрозы такому хорошему человеку, как Шеболдаев. Смущенные такой неожиданной постановкой вопроса со стороны своего «лидера», те оправдывались, что не знали, с кем имели дело. С этого момента к Шеболдаеву установилось самое благоприятное отношение. Вскоре от него была получена записка, в которой он сообщал, что произошло «чудо»: нет не только угроз, но, больше того, к нему существует даже какое-то почтительное отношение со стороны уголовников. Он недоумевал: что произошло? Через некоторое время нам удалось добиться освобождения Шеболдаева из тюрьмы. Он весело смеялся, когда узнал, каким путем было достигнуто это «чудо». (Продолжение следует.) ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ Виталий Горяев Художник-борец Антон Рефрежье С американским художником Антоном Рефрежье я познакомился десять лет назад. Это произошло в уютном полуподвальном помещении Нью-йоркского клуба работников искусств. Там было много художников, главным образом карикатуристов, и вечер прошел в обоюдном обмене дружескими шаржами друг на друга, многие из которых сохранились у меня до сих пор. Мы были вдвоем с художником Иваном Семеновым и, рисуя между делом, добродушно полемизировали с присутствующими здесь же американскими журналистами. В конце вечера к нам подошел человек с улыбчивым лицом, обрамленным удлиненными мохнатыми висками, похожими на бакенбарды, и пригласил к себе домой. Это и был Антон Рефрежье. Встреча у него в доме произошла уже дней через двадцать. Его квартира помещалась, помнится, на 79-й улице, где-то между Гудзоном и Центральным парком, и, выйдя из лифта, мы с Семеновым оказались в окружении художников, с которыми мы мечтали познакомиться с первого дня приезда в США. Здесь были братья Рафаэль и Мозес Сойеры, Уильям Гроппер, Фред Эллис, Чарльз Уайт и еще многие другие, с творчеством которых мы познакомились тут же, поскольку на стенах были уже развешаны полотна каждого из присутствующих. Мне запомнилось выражение Рефрежье, который, представляя присутствующих, сказал: «Здесь собрались люди, отвечающие за культуру современной Америки, независимо от того, благодарна ли она им сейчас за эту ответственность или нет!» Популярность Рефрежье как художника и как активного борца за мир очень велика. Знакомство с ним и Рокуэллом Кентом дало мне возможность уже в следующую поездку по США близко узнать многих талантливых представителей американской культуры. Недавно, будучи в Москве, Рефрежье сказал: «Мне кажется, что легче жить художнику, который искусством пользуется как средством борьбы. Тогда он ясно понимает, 150 зачем оно нужно, и направление совершенствования мастерства совпадает с идеей. Необходимое художнику чувство меры уже обусловлено его целенаправленностью. Может быть, я не так благополучен материально, как другие художники, но своим местом в жизни я доволен». В здании почтамта в Сан-Франциско написана грандиозная фреска. История американского народа — главная идея этой многосюжетной композиции. Фреска явилась причиной длительного судебного процесса, ее требовали сколоть. Рефрежье обвинялся как художник, искажающий историю. На защиту стала интеллигенция Калифорнии: писатели, художники, юристы — и они выиграли этот бой. Фреска украшает одно из центральных зданий города. На прошедшей недавно большой международной выставке в Берлине листы Рефрежье, посвященные идее борьбы за мир, против войны во Вьетнаме, занимали одно из первых мест. Сейчас в Нью-Йорке развернута выставка его картин. Главная тема большинства полотен — это призыв к защите негритянского населения от бесчеловечной дискриминации. В Москву он приехал с небольшим литографированным альбомом. Это результат его прошлой поездки по нашей стране. В нем зарисовки, сделанные в Москве на Красной площади, на новостройках, главным образом типы молодых людей (его постоянный объект изображения). Небольшой комплект отпечатанных зарисовок Рефрежье щедро раздаривал при встречах, а утром уже новый альбом заполнял свежими рисунками. Их мы, наверное, получим в следующий его приезд. Последнее время Рефрежье увлекается созданием больших декоративных ковров, и по его эскизам их ткут мексиканские ковроткачи. Неожиданно на выставке в Москве он увидел работу туркменских мастеров. Ковры его заинтересовали и богатством колорита и своеобразием фактуры. Привлекли неожиданными, новыми для него возможностями. Он загорелся мыслью создать ковер совместно с туркменскими мастерами, и полагаю, что не успокоится, пока не осуществит задуманное. Таков этот человек, восторженный и неутомимый в жизни и искусстве. Покорители морского прилива Двадцать пятого декабря минувшего года в 14 часов 05 минут комсомолец Николай Говердовский, дежурный инженер первой в нашей стране приливной электростанции (ПЭС), повернул на щите управления пусковой ключ, и воды студеного Баренцева моря закружили лопасти турбины. «Дисовцев» (так называют здесь дежурных инженеров) двое — в губу Кислую вместе с Николаем приехал из жаркой Алма-Аты его друг по техникуму Олег Тюлькин. Их жены Люба и Галя работают монтерами ПЭС. Еще два кислогубских монтера — девятнадцатилетняя Аня Шилина из Запорожья и Саша Игнатьев из Воркуты. Небольшой отряд комсомольцев, собравшийся из разных концов страны, прекрасно тут акклиматизировался и заступил на первые вахты. Спрашиваю Николая: — Что тебя привело в Кислую? — Год назад прочитал в газете о строительстве приливной электростанции в Кислой. Прочитал о беспокойном человеке Бернштейне… Оставалось несколько месяцев до демобилизации из армии. Ну, написал Олегу, который также заканчивал военную службу: «Давай, друже, махнем в Заполярье на приливную…» Олег сразу же согласился. Написали в Кислую, нам ответили — приезжайте. Вот и все. — Увлекала необычность профессии? — Нет. — Что же тогда? 151 — Желание быть рядом с настоящим человеком… Многие столетия человечество мечтало обуздать силу, которая вздымает воды океана на 10 — 15 метров и тормозит вращение Земли. Древние ученые назвали эту загадку природы «могилой человеческого любопытства». Существует предание: великий Аристотель покончил с собой, отчаявшись объяснить причину смены течений в устье реки Эврип. Еще 1000 лет назад на берегу Ла-Манша появились мельницы, приводимые в движение приливом. Позже прилив использовали как… изощренную пытку. В полу камер старинного монастыря Мон-Сан-Мишель имелись отверстия, и каждый прилив затапливал темницы, оставляя у свода лишь небольшое пространство. Шли века. Первым разгадал тайну приливов Ньютон, объяснив это явление взаимодействием сил всемирного тяготения между Землей, Солнцем и Луной. Но покорить океан, заставить его вращать турбины электростанций долго не удавалось. Причина неудач — в неравномерности приливов, то и дело меняющих свою силу. В тридцатые годы студент Московского инженерно-строительного института Лев Бернштейн решил, что пора обуздать океан. Уже оканчивая институт, он совершает поездку по Кольскому полуострову в поисках удобного места для приливной электростанции. И находит губу Кислую, где наибольшая амплитуда прилива достигает четырех метров. Бернштейн успешно защищает дипломный проект. В нем молодой инженер излагает идею приливной электростанции и научно ее обосновывает. Началось освоение губы Кислой. Но эту работу прервала война. Добровольцем уходит Бернштейн на Северный флот, участвует в обороне полуострова Рыбачий. После войны кандидат технических наук Бернштейн снова в Кислой. Следуют новые расчеты, доказывающие важность участия приливных электростанций во все более мощной энергосистеме страны. Бернштейн смело отринул свой проект 1940 года; он создает новый, на чертежах и схемах которого значится 1960 год. Ученый находит решение, как примерно в десять раз сократить земляные работы и расход бетона, вдвое удешевить стоимость сооружения ПЭС. Бернштейн предлагает строить электростанцию в виде… плавучей коробки из сверхпрочного бетона. Она и была возведена близ Мурманска, куда было легко доставлять строительные материалы, оборудование. После 60-мильного пути под «конвоем» двух буксировщиков и вертолета, плавучий бетонный дредноут — готовую электростанцию ¦ — опустили на заранее приготовленное под водой основание в створе губы Кислой. Помимо необходимого оборудования, в теле плотины ПЭС установили 500 приборов. Их датчики поведут летопись работы первой опытной станции. Сердце ПЭС — продолговатая, серебристого цвета капсула. Эта особая гидромашина, творение французских инженеров, может работать и как насос. Она аккумулирует энергию прилива и накачивает воду в бассейн — губу за «кормой» ПЭС. Но в теле электростанции есть вакантное место; его займет со временем турбина отечественного производства. Ночью, в канун пробного пуска ПЭС, в жилом здании (прекрасный трехэтажный дом, отличная мебель, внизу — холл с камином, здесь же будет зимний сад!) захлопали двери. — Аврал! — услышал я чей-то голос. Бегу на ПЭС. По дороге узнаю: прилив прогнул стальную шпунтовую стенку между станцией и высокой обрывистой скалой. А там, в бассейне, десятитонный плавучий кран заканчивал разборку перемычки между губой и морем. Сорвет шпунт — и в часы отлива стальные тросы могут не удержать кран, и он протаранит ПЭС. Главный инженер приказывает экипажу крана ускорить разбор перемычки. Это был день 21 декабря — день рождения Льва Борисовича Бернштейна. В его кабинете на столе стояло несколько кем-то подаренных бутылок шампанского, груда поздравительных телеграмм, еще подарки — термос, диапроектор. День рождения главного инженера тогда так и не был отмечен. Позже Бернштейн скажет: «Самым приятным было поздравление из-под воды водолаза Нестерова. Поздравив с днем рождения, он сообщил, что дно на месте банкета ровное и кран можно перегонять». 152 Николай Говердовский сказал мне на прощание: — И я и Олег, все мы, приехавшие в Кислую, отлично знаем: впереди много дел. И каких! Ведь наша ПЭС — кроха, ее мощность всего 400 киловатт. Этой энергии едва хватит для большого жилого дома. Но Кислогубская ПЭС, как говорит Лев Борисович Бернштейн, — научная лаборатория, школа нового вида гидроэнергетики. Она поможет промышленному строительству мощных приливных электростанций в Лумбовском и Мезенском заливах Белого моря, на берегу Охотского моря. Мы с Олегом надеемся, что через год-другой уедем вслед за Бернштейном туда, куда буксировщики поведут морем новые плотины… Вл. КНИППЕР. ДЕБЮТЫ Борис Денисов: «Я веселый дрессировщик» Я пришел ныпче в цирк и хочу обязательно видеть львов. Во мне пробуждается древний римлянин, сейчас на арену выгонят пойманных в Африке львов, чтобы с ними сошлись гладиаторы… Ах, я стыжусь минутной своей кровожадности. Я цирковой зритель середины прошлого века (нравы уже претерпели значительное смягчение), и я восхищен укротителем, который так замечательно устращает царя зверей раскаленными прутьями, утверждая тем самым торжество человеческой воли и разума… Пожалуйста, снимаю и эту маску. Я вполне современный зритель и, конечно, наслышан, что тот укротитель теперь именует себя дрессировщиком. Но дрессировщику, который обещан в завершение этой новой программы Ленинградского цирка, лишь девятнадцать лет!.. Если бы я был львом, то, знаете, мог бы однажды и съесть эдакого мальчонку, попробуй он мною командовать… Но не будем загадывать, как разрешится на сей раз извечный конфликт этого извечного циркового треугольника: лев, дрессировщик, зритель. Оркестр уже исполняет нечто бравурное, на манеже собрана клетка, наш герой выбегает, щелкает хлыстом — и теперь бегут четыре льва и четыре львицы. Он рассаживает львов по тумбам, раскланивается… Стоп. Все остаются на своих местах. Второе отделение будет продолжено, как только я представлю участников и создателей аттракциона. В центре манежа — старейшего у нас манежа былого цирка Чинизелли — с хлыстом и палкой, но без пистолета стоит Борис Денисов. Повторяю, ему лишь девятнадцать лет. Слушайте, слушайте! Цирк не знал еще столь юного 'дрессировщика хищников. Он сейчас все о себе расскажет: — Меня сажают на маленького ишачка Розиту, мне три года. Затем помню овчарку Джильду. А дальше — сплошные львы. Таскаю за задние лапы огромного, грива до самой земли, Цезаря. Но на манеже Цезарь боялся музыки, и отец вернул его в зоопарк. Лет в четырнадцать я уже заходил в клетку, хотя и до этого помогал отцу, а мама учила меня жонглировать, и мы с братом Игорем комических жонглеров работали. Этим львам сейчас по четыре года, а взял их отец совсем маленькими. Мы их растили, выхаживали, у одного был рахит — вылечили. Я и уроки готовил и книжки читал только в клетке у своих будущих львов, чтобы они ко мне привыкали. Смелым я себя не считаю, но львов не боюсь. А может быть, потому не боюсь, что они меня крупно пока не рвали. Разве что Питер схватил пару раз за ногу. Но мне кажется, если бы львы меня и порвали, я все равно бы их не боялся. Я отношусь к ним, как к родственникам. И мне нравится, когда они на меня рычат. Впервые как дрессировщик я вышел на манеж в Батуми. Это было в конце позапрошлого года. В Батуми я и школу заканчивал. Утром сидел на уроках, днем как 153 жонглер репетировал с Игорем, вечером мы с Игорем выступали, а ночью, когда манеж был пуст, работал со львами. До сих пор помню, как хотелось тогда мне выспаться. Как прошло то первое мое выступление? Хорошо. Львы меня не съели, и, как видите, я даже не поседел. Полукругом восседают на тумбах его партнеры — четыре льва и четыре львицы. Рожденные в зоопарке, эти львы никогда не охотились на антилоп, но в последнее время антилопы все чаще снятся им и все реже они вспоминают идиллические картинки своего раннего детства, когда они играли у ног мальчика, который читал книжки и слегка сердился, если они эти книжки рвали. Представление партнеров, пользуясь терминологией Бориса Афанасьевича Эдера, начну с «девчонок». ЕВА. Узколицая красотка с замашками кинозвезды. Захочет — и пойдет по манежу походкою балерины. Никогда не позволит себе торопливо и жадно набрасываться на мясо. Умна и слегка истерична. КАРМЕН. Наряду с Евой выполняет самые сложные трюки и вообще соперничает с Евой, считая, конечно, себя примой. Умна, агрессивна, презирает кокетство. Вполне соответствует типажу эдакой интеллектуально-честолюбивой современной девицы. ГЕРТА. Олицетворяет спокойствие, умиротворенность. И даже выглядит иногда столь мудро, словно знает, в чем смысл жизни. К скорейшему самовыражению, как та же Ева или Кармен, отнюдь не стремится. Уверена, что ее время еще придет. НЕВА. Бездарна и труслива, что уже вполне очевидно. Все время в панике, словно догадываясь, что львов ныне полным-полно в любом зоопарке и ее, того гляди, отчислят из труппы. А теперь позвольте представить «мальчишек». САМСОН. Слишком умен, но и слишком весел. Попросту говоря, хулиган. После еды у него подолгу отнимают поилку. Вцепится в нее лапами: ну, дескать, тяните! Ему кусок мяса кинут, но он лишь взглядом его проводит: мясо в клетке и никуда не денется, кидайте еще кусок, а то не отдам поилку. К тому же ужасно драчлив. Но — талант! ПИТЕР. Родной брат Невы. Столь же труслив, но не столь бездарен. НЕРОН. Парень весьма забавный. То вдруг спит — однажды заснул прямо на репетиции и упал с тумбочки. Но уж если не спит, необыкновенно игрив. Совершенно уверен, впрочем, без всяких к тому оснований, что и Ева и Кармен от него без ума. УРАЛ. Этот хитер и расчетлив. Вот он эффектно прыгает через огненный круг. Смотрите, кто сказал, что я хуже Самсона? Просто я знаю себе цену, потому и не лезу в прочие трюки. А по другую сторону клетки, наблюдая за каждым движением сына и в особенности его партнеров, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания публики, стоит отец. Прошу вас, Всеволод Борисович, вам слово и как отцу и как многоопытному дрессировщику: — Я еще мог работать, но ушел с манежа, чтобы работал сын, — передал ему своих последних львов. Я был на манеже волевым и властным, а Боря совсем иной. Он веселый дрессировщик, который не создает иллюзию опасности. Вспоминая свои недостатки, я стараюсь, чтобы сын миновал их. Представление — это не сумма трюков, а стиль работы. Что интересует публику? Общение человека с хищником. А кому интересно, как лев прыгает с тумбы на тумбу! Венецианов, наш лучший цирковой режиссер, говорил, помню, что публика смотрит укротителя, а звери — уже декорация. Да, Борька не создает иллюзии опасности. Но разве он делает вид, что работает с кошками? Присмотритесь, как складываются на манеже его взаимоотношения с Кармен. Эта львица мне нравится — хорошая львица, строгая. А добреньких я не люблю, на добреньких погореть легче. Все хорошие работники, они строгие. Кармен напоминает мне Неру, лучшую мою артистку. Двадцать лет Нера пыталась меня поймать и пару раз так поджимала к решетке, что приходилось пускать воду. Она никогда не ходила прямо. Всегда стелилась, 154 ползла и вдруг поднималась на задние лапы и броском через весь манеж на меня летела… Я дружил с Нерой, но это была своеобразная дружба — без излишней ласковости. Борька, пожалуй, дружит с той же Кармен по-иному. Только зря он меня не слушается — не берет пистолет, когда выступает (берет лишь на репетиции). Если что, я, конечно, успею и со своим пистолетом, но все же… Теперь познакомьтесь с его матерью, которая сейчас проверяет, хватит ли мяса Борису, чтобы поощрять на манеже своих партнеров. Тамара Брок, жонглер с трансформацией, — эпоха в истории нашего цирка. Она была и дрессировщицей. Борис восходит по линии матери к славному цирковому роду. Его прадед, клоун Уляшев, разъезжал с балаганом по ярмаркам и веселил честной люд — ходил на ходулях и при этом на балалайке играл. А прабабка ходила по проволоке. Дед и бабушка — их цирковое имя Альтонс — «чертов мост» работали… Все это так, но мать остается матерью: — Я боюсь за Борю. Его первое представление, как в тумане, смотрела. И до сих пор… Он такой еще мальчик. А «на воде» стоит его старший брат Игорь. Смотрите, он не успел даже снять грим после своего выступления, переоделся лишь в униформу и встал с брандспойтом около клетки. Игорь Денисов, жонглер-акробат, прежде работал в паре с Борисом, но изменой брата нисколько не огорчен, ибо тоже намерен заняться дрессировкой львов, но морских. И, я думаю, он совершенно прав, утверждая, что ужасно серьезный и ужасно мужественный дрессировщик архаичен ныне, как архаичен, допустим, на современной сцене классический трагик. Игорь рассчитывает, что с морскими львами… — Игорь, позволь, я разглашу твои великие планы… — Пока что, профессор, я стою «на воде». И, наконец, имею честь сообщить, что в первом ряду партера восседает Борис Афанасьевич Эдер. Аттракцион Бориса Денисова «Львы и львицы», как гласит афиша, поставлен народным артистом республики Б. А. Эдером. И вот он приехал сейчас из Москвы, чтобы увидеть первый выход своего питомца на ленинградский манеж. Пользуясь случаем, хочу поведать такой любопытнейший факт: утром, попросив у Бориса два или три куска мяса, Эдер направился в зоопарк — побеседовать со своим старым другом Васькой, с этим львом он снимался когда-то в кино. Интересно, не правда ли? Но послушайте, что говорит Эдер: — А как же иначе, если животное — твой партнер, помогает тебе в работе. Вот и Боря сегодня, за часок до представления, ходил к своим львам, чтобы посидеть с ними да побеседовать. Гуманный мальчонок. И артистичен. И кураж у него есть. А тут он мне говорит: «Дядя Боря, я велосипед репетирую». Я говорю, что лев не медведь, ему баланс не свойствен. Признается: «Три велосипеда уже сломал». Пришлось придумывать, как ему сделать, чтобы львы педали крутили… Тем временем на манеже Борис Денисов начинает игру со своими львами. Что? Есть пожелание, чтобы я описал его трюки? Но мы же условились, что представление не сумма трюков. Хочу лишь признаться, что если бы я был львом, то никогда бы не съел столь веселого дрессировщика. Ну, а зритель? Сейчас его искушает Ева — стоит, исполненная коварства, над беззаботно лежащим поперек узкой доски дрессировщиком… А вот рычит свирепо Кармен, но Борис невозмутимо держит над головой заклеенный бумагою круг: ты прекрасна, Кармен, когда так свирепо рычишь… О, Самсон, теперь твой черед — тебе венчать пирамиду… И Самсон солирует и, приемля аплодисменты, слегка, как всегда, паясничает, тем самым давая понять, что следует воздать должное и его веселому дрессировщику. И зритель, скажу я вам, умилен до крайности. Интервью вел Ю. ЗЕРЧАНИНОВ. 155 СПОРТ Гавриил Качалин НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН СЕЗОНА Наша главная футбольная команда — сборная страны — получила необычно длинный антракт: ее последнее официальное выступление было 1 августа прошлого года в Гетеборге в матче с национальной командой Швеции. Не правда ли, все мы уже соскучились по своей сборной? Как-то она поживает, что поделывает? В каком виде предстанет перед нами после антракта? Вопросы эти тем более интригуют любителей футбола, что старшим тренером сборной назначен Гавриил Дмитриевич Качалин, а смена руководителя — это обязательно новые игровые идеи, новые требования к игрокам, иные взгляды и вкусы. Заслуженный тренер СССР Г. Качалин в нашей сборной человек не новый. Он уже не раз ее возглавлял, пережил вместе с ней радость больших побед, отмеченных золотыми медалями на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне и Кубком Европы в 1960 году в Париже, руководил ею на чемпионатах мира 1958 года в Швеции и 1962 года в Чили. Знавал поражения. Знавал и обиды, оказываясь без вины виноватым, без чего, кажется, не может обойтись ни один тренер. Словом, это тренер опытный, бывалый, много передумавший и перечувствовавший. Мне не раз приходилось вблизи наблюдать его работу — на шведском чемпионате мира, в финале Кубка Европы. Я видел его уроки на поле, слушал его «установки» на игру. Но что более всего меня интересовало, хотя так и осталось тайной, — это его долгие беседы с глазу на глаз с каждым из игроков, на которые он не жалел времени. После этих диалогов его лицо иногда выглядело озабоченным, но чаще довольным, умиротворенным. Ну что ж, содержание таких «индивидуальных бесед», вполне понятно, относится к разряду профессиональных секретов. Но сам метод вполне очевиден. Это особое, пристальное внимание к футболисту прежде всего как к человеку, к личности. Метод вообще верный и необходимый в наше время, когда знания об игре быстро становятся общим достоянием, и любые победы, любые высокие достижения возможны главным образом за счет волевой собранности, сознательности, если угодно, идейности. И тем более это верно для сборной команды, куда отряжены лучшие мастера, которых тренеру нет нужды учить, а надо нацелить на игру, снабдить их зарядом бодрости, оптимизма, веры в победу. Г. Качалин давно зарекомендовал себя как последовательный сторонник игры комбинационной, атакующего направления, как противник перестраховочных оборонительных излишеств. И футболистов он любит техничных, умных, тех, кому свойственно, я бы сказал, игровое изящество. Все это, мне кажется, читатель должен уловить из заметок Г. Качалина, публикуемых «Юностью». Эти заметки, дающие представление о взглядах и симпатиях старшего тренера, могут помочь вообразить будущий облик нашей главной команды, что особенно интересно сделать в канун сезона. Пройдет немного времени, и мы воочию увидим, как претворяются в жизнь тренерские идеи. А сезон 1969 года у сборной боевой и сложный. Надо ли говорить, что все мы желаем Гавриилу Дмитриевичу Качалину и тем футболистам, на которых он остановит свой выбор, исполнения всех желаний! Лев ФИЛАТОВ, редактор еженедельника «Футбол — хоккей». Нередко задают вопрос: трудно ли быть тренером футбольной команды? Да, трудно. И не потому, что футбол — игра нелегкая, в конце концов научить играть в футбол можно каждого. 156 Сложность работы тренера в том, что ему приходится решать многочисленные задачи, порою со многими неизвестными: комплектование команды, ее подготовка, воспитание коллектива, его успешные выступления в ответственных соревнованиях. Очень важно, чтобы футбольный коллектив, руководимый тренером, был дружным, сплоченным, монолитным. Это должен быть хорошо подобранный, сыгранный ансамбль футболистов. Но команда — это не музыкальный ансамбль, где согласованность оркестрантов во многом определяется отличным знанием нот и высокой техникой. Команда — это коллектив футболистов, обладающих соответствующим мастерством, классом игры, где действия каждого игрока во многом зависят от его партнеров, противника, нередко от зрителей или судьи. Игра должна вызывать у зрителей приятные волнения, чувства радости, удовольствия, удовлетворения. Труд тренера нередко затрагивает интересы и чаяния многих и многих людей. Возьмите выступления наших ведущих команд или сборных команд страны. Разве не приковано внимание любителей футбола к таким соревнованиям? А ведь за всем, что мы видим на поле, скрывается труд тренера. Какие требования предъявляются к тренеру? Он должен быть образованным, эрудированным, культурным человеком. Он должен обладать большой суммой специальных знаний, аналитическими, творческими способностями, быть волевым, принципиальным человеком, педагогом, психологом, своего рода артистом, служить примером для футболистов, обладать, наконец, даром слова — иногда правильно выбранная тренером интонация может решить исход соревнования. Ясно, что у каждого тренера есть свои недостатки; мне, например, недостает административной гибкости в характере: излишняя мягкость, могу сорваться с привычного тона. Тренеру, как и игроку, приходится нередко себя преодолевать, бороться со своими нервами. Но что, спрашиваю себя, совершенно необходимо тренеру? Во-первых, контакт с коллективом, в основе которого было бы взаимное уважение, чтобы концепции тренера были поняты и разделялись всем коллективом. Думается, например, что, каким бы талантом ни обладал игрок, у него нет права нарушать установленную в коллективе дисциплину, спортивный режим; он должен быть сильным человеком, руководить каждым своим поступком. Футболисту непростительны слабости, которые наносят вред делу и коллективу, ибо игрок — это часть коллектива, и слабоволие одного может ослабить весь коллектив. Однако что значит нельзя прощать игроку?.. Работая в тбилисском «Динамо», я очень ценил Володю Баркая. Он был скромен, интеллигентен и в жизни и на поле. А как игрока я называл Баркая «профессором». И вдруг… что случилось? Перед крайне ответственной игрой с армейцами Ростова, когда решалось, будем ли мы соперничать с торпедовцами в борьбе за чемпионское звание, Баркая пришел на вокзал в состоянии явного опьянения. Для меня это было как удар обухом по голове. Я, конечно, и виду не подал, что заметил, в каком он состоянии. Я знал, что его замучает совесть и он сам придет ко мне в купе и объяснит свое поведение. И действительно, на следующее утро он пришел с извинениями: — Гавриил Дмитриевич, накажите меня, как хотите, лишите звания мастера спорта, выгоните из команды, я все приму как должное. Но если вы мне разрешите играть в Ростове, я сыграю так, как давно не играл. — Как же случилось, Володя, что ты, которому я так верил… А если мы этот матч проиграем? И он рассказал мне такую историю: — Гавриил Дмитриевич, вы же знаете наши традиции!.. Я живу на пятом этаже. Спускаюсь по лестнице, спеша на вокзал. На четвертом этаже сосед открывает дверь: «Сема, ты куда?» (Баркая вообще-то Володя, но все зовут его Семой. — Г. К.). Я сказал ему, что еду в Ростов. «Ну, — говорит, — зайди». Зашел. Он наливает бокал сухого вина: «За победу!» Трудно отказаться. Выпили мы за победу. А на первом этаже — снова та же история. Я еще, 157 значит, выпил бокал. И вот с двух этих бокалов и пришел в таком состоянии. Я очень виноват, но если вы мне еще раз доверите, я не подведу… Я знал, что Володя сорвался случайно, что он искренне сожалеет об этом, и простил его. А матч мы выиграли в хорошем стиле, и Баркая действительно играл отлично — забил гол. В дальнейшем он ни разу не дал мне повода раскаяться, что я был тогда излишне мягок. Да, тренеру надо быть требовательным, но чутким, руководствоваться интересами дела, коллектива. Это, повторяю, во-первых. Во-вторых, тренеру необходимо найти правильный тренировочный режим для команды и для отдельных игроков. Тут надо учитывать и традиции коллектива и климатические условия — характер людей, их темперамент, возможности. Динамовцы Тбилиси не могут, например, тренироваться в том же режиме, что их московские одноклубники. И, наконец, в-третьих, разрабатывая тактический план данной конкретной игры, надо оставить в рамках этого плана возможность для широкого творчества каждого игрока. Надо, конечно, и правильно определить состав на данную игру. Тренеры часто перед игрой не спят, каждая игра начинается для них задолго до судейского свистка. В ночь перед матчем каждый из нас еще раз пытается мысленно обыграть своего коллегу, его команду, учесть все сильные и слабые стороны его команды, сопоставляя их со своими. За игровые ошибки тренера судят более строго, чем футболиста. В сорок лет тренер уже седеет, ибо головная боль, бессонница часто являются его спутниками. Работа наша очень нервная. Мы всегда находимся под общественным прессом, под огнем критики. Но другой профессии я для себя не мыслю — и даже когда уйду на пенсию, буду тренировать хоть какую-нибудь команду мальчишек. Тренер обречен всю жизнь «проигрывать заново» самые решающие свои матчи. До сих пор думаю: правильно ли я поступил в ситуации, которая сложилась на шестом чемпионате мира в Швеции? Четвертьфинальный матч мы играли в Стокгольме с хозяевами поля. А до этого провели четыре напряженных матча в своей группе, причем за день до четвертьфинала переигрывали с англичанами. Физические силы наших футболистов были на пределе, и в этом смысле шведы были куда в более выгодном положении. Казалось бы, замени нескольких игроков . — вот тебе выход. Но мы не располагали равноценной заменой. Два свежих игрока, которых мы выпустили против англичан, выпали из ансамбля. Что делать? Оставить ли прежний состав и поверить ребятам, что они еще могут, еще вытянут, то есть сохранить коллектив, который уже нюхал порох? Или ввести свежие силы, рискуя снизить класс игры? Потом я не раз анализировал, как в подобной ситуации поступали в Швеции мои коллеги из других команд. Один сменил даже пять игроков, но его команда проиграла. Мы не заменили ни одного игрока — и тоже проиграли. Потом меня обвиняли… Но должен сказать, что ребятам не хватило сил лишь в последние пятнадцать минут… И всетаки склонен считать, что рискнул тогда правильно. Другой пример. В 1955 году наша сборная принимала в Москве чемпиона мира — команду ФРГ. Мы готовились к этому матчу особенно серьезно, так как не играли тогда еще в чемпионатах мира и собирались показать в этом матче все, на что мы способны. Мы понимали, как нам будет трудно. Наш противник поверг в финале чемпионата мира 1954 года сборную Венгрии — команду, которую тогда именовали не иначе, как «командой вундеркиндов». И вот матч начался и сложился так, что мы проигрываем — 1:2. Возможно, мы бы не отыгрались, если бы наши футболисты в ходе борьбы стали упрекать, винить друг друга. Счет 1 :2, наоборот, подстегивал ребят, требуя дружной игры. К тому же за двадцать — двадцать пять минут до конца мы ввели в игру свежего нападающего. Было понятно, что нужен игрок, который бы оживил нападение, сделал его более мобильным. У нас было два резервных игрока. Один — горячий, но быстрый, техничный, ударный. Второй, Юрий Кузнецов, может быть, несколько медлительный, флегматичный, но с холодным умом, способный мгновенно сориентироваться в трудной обстановке. Моя мысль работала 158 лихорадочно. Кого из них ставить? Рядом со мной находились мои коллеги, я мог с ними посоветоваться, но принимать решение должен был сам. И было решено — Кузнецов! И по сей день я доволен этим решением. Он наладил игру в атаке. И игра пошла, в нападении появились определенные тактические связи, игра приняла осмысленный характер. И в конечном счете мы забили второй мяч, а затем и третий. В этот решающий момент увлек своим примером товарищей и капитан команды Игорь Нетто, которого, как я помню, одна из египетских газет назвала «Великий Нетто». Игорь Нетто был действительно великим мастером, но он был и настоящим патриотом, человеком, который на всех стадионах мира высоко нес знамя советского спорта. Вспоминаю седьмой чемпионат мира в Чили. В Арике в одной восьмой финала мы встретились с Уругваем. Игра была чрезвычайно трудной, и вот мы забиваем гол. Когда команды близки по классу, один гол может решить все. Судья засчитывает этот гол, его помощник подтверждает взятие ворот и показывает на центр поля. Уругвайцы бросаются к судье и доказывают, что мяч забит неправильно. Но тот, не внимая их протестам, показывает на центр. И здесь к судье подбегает наш капитан Игорь Нетто и говорит: «Господин судья, мяч был забит неправильно, с боковой стороны, прорвав сетку». Только после этого судья не засчитал гол. Сидя на трибуне, я тоже видел, что мяч был забит неправильно, и был твердо уверен, что Нетто скажет об этом судье. Спортивная честь для Игоря всего дороже. Благородный поступок нашего капитана был отмечен не только трибунами, но и печатью Чили. Каким же мне представляется настоящий футболист? Само собой разумеется, что он должен быть высоким мастером своего дела, обладать суммой различных футбольных знаний, навыков, приемов, но он должен быть и настоящим патриотом, любить свою Родину, свой народ. Игрок в жизни и работе должен руководствоваться чувством долга и ответственности, спортивной чести. Он должен быть дисциплинированным, строго соблюдать спортивный режим, всегда находиться в хорошей «спортивной форме», иметь стабильную игру высокого уровня, доставляя своей игрой радость людям. Эталоном мастера для меня является Лев Яшин. Помимо отличных физических данных, одаренности, ловкости, изумительной техники приема мяча, он обладает даром предвидения, предугадывания. Обратите внимание, как действует защита, когда Яшин стоит в воротах. Его подсказки позволяют защитникам все время менять позиции. Яшин предвидит развитие направления атаки противника и своими сигналами быстро организовывает оборону. Яшин, как и Нетто, — эталон советского футболиста. Помню, на том же, седьмом, чемпионате мира в Чили в матче с хозяевами поля, который мы проиграли со счетом 1 : 2, Яшин остался в воротах, хотя получил удар ногой по голове. Я подбежал к нему: «Лева, что с тобой?» «Темно, Гавриил Дмитриевич, темно, голова кружится…» Но менять вратаря правила не позволяли… Вспоминаю и другой матч, в канун того же чемпионата, который мы проводили в своей отборочной группе с командой Турции. В невероятно трудных условиях этого матча и Лев Яшин и вся команда доказали, что они являются большими мастерами и патриотами, достойными посланцами Страны Советов. Этот матч был очень важен. У турок было перед ним четыре очка, у нас — шесть. Только в случае победы команда Турции сохраняла шансы на поездку в Чили. Мы прилетели в Стамбул 9 ноября, на следующий день провели тренировку, и вот ожидаем матча. А тут турецкие газеты поместили пространное интервью старшего тренера своей сборной итальянца Сандро Пуппо. Тренер заявил: завтра мы можем выиграть у русских, потому что у нас есть три союзника. Первый союзник — футбольное поле. (Поле на стадионе Мехат-паши было без травы, жесткое, как асфальт. Ясно, на этом поле мяч требует особого контроля. Чтобы укротить мяч, подчинить своему контролю, нужны особые навыки, а времени приобретать их у нас не было.) Вторым союзником он назвал любителей футбола Турции, которым был брошен призыв: болеть за свою команду против русских. Что ж, мы 159 должны были считаться и с этим вторым союзником. Но когда Пуппо назвал третьим союзником турецкий национальный гимн, мы были несколько удивлены. На следующий день мы вышли на поле. Стадион был полон. А рядом со стадионом на огромном холме разместилось еще тысяч сорок болельщиков. Оркестр исполнил наш гимн. Все встали — молчание. Но вот звучат первые аккорды гимна Турецкой республики, и мелодию подхватывает семидесятипятитысячный хор турецких любителей футбола. Музыка турецкого гимна очень красива, построена на взлетах, падениях, от пианиссимо до фортиссимо. Но в то время эта музыка звучала для нас не только красиво, но и угрожающе. Вот он — третий союзник турецкой команды! Началась игра. Турецкие футболисты сразу предлагают нам какой-то бешеный темп, который мы не можем принять. У наших ребят, казалось, ватные ноги, и только блистательная игра Яшина не позволяет туркам взять наши ворота. Однако, через некоторое время игра выровнялась, и вскоре наш центральный нападающий Гусаров забивает мяч. Реакция стадиона поразительна. Ни возгласа, ни крика — полная тишина. Я даже слышал, как шуршали шины автомобилей за воротами стадкона. А Гусаров потом рассказывал: «Я усомнился, зйЗнл ли я гол, потому что должна быть реакция, хоть какая-то… И лишь жест судьи — мяч на центр! — убедил меня, что я действительно забил». И через некоторое время, когда Мамыкин забивает второй мяч, та же реакция. Но если бы вы видели, что творилось на стадионе, когда за тридцать секунд до конца первого тайма турки забили гол?! Весь стадион скандировал: «Турция! Турция!» Во время перерыва ребята пришли в себя. А я лишь сказал им, что темп игры надо поддержать, акцентировать игру больше на флангах, давал и другие специальные указания. И еще — призвал к выдержке: со стороны противника будет, возможно, некоторая резкость. И действительно, к концу второго тайма обстановка на поле накалилась до предела. Турки поняли, что пока в воротах стоит Лев Яшин, взять их трудно. И они уже атакуют Яшина несколько грубо, но тот не теряется: получив мяч и будучи атакован, Яшин обманными движениями уходит от атаки и быстро организует нашу контратаку, выбрасывая мяч рукой партнерам. Но минут за семнадцать до конца капитан турецкой команды левый крайний Лифтер, столкнувшись с Яшиным, как сноп, валится на землю. Это был сигнал к тому, чтобы болельщики, возбужденные таким «неблагородным» поступком Яшина, высыпали на поле и бросились к нашему вратарю. Конфликт был улажен лишь с помощью полиции, а судья правильно квалифицировал случившееся, как атаку на вратаря, и дал штрафной в сторону турецких ворот. Мы выиграли этот матч со счетом 2:1. Как писал один французский обозреватель: «Русские выигрывают в турецком аду». Такое напряжение мог выдержать только дружный, спаянный коллектив, каковым была и всегда должна быть наша сборная. Расскажу еще об одном испытании на прочность, которое выдержала в свое время наша сборная. Сразу после матча с Турцией мы прилетели в Буэнос-Айрес играть со сборной Аргентины и оказались в необычайно сложных условиях. Прилетели лишь за два дня до игры. Причем некоторые игроки, как, например, Слава Метревели, плохо переносят полет. Температура в Буэнос-Айресе равнялась 36 градусам жары. Разница во времени — шесть часов. Наутро, когда команда вышла на разминку, было видно, что ребята не в состоянии двигаться как следует. Пришлось разминку свернуть. На следующий день — игра. Но где взять силы, чтобы играть успешно? Только несколько футболистов не вызывали у меня сомнения. Только несколько… Ночь. Ребята спят. А я не сплю. Надо найти средства, слова, которые бы подняли ребят, восстановили бы их игровой тонус, их силы. Неожиданную помощь оказала нам аргентинская пресса, опубликовав перед игрой интервью с некоторыми аргентинскими футболистами. В этих интервью аргентинские игроки задели наше спортивное достоинство, называя нас не командой, а новичками. Один из них даже сказал, что мы, дескать, выиграем у русских со счетом 4:1. Второй поправил его: «Нет, 4:0. Ты недооцениваешь нашу защиту. Мы гораздо сильнее русских, а ничью в Москве сделали случайно». Мало того, Симеоне, 160 правый защитник, нелестно высказался в адрес Месхи. И вот на следующее утро, когда мы прочитали эти газеты, было видно, что у ребят появилась настоящая спортивная злость. До того дня аргентинцы еще никогда не проигрывали на своем поле ни одной европейской сборной. Выходим на поле стотысячного стадиона. Поле отгорожено от экспансивных зрителей колючей проволокой и рвом. Матч начался атаками аргентинцев, но вскоре мы перехватили инициативу. Блестяще играют Месхи и Метревели, обыгрывая аргентинских защитников за счет своей филигранной техники. А ведь аргентинцы поклоняются технике. И я вижу, что Месхи и Метревели очень нравятся зрителям, на трибунах одобрительный гул. А когда Месхи провел свой коронный финт, в результате которого его опекун не мог понять, где находится Месхи, а где мяч, это вызвало овацию на трибунах. Аргентинский защитник грубит. Назначается штрафной. Миша Месхи быстро производит удар, и Понедельник с его подачи забивает мяч. Трибуны нам аплодируют. А через минуту обманывает своего опекуна Слава Метревели, аналогичная передача в центр, и Понедельник, теперь уже через голову, забивает второй мяч. Трибуны восторженно приветствуют наш успех. Зрители уже за нас. Аргентинским любителям футбола не только нравится наша игра, но они и злы на своих игроков, они не могут простить им самонадеянности и хвастовства. Второй тайм изменил не многое. В конце игры Яшин получил травму, в ворота встал наш запасной вратарь, и за минуту до конца игры аргентинцы забили единственный ответный гол. . Вы понимаете, что это была не только игровая победа, но прежде всего психологическая. Вы спросите, как воспитывается патриотизм игрока сборной страны? Прежде всего игрок должен быть патриотом своего клуба. Он будет любить Родину, если любит флаг своего общества, команды, города, республики. Например, патриотами своего клуба я бы назвал тбилисских динамовцев. Редко кто из тбилисцев переходит в другие клубы. Они играют для своих любителей футбола. Недаром они так редко проигрывают на своем поле. 1964 год. Нам (я тогда был тренером тбилисцев) предстоит в Ташкенте решающий матч с московскими торпедовцами. Тбилисцы понимают, что впервые за двадцать пять лет участия в чемпионатах страны они могут стать первыми. На этот матч в Ташкент приехало семь с половиной тысяч болельщиков из Грузии. Присутствие земляков еще больше повысило чувство ответственности у тбилисских игроков. Но поначалу матч складывался не в нашу пользу. В матче такого накала, который решает все, игроки обычно нервничают. Грузины нервничали особенно. Мне очень хотелось, чтобы торпедовцы наконец-то забили нам гол — только тогда тбилисцы могли бы заиграть. И действительно, как только торпедовцы забили нам мяч, наши ребята как бы успокоились, стали играть более организованно, перехватили инициативу и в конечном счете в дополнительное время добились ощутимой победы со счетом 4:1. Не было ни одного игрока в команде, который бы не отдал победе все свои силы. Приведу лишь один пример. Против Валентина Иванова играл Зейнклишвили. Играть против Иванова трудно. В ходе игры торпедовский капитан не раз менял, как обычно, свои планы. То играл самостоятельно, то с партнером, то через партнера, то займет позицию впереди, то отойдет в сторону. Зейнклишвили было трудно, и в другом матче, в подобной ситуации, он мог бы сгрубить. Но тут он понимал, что, если позволит грубость, команда останется вдесятером. Вижу ли я среди молодых футболистов, которые призываются под флаг нынешней сборной, тех, кто продолжит хорошие дела Яшина, Нетто, Симопяна, Хусаинова? Да, бесспорно. Назову Юру Дегтярева, воспитанника «Шахтера». Этот двадцатилетний вратарь за образец для себя взял Яшина, стремясь походить на него не только мастерством, которое уже достаточно высоко (в прошлом году Дегтярев выступал за сборную в матче со шведами в Гетеборге), но и стремится быть таким же человеком, как Яшин. Юра дисциплинирован, целеустремлен. Он отличный товарищ, все хотят с ним дружить. Он неизменно сохраняет строгий спортивный режим. 161 Володя Мунтян. Н. Озеров, по сути дела, уже заставил меня однажды признаться в симпатиях к Мунтяну. В моем сегодняшнем положении крайне недипломатично раздавать всем и каждому публичные характеристики, бесконечно высказываться о своих симпатиях и антипатиях. И все же я настолько уверен в Мунтяне, и прежде всего в его человеческих качествах, что могу смело сказать: это, несомненно, достойный спортсмен. Володя Козлов. Влюблен в футбол. Всегда недоволен собой — казалось бы, играет отлично, но считает, что может играть еще лучше. Из одной зарубежной поездки Володя привез полный чемодан футбольной литературы. Да он ничего и не покупал, кроме этой литературы. Его спросили: «Как же ты разберешься в этих книгах, они на различных языках, которыми ты владеешь весьма относительно?» «А я купил словари, — сказал Володя. — Схемы и так понятны, а комментарии разберу со словарями…» Думается, что закрепится в сборной и двадцатилетний спартаковец Киселев. Он не только способный футболист, но и целенаправленный, целеустремленный человек. Есть и другие молодые игроки, на которых мы в такой же мере рассчитываем. Когда вижу, как они тренируются, играют, как всегда достойно ведут себя, вспоминаю последний день Олимпийских игр в Мельбурне, где в финальном матче по футболу встречались их предшественники с командой Югославии. Этот день был счастливым днем в моей тренерской жизни. Когда в последний раз на пьедестал почета поднялся советский футболист, капитан сборной команды СССР Игорь Нетто, когда на флагштоке взвился красный флаг и был исполнен гимн нашей Родины, гордостью наполнилось сердце за наших футболистов, за страну, народ, воспитавших таких спортсменов. Верю, что и новое поколение футболистов будет достойно и высоко держать знамя отечественного футбола на международной арене. СРЕДИ КНИГ * Недавно я прочел небольшую книгу Альберта Мифтахутдинова «Расскажи про Одиссея» (Магаданское изд-во). Книга понравилась мне сразу, без рассуждений и оговорок. Они пришли потом, во время повторного чтения. Точнее даже, не понравилась, а удивила искренностью авторской исповеди и свежестью, удачным сплавом драматизма и юмора, сюжета и стиля. Это первая книга писателя. Автору тридцать, всю жизнь прожил он на Севере, а последние десять лет — на Чукотке. И вся эта книга о ней — о ее природе, людях, обычаях. Экзотика? Конечно. Но сам автор говорит, что не через экзотику хочет он открыть Чукотку для читателя, а изнутри, через чувства и ощущения людей — и приезжих и аборигенов. И это ему вполне удается. Вся книга автобиографична. В каждом рассказе так или иначе присутствует лирический герой, и вот его глазами глядим и мы на далекий северный край. А герой этот по-настоящему добр и по-настоящему любит людей. И еще он любит животных, природу, свое дело — словом, жизнь. Автор наделен достаточно хорошим вкусом, столь необходимым во всем и тем более в искусстве. Это помогает ему счастливо избежать преувеличенной романтики, для которой Чукотка — очень уж благодатная почва. Нет у его героев ни самолюбования, ни излишней рефлексии, ни оханья и аханья по поводу трудностей жизни на Севере. Но, пожалуй, иные рассказы чрезмерно стилизованы («Снег наш насущный»), в других слишком уж много нарочитого подтекста («Два ранних регтайма»), некоторые названия рассказов кажутся претенциозными. Очень хороши, на мой взгляд, новеллы «Треугольник», «Старая яранга», «Мишаня», «Расскажи про Одиссея». Можно много говорить и о стиле автора — лирическом и поэтичном до такой степени, что иногда некоторые абзацы воспринимаются как стихотворения в прозе. Автор 162 даже порою вольно или невольно перебарщивает и ритмизирует строки. Мифтахутдинову отнюдь не чужд юмор; он любит острое слово, метафору, аллегорию. А в общем, я убежден, что в литературу вошел интересный и добрый писатель. Юрий ХАЗАНОВ * Лирический герой книги А. Межирова «Подкова» (изд-во «Сов. писатель») пережил все, что переживали люди его поколения: воину, юношеское романтическое восприятие ее, ранения, военный труд, смерть близких, одиночество и, наконец, обретение большого мира простых человеческих мыслей и чувств. Где-то подспудно в стихах Межирова еще живут мысли о войне, которая ведь тоже была жизнью и с которой совпала юность. Но все чаще в них начинает звучать иная тема: Я подорву дороги за собою, Мосты разрушу, корабли сожгу. И, как седой десантник после боя. Умру на незнакомом берегу. Постоянно, год за годом, уходило ненужное, наносное, эфемерное. Стихотворение «Кармен» программно в этом смысле для поэта. Его героиня в отличие от блоковской Карменситы — воплощение жизненной мишуры, суетности, которая когда-то владела поэтом, но которую он отверг навсегда. Несмотря на тяжесть жизненного опыта, а может быть, благодаря ей, движение поэтической мысли А. Межирова было неустанным поиском гармонии, чистоты поэтической мысли. Движение к преодолению внутренних противоречий. («Подкова счастья! Что же ты, подкова! Я разогнул тебя из удальства — и вот теперь согнуть не в силах снова, вернуть на счастье трудные права».) Цельность и ясность взгляда на мир стали достижимы прежде всего потому, что лирический герой всю жизнь умел ценить истинные ценности: дружбу, любовь, доброту, самоотверженность, природу. Особенно ясно это прозвучало в стихотворении о смерти няни поэта — «Серпухов»: Ну, так бей крылом. беда, По моей веселой жизни — И на ней ясней оттисни Образ няни Навсегда. Родина моя. Россия. Няня… Дуня… Евдокия… Поэт все суровей смотрит на собственную жизнь. Для него обрела высшую ценность поэтическая объективность, стал гораздо более значительным не мир собственной личности, а окружающей действительности. 163 Люди, люди мои! Между вами Пообтерся за сорок с лихвой Телом всем, и душой. и словами, — Так что стал не чужой вам, а свой. Именно с этой объективностью приходит подлинная человеческая мудрость, появляется ощущение нерастраченности духовных и физических сил и быстротечности жизни. Проходит время ненужных дел и лишних вещей. Наступает зрелость души. Е. ВЕТРОВА * Стихи и переводы Юрия Ряшенцева примечены читателями в периодических публикациях. «Очаг» — первый сборник произведений поэта (изд-во «Молодая гвардия»). Эпиграфом к нему могли бы стать слова автора: «Вокруг и здесь, внутри, страна…» И вокруг и в душе — Родина. Непроизнесенное, но прочувствованное, великое имя ее внятно звучит, например, в исторической и вместе современной «Балладе с привидениями»: меж теней прошлого, «расфранцуженной» княгини и князя — «мужика», перед взором автора, — в окне бывшего княжеского дома, который революция превратила в Дом пионеров, возникает, к изумлению аристократических привидений, «в па, и страстном и смешном», профиль пионерки, «примадонны танцкружка»… Целая эпоха воплотилась в этой девочке. Говоря символически, профиль пионерки, наследницы высокой красоты, возникает и в стихотворении «Старинный русский романс», одном из лучших в книге. Не поэт в прошлом, а прошлое в нем, в нас, современниках, на которых отовсюду «былое смотрит славно» (стихотворения «Кропоткинская», «По дороге в Лужники» выразительно развивают эту тему). И поэту и нам «сама-то речь российская — как утоленье». Братски пылают в «Очаге» любовь и дружество к грузинской земле, где всегда «во всем вокруг сквозила страсть» («Так неожидан был и нов…», «Вид на Тбилиси с горы Мтацминда»). Чувства эти естественно сливаются с привязанностью ко всему, что есть «наше общее бессмертье», к Родине. Так выясняется образный смысл слова «Очаг» в названии книги. Жарче всего «Очаг» там, где поэт рассказывает, живописует, где он повелевает краской, звуком, предметной явью. «И как пунцовое пятно под чьей-то крышею окно, как будто в нем отражена вся суть заката». Впрочем, не веет ли от этой «сути заката» холодком невольного умствования, далеким от сути лиризма?.. Ю. Ряшенцеву более всего удаются стихи балладные, повествовательные, описательные. Ему не чужд юмор. Он умеет сказать. Ему труднее сказаться. Поэт наблюдателен, отзывчив, но, как это ни удивительно для лирика, скрытен. Он чаще открывает, реже открывается. Он ощущает неповторимость бытия — «неповторимость ветерка», «неповторимость продавца в большой молочной за углом — такого именно лица нет ни в грядущем, ни в былом». Но он рассказывает о том, что видит, с большей прямотой, нежели о себе. «Вот я! Все в порядке…» — привычная интонация. Невольно ловишь себя на мысли, что поэт думает в этот момент «о другом», — глаза его отведены от собеседника. «Ямайка! — пышет рацио. — Ямайка!» Да только вот с попутными беда…». Правда, этот прием «бокового», несколько отчужденного, чуть иронического раскрытия переживаний составляет даже своеобразное обаяние многих страниц «Очага». Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ 164 * На черной обложке — красная звезда и фотография красивой девушки. Книжка вышла в Ижевске в серии «Наши герои» («Люся Канторович», изд-во «Удмуртия»). Что же совершила эта девушка? Почему книжка названа ее именем? Жизнь Лии (друзья ее называли Люсей) была жизнью человека «того прекрасного поколения, которое впитало в себя героику «далекой Гражданской», дышало романтикой первых пятилеток и которое встретило войну, имея за плечами двадцать лет». Лия окончила десятилетку и три курса филологического факультета ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы). Ее сокурсники по ИФЛИ помнят обаяние, скромность и жизнерадостность девушки, широкий кругозор и серьезность подхода к жизни. Отличная школьница и студентка, активная комсомолка, она была всеобщей любимицей. С первого дня Великой Отечественной войны Лия рвалась на фронт, считая, что ее место там. Училась на ускоренных курсах медсестер. «В стенах Вашего института воспитана комсомолка — героиня Великой Отечественной войны… Лия Канторович… — написал в 1 комитет ВЛКСМ ИФЛИ старший политрук Цыганков. — …с 7-го по 20-е августа Лия Канторович показала себя бесстрашной, отважной дружинницей на поле боя. Она всегда появлялась там, где были наиболее опасные и ответственные участки… Бойцы, командиры и политработники нашей армии вместе со всем советским народом всегда будут свято чтить память о своей боевой подруге Лии Канторович». Это произошло 20 августа 1941 года. Двое суток шли тяжелые бои. Рота пошла в атаку. Упал командир. Бойцы дрогнули и залегли. Тогда комиссар и отважная сандружинница встали во весь рост и пошли вперед. За ними поднялись в атаку бойцы. Бой был выигран. Но осколками снаряда была смертельно ранена Лия. В 1941 году поэт из ИФЛИ написал: Девчонка, столько раз сводившая с ума Мальчишек… Ведет в атаку взвод И падает в крови… Пионерская дружина школы N 30 города Ижевска, где окончила десятилетку Лия, носит ее имя. Юные следопыты этой школы любовно собирали материалы о ней. Они посылали письма в разные города страны, разыскали многих друзей Лии, ее мать. В результате этих трудов создана книжка (составитель — Л. Ф. Белинская) — сборник фотоснимков, писем, статей, очерков и воспоминаний друзей по школе, студентов ИФЛИ, матери Лии, бывшей сандружинницы, ныне работника Министерства обороны Екатерины Новиковой, Героя Советского Союза Эрнста Кренкеля, писателя Евгения Петрова. Изданная в Ижевске небольшим тиражом, эта книжка будет прочитана с интересом всеми, кому попадет в руки. М. ОЗЕРОВА * Однажды в командировке, в Вологде, холодным октябрьским днем я мерз у газетного стенда. Был вывешен номер «Известий», вчерашний, уже распроданный, и я не мог уйти, не дочитав статьи Анатолия Аграновского «Повесть о бедном мотеле». Тот случай запомнился мне как экстраординарный по чисто личным причинам: уж очень я тогда замерз. Со стороны Аграновского ничего необычного не произошло: каждый 165 его газетный очерк (для пущей точности скажем: почти каждый) — событие в текущей журналистике. Около каждого я готов мерзнуть. Читая сейчас новую его книгу («Суть дела», Политиздат), я узнаю очерки из «Известий», когда-то остановившие внимание, и вижу, что, переизданные, они не поблекли, потому что их мысли — не на один день. Аграновский много умеет — в книге то и дело дает себя знать мастерство художника. Но этим своим умением он пользуется скупо, почти аскетически, как бы желая избавиться от вспомогательных средств, привлекающих читательское внимание, — чтобы сама по себе мысль, обнаженная, не приодетая, захватила нас. Книга читается как повесть с интригой, с приключениями; приключения эти переживает мысль, сталкивающаяся с препятствиями, с негаданными возражениями, сама меняющаяся на глазах по дороге к сути дела. Читать Аграновского нужно осторожно, готовясь к непредвиденному, — течение его мысли не убаюкивает, того и гляди, успокоясь, будешь выброшен на неожиданном повороте, как в езде по горной дороге. Аграновский сдержан. А сдержанность нужна там, где есть что сдерживать. Эмоциональность его не в количестве восклицательных знаков, чувство юмора не в обилии закавыченных словечек. И парадоксы его не остроумно перелицованные банальности, а опровержения предвзятостей, опровержения перед лицом здравого смысла и открытого сердца (сердечная забота о человеке как-то очень удачно соединяется у Аграновского со здравым смыслом; сам здравый смысл доказывает необходимость сердечности и противоестественность равнодушия). В предисловии к книге сказано: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Анатолий Аграновский хорошо пишет, потому что хорошо думает. Ст. РАССАДИН Пылесос А. Курляндский, А. Хайт ДВЕ ИСТОРИИ 1. Ш электричке Ввагон электрички вошел контролер. Он остановился в дверях и громко сказал: — Граждане, приготовьте билеты! Затем медленно пошел по вагону. — Ваш билет… пожалуйста… ваш… так… ваш билетик… Постойте, гражданин, что вы мне даете? — Билет. — Какой билет? — На футбол. — Зачем он мне? — Как зачем? Вы же сами просили. — Этот билет мне не нужен. — А другого у меня нет. — Значит, вы едете без билета? — Здравствуйте. А что вы в руках держите? — Билет на футбол. А мне нужен билет на электричку. — Значит, я должен был взять два билета? — Вы должны были взять один, на электричку. 166 — А разве по нему пускают на футбол? — При чем здесь футбол?! Где ваш билет? — Послушайте, что вы от меня хотите? Вы просили билет — я дал. Что вам еще нужно? — По этому билету нельзя ездить в электричках. — Почему нельзя? Разве на нем написано, что нельзя? — Это и так ясно. — Что ясно? Если нельзя — должно быть написано. Вот здесь написано «Не курить» — я и не курю. — Послушайте, гражданин, на электричку надо брать билет. Вот если бы вы ехали на автобусе, вы бы взяли билет? — Зачем мне брать два билета? И на автобус и на электричку? — Вам не надо брать на электричку. — Вот я и не взял. — Но вы же едете на электричке. — Да, но я же еду не на автобусе, а на футбол. — При чем здесь футбол?! — Как при чем?! Если бы не было футбола, я бы ехал на стадион? — Нет. — Был бы у меня билет на футбол?! — Нет. — А на электричку?! — Тоже нет. — Так что вы ко мне пристали? — Но вы же едете? — Куда? — На футбол. — Но я же еду с билетом? — С билетом. — Так что вам еще нужно? — Мне? Мне ничего… — Тогда что вы стоите? — Я не стою. — Ну и идите. Контролер растерянно пробил билет компостером. — Прошу, — и, пошатываясь, направился к следующему пассажиру. — Ваш билет? — Пожалуйста. — Что вы мне даете? — Билет. — Куда? — На электричку. — А на футбол у вас есть? — Не-ет… — Тогда прошу вас, гражданин. Пройдемте! 2. На остановке Что ни говорите, а встречаются у нас еще отдельные люди, которые свои личные интересы ставят превыше общественных. Стою я как-то утром в очереди на автобус. Народу, конечно, много: кто на работу спешит, кто с детишками в садик. Ну, а автобус, понятное дело, немного задерживается. 167 Однако все спокойно стоят. Потому что знают: раз есть остановка, рано или поздно автобус должен прийти. И только один мужчина стоит сзади и ворчит, всем настроение портит. — Товарищ, — говорю я ему, — что вы ворчите, что вы панику разводите? — А почему, — говорит он, — я этого автобуса должен целый час ждать? Что, у нас автобусов не хватает? — Не волнуйтесь, — говорю я ему. — Автобусов у нас хватает. Если хотите знать, мы каждого человека можем персональным автобусом обеспечить. — Это очень хорошо, — говорит он, — только почему тогда не видно этих автобусов? — А что же вы хотите, — спрашиваю я, — чтобы мы прямо сейчас все эти автобусы на линию выпустили? — Конечно, хочу. — Интересно вы рассуждаете, — говорю я. — Ну, выпустим мы сейчас все эти автобусы, перевезут они всех пассажиров, а потом что им делать? Просто так по улицам кататься? Этого, дорогой товарищ, никакая экономика не выдержит. Казалось бы, объяснил человеку, а он опять за свое: • — Поймите, я ведь тороплюсь. Мне к десяти часам надо дома быть. — Ничего страшного, — говорю, — опоздаете на часок. — Не могу я опаздывать, — говорит он. — Мне в десять часов билет принесут. — Какой еще билет? — На поезд, я завтра уезжаю. — А почему вы думаете, дорогой товарищ, что вам принесут билет именно в десять? Если каждому к десяти часам билет приносить, у транспортного бюро никаких агентов не хватит. Вас ведь, пассажиров, тысячи, а их, может, всего двое. — Безобразие! Не хватает агентов, пусть еще возьмут. — Интересно вы рассуждаете. Ну, возьмут они еще агентов, разнесут они с утра все билеты, а потом что им делать, в салочки играть? Тут этот товарищ немного поскучнел. И говорит вроде бы. сам себе: — Придется, видно, на самолете лететь. — Простите, — спрашиваю я, — а куда вы собираетесь лететь, если это, конечно, не секрет? — В Тюмень, — говорит и платком очки протирает. — В Тюмень, — говорю я ему, — вы сегодня не улетите. В Тюмень самолеты только по четным числам летают. — Но я же тороплюсь. Неужели нельзя и по нечетным числам рейсы делать! — Интересно вы рассуждаете, — говорю я. — Ну, сделают рейс по нечетным числам. Улетите вы все. А по четным что летчикам делать? С парашютами прыгать? Тут он совсем сник. — Что же мне делать? Ведь там специалист нужен. — Ничего страшного. Возьмут другого. — Нет у них другого. Один я. — А что же вы еще специалистов не возьмете? — Интересно вы рассуждаете, — говорит он. — Ну, возьмем мы еще специалистов, съездят они все в командировку, а потом что с ними делать? Просто так деньги платить? — Верно, — говорю я. — Не такие мы дураки, чтоб на ветер деньги кидать. Тут как раз автобус подошел. Кинулись мы к нему, а он не остановился, дальше поехал. Кое-кто возмущаться начал, а я стою, и сердце радуется. В автобусе этом человек двести едет, а ведь в него, самое большое, семьдесят два человека входит. Вот что значит люди подходят к делу с полным знанием экономии. Эдуард Успенский 168 Не положено — значит, нельзя В обычном зимнем потоке пассажиров к автоматам метрополитена пробирался человек в спортивном костюме и на длинных норвежских коньках. — Товарищ, товарищ, — закричала дежурная в красной шапке, — вы куда идете? В метро на коньках нельзя! — А вы меня пропустите в виде исключения. Я сегодня рекорд установил. — Ну и что? — А я обещал, если установлю, то на коньках через весь город пойду. — Вот и идите через весь город. А в метро нельзя. Все остальные пассажиры тотчас же разделились на два противоположных лагеря. — Да пропустите вы его! — закричали граждане из первого лагеря. — Это же сам Петров! — А по мне хоть сам Сидоров! — отвечала дежурная. — Но он же рекорд установил! — Ну и что? — закричали граждане из второго лагеря. — А Власова, значит, со штангой пропускать?! — Правильно она делает! — Конечно, правильно, — согласилась она. — Им дай волю — на ходулях пойдут. — Да не пойдем мы на ходулях! — успокоил ее Петров. — Ничего не знаю. Сегодня один тут с кошкой шел. К врачу, говорит. А если его кошка кого поцарапает? А если она психованная? Раз твоя кошка такая важная, пусть к ней врач на дом приезжает. — И правильно, — снова сказали граждане из второго лагеря. — Сегодня с кошкой, завтра с собакой. Что из этого может получиться? — Что? — спросили граждане из первого лагеря. — Не знаем что. Вот что. — Им только разреши. С коровами пойдут, — уверенно заявила дежурная. — А нельзя — значит, не положено. — Знаете что, — решил первый лагерь, — идите-ка через тот вестибюль. Может, там пропустят. Не везде же такие-то. — Идите, идите. Пустят вас, как же! И тут спортсмена догнала уборщица. — Послушай, сынок, — сказала она, — ты там про рекорды не говори. Скажи, что ботинки украли или носить нечего. Они так-то люди добрые, просто они не любят, когда непонятно. А так пустят, если ботинки украли! Ты уж поверь мне. Я-то уж знаю. И она оказалась права. Жамидин ХАРАКТЕР ЗНАКОВ Задаче в Учебник Зайти довелось, Чтоб там разрешили Нелегкий вопрос. Вначале к Деленью Задача пришла, Деленье на помощь Она позвала. Не стало Деленье Судить да рядить И лишь изрекло: — Предлагаю делить! Задача, уйдя От Деления прочь, 169 Стучит к Умноженыо: — Прошу мне помочь! В вопрос Умноженье Не стало вникать И сухо сказало: — Изволь умножать! Смолчала Задача, Обиды полна, И тихо пошла К Вычитаныо она. Рычит Вычитанье: — Ты зря не болтай, Решенье известно — Давай вычитай! В глазах у Задачи Мелькают круги… Задача — к Сложенью: — Прошу, помоги! Смеется Сложенье: — Не стоит тужить, Ведь дело-то ясное — Надо сложить! Задача бледна, Голодна и больна… Как жаль, нерешенной Осталась она. Перевел с лезгинского Мих. РАСКАТОВ. На стендах « ЮНОСТИ» Вл. Толстой ЗРИМАЯ МУЗЫКА На стендах «Юности» — работы Вячеслава Павлова и Владимира Владыкина. У Павлова за плечами десять лет интенсивной творческой деятельности после окончания Московского Высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского) по факультету монументальной живописи, работа в офортной студии имени Нивинского, участие в ряде выставок. И хотя для Павлова эти годы не были богаты внешними событиями, они очень важны для становления творческой личности художника. Владыкин учится сейчас на II! курсе графического факультета института имени Сурикова и, по существу, только делает первые шаги в самостоятельном творчестве. Но и он успел немало: из странствий по русским городам, из трех плаваний в северные моря на рыболовном траулере (сначала матросом, а потом художником) он привез не только большой багаж впечатлений, но и интересные зарисовки и этюды. В суровых условиях он проверил свои силы, приобрел жизненный опыт, познакомился с интересными, мужественными людьми. В лучших живописных работах Владыкина привлекает способность найти в природе интересный пейзажный мотив и обобщить его в емком поэтическом образе — будь то суровые скалы полярного побережья, оживленные белыми пятнами снега, или пронизанный закатным солнцем бугор земли в древнем Суздале, или мягкие архитектурные формы трапезной Покровского монастыря и храма Покрова на Нерли. Густые, насыщенные, но мягкие красочные тона, весомые формы, плавные очертания зданий, лодок, корабельных надстроек, окрестных берегов и холмов — таков поэтический строй пейзажных листов Владыкина, выполненных темперой. И хотя не все его работы одинаково удачны — не всегда ему удается справиться с многофигурной композицией, с передачей движения фигур, — они полны непоказной романтики, в них есть красота и правда. 170 Рядом с эпически-спокойными пейзажами Владыкина особенно остро чувствуется своеобразие работ Павлова: его личностное отношение к окружающему, экспрессия, драматизм образов, нервная манера рисунка, отвечающая душевным движениям художника. Не удовлетворяясь декоративно-оформительской ролью стенной живописи в современной архитентуре, Павлов обращается к графике, в частности к недавно изобретенной Е. Тейсом технике офорта с прямым переводом рисунка на доску. Эта техника позволяет со всей непредвзятостью выражать в эстампе свои чувства и настроения. К одной и той же пластической задаче — будь то натюрморт или фигурная композиция — Павлов обращается десятки раз в поисках наиболее убедительного решения. В этом отношении особенно характерны листы, изображающие прихотливые изгибы колючек, растущих на развалинах Афрасиаба. Острое видение натуры во всей ее конкретности дает первоначальный толчок творческой фантазии художника, рождая цепь зрительных ассоциаций. Постепенно объемная природная форма растения в офортах Павлова преображается в своеобразную плоскостно-орнаментальную композицию, заполняющую поверхность листа. Листы следуют один за другим, и в каждом новом художник находит неповторимые ритмические сочетания пятен и линий, рожденные в конечном счете самой природой. В рисунках и офортах В. Павлова перед нами открывается нелегкий путь исканий художника, всегда не удовлетворенного достигнутым. Лучшее, сделанное Павловым, — гармоничные рисунки и акварели, посвященные Средней Азии («Бухарские золотошвейки», «На рынок», «Кариатида»), полная острой экспрессии серия офортов «Сталинградская битва» («Бронебойщик», «Атака», «Сон солдат», «Дом Павлова»), его военный натюрморт с каской и снарядом — все это результат настойчивой работы художника, ищущего путей к воплощению той «зримой музыки», которая владеет его существом. Правда, не все в листах Павлова бывает пластически оформлено, нередко субъективное начало перехлестывает в них через край, но зрителя подкупает неустанный творческий поиск. Как видим, это разные художники — и по темпераменту, и по жизненному опыту, и по характеру задач, которые они себе ставят. Но объединяет их серьезное человеческое содержание творчества и доверчивая обращенность к людям, вера в то, что все значительное и интересное для художника найдет в зрителе живой отклик. В работах Владыкина и Павлова нет и тени холодного экспериментаторства, бессодержательной игры красками и формами. Их вдохновляет любовь к родной земле, к чувственно осязаемой красоте мира. 171 В НОМЕРЕ проза Анатолий КУЗНЕЦОВ. Огонь. Роман. Альберте БЭЛС. Высшая математика. л г Рассказ Геннадий ПРОЦЕНКО. А кругом снега, мл снега… Рассказ……. . О поэзия Леонид МАРТЫНОВ. «На одном конце Москвы…». Полет над Барабой. «И спросил я у кукушки…». Лета. «Год двадцатый был…». «Воспоминания зловещи…». Разум бескрылых. Девушка и мл охотник. Красота…….. *»и Ирина ОЗЕРОВА. «Зеленый вкус незрелых яблок…». «То полдень, то пол- ял ночь…». Бабы……… Лариса ВАСИЛЬЕВА. «Да ведь я никого не ждала…». «Сжимает горло, леденит ж* запястья…»………. Бося САН ГАДЖИ ЕВА. «Как-то раз в гостинице под вечер…». (Перевела с л1* калмыцкого Н. Матвеева) . . Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Утренние сти- о хи. Несовместимость. Голод…..^J Аманжол LUAMKEHOB. Моя школа. Мечта. Звуки. Озера Кургальджино. Заветное. (Перевели с казахского Ю. АЛЕКСАНД- г л РОВ, Т. КУЗОВЛЕВА, А. СЕНДЫК) . . '*» Александр БОГУЧАРОВ. «Я в родительский дом возвращаюсь…». «Судьбой даровано пространство…». «Гармонии хотелось…». «Верни мне первые при- со знанья…»……….. Варлам ШАЛАМОВ. «Этот дождик городской…». «Гиганты детских лет…». «Какая в августе весна?..». «На этой горной высоте…». «Я не искал людские тайны…». «Золотой, пурпурный и лиловый…». Цыганский романс. Капля. «Ли- ж. с стон дубовый — нак гитара…». Поэту. »» Валентин КУЗНЕЦОВ. У дворянского гнезда. «Мне, кан иволге…». «А он сто- /у ял на берегу…»………О/ 9 публицистика Рена ШЕЙКО. Короткое бодайбинское ей лето. Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год). Из воспоминаний. (Продол- QI ж е н и е.)………. . °* © ТЕАТР Б. ПОЮРОВСКИИ. 05 ответственности ху- г г дожника………… ^л • к нашей вкладке Вл. ВОРОНОВ. Рыцарь палитрь….. • НАУКА и ТЕХНИКА В. КОВАНОВ. Пересадка сердца — пробле- ло мы медицинские и человеческие . . ue О встречи Константин СИМОНОВ. Чарли Чаплин, уш лето 1946 года……… ' *» ® заметки и корреспонденции -Х- Б. ГОЛЬДИН. Ему девяносто два . . . ?Д X Виталий ГОРЯ ЕВ. Художник-борец Антон Рефрежье Вл. КНИППЕР. Поко- QT рители морского прилива ….. ® дебюты Борис ДЕНИСОВ: «Я веселый дресси- QQ ровщик»………… * © спорт Гавриил КАЧАЛИН. Некоторые размыш- 4Л4 ления в канун сезона. ……. 1 О среди книг Маленькие рецензии и аннотации . , , © «пылесос» А. КУРЛЯНДСКИИ, А. ХАИТ. Две истории. 172 Эдуард УСПЕНСКИЙ. Не положено — зна- 44Л чит нельзя ……….. ЖАМИДИН. Характер знаков…..1М ©на стендах «юности» 112 Вл. ТОЛСТОЙ. Зримая музыка , , , . 1 ¦* На 1-й и 4-й страницах обложки рисунок Г. ПОНДОПУЛО. Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Я. Борисов. Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, тел. 255-17-83. Рукописи не возвращаются. А 06018. Подп. к печати 26/Н 1969 г. Формат бумаги 84 X 108'/,e. Объем 12,18 усл. печ. л. 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. М° 531. Заказ М° 59. Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24. 173