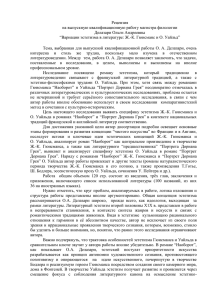Ерофеев Илья Юрьевич Рецепция творчества О. Уайльда в
advertisement

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская гуманитарная академия» На правах рукописи Ерофеев Илья Юрьевич Рецепция творчества О. Уайльда в русской журнальной периодике конца XIX — начала XX века Специальность 10.01.01 Русская литература Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель — доктор филологических наук, профессор Е. В. Киричук Омск – 2015 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ................................................................................................................ 3 Глава 1. Проблема рецепции и особенности ее формирования в русской журнальной периодике конца XIX — начала XX в. .................................................. 12 § 1.1 Теоретические основы изучения литературной рецепции: рецептивная теория и ее предпосылки.................................................................... 12 § 1.2 Три этапа освоения художественного наследия О. Уайльда в России ...................................................................................................................... 21 Глава 2. О. Уайльд в критике З. А. Венгеровой............................................... 24 Глава 3. Рецепция творчества О. Уайльда в литературно-критическом ежемесячнике «Весы» ................................................................................................... 42 § 3.1 Общность критических установок журнала «Весы» и эстетических воззрений О. Уайльда ............................................................................................... 42 § 3.2 «Поэзия Оскара Уайльда» К. Бальмонта и ее критики ...................... 48 § 3.3 Роль М. Ф. Ликиардопуло в популяризации творчества О. Уайльда в России ...................................................................................................................... 69 Глава 4. Место и значение О. Уайльда в критике К. И. Чуковского: эволюция рецептивного подхода ................................................................................. 88 Заключение ........................................................................................................ 124 Библиографический список ............................................................................. 133 3 ВВЕДЕНИЕ Оскар Фингал О'Флаэрти Уиллс Уайльд (1854-1900) — один из самых значимых писателей эпохи fin de siècle, его произведения стали классикой мировой литературы XIX в. В период, когда Уайльд был подвергнут остракизму на родине в связи со скандальным судебным процессом, его творчество находило поклонников во многих европейских странах. В России идеи эстетизма, проповедуемые писателем, актуализировались в полной мере лишь в начале XX в. и имели большое влияние на становление символизма и модернизма. При вхождении в иное культурное поле, художественное произведение неизбежно получает новое осмысление. Так как понимание в контексте чужой культуры осуществляется на основе иных предпосылок, литературное наследие автора приобретает новые, подчас совершенно неожиданные акценты, меняется портрет писателя. Так, если в Англии О. Уайльд стал широко известен, прежде всего, как комедиограф и сам всю жизнь оставался фигурой притягательной для сатиры и пародии, то в России над скандальным писателем не принято было смеяться, наоборот: будучи вписан в идеологию и практику русского декадентства и символизма, его мифологизированный образ стал своеобразной моделью «нового» человека, манерам и внешности писателя сознательно подражали многие поэты. Уайльд получил в России статус глубокого мыслителя, его всерьез сравнивали с Ф. Ницше, поднимался вопрос об общности Уайльда и Достоевского, а двумя центральными произведениями стали тексты, написанные вовремя и после тюремного заключения — «De profundis» и «Баллада Редингской тюрьмы». Восприятие произведений О. Уайльда в России рубежа XIX и XX вв., вбирая в себя множество аспектов, является чрезвычайно широким полем для исследования, которое в рамках одной диссертационной работы было необходимо ограничить, руководствуясь определенным принципом. В настоящем исследовании главный акцент сделан на журнальной критике. При этом не ставилась цель охватить все существующие публикации об Уайльде за означенный период. Вместо этого мы, опираясь на выводы предшествующих исследований и собственные 4 изыскания, выбрали ключевые фигуры для нескольких этапов рецепции и рассмотрели критические воззрения на Уайльда выбранных авторов в их развитии и соотнесении друг с другом. Актуальность диссертационной работы мы видим, во-первых, в обращении к писателю, чье творчество созвучно парадигмам современной культуры. Свойственные искусству Уайльда релятивизм, парадоксальность, стремление играть с культурными и литературными стереотипами делает его актуальным в эпоху постмодерна. Во-вторых, актуальность настоящего исследования может быть обоснована его проблематикой, соответствующей современным тенденциям развития литературоведческой науки. В условиях возросшего интереса к межкультурной коммуникации в последние десятилетия обострилось внимание к проблемам рецепции и адаптации художественного произведения в чужом культурном пространстве. Изучение рецептивной эстетики творчества Уайльда в аспекте русско-английских литературных связей помогает, с одной стороны, более целостно осмыслить феномен английского писателя, с другой — способствует лучшему пониманию исследуемого периода истории русской культуры. В-третьих, актуальность нашей работы обусловлена типологической близостью настоящего времени и исследуемого периода культуры. Степень разработанности проблемы. Проблема рецепции творчества Уайльда в России освещена в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Прежде всего необходимо отметить работу Т. В. Павловой «Оскар Уайльд в России (конец XIX — начало XX в.)» (1986) как первое исследование, предметом которого явилось воздействие писателя на русский литературный процесс. Диссертация Павловой легла в основу ее же замечательной статьи «Оскар Уайльд в русской литературе (конец XIX — начало XX в.)» (1991), в которой подробно описан ход освоения творчества писателя русским читающим обществом. Полезной для выяснения масштабов и особенностей рецепции творчества Уайльда в России стала обширная библиография, составленная Ю. А. Рознатовской «Оскар Уайльд в России: Библиографический указатель: 1892–2000» (2000). 5 Издание содержит 1686 наименований и делится на несколько рубрик, в которых представлен как перечень изданий самого Уайльда, так и перечень критических и исследовательских работ о нем. Несмотря на то, что библиография не является исчерпывающей (на ее неполноту указывали авторы: [178, p. 285], [122, с. 10]), она является важной опорой для исследований. Во вступительной обзорной статье автор рассказывает о писателе, о вхождения его имени в русскую печать и восприятии его творчества в России. Ценный вклад в исследование нашей тематики внес литературовед В. В. Хорольский, в ряде работ коснувшийся проблем осмысления личности и литературного наследия английского писателя в русской критике [150; 151; 152]. О мифологизированном образе Уайльда, сложившемся в русской культуре, пишет Е. Бернштейн в статье «Русский миф об Оскаре Уайльде» (2004). Автор подробно исследует генезис и структуру дискурса об Уайльде, бытовавшего в символистской и околосимволистской среде, и указывает на дискурсивные ресурсы русской культуры, способствовавшие адаптации и развитию уайльдовской мифологии. К проблемам восприятия творчества Уайльда в России в той или иной степени обращались в своих диссертациях Ю. А. Бахнова [51], А. В. Добрицкая [92], А. С. Иванова [95], Н. П. Рауд [137], А. В. Шабанова [169]. В диссертации А. В. Добрицкой «Русская литература начала XX века и творчество Оскара Уайльда: проблемы влияния, перевода и типологических контактов» (2005) рассмотрены некоторые аспекты рецепции творчества Уайльда в культуре Серебряного века: проблемы рецепции эстетических принципов Уайльда в русской прозе и критике на примере повести З. Гиппиус и статьи М. Волошина; проблемы типологического взаимодействия творчества О. Уайльда с русской литературой на примере эссеистики И. Анненского, драматургии Л. Андреева, поэзии В. Брюсова. Отдельная глава исследования посвящена истории вхождения Уайльда в русское культурное пространство. Ю. А. Бахнова в диссертации «Поэзия Оскара Уайльда в переводах поэтов Серебряного века» (2010) затрагивает проблему восприятия поэзии Уайльда и его 6 философско-эстетической программы в России рубежа XIX и XX вв. в аспектах литературного влияния и переводческой практики. О восприятии творчества Уайльда русской критикой и наукой о литературе говорится в первой главе биографии Уайльда, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», авторства А. Я. Ливерганта (2014). К зарубежным исследованиям близкой к нашей тематики можно отнести статью Б. Моллер-Сэлли «Oscar Wilde and the Culture of Russian Modernism» («Оскар Уайльд и культура русского модернизма», 1990). Автор статьи говорит о значении феномена жизнетворчества для русского модернизма и утверждает, что на ранних этапах рецепции Уайльд вызывал интерес в околосимволистских кругах, прежде всего, как личность, т. е. как создатель поведенческой модели, при которой дендизм и индивидуализм сочетается со специфическим отношением к жизни как к произведению искусства. Исследованию русского модернизма в аспекте рецепции английской литературы, живописи и философии эпохи королевы Виктории посвящена работа Р. Полонски «English Literature and the Russian Aesthetic Renaissance» («Английская литература и русский эстетический ренессанс», 1998). Автор не обходит вниманием феномен популярности Уайльда в России рубежа XIX и XX вв. и указывает на ключевые фигуры, благодаря деятельности которых английский писатель превратился в столь существенную культурную величину. Восприятию творчества и личности Оскара Уайльда в странах Европы посвящен сборник научных статей под редакцией С. Евангелисты «The Reception of Oscar Wilde in Europe» («Рецепция Оскара Уайльда в Европе», 2010). О рецепции Уайльда в среде русских символистов рассказывается в статье Е. Бернштейна «‘Next to Christ’: Oscar Wilde in Russian Modernism». Цель данного исследования — определить особенности восприятия творчества Уайльда у критиков, сыгравших важную роль на разных стадиях освоения литературного наследия писателя русской читательской аудиторией. 7 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: проанализировать критические статьи З. А. Венгеровой об О. Уайльде и английском эстетизме; определить общность критических установок журнала «Весы» и эстетических воззрений О. Уайльда; проанализировать полемику вокруг статьи К. Д. Бальмонта «Поэзия Оскара Уайльда», вышедшей в дебютном номере журнала «Весы» (К. Д. Бальмонт, Н. Я. Стечкин, Г. С. Петров); рассмотреть опубликованные в журнале «Весы» критические работы М. Ф. Ликиардопуло в аспекте дела популяризации Уайльда в России 1900-х гг.; проанализировать статьи К. И. Чуковского об Уайльде и тем самым проследить эволюцию оценки и осмысления критиком личности и творчества писателя. Пользуясь традиционной методологической дихотомией, определенной комплексом задач, можно определить объект и предмет исследования. Объектом исследования являются критические работы, посвященные творчеству О. Уайльда в русской журнальной периодике конца XIX — начала XX в. Предмет исследования — рецепция творчества О. Уайльда в критическом наследии З. А. Венгеровой, В. Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, М.Ф. Ликиардопуло, К. И. Чуковского. Материалом для диссертации послужил широкий корпус литературных источников, наиболее важными из которых для настоящего исследования стали следующие: К. Д. Бальмонт: «Поэзия Оскара Уайльда» (1904), «Об Уайльде в России» (1908); З. А. Венгерова: «Вильде» (1892), «Оскар Уайльд и английский эстетизм» (1897), «Молодая Англия» (1897), «Суд над Оскаром Уайльдом» (1912), «Оскар Уайльд» (1913), а также литературные обзоры З. А. Венгеровой в разделе «Новости иностранной литературы» журнала «Вестник Европы» [71; 72; 73]; 8 М. Ф. Ликиардопуло: рецензии и литературные обзоры в журнале «Весы» на протяжении всех лет существования журнала [108; 109; 110; 111; 112; 118; 114; 115; 116; 117; 172]; К. И. Чуковский: корреспонденции из Лондона для газеты «Одесские новости» 1903 г., в особенности статьи «Оскар Уайльд и его пьеса» и «О буржуазности», а также этюд «Оскар Уайльд», впервые опубликованный в журнале «Нива» (1911) и все последующие его редакции [157, 158, 159, 163]; эссеистика и литературная деятельность О. Уайльда, представленная изданиями начала XX века в переводах Е. Андреевой, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, М. А. Головкиной, М. Ликиардопуло, А. Минцловой, Н. Соловьева, К. И. Чуковского. Основными методами исследования являются: биографический метод, послуживший необходимой основой для исследования основных жизненных вех в творчестве писателя, поскольку первые обращения, на которых строилась рецепция О. Уайльда в России рассматривают проблему трагической судьбы художника; сравнительно-типологический метод помогает понять общность эстетикомировоззренческой основы и художественного новаторства О. Уайльда с русской литературной традицией начала ХХ века, его символистской рецепции; культурно-исторический метод позволил выявить необходимые критерии для понимания единого смыслового поля эпохи модерна в западноевропейском и русском литературном процессе. Методологической основой исследования послужили работы отечественных ученых: А. А. Аствацатурова, А. Г. Асташкина, Ю. А. Бахновой, М. М. Бахтина, А. В. Добрицкой, О. А. Клинг, Н. В. Котрелева, П. В. Куприяновского, А. В. Лаврова, Ю. М. Лотмана, В. А. Лукова, Д. Е. Максимова, А. Г. Образцовой, Т. В. Павловой, А. А. Потебни, Ю. В. Синеокой, Н. В. Соломатиной, В. В. Хорольского, а также труды зарубежных исследователей: Д. Т. Аткинсона, Е. Бернштейна, Г.-Г. Гадамера, А. Д. Гросса, Л. Ламборна, Ж. де Ланглада, В. Изера, 9 Б. Ф. Моллер-Сэлли, К. Метц, Р. Полонски, М. Холланд, Р. Эллмана, С. Элтис, Х.-Р. Яусса, Особое значение для осмысления и подбора материала исследования имели критические статьи и эссеистика З. А. Венгеровой, К. Д. Бальмонта, К. И. Чуковского, М. Волошина, В. Я. Брюсова, А. Белого и других представителей поэзии Серебряного века. На защиту выносятся следующие положения. 1. Процесс освоения творчества Уайльда в России рубежа XIX и XX вв. можно условно поделить на три этапа, основываясь на изменениях отношения к писателю литературной критики и росте его популярности в читательской среде. Первый период (1890-е годы XIX столетия) характеризуется как начальный этап освоения творчества О. Уайльда, когда появляются первые работы, посвященные изучению его места в литературном процессе как главы школы эстетов. Второй период (1900-е годы ХХ века) связан с деятельностью журнала «Весы». Третий период (10-е годы ХХ века) определяется появлением массовой читательской аудитории. 2. Общая характеристика писателя и определение его значения и места в литературном процессе нашла отражение в работах З. Венгеровой, которая открыла тему личностной, биографической специфики творчества О. Уайльда. 3. Символистская интерпретация литературного наследия Уайльда, сложившаяся в критической и переводческой деятельности журнала «Весы» опиралась, прежде всего, на идею «жизнетворчества», которая стала ключевой в формировании подхода к оценке значения личности и произведений О. Уайльда. 4. Переводческая деятельность М. Ф. Ликиардопуло в журнале «Весы» по освоению литературного наследия О. Уайльда соединяла практику работы с оригинальным текстом и критическую мысль, содержащуюся в рецензиях на публикации писателя на русском языке: рецепция творчества О. Уайльда по мысли М. Ф. Ликиардопуло должна опираться на идею передачи красоты стиля и гармонии слововыражения, присущей его произведениям. 10 5. Критика К. И. Чуковского об О. Уайльде полемична по отношению к символистской интерпретации и представляет собой попытку демифологизации сложившегося в русской печати образа писателя и исследование его новаторской поэтики. 6. Критический метод К. И. Чуковского типологически сближает его статьи с эстетическими трактатами-диалогами Уайльда в сборнике «Замыслы»: идеи эстетизма о художественном творчестве решены в стилистике гиперболы и имеют полемическую заостренность. Научная новизна диссертации определяется обращением к междисциплинарной проблеме взаимодействия русской и английской литературы рубежа XIXXX вв. В исследовании впервые осуществлена попытка периодизации освоения литературного наследия О. Уайльда в русской журнальной периодике с точки зрения эволюции рецепции творчества О. Уайльда. Горизонты ожиданий в русской литературе нашли отклик в оценке О. Уайльда как писателя, близкого символизму. Научно-практическая значимость. Представленный материал может быть использован при изучении истории русской литературной критики конца XIX — начала XX вв., курсов истории русской и зарубежной литературы, а также при разработке спецкурса, посвященного восприятию О. Уайльда в России Серебряного века. Достоверность результатов исследования подтверждается верификацией историко-литературных материалов во время работы с изданиями, аутентичными эпохе начала ХХ столетия, а также апробацией результатов диссертации, которая проходила во время обсуждений этапов работы на заседаниях кафедры филологии, журналистики и медиакоммуникаций Омской гуманитарной академии и докладов на научных конференциях. Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации апробированы на научных конференциях международного и регионального уровня: the Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference (Вена, 2013), XVII международная научно-практическая конференция «Современная филология: теория и прак- 11 тика» (Москва, 2014), «Наука и общество: проблемы современных исследований» (Омск, 2014), «М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, творчество» (Омск, 2014), «Наука и образование в жизни современного общества» (Тамбов, 2014). Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка (197 наименований). 12 ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА РЕЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В РУССКОЙ ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX В. § 1.1 Теоретические основы изучения литературной рецепции: рецептивная теория и ее предпосылки К концу 60-х гг. XX в. в рамках литературоведения сложилось направление философско-эстетической мысли, получившее название рецептивной эстетики. Его основополагающей идеей стало положение о том, что литературный текст не есть неизменная объективная данность, подлежащая интерпретации, но, напротив, нечто, что каждый раз воспроизводится, «рождается» в процессе чтения и, соответственно, «существует» главным образом в сознании читателя. Основатели направления считали, что лишь прочтение литературного произведения «высвобождает текст из материи слов, дает ему актуальное здесь-бытие» [175, с. 58], приводит к «ключевому взаимодействию между его структурой и получателем» [Цит. по: 94, с. 184]. Новое направление строилось на отказе от мысли о жесткой и однозначной сращенности художественного произведения и смысла и стремилось преодолеть ту односторонность, к которой привело толкование литературного текста как акта выражения (национальной идеи, «духа эпохи», авторского невроза...), рассматривая его как акт сообщения, т.е. как «продукт, который нужно анализировать в его социальном функционировании» [197, с. 419]. При таком подходе история возникновения произведения, его генезис, отношение к традиции и, главное, сам автор оказывались на периферии, либо за пределами исследовательского внимания. На первый план выходили отношения между произведением и читателем, анализ которых производится с привлечением средств герменевтики, формального, социологического и психологического подходов. Программным текстом школы рецептивной эстетики стала лекция Х.-Р. Яусса «История литературы как провокация литературоведения» (1967), в которой ученый обозначил проблему, обусловившую кризис литературоведческой 13 науки, как «рассогласование, разрыв эстетического и исторического рассмотрения литературы» [175, с. 35] и наметил пути преодоления этого разрыва, сформулировав ряд тезисов нового методологического подхода. Новизна рецептивной эстетики Яусса состояла главным образом во включении в концептуально- исследовательский аппарат теоретика и историка литературы фигуры читателя. Этот неотъемлемый участник литературного процесса прежде вытеснялся из поля зрения исследователя, нацеленного на изучение творческой индивидуальности «автора» и «авторского замысла». Между тем, именно в читательской рецепции, которая опосредованно формирует, поддерживает и ломает те или иные традиции, Яусс усматривал главное содержание истории литературы. Смысл произведения в рамках теории рецептивной эстетики не является постоянной, статичной величиной — он меняется в зависимости от рецепции. Соответственно, исследователя интересует становление смысла, происходящее в процессе эстетического воздействия, диалога произведения и публики. Анализ эстетического воздействия становится возможен, благодаря установлению транссубъективного «горизонта ожидания», который предшествует как психологической реакции, так и субъективному пониманию отдельного читателя. «Горизонт ожидания» публики представляет собой своего рода предпонимание литературного произведения — его жанровых особенностей, формы и тематики — и может быть реконструирован на основе побудительных сигналов, присутствующих в самом тексте произведения, а также исходя из внешних по отношению к тексту произведения факторов: из известных норм и поэтики жанра, из отношений к известным произведениям литературно-исторического окружения и из противоположности вымысла и действительности, поэтической и практической функций языка (последний фактор заставляет читателя «воспринимать новое произведение в двойном ракурсе: в более узком горизонте своих литературных ожиданий и в широком горизонте своего жизненного опыта» [Там же. С. 62]). Художественное произведение может и соответствовать читательскому «горизонту ожидания», и расходиться с ним, требуя его трансформации. Степень этого расхождения в терминологии Яусса обозначается как «эстетическая дистанция». По характеру 14 и величине «эстетической дистанции» можно судить об эстетической ценности. Произведение, всецело отвечающее ожиданиям публики, ее предшествующему эстетическому опыту, «удовлетворяет потребность в воспроизведении рутинных определений прекрасного» и тяготеет к области развлекательного искусства. В свою очередь, произведение с большой «эстетической дистанцией», поначалу не понятое и отвергнутое, может в итоге привести к «смене горизонта ожидания», санкционировать его новый канон — стать классикой. В связи с этим Яусс предостерегает от толкования классики как некоей «самопроизвольной эманации» вечных истин, соединяющих прошедшие эпохи и современность, говоря, что такое понимание «мешает увидеть, что классическое искусство в свое время не было классическим, а, напротив, открывало некогда новые способы видения, предопределяло новый опыт» [Там же. С. 70]. Согласно теории Яусса, классическим текстом является текст максимально открытый для интерпретаций, т. к. «закрытость» для истолкования неминуемо приводит к забвению — текст не может более быть актуализирован читательской рецепцией и его существование во времени прекращается. В то же время «ренессанс» забытой литературы также оказывается возможен благодаря новой рецепции: потенциальные значения произведения, отсутствовавшие в горизонте первичного восприятия, могут быть актуализированы в новом. Основополагающей идеей разрабатываемой Яуссом методологии изучения истории литературы стало положение: «литературная традиция не может творить себя сама» [Там же. С. 73], история литературы — это история рецепции. Идеи рецептивной эстетики получили продолжение в работах В. Изера. В отличие от своего коллеги Х.-Р. Яусса, который разрабатывал теорию рецепции применительно к истории литературы, оперируя массивным историческим и социологическим материалом и прибегая к описанию рецепции отдельных произведений исключительно в иллюстративных целях, Изер сосредоточился на «микрокосме» рецептивной эстетики — читателе и процессе чтения. В статье «Процесс чтения: феноменологический подход» ученый настаивал на том, что при рассмотрении литературного произведения в качестве объекта анализа должен выступать не только текст произведения сам по себе, но и — в 15 равной мере — отклик читательского сознания, происходящий в процессе чтения [183, p. 279]. Вслед за польским философом Р. Ингарденом Изер проводит различие между литературным произведением, взятым в его схематической структуре, и его конкретизацией, получаемой при чтении. Из этого различия следует, что литературное произведение как таковое не может быть отождествлено ни с текстом, т. к. текст актуализируется лишь в процессе осмысления, ни с самим осмыслением, т. к. оно ограничивается индивидуальной конкретизацией, а пролегает где-то между этими двумя полюсами, всегда оставаясь, таким образом, в области виртуального. Именно виртуальностью литературного произведения обусловлена его динамическая природа, неизменно раскрывающаяся в процессе чтения. Всякий литературный текст, по мнению Изера, сохраняет в себе долю неопределенности, для того чтобы чтение было активным, творческим. Читатель, сталкиваясь с неопределенностью схематической структуры текста, оказывается вовлечен в созидательный процесс игры воображения, необходимый для осуществления ее конкретизации. В противном случае, высокая степень конкретности текста не оставляет возможности для читателя включиться в сотворческий процесс — такой текст попросту вызывает скуку и не может оказать существенное эстетическое воздействие. В то же время, слишком высокая степень неопределенности может сделать процесс чтения напряженным и тем самым фрустрировать, оттолкнуть от себя читателя. Таким образом, эстетическое воздействие литературного произведения в немалой степени обусловлено «ненаписанной» его частью, взывающей к читательскому воображению. При этом «домысливаемое» читателем находится в непрекращающемся динамичном взаимодействии с собственно текстом литературного произведения: текст накладывает определенные ограничительные рамки на возможные «ненаписанные» включения, чтобы они не были слишком туманными и размытыми, и в то же время эти включения, являющиеся плодом читательского воображения, существенно углубляют смысл описываемого в произведении, придавая ему многозначительный фон. 16 С точки зрения Изера, присущая литературному произведению динамическая природа может быть раскрыта и наиболее адекватно описана с использованием феноменологического подхода. Опираясь на работы по эстетике Р. Ингардена и феноменологию Э. Гуссерля, В. Изер рассматривает текст как гештальт, составные части которого — простые высказывания — в своей сумме не образуют единое целое без активного участия читателя. Читатель, тем или иным образом устанавливая связи между высказываниями, воссоздает то, что можно назвать «миром художественного произведения». При этом «мир» этот не проходит перед его глазами, подобно фильму. Следующие друг за другом предложения текста образуют коррелирующие компоненты, которые имеют перспективное и ретроспективное влияние друг на друга. С одной стороны, в процессе чтения непрерывно формируются ожидания относительно продолжения, которые в художественном тексте не столько удовлетворяются, сколько постоянно подвергаются изменениям. С другой — происходящие изменения ожиданий оказывают ретроспективный эффект на уже прочитанное, которое, будучи вызвано в памяти, получает новый контекст, благодаря чему читатель может устанавливать ранее не предвиденные связи. Так, читатель, устанавливающий отношения между прошлым, настоящим и будущим, заставляет текст произведения раскрыться в потенциальном многообразии внутренних связей. Эти связи не являются неотъемлемой частью текста (который есть лишь набор предложений, высказываний), но представляют собой результат работы читательского сознания над текстом. Художественное произведение, таким образом, виртуально в том смысле, что «рождается» в соединении текста и воображения читателя и не сводимо ни к тексту, ни к воображению в отдельности. Именно в необходимом деятельном участии читателя, по наблюдению Изера, стоит искать объяснение тому ощущению реальности, которое сопутствует чтению художественных произведений: «Тот факт, что совершенно разные читатели могут по-разному воспринимать „реальность“ конкретного текста, служит достаточным доказательством того, в какой степени чтение литературных текстов 17 является творческим процессом, который гораздо шире простого восприятия написанного»1 [Ibid. P. 283]. Так как даже самое простое произведение сохраняет в себе известную долю неопределенности, которая требует преодоления читателем, анализ текста произведения, по мысли Изера, должен быть нацелен, во-первых, на выявление этих «точек неопределенности» — «смысловых пробелов», апеллирующих к воображению читателя — и, во-вторых, на реконструкцию активности читательского сознания, которую эти «пробелы» пробуждают. Для того чтобы подобная реконструкция могла быть осуществлена, Изер отделяет реально-исторического, «эксплицитного» читателя от идеальной модели, выводимой из самого текста — подразумеваемого, «имплицитного» читателя. «Имплицитный» читатель в отличие от «эксплицитного» не имеет какого-либо конкретного исторического и социокультурного горизонта, а является теоретическим конструктом, воссоздаваемым по тому контуру диалога между читателем и текстом, который проступает при рассмотрении текста произведения как апелятивной структуры. В трудах Х.-Р. Яусса и В. Изера были разработаны два различных, но взаимосвязанных направления рецептивной теории, обусловленных самой ее основополагающей двойственностью: с одной стороны, рецептивная теория имеет дело с рецепцией, т. е. восприятием художественного произведения, а с другой — с воздействием, которое текст произведения оказывает на читателя. В то время как рецептивная эстетика Яусса «видит свою цель в том, чтобы реконструировать понимание текста в прошлом и тем самым заложить основы научной дисциплины, которую можно было бы назвать исторической семантикой литературы» [96, с. 60], интерес Изера направлен на эстетический отклик, который существует в рамках взаимодействия между читателем и текстом, на то, каким образом возникающая при чтении виртуальная реальность произведения, не имея равнозначного соответствия в реальном мире, может быть освоена и понята читателем. Главное 1 «The fact that completely different readers can be differently affected by the “reality” of a particular text is ample evidence of the degree to which literary texts transforms reading into a creative process that is far above mere perception of what is written». 18 различие между своей теорией эстетического отклика и рецептивной эстетикой Яусса Изер сформулировал так: «последняя имеет дело с реальными читателями, реакции которых являются свидетельством исторически обусловленного опыта восприятия литературы, тогда как первая обращает внимание на то, что текст заставляет делать своих читателей» [Там же. С. 61]. Рецептивная теория, благодаря выдвинутому ею подходу в изучении литературы, в течение долгого времени серьезно претендовала на статус новой научной парадигмы [175, с. 34]. Тем не менее стоит отметить, что сама концептообразующая проблематика рецептивной теории, по сути, сводившаяся к отказу от романтических представлений о художнике-творце и, как следствие, от поисков единственно верного смысла произведения, соответствующего его замыслу, не отличалась принципиальной новизной и имела множество предпосылок как в современном искусстве, так и внутри самой филологической науки. Так, например, парадоксальную для своего времени мысль еще в начале XIX в. высказал немецкий философ Ф. Шлейермахер: «Мы понимаем автора лучше, чем он сам себя, так как им многое из этого не осознается, что должно стать осознанным нами, частью уже в общем, при первом просмотре, частью же в деталях, при возникновении отдельных трудностей» [Цит. по: 97, с. 691]. Трактовка понимания, предполагающая, что исследователь текста может понимать его лучше его создателя, по существу, закладывала основание для объяснения возможности множества интерпретаций художественного произведения и предвосхищала важнейшие положения рецептивной эстетики. Фундаментальную для рецептивной теории идею об искусстве, которое не передает готовую мысль, а пробуждает в читателе его собственную, можно найти в трудах А. А. Потебни, опиравшегося, в свою очередь, на другого классика филологии — В. Гумбольдта: «Искусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих. Слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что 19 скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании» [134, с. 28]. К этой проблеме впоследствии неоднократно возвращался М. М. Бахтин, полагавший, например, что «высказывание с самого начала строится с учетом возможных ответных реакций, ради которых оно, в сущности, и создается. Роль других, для которых строится высказывание, чрезвычайно велика… эти другие… не пассивные слушатели, а активные участники речевого общения. Говорящий с самого начала ждет от них ответа, активного ответного понимания. Все высказывание строится как бы навстречу этому ответу» [52, с. 275]. Кроме того, как и создатели рецептивной теории, Бахтин настаивал на неотождествимости текста и произведения: «текст — печатный, написанный или устный = записанный — не равняется всему произведению в его целом (или „эстетическому объекту“). В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его» [Там же. С. 369]. Размышляя о феномене понимания художественного произведения, Бахтин говорит о нем, как об акте, «восполняющем» текст — этот акт нельзя свести к «вчувствованию», становлению себя на чужое место: «Нельзя понимать понимание как перевод с чужого языка на свой язык… Могучее и глубокое творчество во многом бывает бессознательным и многосмысленным. В понимании оно восполняется сознанием и раскрывается многообразие его смыслов. Таким образом, понимание восполняет текст: оно активно и носит творческий характер» [Там же. С. 346]. Своеобразный синтез философских идей В. Гумбольдта, А. А. Потебни и М. М. Бахтина можно увидеть в герменевтике Г.-Г. Гадамера, в отталкивании от которой и происходило становление рецептивной эстетики. Гадамер указывает на то, что «понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям, а не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное» [87, с. 17]. Понимание, таким образом, происходит в неизбежном движении по кругу, т. к. «за попыткой прочесть и намерением понять нечто „вот тут“ 20 написанное „стоят“ собственные наши глаза (и собственные наши мысли), коими мы это „вот“ видим» [Там же. С. 18]. Следовательно, постулат, согласно которому подразумеваемое автором надлежит понимать в «его собственном смысле» вовсе не означает выяснение того, что автор имел в виду — «значение этого постулата радикально иное: понимание может выходить за пределы субъективного замысла автора, более того, оно всегда и неизбежно выходит за эти рамки» [Там же]. Наконец, многое для того, чтобы исследовательский интерес сместился с авторского намерения и идеи произведения к воздействию текста и читательской рецепции, было подготовлено самим современным искусством. Именно оно главным образом, как пишет В. Изер, посеяло сомнение в том, что «у текстов есть содержание, которое является носителем смысла» [96, с. 62]. Явные предпосылки для этого можно усмотреть и в творчестве О. Уайльда, его философскоэстетических установках. Как известно, парадокс был не просто излюбленным стилистическим приемом английского писателя, но выражением его философии, способом осмысления действительности. Уайльд всячески противился любому простому разделению на правду и ложь. Его релятивистское отношение к искусству блестяще сформулировано в афоризме из «Правды масок»: «Истина в искусстве отличается тем, что обратное ей также верно». Отсюда прямым образом следует невозможность единственно верной интерпретации того или иного произведения искусства. Соответственно, критика произведения, в глазах Уайльда, не должна сводиться к поиску как бы спрятанного в нем смысла, но должна быть сотворческой, расширяющей свой предмет. Можно предположить, что, как и его современник А. А. Потебня, Уайльд видел сущность и силу произведения не в том, что вложил в него автор, а «в неисчерпаемом возможном его содержании», которое раскрывается в читательской рецепции. Об этом, в частности, свидетельствует следующее высказывание английского писателя: «Чем богаче произведение искусства, тем более многообразны подлинные интерпретации. Существует не один, а множество ответов. Мне жаль ту книгу, по поводу которой критики сошлись во мнениях. Это, должно быть, очень неглубокое, тривиальное произведение» [193]. В случае с Уайльдом 21 можно говорить об осознанной ориентированности на открытость его творчества для максимально широкого спектра интерпретаций. Тексты Уайльда не чужды игровых техник, непосредственно нацеленных на сотворческий отклик читательского сознания. Идея зрителя, читателя — центральная для критики Уайльда. Вспомним афоризм из предисловия к «Портрету Дориана Грея»: «Искусство – зеркало, но отражает оно не жизнь, а смотрящего в него»1. Будучи романтиком и индивидуалистом, Уайльд как автор явно не мыслил себя единственным субъектом эстетической активности. § 1.2 Три этапа освоения художественного наследия О. Уайльда в России Освоение творчества О. Уайльда в России рубежа XIX и XX вв. происходило поэтапно. Исследуя изменение отношения к Уайльду в литературной критике и рост его популярности в читательской среде, можно выделить три периода, хронологические рамки которых размыты, но дифференциация очевидна. Для первого периода характерно следующее: в круг лиц, интересующихся творчеством О. Уайльда, входит лишь небольшая прослойка русской интеллигенции. В 1892 г. статья об О. Уайльде выходит в шестом томе энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, в прессе о неизвестном в России писателе появляются первые упоминания, связанные с его успехами на поприще драматурга [43; 91]. Сенсационный судебный процесс, за которым последовало тюремное заключение Уайльда, привлекает внимание российских газет: серию репортажей публикуют «Новое время» и «Гражданин»2. В 1897 г. у русских читателей появляется возможность ознакомиться с творчеством Уайльда: в журнале «Театрал» выходит перевод пьесы «Веер леди Уиндермир» (под заглавием «Загадочная женщина»). 1 «It is the spectator and not life that art really mirrors». 2 О подоплеке столь пристального внимания к судебному процессу с участием совер- шенно неизвестного русской читательской аудитории писателя см. статью Е. Бернштейна «Русский миф об Оскаре Уайльде» [60]. 22 В следующем году сказки О. Уайльда («Преданный друг» и «Счастливый принц») печатает журнал «Детский отдых». Из немногочисленных публикаций, посвященных английскому писателю во второй половине 1890-х гг., можно выделить статьи А. Л. Волынского в «Северном вестнике» [83; 84], И. В. Шкловского (Дионео) в «Русском богатстве» [170; 171], З. А. Венгеровой в журналах «Cosmopolis» [70], «Книжки недели» [76] и «Вестник Европы» [73]. Венгерова также посвящает Уайльду главу в своей книге «Литературные характеристики» (1897). В 1900-е гг. освоение творчества Уайльда переходит в новую стадию главным образом благодаря деятельности московских символистов, объединившихся вокруг журнала «Весы». После резонансного выступления К. Д. Бальмонта в московском Литературно-художественном кружке в ноябре 1903 г. (текст выступления опубликован в дебютном номере «Весов»), темой которого было творчество Уайльда, английский писатель превращается в явление, напрямую связанное с русской литературной повседневностью. Один за другим появляются переводы произведений Уайльда. В 1904 г. в двух символистских издательствах — «Гриф» и «Скорпион» — выходят «Баллада Редингской тюрьмы» и «Саломея» в переводе Бальмонта. В мартовском номере «Весов» 1905 г. публикуются посмертно фрагменты тюремного послания Уайльда «De profundis» в переводе Е. Андреевой. В 1906 г. под маркой издательства «Гриф» появляется роман «Портрет Дориана Грея» в переводе А. Минцловой. Растущая популярность Уайльда быстро привлекает внимание коммерчески ориентированных издательств. Так, в 1905 г. издательство В. М. Саблина берется за выпуск первого собрания сочинений Уайльда. Имя писателя в этот период все чаще встречается на страницах периодики, причем резко критические отзывы и поверхностные заметки начала 1900-х гг. [например: 42; 46; 126; 144] уступают место более глубокомысленным и содержательным статьям. Внимание к Уайльду в «Весах» не ослабевает вплоть до остановки деятельности журнала в 1909 г. Особая роль принадлежит секретарю журнала М. Ф. Ликиардопуло, который со временем зарекомендовал себя как выдающийся переводчик и авторитетнейший знаток творчества Уайльда. Во второй половине 1900-х гг. активно публикуются сказки и комедии Уайльда. С 1907 г. 23 произведения Уайльда появляются на сценах российских театров: московский театр Корша показывает комедию «Веер леди Уиндермир» (1907), в Малом театре идет «Идеальный муж» (1908), в петербургских Михайловском театре и Театре В. Ф. Комиссаржевской ставят «Саломею» (1908). Третий период характеризуется тем, что, оставаясь значительной фигурой в кругу поклонников «нового искусства», Уайльд, вместе с тем, окончательно утверждается как автор, востребованный среди массового читателя. В 1910-е гг. его популярность достигает своего апогея и постепенно идет на спад. Издания английского писателя, прежде славившегося сомнительной репутацией, приобретают по-настоящему демократический характер. Так, в издательстве «Польза» в серии «Универсальная библиотека» большими тиражами и в самой доступной ценовой категории выходят произведения, Уайльда преимущественно в переводах М. Ф. Ликиардопуло. В 1912 г. в качестве бесплатного приложения к популярному семейному журналу «Нива» публикуется собрание сочинений Уайльда под редакцией К. И. Чуковского. 24 ГЛАВА 2. О. УАЙЛЬД В КРИТИКЕ З. А. ВЕНГЕРОВОЙ Первой попыткой в русской печати осмыслить творчество О. Уайльда, определить его место в современной английской литературе считается статья под заголовком «Вильде (Оскар Wilde)» в шестом томе энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, вышедшего в 1892 г. В небольшой по объему словарной статье дается автобиографическая справка о «современном английском поэте»: «Родился в Дублине в 1856 г. По окончании курса в Оксфордском университете в 1879 г. поселился в Лондоне и сделался одним из организаторов эстетического движения в живописи и поэзии, известного под именем прерафаэлитизма или английского возрождения. Школа эта, образовавшаяся из поклонников Китса, Д. Розетти, Морриса, Свинборна, мечтала о соединении и проникающего его чувства красоты со страстностью романтизма. Вильде посвятил всю свою литературную деятельность защите принципов своей школы в стихах и прозе» [81]. Далее упоминается собрание стихотворений, изданное в 1880 г., «из которых особенно красиво «The Garden of Eros», с воспоминаниями о Китсе и других именах, дорогих английскому романтизму. Этим сборником и последующими, из которых самый недавний — «House of Pomegranates», В. занял выдающееся место среди poetae minores века Виктории» [Там же]. Упоминается лекционная деятельность в Америке, куда писатель отправился в 1881 г., драма «Vera», представленная в Нью-Йорке в 1882 г., «The Happy Prince and other fairytales», появившиеся в 1888 г. Перечислены несколько периодических изданий, опубликовавших критические статьи Уайльда. Упоминается «оригинальная теория шекспировских сонетов» и «роман из современной жизни: Dorian Grey». Эта чрезвычайно лаконичная словарная статья, тем не менее, полна неточностями. Из шести дат, упомянутых в тексте, неверны четыре: издание собрания стихотворений — 1880 г. вместо 1881 г.; окончание университета и переезд в Лондон — 1879 г. вместо 1878 г.; первая драма Уайльда «Вера, или Нигилисты» была поставлена в Соединенных Штатах не в 1882 г., как указывается в статье, а в 1883 г., и, самое главное, неверно указан год рождения Уайльда — 1856-й вместо 25 1854-го, — впрочем, эта ошибка широко распространена в работах об Уайльде как в России, так и за рубежом. В этом более всего повинен сам писатель, который был склонен мистифицировать свой возраст и даже на суде назвал неверный год рождения, чем зарекомендовал себя как не слишком надежный свидетель [177, p. 16]. Неверной представляется характеристика Уайльда как «организатора эстетического движения в живописи и поэзии, известного под именем прерафаэлитизма или английского возрождения». Венгерова объединяет здесь два родственных, но отличных друг от друга течения. Уайльд не мог быть организатором движения прерафаэлитов, — как может показаться по прочтении статьи, — расцвет этого движения пришелся на 1850-е гг. Но ввиду неоднородности английского эстетизма и отсутствия на момент написания статьи его объективной оценки, подобное сращение двух направлений в искусстве могло быть оправдано. Более того, виновником подобной аберрации критического взгляда отчасти был и сам английский писатель, который, будучи поклонником прерафаэлитов, активно популяризовал «английское возрождение» в их лице. Примечательно, что Уайльд в статье аттестуется в первую очередь как один из второстепенных английских поэтов современности, автор нескольких поэтических сборников, к которым причисляется и сборник сказок «Гранатовый домик» («House of Pomegranates»). К моменту выхода статьи объем и значение опубликованной прозы Уайльда были существенно выше объема и значения его поэтических произведений. Опубликован сборник рассказов «„Преступление лорда Артура Сэвила“ и другие истории» (1891) и два сборника сказок — «Счастливый принц» (1888) и «Гранатовый домик» (1891). С 1887 по 1889 г. Уайльд — известный на весь Лондон журналист, редактор журнала «Женский мир». Опубликован цикл диалогов и статей, излагающих эстетические взгляды Уайльда — «Упадок лжи» (1889), «Критик как художник» (1890). Единственный роман Уайльда, вознесший его на новый уровень популярности, вышел в свет в 1890 г. Вот-вот будет поставлена первая из цикла великосветских комедий «блистательного Оскара» — «Веер леди Уиндермир» (1892). Еще не была напечатана, но уже была написана 26 одноактная драма «Саломея» (1891). Последний и единственный сборник стихотворений и поэм вышел в 1881 г. Таким образом, выделение поэзии как главенствующего направления справедливо только в отношении раннего периода творчества Уайльда. В этом смысле характеристика в статье русского энциклопедического словаря была не столько неверной, сколько неактуальной. О фрагментарности сведений, по которым была написана статья, косвенно говорят неполные названия упоминаемых произведений — «Vera», «Dorian Grey», а также фамилия писателя, транслитерированная в статье побуквенно, а не пофонемно. Одно из первых упоминаний О. Уайльда в русской печати стало одновременно и первой попыткой осмыслить его творчество, что тем более примечательно на фоне полного отсутствия изданий Уайльда на русском языке. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, выпускавшийся с 1890 г., первоначально содержал переводы на русский язык статей энциклопедии Брокгауза. Таким образом вышли 8 томов (до буквы «В»). Последовавшие тома включали в себя, помимо адаптированных переводных, оригинальные статьи и выходили в редакции выдающихся ученых России. Редактором отдела истории литературы был известный историк литературы, библиограф С. А. Венгеров. Статья об Уайльде, подписанная «З.В.», принадлежала перу его сестры — Зинаиды Афанасьевны Венгеровой (1867-1941), русской писательницы, переводчицы, литературного критика, историка западноевропейской литературы. З. А. Венгерова посвящала значительную часть своей литературной деятельности ознакомлению русских читателей с популярными на Западе литературными направлениями. Ей принадлежали первые в русской печати публикации о французском символизме, появившиеся задолго до того, как это направление стало актуальным в русской литературе. Венгерова вошла в историю как одна из первых женщин в русской литературной критике. Роли женщины в искусстве посвящена статья Венгеровой, где в частности говорится: «Служить искусству, быть художником русская женщина смогла, когда индивидуальное дарование получило возможность свободно проявляться, не ограничиваясь никакой замкнутой средой, 27 когда душа художницы могла выйти навстречу обогащающим ее впечатлениям широкой жизни и когда женщинам открылся доступ в школы, в которых они могли приобретать необходимое для творчества образование, общее и специальное» [76]. Стоит отметить, что сама Венгерова получила исключительно хорошее образование: в 1887 г. успешно окончила филологический факультет СанктПетербургских высших женских (Бестужевских) курсов, где под руководством известного литературоведа, представителя истрико-культурной школы А. Н. Веселовского занималась изучением западноевропейской литературы, в частности англо-саксонской литературы, английской литературы XVI в. О своих занятиях она пишет: «Главным предметом моих занятий была история (под руководством проф. В. Г. Васильевского) и история литературы. Слушала лекции проф. А. Н. Веселовского и занималась у него, избрав историю западных литератур своей специальностью. Влияние этих двух профессоров было решающим для моей дальнейшей деятельности» [69, с. 135]. По окончании Бестужевских курсов в 1887 Венгерова прослушала трехлетний курс по истории французской литературы в парижской Сорбонне и осталась в Париже до 1893 г. С 1892 по 1893 г. бывала наездами в Лондоне, а также путешествовала по Италии и Швейцарии. Описывая годы, проведенные в Европе, Венгерова подчеркивает: «...важны эти годы были для меня не университетскими занятиями, а тем, что я имела возможность ближе ознакомиться с французским и английским модернизмом» [Там же. С. 136]. После возвращения в Санкт-Петербург Венгерова сошлась с писателямисимволистами, близкими к журналам «Северный вестник» и «Мир искусства» (Д. Мережковский, З. Гиппиус, К. Бальмонт и др.). В этой среде сформировались убеждения и пристрастия Венгеровой, которые прежде всего связаны с философией символизма. Историко-литературные и критические работы Венгеровой, а также переводы с иностранных языков неоднократно публиковались в журналах «Северный вестник», «Образование», «Мир Божий», «Северный курьер», «Аполлон», «Нива», «Русская мысль», «Новости», «Новый путь». Но в наибольшей степени ее литературная деятельность была связана с журналом «Вестник Европы», постоян- 28 ным автором которого исследователь была с 1889 по 1908 г., а с 1893 по 1908 г. вела отдельную рубрику («Новости иностранной литературы»). В «Вестнике Европы» были опубликованы главные литературно-критические работы, и здесь же произошел своего рода литературный дебют З. А. Венгеровой — статья, посвященная английскому поэту-романтику, «Джон Китс и его поэзия» («Вестник Европы», 1889, № 10-11). Не подлежит сомнению, что статья «Прерафаэлитское движение в Англии», помещенная в «Северном вестнике» в 1896 г. (№ 4, отд. I, с. 109-130) за подписью «З. Воронов», принадлежит перу З. Венгеровой — годом позже, при подготовке к печати первого тома «Литературных характеристик», эта статья была положена ею в основу нескольких глав, посвященных движению прерафаэлитов и ведущим его деятелям. Среди наиболее значимых работ стоит выделить статью «Поэты символисты во Франции», которая пробудила интерес среди русских читателей и критиков к творчеству А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Ж. Мореаса, Ж. Лафорга и была воспринята молодым В. Брюсовым как «целое откровение» [62, с. 55]. Получившая прекрасное образование и опыт заграничной жизни, владевшая европейскими языками (немецкий, французский, английский, итальянский, испанский) Венгерова была страстной поклонницей французского символизма и, будучи известным обозревателем западной литературы, выступила в российской печати как популяризатор символистского искусства. Во французском декадентстве Венгерова почувствовала «освобождающую стихию, его яркий индивидуализм, который разбивает мораль мертвых запретов во имя созидания новых духовных ценностей» [78]. Публикуя ежемесячные отчеты и оперативно ознакомляя русского читателя с состоянием западноевропейской литературы, Венгерова посвящает свои статьи Р. Браунингу, Р. Шеридану, Д. Мередиту, Г. Ибсену, А. Додэ, Э. Верхарну, А. де Ренье, Дж. Рескину, Д.-Г. Росетти, О. Уайльду и др. Стилистически и содержательно работы З. А. Венгеровой тяготеют к историко-литературному академическому исследованию: критик всесторонне анализирует произведения писателя, обращается к истории их создания, приводит мнения иностранных критиков, нередко вступая с ними в полемику, рисует психологический портрет автора. Несмотря на беспристрастность, свой- 29 ственную стилистике ее статей, Венгерова не была посторонней символистскому движению — принципы символизма были как бы движущим элементом ее критики: «Символизм мне казался и продолжает казаться основой модернизма, и в таком смысле я старалась истолковывать его во всех моих работах... Под знаком символизма я воспринимаю всё лучшее, что создавало и создает искусство и в минувшем, и в настоящем» [Цит. по: 68]. Несмотря на философское наполнение, статьи Венгеровой пользовались успехом у широкой аудитории — во многом благодаря своему просветительскому характеру: рассказывая русскому читателю о неизвестных или малоизвестных авторах, критик пишет доступным и ясным языком, дает обширную характеристику общества, эпохи, вводит большое количество биографических данных, нередко даже подробно пересказывает наиболее интересные произведения писателя. Все это делает исследование Венгеровой доступным для понимания неподготовленного читателя. Важно также, что критик не только знакомит читателя с популярными явлениями западноевропейской литературы, но и анализирует влияние русской литературы на Западе, говорит о характере восприятия иностранными читателями русских авторов. З. А. Венегерова по собственному признанию стремилась «выявить духовные ценности современной западной литературы, а также показать духовную связь русских творческих начал с таковыми же на Западе» [74, с. 7-8]. По мнению критика, именно русские романисты — И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой — способствовали возрождению интереса французской литературы к духовной стороне жизни, к метафизическим основам бытия. З. А. Венгерова также вела рубрики в иностранных изданиях: «Lettres russes» в «Mercure de France» (1897-1899); отчеты о новых явлениях русской литературы в «Saturday Review» (1902-1903); «La femme russe» в «Revue des revues» (1897, сентябрь), «Das jungste Russland» в «Magazine fur die Litteratur des Auslands», — писала для французов, англичан и немцев о Чехове, Сологубе, Гиппиус, Горьком, Андрееве, Толстом, Достоевском и других русских писателях, ратуя за внутреннее сближение культур через искусство. 30 Венгерова не раз обращалась к литературному наследию Уайльда в своей критике. Статья «Оскар Уайльд и английский эстетизм» составила одну из глав в первой опубликованной книге Венгеровой «Литературные характеристики» (1897), где Уайльд соседствует с Данте, Д. Мередитом, Д. Г. Росетти, В. Моррисом, Боттичели, Франциском Ассизским. В предисловии автор подчеркивает, что «задача этой книги отметить характерные явления современной литературы и искусства Западной Европы, показать общую идейную основу в творчестве современных поэтов и художников разных европейских стран» [75, с. 4]. В некоторых письмах, упоминая эту книгу, Венгерова называет ее книгой по символизму. Этим объясняется весьма разношерстная подборка характеристик: понимая символизм несколько шире, чем новомодное литературное течение, критик воспринимала выбранных ею авторов как символистов, на что рецензенты реагировали с недоумением. Один из рецензентов писал: «Почему она старается поставить в ряду символистов даже таких авторов, которые, по существу, ничего символического в себе не имеют. <...> Почему Мередит попал в символическую коллекцию, в одну компанию с Уайльдом и Гюисманом, нам совершенно непонятно... Едва ли подходят в ту же категорию Ибсен и Гауптман, оба великие таланты <...>, имеющие вряд ли что родственное с болезненными настроениями английских прерафаэлитов и низменной символистикой французов» [103, с. 5]. Негативные отклики на «Литературные характеристики» в 1897 г. были связаны с неоднозначным отношением русской критики к модернизму в целом. Уже в 1903 г., когда символизм в России находил все большее признание читателей и критиков, вторая и третья книги «Литературных характеристик» были встречены более благосклонно. Глава «Оскар Уайльд и английский эстетизм» несет в себе ряд проницательных оценок эстетизма, который, по мнению автора, восходит к движению прерафаэлитов и представляет собой ответную реакцию на низведение прерафаэлитских идеалов до уровня интеллектуальной и артистической моды. В то же время сам эстетизм выйти за рамки интеллектуальной моды оказывается не способен: лишенной глубоких религиозных настроений, он ограничивает свою роль критикой серой действительности и протестом против шаблонности. Стремясь 31 «уйти от всего пошлого, условного, от предрассудков, уродующих жизнь, от мнимой красоты и буржуазной морали и создать новое искусство, не повторяющее жизнь, а открывающее новые идеалы, творящее новый, более прекрасный и своеобразный мир» [Там же], эстетизм, тем не менее, по мнению автора, оказывается «слишком слабым для положительного творчества» [Там же. С. 63-64]. Венгерова отмечает общность между английским эстетизмом и дендизмом Дж. Брюммеля и Ш. Бодлера: ориентация на искусственность, предание огромного значения внешности и оригинальность, граничащая с оригинальничаньем. Заимствовавший у прерафаэлитов их понимание красоты и усвоивший их художественные идеалы, но чуждый вдумчивому глубокому настроению, составляющему сущность прерафаэлитизма, английский эстетизм, по мнению автора, лишь преходящее явление моды, которое тем не менее имеет своих талантливых представителей в литературе и искусстве, самым ярким и интересным из которых является Оскар Уайльд. Основной чертой Уайльда, по мнению Венгеровой, — что прекрасно вписывается в ее видение эстетизма — является дерзновение, способность опрокидывать непререкаемые до сих пор истины и из этой морали «наоборот» составлять свои идеалы в искусстве и жизни. Автор пересказывает знаменитый уайльдовский афоризм о первостепенности искусства и подражательной роли природы, предлагая смягчить вызывающую парадоксальность и увидеть за крайними выводами зерно истины — «понимание созидательной роли искусства и свободы истинного идеалистического искусства от жизни и от преходящих жизненных задач» [75, с. 66]. Венгерова обращает внимание читателя на то, что взгляд на критику, излагаемый в диалоге Уайльда «Критик как художник», восходит к эстетической критике Уолтера Пейтера и исповедуется всей новейшей критикой в Англии, но справедливо замечает, что формулировка этого понимания критики принадлежит именно Уайльду и, «как все остальное, он доводит ее до парадокса». По мнению Венгеровой, жанровое деление произведений Уайльда часто носит условный характер, так как «фабула играет в них очень малую роль и служит 32 лишь предлогом для отражения его душевной жизни и для развития его оригинальных идей в ряде афоризмов, парадоксальных проповедей и т. п. Героем его произведений является всегда тот же автор под той или иной маской» [Там же. С. 67]. Исследовательница дает проницательную оценку романа «Портрет Дориана Грея» и видит в нем не проповедь порока, как многие критики, но нечто не лишенное традиционной поучающей морали, фактически соглашаясь с Уайльдом, который считал свой роман даже слишком нравственным [174, с. 368]. «Несмотря на то, что Дориан Грей <...> порочен и возводит в идеал свое презрение к „предрассудкам нравственности“, идущим вразрез с красотой, — пишет Венгерова, — самый роман не может быть назван проповедью порочности. Напротив, сам герой погибает жертвой своего отношения к требованиям совести»1 [75, с. 68]. Самым значительным произведением Уайльда, по мнению исследовательницы, является «Саломея». Венгерова тонко подмечает стремление Уайльда «изображать души почти наивные в своем непонимании добра и прекрасные по тому чувству внутренней свободы, которое заменяет у них нравственные принципы» [Там же]. Примечательно, что и в эту публикацию Венгеровой об Уайльде закрались фактические ошибки. В частности, «A House of Pomegranates» все еще числится как сборник стихотворений, но, кроме того, авторству Уайльда приписывается роман-пародия «Green Carnation» («Зеленая гвоздика», 1894), сочиненный Робертом Хинчезом и вышедший в Англии анонимно2. Каждая глава «Литературных 1 Ср.: Ричард Эллман приводит слова Уайльда «в попытке убить совесть Дориан Грей убивает себя» [174, с. 368]. 2 Роман «Зеленая гвоздика» был напечатан под фамилией своего настоящего автора в журнале «Русская мысль» в 1899 г. Тем не менее, из-за ошибки Венгеровой в России долгое время автором «Зеленой гвоздики» считался Уайльд. К. И. Чуковский, готовивший в 1912 г. собрание сочинений Уайльда, обратился к находившемуся в Париже М. А. Волошину с предложением «разыскать и перевести на русский язык произведение О.Уайльда “The Green Carnation”», которое Чуковский, по его словам, не мог достать в России. [132, с. 88]. 33 характеристик» является развернутым вариантом статьи, ранее опубликованной в том или ином периодическом издании. Так, глава «Оскар Уайльд и английский эстетизм» имеет своей основой литературный обзор «Зеленой гвоздики», вышедший в шестом томе «Вестника Европы» за 1895 г. и начинающийся словами: «„The Green Carnation“ (Зеленая гвоздика) хотя и не носит на обложке имени автора, но выдает с первых строчек оригинальную манеру самого блестящего из современных английских „эстетов“» [72, с. 437]. Нужно отметить, что многие критики как в Лондоне, так и за его пределами приняли анонимную пародию на эстетизм за чистую монету и приписывали авторство Уайльду, якобы скрывавшему себя ввиду того, что в книге присутствуют намеки на гомосексуальную связь главных героев. Беллетрист Роберт Хинчез входил в близкое окружение Уайльда, и, будучи пародийной, его книга носит отчасти документальный характер: Оскар Уайльд и Альфред Дуглас выведены под именами Эсме Амаринта и Реджинальда Дугласа. По мнению Венгеровой, роман представляет собой изложение «целой системы эстетизма в разговорах нескольких праздных людей с тонкими нервами и артистическими наклонностями» [75, с. 69], и именно по этой книге «можно изучить сущность этого своеобразного явления в умственной жизни Англии» [72, с. 437]. Фейерверк остроумия главных героев сводится к «систематичному признанию белым того, что до сих пор считалось черным» [75, с. 69] и ценен опятьтаки именно своим дерзновением. Одной из особенностей романа, замечает исследовательница, является то, что «автор не навязывает читателю своего эстетизма, не выставляет своих героев „солью земли“, а рисует все их смешные и мелкие стороны, влагая разумную критику их в уста симпатичной представительницы здравого смысла» [Там же. С. 70]. Несмотря на это, Венгерова восхищается парадоксами Амаринта и окружающих его подражателей (которые, видимо, действительно принадлежали Уайльду ввиду отчасти документального характера книги): «его интеллектуальность столь художественна, что читатель начинает усматривать за этими парадоксами нечто более глубокое, чем просто оригинальничанье, — острый ум, освободившийся от всяких иллюзий, и тоскующую душу, 34 скрывающую свое бесплодное тяготение к великому под маской цинизма» [Там же]. Тем не менее, стоит отметить, что «Зеленая гвоздика», будучи беллетризацией и пародией, уступает в художественном отношении подлинным произведениям Уайльда и выставляет его эстетическую и этическую позиции в несколько упрощенном, одностороннем виде. Таким образом, включение «Зеленой гвоздики» в литературный багаж Уайльда не могло не сказаться на формировании целостного представления Венгеровой об эстетизме и о самом Уайльде как о писателе. Следующий раз Венгерова возвращается к Уайльду в связи с возобновляющимся в Европе интересом к писателю, умершему «в очень печальных обстоятельствах» [71, с. 430]. Время пристального внимания к Уайльду, связанного с событиями последних лет его жизни, прошло, и оценкой творчества писателя занялись исследователи. В Берлине в 1904 г. выходя в свет книга Карла Гагемана «О. Уайльд» и переведенная на немецкий язык драма «Герцогиня Падуанская» — эти два издания становятся поводом для литературного обзора в рубрике «Новости иностранной литературы» первого тома «Вестника Европы» за 1905 г. В кратких чертах Венгерова пересказывает биографию писателя так, как она изложена в исследовании Гагемана. Читатель узнает, что Уайльд обладал необыкновенным даром красноречия, что производило впечатление на светское общество. Во многом благодаря этому Уайльд мог вести «очень легкомысленный образ жизни, окруженный поклонением своему таланту и уму, возбуждая общие симпатии, несмотря на чрезвычайно непривлекательную внешность» [Там же. С. 431]. Характерным качеством Уайльда-писателя Венгерова называет «презрительное отношение к обществу, стремление всячески вышутить его и, так сказать, водить читателей за нос, заставляя принимать за глубокомыслие то, что с его стороны было шуткой» [Там же. С. 431]. Отчасти в таком духе, по мнению критика, следует воспринимать парадоксы и афоризмы Уайльда, отдавая должное его изысканному стилю. Пересказывая Гагемана, Венгерова заключает: эстетизм Уайльда «состоит из странной смеси устарелого романтизма с разъедающим скептициз- 35 мом, направленным против бездушного общества» [Там же]. Низводя парадоксальность творчества Уайльда до провокативности социальной сатиры и тем самым лишая ее глубины, да к тому же призывая не искать у Уайльда «здоровых нравственных идей» [Там же], Венгерова, скорее всего, только передает точку зрения немецкого исследователя. Такая трактовка идет вразрез с прежде высказанными ею мыслями, в частности, о том, что цинизм Уайльда — лишь маска, а за колкими насмешливыми парадоксами скрывается «тоскующая по невоплотимой красоте душа» [75, с. 70]. Наиболее яркое проявление таланта Уайльда создавать свой обособленный, искусственный и прекрасный мир Венгерова находит в драме «Саломея», где «право на изысканность ощущений, доведенную до полной жестокости, возводится в закон красоты, а красота в закон жизни» [Там же]. Особое место в обзоре уделено драме «Герцогиня Падуанская», разбор которой не вошел в книгу Гагемана по той причине, что пьеса не была опубликована при жизни автора и появилась в печати лишь за несколько месяцев до статьи Венгеровой — в немецком переводе, сделанном в единственной сохранившейся рукописи. Детальному пересказу содержания этой пьесы посвящена большая часть статьи. Особого внимания заслуживает статья Венгеровой «Суд над Оскаром Уайльдом» (1912). Критик возвращается к английскому писателю в момент его наивысшей популярности в России, чтобы пересказать историю знаменитых судебных разбирательств, в которых Уайльд был сначала на стороне обвинения, а затем оказался на скамье подсудимых. Новые опубликованные сведения — материалы мемуарного характера об Уайльде и прежде всего произведение самого писателя, написанное в тюрьме, «De profundis» — позволяют Венгеровой неожиданным образом интерпретировать поведение писателя. В этой статье критик продолжает линию, начало которой положил К. Д. Бальмонт («Поэзия Оскара Уайльда», 1904), рассматривавший жизнь писателя как произведение искусства, возможно, даже более важное и ценное, чем литературное творчество. В знаменитом афоризме Уайльда «Я вложил гений в свою 36 жизнь, талант — в свои произведения» Венгерова видит непосредственную правду. Несмотря на то, что «Уайльд — большой поэт и художник, впервые произнесший те эстетические парадоксы, которые в наши дни сделались разменной монетой модернизма» [77, ст. 160], воплощение его гениальности, по мнению критика, нужно искать в его «творчестве жизни». Венгерова проводит параллель между Уайльдом и Байроном: и тот и другой были подвергнуты жестокому суду общественного мнения, оба до сих пор значительной частью общества считаются поэтами, не заслуживающими внимания. Но, в отличие от Байрона Уайльд был «затравлен» «не только нравственно, но и физически» [Там же. Ст. 157]. Критик отмечает, что «извне очень трудно понять психологию жестокости и за объяснением ее нужно обращаться к самим англичанам» [Там же], — это непонимание должно сохраниться у читателя и после прочтения статьи. Судебный процесс Уайльда в статье Венгеровой интерпретирован в ключе русского мифа о писателе, который осуществился на фоне богатого нарратива его биографии: «Нарратив этот, построенный на головокружительных контрастах — слава и позор, богатство и нищета, наслаждение и страдание, красота и уродство, — обнаружил серьезный потенциал для мифологизации и сентиментализации в массовой культуре» [60, с. 43]. Венгерова приводит цитату из «De Profundis»: «Тем же, чем в сфере мысли была для меня парадоксальность, сделалась для меня извращенность в жизни страстей» [77, ст. 162]. Таким образом, «порочность» писателя осмысляется в статье как творческий поиск, а ее провокативный показной характер — как каприз природного тщеславия. Безнравственное поведение Уайльда с молодыми людьми, вменявшееся ему в вину на суде, не оговаривается прямо и ставится под сомнение: «Есть вещи, которые трудно утверждать или которые могут утверждать лишь специалисты ученые» [Там же]. У неподготовленного читателя по прочтении статьи должно сложиться мнение, что английский драматург был осужден прежде всего за свое тщеславие — слово «тщеславие» употреблено Венгеровой в разных контекстах пять раз на одной странице. 37 Более того, Уайльд в концепции Венгеровой на самом деле осудил себя сам, по собственной воле отдавая себя под несправедливый суд. Предположение о добровольном мученичестве Уайльда была общей для многих критиков в России. Например, Г. С. Петров в статье об Уайльде, Бальмонте и Ницше «Гнилая душа» говорит об Уайльде, как о раскаявшемся декаденте [45]. В. Успенский, православный богослов и участник санкт-петербургских Религиозно- философских собраний, в статье «Религия Оскара Уайльда и современный аскетизм» утверждал, что Уайльд пострадал не только от внешних обстоятельств, но знал и «более страшные, внутренние муки» [148, с. 225]. Косвенное подтверждение для такой точки зрения дал сам Уайльд в «De profundis»: «...Я должен сознаться самому себе: ни ***, ни ***, если даже число их умножить в тысячу раз, — не могли бы погубить такого человека, как я. Я сам погубил себя. Никто, будь он велик или ничтожен, не может погибнуть ни от чьей другой руки, как только от своей собственной. Я охотно готов признать это. Я хочу засвидетельствовать это, даже несмотря на то, что мне теперь и не поверят. Если я и подал эту ужасную жалобу, то я подал ее и на самого себя. Как ни ужасно то, что свет сделал со мной: но сам я сделал с собой гораздо более ужасное» [1, с. 9]. Фактологически Венгерова опирается на книгу документального характера из серии о знаменитых процессах центрального лондонского суда, вышедшую незадолго до написания статьи «Oscar Wilde, Three Times tried (Famous old Bailey Trials of the Nineteenth Century)». В статье Венгерова пересказывает ход всех трех процессов, цитирует свидетельские показания Уайльда, во время допроса которого «обнаружилась с полной очевидностью несоизмеримость судей и подсудимого»: «Столкнулись два мира — мир воображения и мир житейских формул, и спор мог идти только о том, кто сильнее» [77, ст. 167]. Поведение Уайльда на суде объясняется в свете признания, которое он сделал в «De Profundis», что вся его жизнь до суда и заключения была движима поиском удовольствия, и потому он был лишен возможности осознать важность и красоту страдания, которую смог осознать в тюрьме. В интерпретации критика Уайльд на суде предстает в ореоле добровольного мученичества, его образ раздваивается: с одной стороны — тщеславный 38 провокатор, несправедливо осужденный лицемерным обществом по ложному обвинению, с другой — «истинный художник и мыслитель, творивший суд над собственной личностью» [Там же. Ст. 163]. Гениальным жизнетворчество Уайльда, по мнению Венгеровой, делает именно его ежеминутная осознанность как творца своей необыкновенной судьбы: «В тот момент, когда начался над ним суд человеческий, в душе его происходил иной суд. И когда он сам себя осудил во имя своего лучшего «я», суд человеческий перестал для него существовать» [Там же]. Внутренней трагедией объясняется внешне иррациональный отказ уклониться от суда, воспользовавшись возможностью, которая была предоставлена ему властями: «прокурорская власть намеренно ждала три дня, предпочитая, чтобы Уайльд уехал и чтобы не было скандального процесса… полиция явилась в отель арестовать Уайльда только поздно вечером, после отхода последнего поезда на континент» [Там же. Ст. 171]. Осознанным решением повиноваться судьбе объясняется безучастность Уайльда во время второго и третьего процессов: «безучастие – это понятно со стороны того, кто сам себя осудил во имя своей собственной святыни прежде, чем люди несправедливо осудили его за другое — за то, в чем он был невиновен» [Там же. Ст. 163]. Переживая «мятеж против радости», которая привела его к «острому тщеславию», Уайльд не возражал против показаний подкупленных лжесвидетелей, которые «казались ему правыми, если не фактически, то символически» [Там же. Ст. 174]. Тем не менее, «дух его ликовал, ибо отныне ему, воплотившему закон радости, судьба дала воплотить и трагическую правду мира — закон страдания» [Там же]. С точки зрения Венгеровой, Лондонский суд был несправедлив к писателю уже потому, что в разбирательствах, в которых он был ответчиком, было изъято все, касающееся литературы. Вследствие этого гениального индивидуалиста «свели к категории уголовных преступников и судили, как человека из толпы» [Там же. Ст. 171]. Мученический героизм, по мнению критика, сближает Уайльда с Сократом: «он, как Сократ, изжил трагизм своей судьбы без ропота, завершив этим гениаль- 39 ность своей жизни, как Сократ завершил своей смертью гениальность своего учения» [Там же. Ст. 180]. Итоговой критической работой Венгеровой по Уайльду стала заключительная глава первого тома собрания сочинений, «Английские писатели XIX века» (1913). Проводя связующую нить от Дж. Китса, который «провозгласил начало царства красоты в своих знаменитых двух стихах: „Красота есть истина, истина есть красота“» [74, с. 175], к прерафаэлитскому братству, благодаря которому идея красоты как основного жизненного начала расцвела и проникла в жизнь, позднее создав эстетизм, Венгерова заканчивает свою книгу очерком об Уайльде, умершем трагической смертью в 1900 г. и как бы завершившим своей смертью «век эстетизма», начатый Китсом. Очерк включает в себя существенно расширенные и исправленные биографические данные писателя (год рождения на этот раз указан верно). Биографическая канва предваряется наброском портрета эксцентричных родителей Уайльда, как в этюде К. И. Чуковского [162]. Унаследованные черты, по мнению Венгеровой, «пагубно отозвались на судьбе Оскара Уайльда, как бы становясь на пути его духовных помыслов» [74, с. 176]. Отражение раздваивающегося образа писателя, в котором порок легкомыслия и тщеславия борется с мужественной добродетелью, Венгерова находит в наружности Уайльда: «Верхняя часть лица, глаза и лоб производили впечатление духовности и гордости, в то время как тяжелый подбородок и женственно безвольные очертания рта были как бы указанием на скованность его духа наследственными инстинктами» [Там же]. Жизнетворческий путь Уайльда, по Венгеровой, строится как преодоление «наследственных инстинктов», всего легкомысленного и наносного, светского, а также эстетизма в смысле интеллектуальной моды, лишенной всякого религиозного и внутреннего идейного содержания. Именно «из эстетизма» Уайльд до своего духовного преображения на суде держался «на стороне сильных и не чувствовал никакой солидарности со слабыми, с жертвами преследований и насилия» [Там же. С. 175]. Критик, пересказывая главные вехи биографии и творческого роста Уайльда, подробно останавливается на первой пьесе «Вера, или Нигилисты», ради по- 40 становки которой писатель совершил лекционное турне по городам Америки. Написанная Уайльдом в 1881 г., по всей вероятности, под влиянием известий, которые доходили из России, эта «вялая» драма не вошла в собрание сочинений писателя, став библиографической редкостью, и интересует Венгерову не своими литературными достоинствами — по ним сложно было бы предсказать, что автор станет блестящим драматургом, — а изображением русских нравов. Критик, не скупясь, приводит несуразные подробности пьесы, как будто призванные служить исторической точности: «царь Иван», проживающий во дворце «в Москве, на Исааковской площади», нигилисты в черных и красных масках, собирающиеся в доме № 99, на «Чернавой улице». «Диалог драмы состоит из целого ряда перлов вроде того, например, что некий полковник говорит крестьянам: „С тех пор как уничтожено крепостное право — действие происходит в 1800 г. — вы совсем обнаглели“ и т.д.» [Там же. С. 180]. Венгерова искренне удивляется тому, что в 1881 г. у окончившего с отличием университетский курс в Оксфорде могли быть столь фантастические представления о России. В целом итоговая статья Венгеровой носит суммирующий предыдущие наработки, компилятивный характер. Мифологизированная концепция Уайльда-мученика, который добровольно отправил себя на каторгу, осталась в прежнем виде. Подлинное страдание наложило отпечаток истины на его творчество, внутренний суд над собой нравственно возвысил над судом общества. Машина косной общепринятой морали не сломила индивидуальности Уайльда, но дала ей возможность роста: «Не в том, в чем его обвиняли судьи, но в другом, в своей жажде суетных наслаждений он сам считал себя виновным, и, в то время как шел над ним несправедливый суд, он, почти не обращая внимания на то, что происходило извне, внутренне судил — и осуждал себя» [Там же. С. 190]. Именно внутренний суд над собой, по мнению критика, ускорил кончину Уайльда, т.к. дух его был сломлен внутренними переживаниями, два года заключения стали почти смертной казнью. Взгляд на творчество и судьбу Уайльда во многом отражает символистское мироощущение З. Венгеровой. Призывая к новым формам выражения и понима- 41 ния жизни, литературы и искусства, критик, наряду с другими деятелями Серебряного века в России, дает специфическую трактовку образа Уайльда, отличную от западной. Несмотря на то, что Венгерова писала для большинства русских журналов и газет, ее имя, исчезнув из печати после революции 1917 г., было скоро забыто в России. Из запланированных четырнадцати томов собрания сочинений о западноевропейской литературе вышел только один том — «Английские писатели XIX века». В 1921 г. Венгерова эмигрировала. В эмиграционный период она оставалась верной своим взглядам, занималась переводческой и исследовательской деятельностью, редактировала издания русских писателей на иностранных языках [182]. 42 ГЛАВА 3. РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА О. УАЙЛЬДА В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ ЕЖЕМЕСЯЧНИКЕ «ВЕСЫ» § 3.1 Общность критических установок журнала «Весы» и эстетических воззрений О. Уайльда Значительную роль в деле популяризации творчества Уайльда в России сыграло издательство «Скорпион», на базе которого с 1904 по 1909 г. издавался ежемесячник «Весы». Издательство и выходивший журнал были основным печатным органом московских символистов, рупором идей нового искусства. До начала издания «Весов» «Скорпион» выпустил три номера ежегодного альманаха «Северные цветы» (1901, 1902, 1903), на страницах которого произошло первое объединение всех ведущих представителей русского символизма. Но если «Северные цветы» служили делу объединения всех приверженцев «нового» искусства, то «Весы» начали выходить под знаком наметившейся дифференциации внутри течения. Вдохновителем и инициатором создания «Весов» был В. Я. Брюсов. Чувствуя идейные расхождения с петербургским крылом символистов, Брюсов в 1903 г. отказался от дальнейшего сотрудничества с журналом «Новый путь»1 и испытывал потребность в организации нового, идеологически более близкого канала коммуникации с аудиторией. Главной причиной расхождения Брюсова с «Новым путем» было то, что журнал Мережковских не ставил на первый план литературные задачи: «Пусть я люблю все „двери“ и „сразу могу проникнуть во все я“, — писал Брюсов в одном из писем 1903 г., — ...но все же милее прочих мне дверь поэзии, искусства. А в Н.[овом] Пути они в таком забро1 В августе 1903 г. Брюсов писал А. Белому: «Я разочаровался в „Новом пути“ еще и еще, и даже еще. Мережковские не могут допустить рядом с собой никакой мысли. Постепенно „Новый путь“ наводняется тихими всхлипываниями слабоумных юношей, подражающих Дмитрию Сергеевичу. Антон Крайний поносит беллетристику „Русского богатства“, но никогда „Русское богатство“ не падало так низко, чтобы допустить на свои серые страницы ту позорную дрянь, которую горделиво печатает „Новый путь“» [119, с. 365]. 43 шенном виде, словно это „черный ход“» [Цит по: 100, с. 174]. Новый журнал задумывался Брюсовым в противовес петербургскому и должен был стать манифестационным печатным изданием московской группы символистов, которое утверждало бы именно художественные, эстетические, а не философские, религиозные или социальные позиции. «Весы» в этом смысле планировались как дополнение, а затем и преемник «Мира искусства», т.е. полноценный модернистский журнал-манифест [44, с. 20-21]. В художественную группу, возглавляемую Брюсовым, входили поэты-символисты К. Д. Бальмонт, А. Белый, Ю. К. Балтрушайтис и переводчик М. Н. Семенов. Выпуск журнала «Весы», так же, как и деятельность издательства «Скорпион» в целом, осуществлялся при финансовой поддержке С. А. Полякова — мецената, сочувствующего новому литературному движению. Поляков, будучи полноправным владельцем издательства, выступал скорее, как соратник московских поэтов, чем как предприниматель — по его воле «Скорпион» и «Весы» стали коллективным орудием самоутверждения литературной школы символизма. К 1903 г. Брюсов имел довольно богатый опыт редакторской и журналистской деятельности1, его мнение при выработке литературной программы издательства «Скорпион» было одним из самых авторитетных. Несмотря на противоречивое толкование собственной роли и меры участия в «Весах», Брюсов по праву считался фактическим редактором и главным идеологом журнала на протяжении почти всего времени его выпуска. «Весы» были во многом новаторским журналом с ярко выраженной ориентацией на западноевропейскую культуру. Новаторским был, прежде всего, сам формат издания. В редакционной декларации «К читателям» говорилось: «„Весы“ желают создать в России критический журнал. Внешними образцами они избира1 Журналистская карьера Брюсова началась в 1899 г. в «Русском архиве» П. И. Барте- нева, где в течение трех лет он занимал пост секретаря редакции. Печатался в «Ежемесячных сочинениях» И. И. Ясинского, в одесской газете «Южное обозрение», в английском журнале «The Athenaeum». С 1901 г. Брюсов — автор «Мира искусства» и газеты «Русский листок». С 1902 г. Брюсов сотрудничает с журналов «Новый путь». 44 ют такие издания, как английский „Athenaeum“, французский „Mercure de France“, немецкое „Litterarische Echo“, итальянский „Marzocco“» [98, с. 3]. Также в декларации говорилось, что особое внимание в журнале будет уделено «тому знаменитому движению, которое под именем „декадентства“, „символизма“, „нового искусства“ проникло во все области человеческой деятельности» [Там же]. «Весы» выходили в формате критико-библиографического ежемесячника в 1904-1905 гг. Журнал был полностью посвящен литературе и искусству и был лишен традиционных для ежемесячника того времени отделов политической и общественной жизни. Редакцией журнала делалась ставка на расширение и углубление литературного вкуса читателя, что сообщало изданию черты своеобразного культуртрегерского академизма. Среди представителей западного модернизма наибольшим почетом пользовались в «Весах» такие писатели, как О. Уайльд, Э. Верхарн, Ш. Бодлер, Ст. Малларме, М. Метерлинк, А. де Ренье и др. Необычный формат, изысканное оформление, ориентация на западноевропейский модернизм, большое количество переводного материала, демонстративный отказ от обсуждения острых общественно-актуальных вопросов, которые все сильнее и настойчивее волновали интеллигенцию начала XX века — все это определяло лицо журнала. С помощью «Весов» Брюсов стремился создать литературно-критическую школу символизма, разработать эстетическую платформу новой школы. Не слишком заботясь о разграничении понятий «декадентство», «символизм», «новое искусство», редакция журнала считала важным подчеркнуть принцип крайнего индивидуализма как наиболее характерный для нового течения. По мысли Брюсова того времени, художник, как абсолютно свободная личность, не должен признавать над собой авторитета каких бы то ни было внешних норм. Независимость художника обеспечивалась независимостью искусства. Отсюда крайнее неприятие утилитарных требований к искусству и отмежевание от политической и социальной проблематик на страницах журнала. Новая критика, разрабатываемая Брюсовым, должна была оценивать произведение искусства только по его художественным достоинствам. 45 Неудивительно, что журнал «Весы» стал мощным защитником и пропагандистом творчества Уайльда в русской печати в начале XX в. Вышеперечисленные особенности литературно-критической линии, проводимой в журнале, делали Уайльда чрезвычайно близкой фигурой в идейном плане. По выражению А. Белого, Ницше, Ибсен, Бодлер, Уайльд «ничем не отличаются от крупных художников всех времен. Они только осознали символизм всякого творчества и с достаточной решимостью сказали об этом вслух» [58, с. 55]. К «воинствующим» символистам, утвердившим «метод истинного, строгого символизма», причислял Уайльда Эллис [173, с. 73-74]. Такую трактовку роли и значения Уайльда в литературном движении западноевропейского символизма едва ли можно считать оправданной. По замечанию Т. В. Павловой, подобная интерпретация идейно-эстетической позиции Уайльда «могла быть до известной степени подготовлена стремлением английского писателя к недоговоренности, к созданию многосторонних образов, позволяющих читателю дать волю воображению. <...> Убежденный приверженец религиозного символизма, Эллис не избег опасности трактовать эту уайльдовскую многосторонность догматически однозначно, в аспекте, близком его собственным духовным устремлениям» [132, с. 112]. Хотя Уайльд, строго говоря, не принадлежал направлению символизма, в его произведениях прослеживается ориентация на символистскую поэтику, которая достигает своего самого полного и яркого выражения в драме, написанной на французском, «Саломея». Английский писатель мыслился символистами из круга «Весов» как идейно родственный им художник большого исторического значения. Следует отметить, что в Европе начала 1890-х гг. Уайльд был известен не только как писатель, драматург, денди, но и как критик, чьи работы — эссе из сборника «Замыслы» и трактат «Душа человека при социализме», вышедшие в 1891 г., — были широко известны на Континенте [186, p. 460]. Одно из центральных положений критики Уайльда заключалось в безоговорочном признании индивидуализма как основы творчества и искусства: «Искусство — это наиболее яркое проявление индивидуализма, которое только знает мир» [195]. Для Уайльда «здоровое искусство — это такое искусство, для которого выбор предмета обу- 46 словлен темпераментом художника и вытекает непосредственно из него» [Там же]. Для Брюсова «художник самовластен и в форме своих произведений, и во всем объеме их содержания, кончая своим взглядом на мир, на добро и зло» [135, с. 4.]. Другая особенность, сближавшая эстетические установки «Весов» и Уайльда, заключалась в одинаковом неприятии реализма в том специфическом понимании, которое они вкладывали в этот термин. Проблема реализма и его соотношения с романтизмом занимала Уайльда на протяжении всей жизни. Наиболее содержательную критику реализма Уайльд осуществил в диалоге «Упадок лжи». Объявляя, что «реализм как метод полностью несостоятелен», он в то же время отделял «хороший» реализм от «плохого»: «Различие между такой книгой, как „Западня“ Золя, и „Утраченными иллюзиями“ <Бальзака> — это различие между реализмом, не признающим воображения, и полной воображения реальностью» [30, с. 70]. Уайльд отвергал реализм как установку на копирование какой-либо предопределенной предметной реальности в целях, ограниченных стремлением к правдоподобию. По мысли Уайльда, подобная установка в основе эстетики опасна тем, что может существенно сдерживать воображение и творческий импульс в целом. Таким образом, то, что Уайльд противопоставляет романтизму, скорее имеет название «натурализм», или «бытовизм». Также избирательны в своих нападках на современное реалистическое искусство были символисты из круга «Весов». Натуралистический подход к изображаемому, шаблонность содержания и неприкрытая тенденциозность, т.е. стремление выдвигать на первый план и решать социально-политические вопросы, отождествлялись с понятием «реализм» и отвергались как чуждые современному эстетическому сознанию установки. В то же время символизм в широком понимании интегрировал в себя лучшие достижения реалистического искусства, т.к., по заявлению А. Белого, «Символизм в широком смысле не есть школа в искусстве. Символизм — это и есть искусство. Романтическая, классическая, реалистическая и сама символическая школа только способ символизации образами пе- 47 реживаемого содержания сознания» [58, с. 54]. Так, Чехов, не осознававший символизм своего творчества, «благородно и честно как бы отдал все свое творчество на то, чтобы творчество его стало подножием русского символизма» [53, с. 397]. Несмотря на антиутилитаристский пафос, на стремление отгородить искусство от «злобы дня», оценивать его вне категорий морали и пользы, символисты из круга «Весов» не были последовательными приверженцами культа «искусства ради искусства». В первом номере «Весов» раздел «В журналах» содержит показательный комментарий цитаты из статьи о Врубеле (Мир искусства, 1903, № 10-11), автор которой — Н. П. Ге — между прочим дает определение декадента: «кто любит искусство для искусства и только для искусства, кто видит в нем изысканную забаву, кто влюблен в фантастичность...» [88, с. 187]. В редакции «Весов» сочли нужным заметить по этому поводу: «Мы готовы признать себя „декадентами“ в том смысле, что нам близко и дорого творчество тех, кого обзывали этим именем, но от определения, которое <Ге> дает искусству, мы отказываемся решительно». Дело в том, что эстетизм «Весов» не был самодовлеющим — искусство, по мысли символистов, не должно замыкаться на самом себе. В статье «Ключи тайн», которая стала своеобразным эстетическим манифестом «Весов», Брюсов соглашался с гносеологической стороной учения Шопенгауэра, считая, что мир вещей не познаваем иначе, чем через сферу души. Личность иррациональна, но имеет абсолютное значение высшей инстанции и является законом и мерой всех вещей. Поэтому путь к постижению сущности вещей возможен лишь в пределах жизни души; он открывается в мгновениях прозрения, интуиции: «Искусство есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство — то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства — это приотворенные двери в Вечность» [65, с. 19] Символизм, по мысли Брюсова, это искусство, оказавшееся на высшей ступени своего развития: осознав свое истинное назначение, оно освободило себя тем самым от служения случайным целям. «Во все века своего существования, бессознательно, но неизменно, художники выполняли свою миссию: уясняя себе открывавшиеся им тайны, тем самым искали иных, более совершенных способов 48 познания мироздания», современные же художники, по мысли Брюсова, «сознательно куют свои создания в виде ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его „голубой тюрьмы“ к вечной свободе» [Там же. С. 20-21]. Тезис о «свободном» искусстве, который символисты из круга «Весов» разделяли с Уайльдом, предполагал, что «поэтов можно мерить только по достоинствам или недостаткам их поэзии, ни по чему другому» [64, с. 38] и был важен Брюсову-критику как орудие борьбы с «тенденциозностью», но кроме того, имел важное значение как обоснование творческой независимости художника. Символизм как искусство, освободившееся от ложных целей, подразумевал художника, освободившегося от ложных авторитетов. Распространенное мнение об Уайльде как о стороннике концепции «искусства ради искусства» также можно принять лишь с некоторыми оговорками. Будучи одним из наиболее ярких представителей английского эстетизма, Уайльд, по замечанию Р. Эллмана, «проявлял удивительную готовность к пересмотру того, что, казалось, было для эстетизма делом решенным» и «далеко опередил Уистлера и Готье в осознании недостаточности старого эстетизма, который они проповедовали» [174, с. 301]. Об этом, в частности, свидетельствует статья Уайльда, в которой высказана мысль о том, что лозунг «искусство ради искусства» означает «не конечную цель, а всего лишь формулу творчества»1 [191, p. 24]. Под этим высказыванием могли подписаться и символисты из журнала «Весы». § 3.2 «Поэзия Оскара Уайльда» К. Бальмонта и ее критики К. Д. Бальмонт занимал среди сотрудников «Весов» особенную позицию. К началу 1900-х гг. он располагал наибольшим признанием читательской публики. По свидетельству Брюсова, с выходом книги «Будем как солнце» Бальмонт 1 «…art for art’s sake is not meant to express the final cause of art but is merely a formula of creation». 49 стал самым значительным «и по силе стихийного дарования, и по своему влиянию на литературу» среди современных поэтов вообще [63, с. 36]. Сыграв существенную роль в создании издательства «Скорпион» и считаясь одним из его основателей, Бальмонт, тем не менее, не принимал прямого участия в его деятельности. Обусловлено это было тем, что, в отличие от Брюсова, он не был «стратегом, редактором и литературным бойцом», «к практическим делам душа его не лежала» [104, с. 76], к тому же в Москве он бывал наездами, часто путешествуя и живя за границей. Впрочем, это не помешало ему в 1903 г. стать «внутренним руководителем» независимого от «Скорпиона» символистского издательства «Гриф». Брюсовскому «ультиматуму», согласно которому авторы «Грифа» не допускались до страниц «Скорпиона», Бальмонт мог позволить себе не подчиняться. Например, в 1904 г. «Скорпион» выпустил «Балладу Редингской тюрьмы», а под маркой «Грифа» вышел перевод «Саломеи» — оба произведения Уайльда были изданы в переводе Бальмонта. О месте, занимаемом Бальмонтом в журнале «Весы», пишет в своих мемуарах А. Белый: «В то далекое время каждый из близких „Весам“ был кровно замешан в проведении литературной платформы журнала; таких неизменно близких, на которых рассчитывал Брюсов, была малая горсточка; литераторы и поэты наперечет; с 1907 года до окончания Весов такими были: Брюсов, Балтрушайтис, я, Эллис, Соловьев, Борис Садовской; Поляков почти не влиял; поддерживая дружбу с жившим за границей Бальмонтом, он встречал оппозицию в оценке Бальмонта у Брюсова, очень критиковавшего все книги Бальмонта после „Только Любовь“; я тоже к Бальмонту относился сдержанно; Эллис почти враждебно; Бальмонт в ту пору „почетный“ гастролер, а не близкий сотрудник; такими же гастролерами были Гиппиус, Иванов, Блок, Сологуб» [54, с. 423-424]. Первый выпуск «Весов», вышедший в январе 1904 г., содержал довольно объемную статью Бальмонта под названием «Поэзия Оскара Уайльда». Помещенная в первом выпуске символистского издания, несмотря на неоднозначную роль Бальмонта в журнале, «Поэзия Оскара Уайльда», как и соседствующая с ней статья Брюсова «Ключи тайн», безусловно, носила программный характер. 50 Статья Бальмонта была написана в лирико-импрессионистской манере, что выделяло ее на фоне остального материала «Весов»1, и содержательно повторяла доклад, прочитанный автором ранее, в ноябре 1903 г., в московском Литературнохудожественном кружке. Доклад этот вызвал заметный ажиотаж в литературных кругах Петербурга и Москвы и ознаменовал новый этап в освоении литературного наследия Уайльда в России. Вот как об этом писал сам Бальмонт позже, в 1908 г., когда Уайльд уже начинал активно переводиться и издаваться как коммерчески выгодный автор: «широкая популярность Оскара Уайльда в России началась с наделавшей шуму лекции о нем, прочитанной в Москве, в так называемом Художественном кружке... Конечно Уайльд был известен и до этого... Но это была именно кружковая известность, а не широкая популярность. Уайльд как Уайльд, Уайльд как солнечное знамя, Уайльд как страшная орхидея и как благовестник Красоты еще не существовал для широкой публики. Лекция моя имела шумный успех и одновременно вызвала в Художественном кружке и в московских газетах шумный скандал. Так оно и должно быть. Спокойно об Уайльде говорить нельзя» [49, с. 114]. Лекция завершилась чтением «Баллады Редингской тюрьмы» в переводе Бальмонта и бурным обсуждением, в котором в поддержку докладчика выступили будущие сотрудники «Весов», в частности А. Белый и М. Волошин. Хотя большинству пришедших послушать доклад Бальмонта имя Оскара Уайльда знакомо было «только понаслышке», Литературно-художественный кружок привлек внимание большой аудитории и собрал «такое количество публики, какого еще не видали его стены» [126]. Об атмосфере бурной дискуссии, царившей на встречах Литературно-художественного кружка, вспоминал М. Волошин: «кружок давал приют для устных выступлений и прений. Дело было не в докладах, а в прениях, которые следовали за ними. Вызов с одной стороны, озлобление с другой получали здесь форму выражения. Это были действительно схватки за новое искусство, за новое понимание жизни» [Цит. по: 132, с. 92]. 1 Из общего фона «Весов» критико-библиографического периода также выделялись фи- лософско-исповедальные очерки А. Белого. 51 Русский символизм, еще не завоевавший достаточно твердых позиций на литературном фронте, встречал настороженное, а иногда и вовсе насмешливое отношение газетных критиков. «Шумный успех» выступления Бальмонта, благодаря тому, что дискуссия из стен Литературном кружке перешла на страницы прессы, принял характер литературного скандала. О сложившейся ситуации в письме А. Блоку рассказывал поэт, основатель издательства «Гриф» С. А. Соколов (более известный под псевдонимом С. Кречетов): «В отношениях с тем берегом штурм сменяется беспорядочной перестрелкой. Мы дали им одно сражение в Литературном кружке после того как Бальмонт прочел реферат об Уайльде и его тюремную балладу. Было поломано много копий. Враги были побиты, но, как всегда, побежденные газетчики на другой день, никем не опровергаемые, трубили победу на столбцах бумаги, ибо она терпит многое» [101, с. 538-539]. Интерес Бальмонта к Уайльду возник, вероятно, задолго до выступления в Литературно-художественном кружке. Находясь весной 1897 г. в свадебном путешествии в Париже, Бальмонт получил приглашение приехать в Оксфорд и выступить там с небольшим курсом лекций о русской поэзии. Инициатива исходила от основателя кафедры славистики профессора Уильяма Морфиля, которому рекомендовал Бальмонта на тот момент обучавшийся в Оксфорде друг поэта — князь В. Н. Аргутинский-Долгоруков [185, p. 79]. Бальмонт провел в Оксфорде примерно три месяца, прочитав за это время четыре лекции популяризаторского характера о русской поэзии, которая, в отличие от прозы Толстого, Достоевского, Тургенева была почти неизвестна в Англии. Поездка в Оксфорд в 1897 г. положила начало разнообразным и продолжительным русско-английским литературным связям: с 1898 г. в течение трех лет Бальмонт, по просьбе Морфиля, посылал корреспонденции о русской литературе в журнал «The Aethenaeum», позже эстафету перехватил Брюсов, Морфиль, в свою очередь, периодически публиковал в «Весах» «Письма из Англии». Пребывание в Англии в целом было плодотворным и обогатило Бальмонта новыми впечатлениями и идеями. По свидетельству жены писателя 52 Е. А. Бальмонт, поэту «нравилось все в англичанах — их холодность, внешняя их сдержанность, и он видел в этом их цельность <...> Бальмонт сошелся со многими англичанами, посещал их каждый свой приезд в Англию, с некоторыми переписывался долгие годы» [181, p. 116]. Впрочем, было и нечто, что отталкивало Бальмонта в английском укладе жизни и кодексе общения — по возвращении из Оксфорда в Париж Бальмонт писал матери 17 июля 1897 г.: «В Англии блуждают манекены, это нечто непостижимое. Можно подумать, что англичанин не человек, а одушевленная машина» [Цит. по: 104, с. 57]. Бальмонту было известно о том, как относились к Уайльду на родине, о негласном запрете на издание книг писателя и постановку спектаклей по его пьесам. В докладе «Поэзия Оскара Уайльда» приводится случай разговора с «одним из знаменитых оксфордских ученых», который вежливо, но твердо дал Бальмонту понять, что Уайльд не может быть предметом разговора — настолько немыслимым было само упоминание имени английского писателя в приличном обществе. Ужасаясь этой формой английской корректности, Бальмонт все же видит в ней определенную правоту и не осуждает «добродетельного профессора»: «Он шел своей дорогой, как Уайльд своей. Чего же какой-то иностранец пристает к нему с разговорами о писателе, окруженном атмосферой скандала, столь оскорбительного для хорошо себя ведущих джентльменов! Британское лицемерие не всегда есть лицемерие, иногда это лишь известная форма деликатности» [50, с. 23-24]. Из приведенного эпизода видно, что Бальмонта интересовало творчество Уайльда уже в 1897 г., следовательно, он ознакомился с ним скорее всего в подлиннике. Часто бывая в Париже, Бальмонт слышал о трагической судьбе писателя и мог входить в круг литераторов, которые лично знали Уайльда. В своем докладе для Литературно-художественного кружка Бальмонт утверждает, что видел Уайльда в Париже во время прогулки. О том, что повстречавшийся ему незнакомец, «весь замкнутый в себе, похожий на изваяние, которому дали власть сойти с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными чертами лица», — Оскар Уайльд, Бальмонт узнал случайно, но образ человека, «кото- 53 рому больше нечего ждать от жизни, но который в себе несет свой мир, полный красоты, глубины и страданья без слов», надолго врезалсся в память русского поэта. Во время своего очередного путешествия по Англии в 1902 г. Бальмонт целенаправленно посетил Рединг — городок, где в королевской тюрьме провел большую часть своего заключения Уайльд и где был казнен герой его «Баллады Редингской тюрьмы». Возможно, здесь Бальмонту пришла мысль о переводе «Баллады...». Доклад в московском Литературно-художественном кружке закончился чтением этого перевода. Значимость деятельности Уайльда «как теоретика эстетства», утонченного прозаика и стихотворца, по мнению Бальмонта, еще только предстояло выяснить. В своем докладе автор предложил посмотреть на английского писателя под другим углом — как на творца собственной жизни. Задаваясь вопросом «в поэзии ли только поэзия?», Бальмонт озвучивал проблематику, которую нес в себе русский символизм, — жизнь — эстетический феномен. Жизнетворчество, созидание собственной личности неотделимое от творчества художественного, — особенные черты символизма как нового течения в искусстве. В. Ходасевич писал об этой особенности в «Некрополе»: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Все время он порывался стать жизненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая, быть может, невоплотимая правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекла, в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой истинно героических, найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства. Символизм упорно искал в своей среде гения, который сумел бы слить жизнь и творчество воедино. Мы знаем теперь, что гений такой не явился, формула не была открыта. Дело свелось к тому, что история символистов превратилась в историю разбитых жизней, а их творчество как бы недовоплотилось: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в писаниях, а часть недовопло- 54 шалась, утекала в жизнь, как утекает электричество при недостаточной изоляции» [149, с. 7]. В эпиграф к статье была вынесена цитата из стихотворения Уайльда «Flower of Love» (1890): «I have made my choice, have lived my poems…»1. Хотя Бальмонт предупреждает, что будет говорить не о писательской деятельности, а только о «поэзии личности», «поэзии судьбы» Оскара Уайльда, большая часть статьи — пересказ двух произведений: сказки «Рыбак и его душа» (1891) и романа «Портрет Дориана Грея» (1890). Дело в том, что эти произведения — «поэтические предвидения» судьбы самого Уайльда — писателя, «проживающего свои стихи», — о самой судьбе говорится в терминах поэтического произведения. «Драма жизни» писателя и, собственно, его литературные труды помещаются в один ряд, «прочитываются» как один текст в разных редакциях: «Рыбак и его душа» — первая редакция; «Портрет Дориана Грея» — вторая; жизнь писателя, прошедшая в конкретной исторической действительности, — третья. Общий мотив сказки «Рыбак и его душа» и романа «Портрет Дориана Грея» можно условно обозначить как «сделка с Дьяволом». В первом случае рыбак, влюбленный в сирену, при помощи колдуньи избавляется от своей души, чтобы жить в море со своей возлюбленной. Во втором — юный красавец Дориан Грей, видя свой портрет, в котором художник отразил все его очарование, сокрушается, что красота его пройдет вместе с молодостью, и загадывает желание: пусть лучше старится портрет, а он остается молодым. Оба произведения оканчиваются трагично. В том же фаустовском ключе Бальмонт интерпретирует биографию писателя. На страницах «Весов» создается своеобразный мифологизированный образ Уайльда, закладывающий традицию понимания английского писателя, внутри которой его интерпретировали многие русские модернисты, включая З. А. Венгерову. Схожий портрет Уайльда мы находим в ее статьях после 1904 г. Главная черта в этом образе — осознанность. Степень осознанности жизнетворчества 1 «Я сделал выбор, прожил свои стихи». 55 Уайльда соответствует осознанности, с которой по мнению Джилберта в диалоге «Критик как художник» создаются все великие произведения искусства [30, с. 134]. В каждом своем поступке Уайльд, в глазах Бальмонта, остается творцом своей жизни. Уайльд осознанно не бежит от правосудия, хотя власти предоставляют ему такую возможность и ждут, что он ей воспользуется (та же ситуация описывается в статье Венгеровой «Суд над Оскаром Уайльдом» (1912)). Даже отсутствие писательской деятельности в последние годы жизни объясняется сознательным отказом от литературы, а не угасанием творческой способности. В Уайльде последних лет жизни Бальмонт увидел «богача, у которого целый рудник слов, но который больше не говорит ни слова». Отказавшись создавать литературу, Уайльд таким образом внес необходимый штрих в свое главное произведение — свою жизнь — и был, возможно, единственным понимающим величие своего искусства. В контексте трагических событий биографии Уайльда это приписываемое ему внутреннее понимание — «внутреннее торжество» (Венгерова), «внутренняя слава» (Бальмонт) — обнаруживает нечеловеческий по своему размаху индивидуализм. Согласно представлениям Бальмонта, «в смысле интересности и оригинальности личности» Уайльда нельзя сравнить ни с кем, кроме Ницше. Но если Ницше был безудержен в своем литературном творчестве и аскетичен в личном поведении, то Уайльд ровно наоборот, — «воздушно-целомудрен в своем художественном творчестве, как все английские поэты XIX в., но в личном поведении он был настолько далек от общепризнанных правил, что, несмотря на все свое огромное влияние, несмотря на всю свою славу, он попал в каторжную тюрьму» [50, с. 37]. Параллель между Ницше и Уайльдом, которую проводит в своей статье Бальмонт и которая позже появится у А. Белого, Вяч. Иванова и других русских символистов, была общей для России и Европы1. В 1947 г. в статье «Философия 1 См. [125, 180]. 56 Ницше в свете нашего опыта» Томас Манн писал: «Нельзя не поразиться близким сходством ряда суждений Ницше с теми выпадами против морали, отнюдь не только эффектными, которые примерно в то же время шокировали и веселили читателей английского эстета Оскара Уайльда» [125, с. 366]. Андре Жид в своих мемуарах, опубликованных через несколько лет после смерти Уайльда, замечает, что «Ницше поразил <его> меньше», из-за того, что сходные идеи он уже слышал от Уайльда [180, p. 47]. Л. Толстой в трактате «Что такое искусство?» тоже упоминает Уайльда бок о бок с Ницше — как апологета ложного отношения к искусству, последствием которого становится освобождение от требований нравственности: «Это последствие <...> уже давно проявлялось в нашем обществе, но в последнее время с своим пророком Ницше, и последователями его, и совпадающими с ним декадентами и английскими эстетами выражается с особенною наглостью. Декаденты и эстеты, вроде Оскара Уайльда, избирают темою своих произведений отрицание нравственности и восхваление разврата» [145, с. 172]. Впервые в печати имена Уайльда и Ницше фигурируют вместе в псевдомедицинском исследовании Макса Нордау «Вырождение». Обрушившись с безжалостной критикой на так называемое «дегенеративное искусство»1, Нордау объединил под этим термином все новые на тот момент направления в искусстве и представил их как признаки социального и расового вырождения. Ученый находил у Ницше и Уайльда общие «патологические симптомы эгомании», приводил схожие цитаты из обоих авторов. Книга Нордау возымела большую популярность и влияние в России и на родине Уайльда. В русском переводе исследование появилось в 1894 г., в английском в 1895 г. — в обоих странах оно выдержало множество переизданий. Но если во Франции, где книга Нордау была издана первоначально, по словам Брюсова, «„Нордауское“ отношение к поэтам новой школы стало смешным анахронизмом, вернее провинциализмом, достоянием людей отсталых и старо- 1 Уничижительный псевдонаучный термин, позже подхваченный пропагандой нацист- ской Германии, обозначающий нонконформистские течения в искусстве. 57 модных, какими-то идеями „прошлого века“, с которыми из вежливости даже не спорят» [37, с. 66], то в России 1904 г. «новое искусство» еще только завоевывало свои позиции в атмосфере насмешливого недоброжелательства подавляющего большинства газетной и журнальной критики. Именно для того, чтобы иметь возможность спорить с этим большинством, представить свою точку зрения на «новое искусство» в печати, и был основан журнал «Весы» в формате критикобиблиографического ежемесячника. Доклад Бальмонта об Уайльде в Литературнохудожественном кружке, осмеянный газетчиками, должен был появиться в «Весах», чтобы читатель имел возможность познакомиться с ним в авторской версии, а не в газетном пересказе. Идеологическое сходство Ницше и Уайльда, давшее возможность их сопоставления в качестве мыслителей, в первую очередь просматривается в моральном критицизме и во взгляде на жизнь как на эстетический феномен. Вопрос об отношении этики и эстетики — одна из доминант творчества Уайльда. Произведения английского писателя можно рассматривать как спор о том, что такое нравственность и как искусство соотносится с нравственностью. Во-первых, Уайльд стремился разграничить эти понятия, снять с художественного произведения ответственность за любые внеэстетические последствия. Для Дориана Грея зло порой было «лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни» [15, с. 155]. Подобный эстетизм также можно обнаружить у Ницше. Так, в «Генеалогии морали» философ писал: «Доныне дозволялось искать красоту лишь в нравственно добром. Это в достаточной мере объясняет, почему так мало нашли и так много времени потратили на поиски воображаемых дряблых красот. Но так же верно, что во зле заключены сотни видов счастья, о котором понятия не имеют добродетельные, в нем существуют и сотни видов красоты, и многие еще не открыты» [128, с. 6]. Во-вторых, Уайльд противился пониманию нравственности как подчинения нормам, упрочившимся в культуре и обществе. Емко и остроумно эту мысль высказывает другой герой романа «Портрет Дориана Грея», лорд Генри: «Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно прини- 58 мать мерило своего времени ни в коем случае не следует, — это грубейшая форма безнравственности» [15, с. 95]. Разоблачение «морали» как орудия закрепощения высших низшими, предпринятое Ницше, теоретически могло встретить у Уайльда сочувственное понимание, но Уайльд не оставил ни одного письменного свидетельства о знакомстве с трудами немецкого философа. О том, что Ницше ничего не знал об Уайльде, можно также говорить с уверенностью [184, p. 386]. Философия Ницше, «ставшая ключом к культурному коду новой духовной парадигмы начала ХХ столетия — века модерна» [141, с. 8], имела широкое распространение в России. В активном восприятии русской интеллигенции идеи немецкого философа оказались чрезвычайно близки традиционной отечественной мысли и получили своеобразную трактовку. Бальмонт в этом смысле не был исключением: определяя Ницше как «самого блестящего поэта-философа XIX столетия» [48, с. 206], он в то же время считал, что Ницше вышел «в своей философии Заратустры из Достоевского» [Там же. С. 200]. Чтобы понять, как с точки зрения Бальмонта в жизни Уайльда воплотились идеи Ницше, нужно выяснить, как сам Бальмонт понимал эти идеи. О специфической интерпретации ницшевского мотива «сверхчеловека» пишут авторы биографии Бальмонта П. Куприяновский и Н. Молчанова: «В понимании «сверхчеловека» Бальмонт скорее опирался на Гете, чем на философа. Он писал: „Все узнать, все понять, все обнять — вот истинный лозунг Übermensch’а — слово, которое Гете употребил раньше Ницше с бо́льшим правом“ (статья „Избранник земли“). Не идея превосходства над другим привлекала Бальмонта в „сверхчеловеке“, а идея нового человека — творческой личности, способной все понять и обновить жизнь» [104, с. 79-80]. Параллель Уайльд — Ницше — Гете может быть проведена на основе центральной темы статьи Бальмонта об Уайльде — темы жизнетворчества или отношения творчества и жизни. Романтическая эстетика, утвердившаяся во второй половине XVIII в., провозвестником которой в Германии был Гете, рассматривает поэзию, прежде всего, как выражение личных переживаний и этим фундаментально отличается от классицизма, для которого не существовало вопроса о лич- 59 ности писателя. Личные переживания автора произведения для французского классицизма были так же безразличны, как безразличны переживания архитектора, проектировавшего собор, для того, кто любуется этим собором. До Гете господствовала поэзия риторическая, она следовала общим правилам построения поэтической речи, независимо от личных эмоций поэта. Гете же первым создал интимную поэзию личного переживания, поэзию, в которой запечатлено мгновение неповторимой душевной эмоции, и эта эмоция, а не предшествующая литературная традиция, определяет все: выбор слов, синтаксис, метр, строфику — всю стилистику стихотворения. Переживание и создание литературного произведения связаны у Гете, как вдох и выдох. При этом цель — не то, что рождается на выдохе — художественное произведение, — но само дыхание. У Гете нет разделения на жизнь и поэзию, их раздвоения. Яркая жизнь предполагает эстетическую объективацию в форме поэтического произведения. В этом смысле Гете предстает как идеал гармонии жизни и творчества, по отношению к которому Ницше и Уайльд — разнонаправленные отклонения. Уайльд, в понимании Бальмонта (и многих других критиков и исследователей), как он сам блестяще выразился в знаменитом афоризме, «вложил гений в свою жизнь и лишь талант — в литературу». Неизвестно, знал ли Бальмонт об этом высказывании Уайльда на момент написания «Поэзии...» — в печати оно впервые появилось в пересказе Андре Жида в 1905 г. [180, p. 49], — но, опираясь на «Портрет Дориана Грея» как на прообраз жизненной драмы писателя, Бальмонт не мог пройти мимо фрагмента, где Лорд Генри говорит Дориану: «Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты» [15, с. 217]. Таким образом, в случае с Уайльдом, с точки зрения Бальмонта, жизнь должна была «обеднить» поэзию, принять на себя бо́льшую часть творческой энергии. И наоборот, в случае с Ницше воплощением его гения стала его философия, потребовавшая всех жизненных сил. По выражению Т. Манна, Ницше был «распят на мученическом кресте мысли» [125, с. 350]. 60 Ницше и Уайльд, исповедующие цельность искусства и жизни и в своих исканиях дошедшие — один до сумасшествия, другой до тюрьмы, стали, по мнению Бальмонта, знамением «спутанной эпохи, ищущей и не находящей». Биография Уайльда, интерпретированная как «творчество жизни», дополняется у Бальмонта ницшеанским мотивом бунта против нравственного закона. На мотив «сделки с Дьяволом» накладывается мотив бунта, который обречен на наказание. О судьбе Уайльда Бальмонт говорит, избегая конкретики: либо очень обобщенно, либо иносказательно. События, приведшие писателя к тюремному заключению, опускаются, «драма жизни» предстает в аллегории карточной игры. Вершина, с которой пал английский писатель, представляется Бальмонту высочайшей: «он был гениально одаренным поэтом, он был красив телесно и обладал блестящим умом, он знал счастье и постепенного расширения своей личности, увеличения знания, умноженья подчиненных, расцвет лепестков в душе, внешнее роскошество, он осуществлял до чрезмерной капризности все свои „Хочу!“, — но, как все истинные игроки, он в решительный момент не рассчитал своих шансов сполна и лично удостоверился, что председательствует во всех азартных играх — Дьявол» [50, c. 25]. Размышляя о падении Уайльда, Бальмонт приходит к выводу, который в определенной мере предвосхищает мотив «красоты страдания» из еще не опубликованного на тот момент «De profundis»: «...если смелый, в своей самовлюбленности, будет так ослеплен, что действительно будет раздавлен, в этом будет большая красота, и большая поэзия, чем, если бы он победил множество и превратил его в стадо. Такая победа превратила бы жизнь в игрушку и сделала бы игру шулерской игрой наверняка. А поражение — после призрачного триумфа — вдруг придает глубокую символическую значительность банальному пестрящему зрелищу» [Там же. С. 24-25]. Жизнь Уайльда, как произведение искусства, восхищает Бальмонта своей полнотой, цельностью. Дерзновение подразумевает риск, и Уайльд показал, что рисковал по-настоящему — поплатился жизнью. Азартный игрок проиграл потому, что, как высоки бы ни были ставки, играл честно и отбыл «двухлетний ад за чрезмерность мечты», никого не обвиняя и ни на кого не жалуясь. 61 Созданный Бальмонтом образ Уайльда превосходит устоявшийся в обществе образ декадента своей способностью к состраданию: «Своевольный гений позабыл об одной неудобной карте: у него в груди было человеческое сердце» [Там же. С. 26]. Эстет, денди, автор «Портрета Дориана Грея» завершил свой писательский путь «Балладой Редингской тюрьмы». Перед Бальмонтом не возникает соблазна увидеть в этом перелом, отказ от прошлого творчества, перерождение, наоборот — именно тем, что после двух лет каторги, Уайльд не написал ничего, кроме «Баллады...», он доказал «цельность своей натуры». Кроме того, Уайльд в статье Бальмонта предстает в ореоле мученика: он пострадал от рук филистеров, не способных оценить его искусство, его исключительную поэтическую индивидуальность. По всей видимости, Бальмонт опирается на биографические сведения, почерпнутые из вышедшей в 1902 г. книги Р. Шерарда «История одной несчастливой дружбы», говоря, в частности, о том, что имея возможность избежать суда, Уайльд осознанно пренебрег ею, а значит, наказание было принято им добровольно. Статья Бальмонта, занимающая в дебютном номере «Весов» заметное место рядом с открывающим номер философско-эстетическим манифестом Брюсова «Ключи тайн», предложила публике образ Уайльда как идеал осуществления художественных чаяний русского символизма. Первые печатные отзывы на «Весы», естественно, включали в себя характеристику статьи Бальмонта и предложенной им фигуры. Индивидуалистическое мировоззрение Бальмонта не могло не встретить враждебный отклик в прессе, в преобладающей части придерживающейся традиции социально-демократических взглядов. Популярный религиозный деятель и журналист Г. С. Петров, печатавшийся в газете «Русское слово» под псевдонимом В. Артабан, откликнулся на статью об Уайльде памфлетом «Гнилая душа». Петров приводит легенду о «содомовом яблоке»: в том месте Палестины, где когда-то стоял Содом, растет дерево, плод которого прекрасен снаружи, но внутри гнилой. Личность Уайльда, по мнению критика, подобна этому яблоку. Петров порицает декадентов за то, что они «дают волю» всем без исключения «чувствованиям»: «В душе поэта есть широкая пло- 62 щадь, где место алтарю поэзии, но в ней же есть и уголок, где пахнет скотным двором. Не все звуки души следует вплетать в аккорд поэзии: можно смешать свинское с божеским» [42, с. 1]. По мнению Петрова, в статье Бальмонта «эта ошибка декадентства доведена до крайности», поскольку он не просто смешивает «свинское» с «божеским», а прямо уже считает «свинское» «божеским». Мысль Г. С. Петрова о раздвоенности, несовершенстве души в основе своей антииндивидуалистична и имеет своей противоположностью идеализм Уайльда, для которого быть индивидуалистом значит реализовывать «свое совершенство души, сокрытое внутри» [12, с. 354]. Уайльд не отказался от этой идеи и сопряженного с ней специфического понимания христианства и будучи в заключении: «Я нахожу гораздо более глубокое и непосредственное соприкосновение подлинной жизни Христа с подлинной жизнью художника и испытываю острую радость при мысли, что задолго до того, как скорбь взяла меня в свои руки и предала меня колесованию, я писал в „Душе человека“, что человек, стремящийся в своей жизни подражать Христу, должен всецело и неукоснительно оставаться самим собой» [2, с. 189]. Из этого положения следует совершенно особенное понимание греха и раскаяния, смысл которого не в осознании ошибки, но в преображении прошлого: «Я совершенно уверен, что если бы спросили самого Христа, он ответил бы, что в тот момент, когда блудный сын пал в ноги своему отцу с рыданиями, он воистину преобразил в прекрасные и святые события своей жизни и то, что он расточил свое имение с блудницами, и то, что пас свиней и рад был бы пойлу, которое они ели» [Там же. С. 200]. Таким образом, цель Христа не в том, чтобы из «интересного разбойника» сделать «скучного честного человека» — грех, освященный раскаянием, обретает ценность неотъемлемой части пути индивидуального развития. Уайльд оговаривает, что эта идея выглядит опасной, но добавляет: «все великие идеи всегда опасны» [Там же]. Интересно, что Петров дает свою интерпретацию творчества и биографии Уайльда именно в духе истории раскаявшегося грешника. Вслед за Бальмонтом Петров рассматривает роман «Портрет Дориана Грея» как прообраз судьбы писателя. Критик проводит параллель между аллегорией портрета в романе Уайльда и 63 аллегорией «содомова яблока». Слава, богатство, успех в жизни писателя, как и молодость Дориана Грея, — лишь видимость, которая не может отвлечь его от осознания испорченности своей души: «У него внутри, вдали от посторонних взоров есть портрет — душа <...> Дориан Грей, он же Оскар Уайльд, по ночам, как вор, проникает в ту комнату и неотступно смотрит на свой мерзостный лик» [42, с. 1]. Мотив приписываемого Уайльду самобичевания в статье Петрова позже найдет свое продолжение в интерпретации поведения Уайльда на судебном процессе, которую предложила З. А. Венгерова в статье «Суд над Оскаром Уайльдом» (1912). Мучимый совестью и раскаянием, Уайльд, по мысли Петрова, «чувствует, что он — преступник, и сам посылает себя на каторгу, сам казнит себя. Можно смело сказать, что ужасы Редингской тюрьмы, где Уайльд отбывал свои два года каторги, для него не были страшнее той каторги, которую он под конец жизни, задолго до суда, носил в себе» [Там же]. Схожим образом истолковывает иррациональный отказ Уайльда избежать суда З. А. Венгерова. Аллегория «содомова яблока» распространяется у Петрова не только на Уайльда и его литературное наследие, но и на философию Ницше, и на саму статью Бальмонта, и, по всей видимости, на модернистов в целом. Признаваемые критиком красочность языка Бальмонта и высокая художественная ценность философских трудов Ницше скрывают, по его мнению, «убожество и уродство мысли». Петров сравнивает Бальмонта с типографским наборщиком — у него под рукой много прекрасных «парадных» слов, которыми он умело пользуется, но отсутствует чувство прекрасного, которое присуще настоящему поэту, из-за чего статья Бальмонта представляет собой «бред и логический, и еще более нравственный. При этом бред не поэтического экстаза, а бред „наборного“ опьянения, бред человека, одурманившегося изобилием красивых слов» [42]. Таким образом, подобное искусство представляет опасность для неопытных молодых умов и потому, несмотря на вероятное раскаяние, Уайльд, по мнению Петрова, справедливо был вычеркнут из памяти соотечественников. 64 Сходным образом на дебют «Весов» отреагировал ведущий критик и публицист журнала «Русский вестник» Н. Я. Стечкин, придерживавшийся консервативных взглядов и писавший под говорящим псевдонимом Стародум. Критик замечает, что, несмотря на то, что произведения английского писателя имели огромный успех в Англии и Франции, в России Уайльд был почти неизвестен и куда больше внимания привлек к себе скандальный судебный процесс с его участием, чем его творчество. «Мы так мало его знали, что наши газеты даже имя его произносили согласно начертанию — „Вильде“» — констатирует критик, — «Многое в процессе Уайльда осталось недосказанным и неразъясненным. Так ли он был виноват, как это представилось на суде, не было ли смягчающих обстоятельств, хотя бы в виде неполной его нормальности, — все это нам неизвестно» [144, с. 342]. О возможных смягчающих обстоятельствах, на которые ссылается Стечкин, русский читатель, как и сам критик, могли знать из чрезвычайно популярного в России второй половины 1890-х гг. труда М. Нордау «Вырождение». Памфлет Нордау против новых направлений в искусстве и мысли, имел вид исследования медицинского характера и именно таким образом воспринимался многими современниками. Известно, что Уайльд сам ссылался на него как на труд, имеющий научную ценность, в неудовлетворенной петиции об освобождении 2 июля 1886 г., где выразил надежду, что его дело должно быть передано под юрисдикцию врачей, а не судей [174, с. 562].1 Стечкин обращает внимание на странное обстоятельство, которое косвенно может говорить о хотя бы частичной невиновности английского писателя: «причиной возбуждения дела Уайльда была его собственная жалоба на клевету. Уайльд должен был хорошо понимать, что если клеветник себя оправдает и докажет, что его клевета есть правда, то мнимо оклеветанному придется сесть на скамью подсудимых» [144, с. 345]. По мнению критика, тот факт, что Уайльд, по1 Впрочем, едва ли можно говорить о том, что Уайльд действительно считал себя нуж- дающимся в лечении. После освобождения в разговоре с журналистом К. Хилли Уайльд, в частности, обронил такую фразу: «Я совершенно согласен с утверждением доктора Нордау, что все гении безумны, но ему следовало добавить, что все „нормальные“ — идиоты» [174, с. 562]. 65 видимому, не считал себя виновным, «может служить оправданием, если не с судебной, то с нравственной точки зрения» [Там же]. Предлагаемое Стечкиным понимание личности и биографии Уайльда перекликается с интерпретацией Петрова: и тот и другой не видят в Уайльде творца своей жизни, контролирующего ее нарратив, как бы приподнявшегося над ее событиями художника, как это делает К. Бальмонт и З. Венгерова; вместо этого Петров и Стечкин предлагают читателю свой более «реалистичный» миф об Уайльде: писатель, не лишенный таланта, но растративший свою жизнь на сомнительные удовольствия, раскаялся в своем поведении, поплатившись за пренебрежение моральными нормами тюрьмой. Раскаяние, которое, по мнению Стечкина, последовало вслед за наказанием, а по мнению Петрова, должно было предвосхитить его, в некоторой степени реабилитирует Уайльда: «действительно, внутри его мог сложиться „свой мир“, полный красоты раскаяния и глубины угрызений» [Там же. С. 342]. Но реабилитация эта возможна только при случившемся личностном перерождении писателя, расколотости его жизненного пути надвое, признании ошибок и искуплении их путем страдания. Такая расколотость биографии раскаявшегося грешника противостоит цельности жизни как произведения искусства в интерпретации Бальмонта: «Все цельно в этой жизни. Посмел, заплатил» [50, с. 39]. Обе конфликтующие интерпретации жизненной коллизии Уайльда не отказывают ей в красоте, но если одна сторона подразумевает красоту раскаяния, то другая, в лице Бальмонта, по словам Стечкина, «во что бы то ни стало, хочет сохранить за Уайльдом особое право гражданства в особенном мире и в особенностях этого мира ищет „красоты“ и „глубины“» [144, с. 342-343]. Как и Петров, Стечкин обращает внимание на новый язык, которым пользуются приверженцы «нового искусства», и Бальмонт в частности. Критик сравнивает этот язык с детской игрой: дети придумывают новый язык путем произвольного именования предметов или перестановки частей слова или букв в слове. Стечкин приводит случай из жизни, когда в лексикон придуманного невинно играющими в эту игру детьми языка случайно попало «площадное» слово, которое было услышано проходившим мимо отцом. «Не в таком же ли именно положении 66 находятся жрецы декадентства, все эти Бальмонты, Брюсовы, Белые, Балтрушайтисы и иные. Они тоже, быть может бессознательно, в погоне за модой, договорились, если не до скверных слов, то во всяком случае до скверных понятий [Там же. С. 341]. Красочность и образность языка Бальмонта, по мнению критика, отвлекают читателя от сути излагаемого. По словам Стечкина, Бальмонт увлекается «желанием одеть цветами грехи Уайльда», но «какими бы „красными маками“ и орхидеями ни назвал г. Бальмонт уклонения Уайльда с пути истинного, уклонения останутся уклонениями, считаемыми грехом по нравственному закону большинства и преступлением по всем почти писанным кодексам» [Там же. С. 345]. Особенно едкое замечание Стечкина вызывает то, как Бальмонт оговаривает проступок Уайльда, за который английский писатель был предан суду: «Наказан был, по словам г. Бальмонта, Уайльд „за чрезмерность мечты“. Ведь умеют-таки гг. декаденты подбирать словечки» [Там же. С. 348]. Впрочем, критик и сам не дезавуирует преступление Уайльда, придерживаясь принципа неназывания, которому будут верны почти все русские критики и исследователи Уайльда вплоть до А. Аникста и А. Образцовой: «Действительно, мечты Уайльда были чрезмерны и нельзя вежливее определить и извинить в то же время то, в чем поэт был признан виновным» [Там же]. Критик предположил, что Уайльд вряд ли бы заинтересовал новоявленных русских приверженцев модернизма, если бы не был окружен ореолом скандальной славы. Рассматривая «странную и пышную» статью Бальмонта с традиционной точки зрения пользы, Стечкин заключил, что сгодится она только «для старых развратников и для молодых неврастеников» [Там же. С. 349]. И Петров, и Стечкин, несмотря на снисходительное отношение к Уайльду, сходятся на том, что английский писатель не должен быть предметом внимания и обсуждения в печати: «самое лучшее, что можно сделать по поводу Оскара Уайльда, — это молчать о нем. Сочинения его не столь замечательны, при всем блеске его творчества, чтобы без их разбора нельзя было обойтись, а жизнь его не такова, чтобы ее выносить на улицу» [Там же. С. 342]. 67 Как бы то ни было, редакция журнала «Весы» и издательства «Скорпион» дальнейшей своей деятельностью неустанно показывала, что придерживается прямо противоположной точки зрения. Ю. К. Балтрушайтис в последовавшем через некоторое время номере «Весов» характеризовал Уайльда как символ нового времени, в котором отразились «порывы и наклонности современной души»: «В наши загадочные дни, когда в человечестве, по-видимому, совершается резкий поворот к иному психологическому строю, вся внутренняя судьба английского поэта особенно поучительна в том смысле, что она была как бы опытным применением этических и эстетических теорий, какие возникли при первых признаках этого поворота или в предчувствии, может быть уже недалекого, возрождения человеческой воли к новым, более исчерпывающим ее и более устойчивым порывам» [124, с. 66]. Героизация личности Уайльда выходит в статье Балтрушайтиса на новую ступень: «...необходимо помнить, что эта аристократическая холя своего существа, этот безусловный для Уайльда культ личности отнюдь не имели в виду красивую сытость, ищущее разнообразия самоуслаждение, но были вызваны мучительной заботой об усугублении жизненной силы в человеке, были глубоко отмечены роковым и трагическим алканием нового Фауста. В этом вся его психологическая ценность, в этом же и полное оправдание его ошибок» [Там же]. Таким образом, в 1904 г. благодаря Бальмонту и журналу «Весы» Уайльд стал объектом дискуссии между модернистами, которые увидели в нем близкого им художника крупного масштаба и, что особенно важно, интерпретировали его биографию как ценный опыт применения этических и эстетических теорий в жизни, и консервативно настроенными критиками, которые в лучшем случае видели в Уайльде раскаявшегося попирателя нравственных устоев и в целом не одобряли оказываемого оскандалившемуся писателю внимания. Бальмонт представлял Уайльда читателям не иначе как «самого выдающегося английского писателя конца прошлого века» [48, с. 388]. Подобная патетика в определении роли Уайльда и его творческого наследия в истории мировой литературы инициировала полемический отклик в печати. Дискуссия о личности Уайльда и его творчестве, 68 началом которой послужил доклад Бальмонта, растянувшись на годы, вовлекла в себя крупнейшие имена русской литературы и критики — от К. Чуковского и Ю. Айхенвальда до М. Горького. Спор об Уайльде маркировал разногласия двух мировоззрений. И хотя число приверженцев «нового искусства» было еще не велико, оно неуклонно возрастало, и русская интеллигенция все больше проникалась новыми идеями. В первое десятилетие XX в. ощутимо возрастает популярность эстетизма, увлечения искусством как таковым, т.е. «...не только как предметом потребления, но и как полем приложения сил, как средством реализации человеческого „я“, самоидентификации <…> Искусство и художник оказываются едва ли не самыми продуктивными мифообразующими символами общественного сознания» [102, с. 6]. По выражению А. Белого, в это время происходит некий «сворот оси», повсеместно утверждается интерес к «новому искусству»: «современные наблюдатели обнаруживали с каждым годом, а потом и месяцем все более определенные черты „декадентства“ в общественной психологии и поведенческих стереотипах» [Там же. С. 9]. Живописно об этом времени свидетельствует А. Белый в письме к Э. К. Метнеру: «У нас в Москве страшное брожение: „новое“ искусство разливается вширь, стучится в двери; „скорпионовская кучка“ интересует всех: ее ругают, хвалят, но все интересуются. Словом, начался процесс ассимиляции». Уайльд в скором будущем во многом благодаря коллективу издательства «Скорпион» оказался в обойме тех имен, которые олицетворяют новую эпоху в литературе, искусстве, философской мысли. Его образ начал служить своеобразной моделью «нового человека» наподобие того, как литературные герои Н. Г. Чернышевского были образцами поведения для прогрессивной интеллигенции 1860 гг. [186, p. 460]. Но возрастающий интерес к модернизму таил в себе опасность его вульгаризации. Еще в августе 1903 г. Брюсов писал А. М. Ремизову: «…слово „декадентство“ в столицах перестает быть ругательством. Напротив, очень явно декаденство становится модой. Что́ хуже, не знаю» [Цит. по: 105, с. 101]. Уже в 1907 г. К. Чуковский заметил: «Декадентства давно уже нет, либо все уже стало декадентством. Оскар Уайльд, Пшибышевский, Метерлинк не сходят с книжного при- 69 лавка. И Бальмонта, и Блока, и Сологуба, и Валерия Брюсова, и Балтрушайтиса с охотой печатают уличные газеты и семейные журналы». Первостепенная миссия «Весов» как журнала-манифеста — легитимировать литературный модернизм в читательской среде и показать преемственность русского символизма в культурной традиции современного западного искусства — отходила на второй план. На первом плане оказывалась потребность отделить, по выражению К. Чуковского, литературу от макулатуры. Настоящую отповедь подражателям, увлекшимся модой на «новое искусство» и перенявшим лозунги «Весов» без должного понимания их философской проблематики, дал А. Белый: «...нам претят тупо безвкусные выкрики о свободе искусства всех тех, кто сам не пережил ни кризиса позитивизма, ни кризиса идеализма, ни кризиса индивидуализма, чье сердце не обливалось кровью, и все вопросы превратили они в декадентское бильбокэ. Презрение ломакам, опозорившим мечты Ницше и Уайльда!» [57, с. 54]. Борьба с эпигонством и вульгаризацией велась на протяжении всей шестилетней жизни журнала даже с бо́льшим азартом и упорством, чем борьба с реализмом. Пафос этой борьбы предполагал безупречный профессиональный и культурный уровень самого журнала, который с великим трудом и неизменным успехом поддерживался редакцией «Весов». § 3.3 Роль М. Ф. Ликиардопуло в популяризации творчества О. Уайльда в России Замышляя издание «Весов» как сугубо литературное, Брюсов считал приемлемым широкое использование переводного материала. В связи с этим огромное внимание уделялось переводческой работе. Многие сотрудники журнала — Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, С. А. Поляков, М. Н. Семенов — были профессиональными переводчиками. Десятки статей и рецензий, помещенных в «Весах», были посвящены анализу и оценке переводов появлявшихся публикаций. «Весы» старательно вырабатывали культурное и профессиональное отношение к переводу, еще не ставшее в то время нормой. Известное внимание было уделено и 70 теории перевода (например, статья Брюсова «Фиалки в тигеле» [66] или полемика Волошина с Брюсовым по поводу переводов Верхарна [82]). Систематически, с большой эрудицией и художественным чутьем критиковалось низкое качество переводов, заполнявших тогда книжный рынок. Исключение не делалось даже для своих сотрудников — достаточно вспомнить едкую критику К. Чуковского на переводы К. Д. Бальмонта в «Весах» [156]. Естественно, без внимания не оставались появляющиеся переводы Уайльда. Наибольшую активность в этом плане проявил секретарь журнала М. Ликиардопуло, сделав тему Уайльда на страницах «Весов» своим профилем. Из 28 статей, касающихся английского писателя, 19 принадлежат Ликиардопуло. Михаил Федорович Ликиардопуло (1883-1925), русский грек с итальянскими корнями, тонкий знаток и ценитель творчества Уайльда, московский денди, полиглот, знавший шесть языков, начал сотрудничество с журналом «Весы» с первого же месяца издания, взяв на себя роль посредника между литературными кругами России и Греции. За первые три года Ликиардопуло успел осуществить крупную серию публикаций на русско-греческую тематику, но по мере того, как его полномочия в «Весах» расширялись (под конец он становится членом редколлегии и практически ведет журнал), изначальный проект русско-греческого посредничества оттеснялся на задний план. Все больший отклик вызывала его переводческая и критическая работа по Уайльду. В годы издания «Весов» читательский интерес к Уайльду возрастал и, как следствие, стимулировал переводческую и издательскую деятельность. Уайльдом стали интересоваться не только идейные модернистские издательства («Скорпион», «Гриф»), но и издатели, исходившие из чисто рыночных интересов. Уже в 1906 г. Брюсов отмечал, что «недостатка в рыночных русских изданиях Уайльда не предвидится» [59]. Выход Уайльда к русской «большой публике» возымел и негативные последствия. Переводы, сделанные поспешно, нередко были неполными, сделанными с пиратских неавторизованных изданий, а иногда и вовсе с переводов на другие языки, и в большинстве своем не соответствовали скольконибудь высоким художественным критериям. Журнал «Весы» в этих обстоятель- 71 ствах в лице Ликиардопуло выступал против дискредитации английского писателя некачественными русскими изданиями. Резкой критике подвергались не только некомпетентные издатели, ориентировавшиеся на массового читателя, исключения не делалось и для изданий идеологически близких печатных органов. Так, символистское издательство «Гриф», наравне со «Скорпионом» проявившее пристальное внимание к Уайльду, не смогло избежать строгой критики со стороны «Весов». Единственный положительный отклик заслужило издание «Саломеи» 1904 г. А. Белый, автор рецензии, отметил тщательность подготовки издания и высокое качество перевода, назвав его «серьезной заслугой книгоиздательства „Гриф“» [55, с. 70]. Впрочем, не исключено, что оценка перевода носила голословный, тактический характер, т.к. перевод был выполнен под редакцией и с предисловием Бальмонта. Рецензия же была размещена в дебютном номере «Весов», где Бальмонт выступил с программной статьей об Уайльде. В пользу этого предположения говорит, например, мнение А. Блока по поводу издательской деятельности «Грифа», высказанное в письме к С. Соловьеву (март 1904 г.): «1) Гриф выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда. Все издано более - менее скверно. 2) Редактор ничего не понимает. 3) Скорпион сделал бы все это гораздо лучше. <…> Гриф — положительная подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора „Гриф“ и „не Гриф“» [118, с. 371]. Гораздо менее благосклонно редакцией «Весов» были встречены переводы А. Р. Минцловой — выпущенные «Грифом» «Портрет Дориана Грея» и «Замыслы». Ликиардопуло, со свойственной ему исследовательской тщательностью, не скупясь на примеры из текста, указывал в своей рецензии на неточности, небрежное отношение к языку оригинала, неминуемо искажающее его смысл. Минцлова и издательство «Гриф», по мнению Ликиардопуло, показали свою неподготовленность уже тем, что для перевода «Портрета Дориана Грея» был выбран неполный, журнальный вариант романа, опубликованный в 1890 г. в «Lippincot’s Monthly Magazine», в то время как существовало исправленное и дополненное 7-ю главами книжное издание, признанное самим Уайльдом единственно верным вариантом. 72 Некомпетентность переводчицы проявилась в неспособности правильно ориентироваться в исторических названиях и именах собственных, которыми изобилуют «Замыслы». Кроме ошибок в передаче смысла оригинального текста, перевод изобилует неловкими, неуклюжими выражениями и тяжелыми оборотами, из-за чего «от того Уайльда, которого мы знаем и ценим, Уайльда блестящих афоризмов, искрящегося музыкального стиля, — ничего не осталось, кроме тяжеловесной, неуклюжей прозы, да и притом сплошь и рядом безграмотной» [117, с. 66]. Непрофессионализм переводчицы также отметил в своей рецензии, помещенной в символистском журнале «Золотое руно», Брюсов [59]. На большое количество погрешностей в переводе Минцловой указывал Бальмонт [49]. С резкой критикой Ликиардопуло откликнулся на два издания «Души человека при социализме» Уайльда, выпущенные московским издательством «Дилетант» и петербургским «Сириусом» в 1907 г. В своей рецензии Ликиардопуло небезосновательно настаивал на названии «Душа человека», поскольку лишь в первом издании в «The Fortnightly Review» в 1891 г. очерк был озаглавлен Уайльдом «The Soul of Man Under Socialism», дальнейшие издания имели заголовок «The Soul of Man»; под тем же сокращенным названием Уайльд упоминает свою статью в «De Profundis». Другая версия названия встречается в пиратских изданиях Уайльда, что косвенно говорит о том, что перевод «Дилетанта», озаглавленный «Душа человека при социализме», и перевод издательства «Сириус» — «Социализм и душа человека» — сделаны с неавторизованных изданий.1 Сами переводы критик находит неудачными. В большей степени достается переводу М. А. Головкиной («Дилетант»), чья работа (перевод с французского «Наоборот» Гюисманса) уже подвергалась разоблачительной критике в «Весах» [38]. Перевод Головкиной, по мнению Ликиардопуло, «до того чудовищен, каждая фраза в нем до того исковеркана, что мы видим себя принужденными привести примеры почти с каждой страницы, хотя говорить еще раз о переводах г-жи Головкиной казалось бы из- 1 Справедливости ради стоит отметить, что устоялось все-таки как в русских, так и в за- рубежных изданиях полное заглавие «Душа человека при социализме». 73 лишне, да и... скучно» [118, с. 88]. Тем не менее, чтобы не быть голословным, критик в свойственной ему скрупулезной манере сопровождает свой вердикт чередой примеров из текста в страницу длиной. Анонимный перевод издательства «Сириус» был оценен несколько выше, но «все же и он далеко не удовлетворителен, грубоват и небрежен. От острого, яркого стиля Уайльда получился ряд дубоватых, тяжеловатых периодов, почему-то захватывающих в себя иногда целиком 3-4 фразы Уайльда» [Там же. С. 89]. В заключение рецензии сообщалось: «У пишущего эти строки имеется несколько негодующих писем друзей и близких О. Уайльда, глубоко возмущенных и опечаленных некорректным отношением к памяти покойного писателя, но благодаря отсутствию конвенции бессильных принять какие-либо меры против хищников-издателей и вандалов-переводчиков» [Там же]. Вероятнее всего, Ликиардопуло ссылается здесь на мнение Р. Росса и А. Дугласа, с которыми он встретился во время визита в Лондон в сентябре 1907 г. Как сообщалось в письме Брюсову, «оба обещали свое сотрудничество „Весам“» [Цит. по: 131, с. 56]. Сотрудничество это не было реализовано в полной мере. В частности, были анонсированы, но не были опубликованы корреспонденции обоих авторов об английской литературе и воспоминания Р. Роса о последних годах жизни Уайльда [80]. Тем не менее, благодаря установленной связи Ликиардопуло с Р. Росом — литературным душеприказчиком Уайльда, — «Весы» закрепили за собой роль полномочного представителя Уайльда в русской литературе, а «Скорпион» — место наиболее авторитетного издательства, занимающегося английским писателем. Образцом некомпетентности, с которой боролся Ликиардопуло, стало первое собрание сочинений Уайльда в России, выпускавшееся московским издательством В. М. Саблина. Организовав свое дело в начале 1900-х гг., предприимчивый книгоиздатель специализировался среди прочего на собраниях сочинений популярных современных западноевропейских авторов. Полное собрание, включавшее восемь томов и выходившее в течение 1905-1908 гг., издавалось без какого-либо заранее продуманного плана. Торопясь с выпуском очередного тома, видя, какой коммерческий успех ему это сулит, Саблин не слишком заботился о качестве ма- 74 териала. Но, несмотря на то, что большинство переводов были выполнены поспешно и кустарно, каждый том Полного собрания выдержал несколько переизданий, что свидетельствовало о большом читательском интересе к Уайльду. Саблинские издания Уайльда Ликиардопуло отметил в «Весах» четырьмя рецензиями. «Редко приходится наталкиваться на пример более бесцеремонной расправы с художественным произведением» [172, с. 60], — писал критик в рецензии на перевод «Портрета Дориана Грея», выполненный неким «С. З.». Анализ ошибок, сделанных переводчиком, позволил установить, что роман был переведен не с оригинала, а с французского перевода, притом плохого. Ликиардопуло нашел в тексте немало пропусков существующих в подлиннике мест, а также множество фрагментов, которых нет в оригинальном тексте Уайльда, но которые присутствуют в издании Саблина и авторство которых туманно. «Наконец, смысл почти каждой фразы, почти каждого слова Уайльда извращается, коверкается почти самым беззастенчивым образом» [Там же. С. 62]. Снабдив рецензию длинной чередой курьезных примеров безграмотного перевода, Ликиардопуло дал читателям достаточно доказательств в подтверждение того, что издание Саблина не удовлетворяет самым общим требованиям, предъявляемым ко всякому переводу, и «ни в коем случае не есть перевод „The Picture of Dorian Gray“» [Там же. С. 60]. Строгой критики не избежал и первый том Полного собрания сочинений: «Гг. Саблин и С. З. продолжают бесцеремонно расправляться с произведениями Оскара Уайльда. Вслед за чудовищно-искаженным русским переводом „Портрета Дориана Грея“ ими недавно выпущен еще один том (1-й) полного собрания сочинений Уайльда – „Сказки и рассказы“» [114, с. 72]. К удивлению критика, издание лишь на треть состояло из произведений Уайльда — «Сказки и рассказы» были представлены четырьмя сказками из сборника «Гранатовый домик», — остальные две трети тома занял переведенный с немецкого критический очерк К. Гагемана о жизни и творчестве Уайльда1. Выбранный для предисловия очерк Ликиардопуло 1 Очерк К. Гагемана «Оскар Уайльд» — первая попытка подробного исследования об Уайльде на немецком языке [190, p. 193] — не был обойден вниманием З. А. Венгеровой. 75 счел не подходящим для русской большой читательской публики. Критик справедливо упрекнул издателя в неосведомленности: «Если г. Гагеман (книга его вышла на немецком в 1904 г.) еще имел кое-какие основания предполагать, что трагедия Уайльда „The Duchess of Padua“ не появлялась в печати (после процесса Уайльда она была сожжена издателями до поступления в продажу), то русским издателям непростительно повторение этой ошибки, так как еще в том же 1904 г., хотя бы в „Весах“ (№ 9), уже сообщалось, что разыскан уцелевший английский подлинник и что вышел немецкий перевод г. Мейерфельда» [Там же].1 Обратившись к тексту издания, Ликиардопуло указал на все те же признаки кустарной, безграмотно выполненной работы: нелепые ошибки перевода, полная дезориентация в названиях и именах собственных (например, «известный английский прерафаэлит Данте Габриэль Росетти превращен г. С. З. в два лица, в Данте и в Габриэля Росетти» [Там же]), недостаточное владение русским языком, отсутствие стилистического чутья: «Книга вся испещрена безграмотными фразами, неправильными оборотами речи, невозможными выражениями. Привести их все целиком значило бы переписать всю книгу...» [Там же. С. 73]. Критику Ликиардопуло поддержал К. И. Чуковский, передав слова благодарности в письме Брюсову: «Привет Мr’у Lykiardopulos’y. Спасибо ему, что блюдет невинность Оскара Уайльда» [165, с. 92]. Спустя шесть лет, в 1912 г., Чуковскому суждено было редактировать новое, на порядок более «культурное», Собрание сочинений Уайльда, предпринятое товариществом А. Ф. Маркс. Третий том Полного собрания сочинений, по мнению Ликиардопуло, не внес каких-либо существенных корректировок в представление о «„качествах“ предпринятого г. Саблиным издания» [116, с. 58], но заставил обратить на себя внимание анонимным переводом «De Profundis», который был сделан не с английского оригинала и не с французского или немецкого перевода, но оказался переложением уже существующего, ранее опубликованного в «Весах» [1] русско- 1 Также о вновь найденной рукописи, переведенной и изданной в Германии, сообщала в журнале «Новости иностранной литературы» З. А. Венгерова. 76 го перевода Е. Андреевой, что было доказано критиком примерами характерных ошибок, которые были допущены Андреевой и странным образом повторялись в анонимном переводе издания Саблина. Еще один пример бесцеремонного обращения издателей с произведениями Уайльда явил собой 4-й том Полного собрания сочинений Саблина, точнее вошедший в него перевод «Герцогини Падуанской». Эта трагедия Уайльда, не появлявшаяся в печати до 1905 г., впервые была опубликована в немецком переводе. Перевод был сделан М. Мейерфельдом с единственной сохранившейся рукописи, которую ему предоставил Р. Росс. Немногим позже драма стала доступна в своем оригинальном виде в Лондоне, но распространялась по дорогостоящей закрытой подписке. Саблинский же перевод был сделан с издания, выпущенного в Париже, где некий издатель, «не менее предприимчивый, чем г. Саблин, п е р е ве л о б р а тн о в а н г ли й с к ую п р о з у мейерфельдовский немецкий перевод „Герцогини“, и при этом оказалось, что общего с уайльдовским оригиналом получилось лишь заглавие, имена действующих лиц и фабула, — одним словом лишь то, что в произведениях Уайльда всегда занимает второстепенное место. И говорить нечего, что при вторичном переложении на русские стихи, уж прямо по условиям всякого стихотворного перевода, „Герцогиня Падуанская“ не могла не быть окончательно, безнадежно искалеченной. Дальше идти в области литературной фальсификации — некуда» [115, с. 73]. В конечном счете, критикуя саблинские издания Уайльда, Ликиардопуло добился того, что был приглашен их редактировать. Под его редакцией в 19091910 гг. вышли последние два тома Полного собрания сочинений, что обеспечило их гораздо более высокий уровень. Седьмой том Ликиардопуло снабдил компетентным предисловием и сам перевел все вошедшие в него произведения: «Преступление лорда Артура Сэвиля», «Сфинкс без загадки», «Натурщик-миллионер», «La sainte courtisane», «Портрет м-ра W. H.», «Возрождение искусств в Англии», афоризмы и парадоксы. Переводческую работу для восьмого тома, куда вошли «Тривиальная комедия для серьезных людей» («Как важно быть серьезным»), «Развитие исторического метода в критике», «Баллада Рэдингской тюрьмы», Ли- 77 киардопуло разделил с Ю. Балтрушайтисом, который перевел комедию Уайльда. Таким образом, двумя последними томами саблинского собрания занимались «cкорпионовцы». Под редакцией Ликиардопуло в 1909 г. также было выпущено переиздание второго тома — полностью переработанный перевод романа «Портрет Дориана Грея». С 1906 г. журнал «Весы», начатый как исключительно критико- библиографический, расширяет свой формат и публикует на своих страницах художественную литературу, в том числе переводную. Но еще задолго до анонсированного расширения формата «Весы» в качестве исключения поместили на своих страницах перевод «De profundis» Уайльда, сделанный Е. Андреевой — им открывался № 3 «Весов» за 1905 г. Чуть позже тюремное послание вышло отдельной книгой и вызвало большой читательский спрос. Все остальные переводы Уайльда, опубликованные в «Весах»расширенного формата, принадлежат Ликиардопуло, их 5: «Сфинкс без загадки» (1906, № 3-4, с. 48-54); «Американские впечатления» (1906, № 12, с. 34-38); «Флорентийская трагедия» (1907, № 1, с. 17-38); «De Profundis. Три неизданных отрывка» (1908, № 3, с. 42-48); «La Sainte Courtisane, или Женщина, увешанная драгоценностями. Отрывки из затерянной трагедии» (1908, № 11, с. 22-31). Особенно плодотворным для русской уайльдианы оказалось сотрудничество «Весов» с Р. Россом, который мог предоставить рукописи Уайльда. Благодаря этой уникальной возможности были опубликованы сцены из «Флорентийской трагедии» в переводе М. Ликиардопуло совместно с А. Курсинским. Вероятно, Ликиардопуло, который не писал стихов, сделал подстрочный прозаический перевод, а поэт А. А. Курсинский воспользовался им для создания стихотворного текста [132, с. 104]. На публикацию «Флорентийской трагедии» откликнулись А. Г. Горнфельд [140], Ю. И. Айхенвальд [139], А. П. Воротников [120], давшие высокую оценку пьесе. Примечательно, что именно в «Весах» «Флорентийская трагедия» была опубликована впервые в 1907 г. (№ 1). В том же году пьеса была выпущена «Скорпионом» отдельной книгой с предисловием Ликиардопуло. Немецкий перевод М. Мейерфельда вышел лишь 6 месяцев спустя после русской 78 публикации. Английский оригинал был издан в 1908 г. Русский перевод, сделанный с рукописи, был авторизован и признан Р. Россом единственными разрешенными для издания в России, о чем литературный душеприказчик Уайльда сообщал читателям непосредственно на страницах «Весов» в специальном уведомлении. После публикации «De Profundis» в переводе Андреевой в 1905 г. в «Весах» было издано короткое дополнение из трех отрывков в переводе Ликиардопуло. Эти неизданные отрывки появились вслед за немецким и английским дополненными изданиями 1908 г. В первом издании, которое было использовано для русского перевода Е. Андреевой, текст «De Profundis» был опубликован Р. Росом лишь наполовину и не содержал в себе никаких указаний на то, что оригинал представляет собой письмо А. Дугласу. Опубликованные отрывки также не нарушали форму «тюремных записок», не имеющих адресата, и расширяли текст лишь на несколько страниц. Но дополняющие отрывки в «Весах» были снабжены предисловием Р. Росcа, где защищаясь от обвинений в фальсификации (некоторые критики предположили, что Росс сфабриковал «посмертное» произведение Уайльда, используя личные письма писателя к нему) литературный поверенный вынужден был приоткрыть завесу тайны над «De Profundis»: Росс признал за собой лишь авторство заглавия и подробнее описал хранящуюся у него рукопись: «Я считаю нужным здесь заявить, что „De Profundis“ представляет собою рукопись в 80 мелко исписанных страниц на двадцати больших листах; что оно набросано в виде письма к одному из близких друзей автора — н е к о м н е » [4, с. 44]. Таким образом, русский читатель, в большинстве своем воспринявший «De Profundis» как тюремную исповедь, получил намек на то, что из себя представляет полный текст произведения. Найденные в архиве писателя фрагменты недописанной драмы «La Sainte Courtizane, или Женщина, увешанная драгоценностями» (которая, как и «Флорентийская трагедия», считалась утерянной) были предоставлены Россом редакции «Весов» и вышли в переводе Ликиардопуло (Весы. 1908. № 11). 79 Для № 12 «Весов» 1906 г. Ликиардопуло переводит фрагменты книги, которая была посвящена лекционной деятельности Уайльда в Америке и вышла небольшим тиражом в том же 1906 г. в провинции Великобритании. В этой небольшой по объему книге авторитетный исследователь и библиограф Уайльда С. Мейсон (настоящее имя — Кристофер Миллард), объединил стихи, написанные Уайльдом в Америке, фрагменты из американской прессы о выступлениях приезжего эстета и рассказы об Америке, с которыми Уайльд выступил по возвращении на родину. Ликиардопуло перевел для «Весов» фрагменты «Американских впечатлений» Уайльда, снабдив их предисловием, в котором писал: «Оскар Уайльд посетил Америку в 1882 г. с целью прочитать в разных городах Нового Света ряд лекций по вопросам искусства. Слава Уайльда, в то время уже признанного главой известной эстетической школы, перенеслась и за океан, и приезд его был своеобразным литературным событием» [6, с. 34]. Примечательно, что Ликиардопуло не сообщает русскому читателю о поводе, который послужил организации серии американских лекций Уайльда. Окончивший Оксфорд молодой поэт, быстро став наиболее заметной фигурой среди эстетов, подвергался, благодаря своему экстравагантному поведению, постоянным пародированиям в обществе, в прессе и даже на сцене театров. Так, поэт У. Ш. Гилберт и А. Салливан вывели Уайльда в образе поэта-эстета Реджинальда Банторна в комической опере «Пейшенс». Опера имела большой успех, и спустя полгода после лондонской премьеры была запланирована нью-йоркская. Чтобы опера была воспринята должным образом, организаторам гастролей нужно было познакомить американскую публику с объектом пародии. Уайльд любезно согласился на предложение антрепренера выступить с серией лекций об искусстве в Америке. Посетители лекций приходили не столько чтобы послушать Уайльда, сколько чтобы увидеть диковинного эстета. Таким образом, выступления Уайльда оказались возможны отнюдь не благодаря известности «признанного главы эстетской школы», которая «перенеслась и за океан», как сообщает Ликиардопуло. Известность Уайльда как писателя не могла быть достаточно большой: в 1878 г. отдельной книгой вышла поэма «Равенна», в 1881 г. — сборник «Стихотворения». Все значительные произведения 80 Уайльда были написаны позже. Ликиардопуло не мог не знать об опере Гилберта и Салливана как о причине, открывшей Уайльду возможность поехать с лекциями в Америку, хотя бы потому, что о ней рассказывает С. Мейсон в предисловии к оригинальному изданию, с которого Ликиардопуло делал перевод «Американских впечатлений» для «Весов» [192, p. 7]. Вероятно, Ликиардопуло предпочел опустить эту подробность, т.к. она не вязалась с образом писателя, созданным в «Весах», — выразителем современной души, жизнь которого была отмечена «роковым и трагическим алканием нового Фауста» [124, с. 66]. На протяжении всего выпуска журнала Уайльд неизменно оставался героем литературных новостей. В небольших заметках, как правило, без подписи читателям сообщалось о новых западных изданиях Уайльда, критических публикациях о нем, об успехах новых театральных постановок. «Весы» систематически отслеживали выпускаемые новинки критической литературы об Уайльде и сообщали о них в библиографическом разделе журнала. С особенным вниманием «Весы» отслеживали изменения отношения к писателю на родине, приводя отзывы на новые издания Уайльда из литературноконсервативной английской периодики, где еще совсем недавно запрещено было даже упоминание имени писателя. Например, как важное событие в процессе «реабилитации» имени Уайльда на родине была отмечена рецензия на De profundis, опубликованная в респектабельном английском издании «Athenaeum». Перевод статьи был размещен в «Весах» (1905, № 5). Заканчивается статья, нарушившая многолетний негласный договор о непроизнесении имени Уайльда в британской печати, следующим образом: «Он был расточителем мгновений, испытателем ощущений, художником впечатлений, и настоящий лик его был также скрыт от него самого, как и от всего прочего мира. Не оставляет сомнений для читателя мало-мальски сознательного настоящая книга, что под всем этим таился истинный ч е л о в е к » [176, с. 59] Ликиардопуло отозвался хвалебной рецензией на биографию Уайльда авторства Р. Шерарда, появление которой в Лондоне у крупного издателя также свидетельствовало о том, что «имя Уайльда снова стало „удобопроизносимо“, что 81 его „респектабельность“ до известной степени восстановлена» [110, с. 92]. Книгу Шерарда Ликиардопуло отметил как «первый серьезный труд, знакомящий <…> вполне достоверно с личностью и жизнью Уайльда» [Там же], который выделяется на фоне подобных работ, появлявшихся в Германии и Франции: в частности, воспоминания А. Жида Ликиардопуло называет «пустоватой болтовней с явной склонностью к самопрославлению автора» [Там же]. Действительно, книга Шерарда, фактологически гораздо более насыщенная, чем воспоминания Жида, могла показаться более ценным вкладом в появляющуюся исследовательскую литературу об Уайльде. Однако биография Шерарда не лишена тенденциозности и морализаторства. Автор являлся сторонником мнения, начало которому положил Нордау, о ненормальности Уайльда, причиной которой могло быть врожденное заболевание. «Вполне возможно, — пишет Шерард, — что медицинский эксперт усмотрел бы в блестящей манере речи Оскара Уайльда, в ее непрестанном потоке и, казалось бы, неисчерпаемом ресурсе остроумия и знаний, благодаря которым он создавал свои произведения, ранние симптомы болезни, от которой он умер. Причиной его смерти был менингит, воспаление мозга»1 [175, p. 273]. Шерард проделал большую работу, добывая фактические сведения о жизни писателя, но также приложил известные усилия для того, чтобы добываемые сведения укладывались в его концепцию. Как заметил автор гораздо более поздней биографии Уайльда Р. Эллман, «сведения, конечно, нужны, и еще как, однако мало кому, пожалуй, биограф оказывал столь же странную услугу. Шерард был человек самоуверенный, упорствующий в заблуждениях и туповатый» [174, с. 247]. В своей хвалебной рецензии на книгу Шерарда в «Весах» Ликиардопуло, отмечая обширность исследованного биографического материала, приводит для русского читателя один из фактов, помогающих, по его мнению, раскрыть «многое в сложной и запутанной жизни писателя»: «…для матери <Уайльда> рождение Оскара было 1 «It is possible that pathologist would have seen in the extraordinary brilliancy of Oscar Wilde's talk, in its unceasing flow and the apparently inexhaustible resources of wit and knowledge on which he drew, the prodromes of the disease of which he died. The cause of his death was meningitis, which is inflammation of the brain». 82 весьма ощутительным разочарованием. Леди Уайльд давно мечтала о дочери, долго не могла примириться с мыслью, что второй ребенок ее — мальчик, и поэтому долго обращалась с ним, как с девочкой: одевала его, как девочку, заставляла его говорить в женском роде и т. д.» [110, с. 93]. Эллман, комментируя это распространенное мнение о причинах гомосексуальности Уайльда, находит основания для скепсиса. Дело в том, что при королеве Виктории и даже при ее сыне Эдварде еще жива была традиция одевать в платьица маленьких детей обоего пола. В письмах же леди Уайльд нет признаков отношения к Оскару, как к девочке. К тому же, когда ему шел всего третий год, она родила девочку — «имея ее в реальности, она не нуждалась в том, чтобы пестовать видимость» [174, с. 34]. В том, чтобы увидеть причину «ненормальности» Уайльда в подавлении мужского начала, которое с раннего детства осуществлялось его эксцентричными родителями, был большой соблазн для современного Шерарду читателя. Ликиардопуло отдал предпочтение «многое объясняющей» биографии Шерарда и не разглядел в А. Жиде будущего классика французской прозы, чье мемуарное эссе об Уайльде спустя более чем сто лет представляет существенно более высокую ценность. Стоит отметить, что Ликиардопуло редко отзывался о биографических и критических работах об Уайльде положительно. За исключением книги Р. Шерарда, которую критик считал «добросовестной», но все же «далеко не полной», по словам Ликиардопуло ни на одном языке не было «хорошей, осведомленной и исчерпывающей книги о покойном писателе», хотя попытки делались в самых разных европейских странах. Ликиардопуло отдавал должное немецкой критической литературе, уделявшей Уайльду большое внимание, но замечал в то же время, что «никто <…> не написал столько вздорного, недобросовестного и неосведомленного об Уайльде, как немцы» [108, с. 89]. Ярким примером подобного исследования была книга Халфдана Лангорда «Сага о поэте», на которую Ликиардопуло откликнулся небольшой рецензией. По мнению критика, «„сага“ представляет собой лишь жиденькую компиляцию» упомянутых работ Р. Шерарда и А. Жида, но, несмотря на свой явно компилятивный характер, содержит в себе массу «нелепостей 83 и неточностей». В качестве примера вопиющей неосведомленности автора Ликиардопуло приводит тот факт, что Лангорд, видимо, не обратил внимания на выход в свет «De profundis» в 1905 г., т.к. сообщал в своей книге больше года спустя, что «по слухам, Оскар Уайльд оставил после себя рукопись <…>, написанную в тюрьме, и в которой он старается разъяснить и оправдать свою жизнь» [Там же. С. 90]. Как положительное исключение из общего числа работ об Уайльде, часто воспроизводящих легендарные, недостоверные сведения о писателе, Ликиардопуло называл в «Весах» исследования С. Мейсона, отмечая их кропотливость и безукоризненную точность [112, с. 80]. С. Мейсон делом всей своей жизни считал «Библиографию Оскара Уайльда», первая редакция которой вышла в свет в 1907 г. и содержала в себе только поэтические произведения писателя. Существенно расширенная редакция вышла в 1914 г. Более чем шестисотстраничный труд Мейсона включал в себя прокомментированный перечень всех текстов авторства Уайльда, вышедших в периодике и отдельными изданиями в Великобритании, и стал доказательной базой для возвращения авторских прав на произведения писателя и разоблачения большого числа приписываемых ему подделок. К таким подделкам, например, относится «Священник и министраль» — новелла, анонимно опубликованная в журнале «Хамелеон» в 1894 г. На немецкий перевод этой новеллы, изданный в Будапеште, Ликиардопуло откликнулся в «Весах» разоблачительной рецензией. «В нашем распоряжении, — писал секретарь „Весов“, — имеется ряд документов (в том числе — копия со стенографического отчета судебного процесса, возбужденного Уайльдом против маркиза Куинсбери), из которых явствует, что Уайльд автором указанной новеллы никогда не был… он несколько раз в очень резкой и неодобрительной форме высказался о новелле и категорически отказался от ее авторства» [109, с. 88]. Ввиду несомненности факта подделки, Ликиардопуло в своей рецензии не делал разбора содержания и перевода новеллы, а лишь предостерег русских издателей и переводчиков, которые пожелают воспользоваться общедоступным немецким изданием: «наследники Оскара Уайльда уполномочили нас заявить, что они будут протестовать против 84 появления этой контрафакции на русском языке» [Там же. С. 89]. Издатели и переводчики действительно нашлись: новелла «Священник и министраль» вышла в русском переводе с немецкого контрафактного издания под заголовком «Царь жизни» в московском издательстве «Икар» в 1908 г. [35] В статьях и рецензиях об Уайльде Ликиардопуло часто говорит о «небольшой группе преданных друзей» Уайльда, подвижников дела восстановления его литературной репутации на родине, которые в условиях сохранявшегося даже после смерти писателя остракизма — негласного запрета на упоминание имени Уайльда в печати — занимались поиском рукописей писателя, добивались возвращения авторских прав его наследникам и находили возможность издавать книги Уайльда, несмотря на протест существенной части общественного мнения в Англии. К этой группе людей можно отнести Р. Росса, С. Мейсона, Р. Шерарда, У. Лэджера, Л. Ингльби. Ликиардопуло на страницах «Весов» говорит о каждом из них с неизменным уважением и признательностью — со многими, если не со всеми из перечисленных авторов, Ликиардопуло был знаком лично. О своих впечатлениях от общения с обособленным кругом писателей, связанных преданной памятью об Уайльде, Ликиардопуло находит возможность рассказать в журнале, поводом для чего становится выход в свет книги Р. Росса: «…перелистывая эти страницы, невольно вызываешь в своей памяти образ писавшего их, невольно уносишься в уютную курилку одного из больших лондонских клубов на Pall Mall или в маленький уютный домик на одной из тихих улиц одного из западных кварталов Лондона, где так приятно было отдыхать от сутолоки и шума гигантского города, где так отрадно было говорить с истинно культурными людьми, небольшой кружок которых, собиравшихся там, был таким желанным оазисом среди безнадежной пустыни пошлости и самодовольного самолюбования литературной Англии» [111, с. 87]. Можно сказать, что ревностный почитатель Уайльда, Ликиардопуло, сам входил в этот круг подвижников, т.к. делал все возможное для того, чтобы произведения Уайльда доходили до русского читателя с наименьшими потерями. Как и названные друзья и почитатели Уайльда, совместно работавшие на благо репутации писателя на родине, Ликиардопуло сделал своей миссией, 85 по выражению К. Чуковского, «блюсти невинность Оскара Уайльда» в России. Когда, например, Ликиардопуло пишет, опровергая приписываемое Уайльду авторство «Священника и министраля»: «в нашем распоряжении имеется ряд документов…», остается вопрос, говорит ли секретарь «Весов» от лица журнала или же он имеет в виду ту «небольшую группу преданных друзей» — во всяком случае, «ряд документов», скорее всего, мог быть предоставлен ими. В 1910-е гг. Ликиардопуло работал над переводом книги А. Рэнсома «Oscar Wilde, a critical study» (1912), которая стала «наиболее содержательным из ранних критических изысканий литературного наследия Уайльда1» [190, p. 27] и отличалась от множества предыдущих работ тем, что автор не концентрировал специального внимания на фактах биографии писателя, но сместил акцент в сторону самих произведений Уайльда. Примечательно, что и с Рэнсомом Ликиардопуло был знаком лично: автор книги об Уайльде впервые посетил Россию в 1913 г., и Ликиардопуло встретился с ним, чтобы достичь договоренности об издании книги. К сожалению, издание, анонсировавшееся вплоть до последних «скорпионовских» каталогов, так и не увидело свет — сначала из-за войны, а затем из-за революции и закрытия издательства. Несомненно, Ликиардопуло был наиболее авторитетным и компетентным знатоком творчества Уайльда в России Серебряного века. На поприще литературной критики Ликиардопуло предстал строгим судьей первых изданий Уайльда в России, увеличивающийся поток которых не всегда предполагал высокое качество работы издателя и переводчика. Благодаря ценным литературным связям, Ликиардопуло смог сделать «Весы» своеобразным представительством интересов Уайльда в русской печати, с которым приходилось считаться, если не под угрозой суда — отсутствие литературной конвенции не давало возможности бороться с недобросовестными издателями юридически, — то хотя бы в интересах репутации издательства. 1 «…the most informative early critical inquiry into Wilde's achievement». 86 Ликиардопуло принадлежат переводы более чем двадцати произведений Уайльда, которые публиковались как отдельными изданиями, так и в периодике, а также вошли в оба собрания сочинений Уайльда, выпущенные до революции 1917 г.: в раскритикованное в «Весах» «коммерческое» Собрание В. М. Саблина и в более основательное Собрание А. Ф. Маркса, подготовленное К. И. Чуковским. Переводы Уайльда авторства Ликиардопуло продолжают издаваться по настоящее время, что говорит об их эталонном качестве. Пропагандируя и защищая творчество Уайльда в русской печати в начале XX в., символисты, объединившиеся вокруг журнала «Весы» и издательства «Скорпион», сделали Уайльда знаменем собственного движения, поместив его на вершину своих литературных авторитетов. Уайльд воспринимался в «Весах» как один из безусловных «мэтров» «нового искусства» и канонизаторов нового эстетического сознания, обусловивших «резкий поворот к иному психологическому строю» [124, с. 66]. Ликиардопуло делал все для того, чтобы русский читатель знакомился с «настоящим» Уайльдом: следя за книжными новинками, за событиями театральной и общественной жизни, связанными с именем Уайльда, секретарь «Весов» предъявлял претензии авторам статей, предисловий к переводам, к издательствам за отсутствие должной осведомленности, разоблачая спекулирующих на имени востребованного автора, недобросовестных издателей. «Весы» по праву считали, что были среди первых, кто «понял и оценил» малоизвестного в России английского писателя [39, с. 77]. Бальмонт называл Уайльда не иначе, как своим старшим братом [47, с. 29]. На страницах «Весов» Уайльд — одна из наиболее часто упоминаемых персоналий. Во многом благодаря их популяризаторской деятельности развернулась интенсивная переводческая и издательская работа, в которой символисты из круга «Весов» приняли непосредственное участие и в которую по ходу вовлекались все более популярные и универсальные издательства, подготавливавшие более масштабные тиражи. Так, с 1907 г. издательство «Польза» в сотрудничестве с Ликиардопуло начинает выпуск серии «Универсальная библиотека», ориентированной на широкого читателя. Преобладающее количество произведений Уайльда (11 из 15) выпускается в ней в переводах секретаря «Весов» и переиздается вплоть до 1928 г. Благодаря низкой 87 цене и большим тиражам «Универсальная библиотека» приобрела истинно демократический характер. Об этом выходе Уайльда к подлинно широкой читательской аудитории в России Ликиардопуло триумфально сообщает в письме, которое было процитировано А. Дугласом в книге «Oscar Wilde and myself»: «Я имел честь переводить произведения Уайльда на русский и могу сказать, что его книги были одними из лучших бестселлеров в области художественной литературы в этой стране. Некоторые из шедевров Оскара Уайльда, такие как „Портрет Дориана Грея“, „De Profundis“, „Саломея“, опубликованы в популярных изданиях по 10 копеек за книгу, имели тираж (в последние четыре-пять лет) от восьмидесяти до ста тысяч экземпляров и до сих пор быстро продаются. <...> Я могу заверить вас, что вы не найдете ни одного образованного человека в России, не читавшего Уайльда»1 [179, p. 283-284]. В книге избранной прозы Уайльда, изданной под редакцией Р. Росса в 1914 г. в Лондоне, можно прочитать посвящение, выражающее благодарность Михаилу Ликиардопуло за заслуги перед английской литературой в Российской империи: «Эта антология посвящается Михаилу Ликиардопуло в знак уважения к его заслугам перед английской литературой в Великой русской империи»2 [194, p. 1]. 1 «I have had the honor of translating Wilde's works into Russian and can state that his books were among the best-selling fiction in this country. Some of Oscar Wilde's masterpieces, such as The Picture of Dorian Gray/ 'De Profundis/ 'Salome/ published in popular editions at 10 kopecks each have had a circulation (in the last four to five years) from eighty to one hundred thousand each, and are still selling briskly. <...> I can assure you that you will not find one educated person in Russia who has not read Wilde's works». 2 «This anthology is dedicated to Michael Lykiardopulos as a little token of his services to Eng- lish Literature in the great Russian Empire». 88 ГЛАВА 4. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ О. УАЙЛЬДА В КРИТИКЕ К. И. ЧУКОВСКОГО: ЭВОЛЮЦИЯ РЕЦЕПТИВНОГО ПОДХОДА В литературных штудиях К. И. Чуковского — одного из самых острых критиков XX в. — Уайльд занимает особое место. Он был его спутником на протяжении более чем пятидесяти лет, и, хотя Чуковский не был поклонником Уайльда, как Бальмонт, Ликиардопуло, Брюсов (эстетство Уайльда скорее отталкивало молодого Чуковского), можно говорить о влиянии Уайльда на процесс становления Чуковского как критика. «Я нисколько не жалею, что взялся за Уайльда: мне нужно было для моего образования пройти сквозь этого писателя; я многому у него научился, а его стиль, его парадоксы, его блестящая манера, надеюсь, окажут на меня новое влияние», — признается Чуковский в письме 1912 г. [165, c. 283]. Ознакомление Чуковского с творчеством Уайльда начинается в Лондоне в 1903 г., куда молодой журналист был командирован в качестве собственного корреспондента газеты «Одесские новости». Но впервые об Уайльде Чуковский мог услышать еще в Одессе от В. Е. Жаботинского, фельетониста «Одесских новостей», с которым связано вступление молодого Чуковского на поприще литературной критики — именно Жаботинский обратил внимание на первые литературные опыты Чуковского и «втянул» его в газетную работу. По воспоминаниям Чуковского, Жаботинский отлично знал английский язык, блистательно переводил Эдгара По [166, с. 567] и вообще был большим почитателем европейской культуры: «…мне порой казалось, — вспоминал Чуковский в 1965 г., — что здесь главный интерес его жизни. Габриеле Д’Аннунцио, Гауптман, Ницше, Оскар Уайльд — книги на всех языках загромождали его маленький письменный стол» [Там же. С. 576]. Возможно, не без влияния Жаботинского Чуковский самостоятельно начал изучать английский язык и позже, будучи в Лондоне, заинтересовался Уайльдом. Находясь в столице Британской империи, Чуковский пользовался всеми возможностями, чтобы пополнить свое образование: посещал благотворительные 89 лекции, целые дни проводил в крупнейшей лондонской библиотеке — Британском музее — и основательно познакомился с английской литературой, большим поклонником которой остался на всю жизнь, а также — с английским обществом, которое, судя по корреспонденциям для «Одесских новостей», оценивал неоднозначно. С одной стороны, Чуковский восхищался свободой и ответственностью рядового англичанина, которому со школьной скамьи прививают самоощущение гражданина империи, а с другой — был поражен мещанством английского общества, косностью его моральных норм и деспотизмом общественного мнения, которые провоцируют манию соблюдения приличий, доходящую до абсурда: «Он <англичанин> разрешил себе свободу во всем. Он выходит на перекресток и громко богохульствует — это ничего. Он рисует карикатуры на своего короля, он изображает всемогущего премьера то в виде собаки, то в виде попугая, то в виде обезьяны — и это ничего. Он печатает толстейшие томы, где ниспровергается государство, собственность, церковь — и это ничего. Но если бы он осмелился намекнуть, что любовь возможна и без аналоя, — его бы прокляли, от него бы отвернулись, фамилия его стала бы непристойностью, и, позабыв всякие привилегии свободного слова, самые либеральные люди завопили бы: ату его!» [Там же. С. 448]. «Затхлая, фальшивая, обстановочная атмосфера буржуазности» заслоняет, по словам Чуковского, английскую культуру, которую ценят и любят в России, — духовная жизнь настоящей Англии «сведена к нулю»: Чуковский не может назвать ни одного «духовного пророка» британской современности. Сравнивая русскую художественную литературу, которая по своей природе насыщена политической, этической, социальной проблематикой, с английской, Чуковский констатирует: «В Англии ничего этого нет. <…> У них художественная литература — не для бородатых, серьезных людей, не для „настроений“ и классовых влияний, а для отдыха, для досуга, для развлечения» [155, с. 467]. Единственный писатель в Англии последних нескольких сотен лет, который, по мнению Чуковского, выразил в своем творчестве протест против лицемерия буржуазной благопристойности, т. е., в сущности, поступил как русский писатель, был Оскар Уайльд: «кроме него, нет ни одного протестанта, ни одного до- 90 статочно сильного человека, кто смог и посмел бы сказать великому народу: „Ты жалкий и пустой народ“1» [Там же. С. 467-468]. Чуковский проницательно угадывает в английском писателе будущего кумира российской публики, которой на тот момент Уайльд был известен «больше понаслышке, да и то не литературными трудами, а громким процессом по обвинению в противоестественных грехах, предусмотренных у Крафт-Эббинга» [Там же. С. 468]. Критик подчеркивает родственность Уайльда современной русской литературе, причем отнюдь не декадентскому или символистскому течению, которое и возьмет на себя дело популяризации Уайльда в России, а самому что ни на есть магистральному ее направлению — русскому реализму: «Его „Упадок лжи“ — удивительное предвосхищение горьковского „Дна“. Его экзотические вкусы, красочная, яркая манера имеют свои отзвуки в творчестве нашего Андреева. И наконец, мягкая элегичность тона, общая нежность колорита — все это сближает его с чеховщиной...» [Там же. С. 468]. Об эстетическом кредо Уайльда — известного приверженца концепции «искусство ради искусства» — Чуковский говорит как о части того антимещанского протестного запала, которым пронизано творчество писателя. Дело, по мнению критика, в том, что доктрина «самоцельного» искусства имеет своей противоположностью утилитарную «буржуазную» тенденцию свести смысл художественного творчества к наглядной пользе, приспособить искусство к домашнему обиходу («Теперь есть «художественные» обои, художественные стаканы, художественные умывальники, и мало ли что еще?» [Там же. С. 466]). Критик указывает на идейно-философскую общность творчества Уайльда и Ницше, причем «великолепный стилист» Уайльд, в глазах Чуковского, имеет перед философом «преимущество классической законченности». При этом в Англии, по свидетельству критика, о Ницше ничего не слышали по причине все тех же соображений буржуазной благопристойности (которые, например, не позво- 1 «Ты жалкий и пустой народ» — цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Послед- нее новоселье». 91 ляют включить в английское издание Полного собрания сочинений Байрона поэму «Дон Жуан»). В России же начала XX в. наблюдался бум популярности немецкого философа: стремительно росло количество переводов его работ, разворачивались дискуссии вокруг идей Ницше, писались сотни монографий — словом, «в то время не было другой страны, помимо, разумеется, Германии, где Ницше был бы так известен и обсуждаем, как в России» [142, с. 1] — и это было еще одним доводом в пользу того, что Уайльд «стал бы кумиром русской публики, если бы только его речи дошли до нее <…> он весь наш, целиком наш, телом и душою, и я не знаю, что думают гг. русские переводчики, лишающие русскую публику общения с одним из самых близких ее родственников» [155, с. 468]. Отдельную заметку в «Одесских новостях» Чуковский посвящает комедии Уайльда «Как важно быть серьезным» (в отзыве — «Необходимость быть Эрнестом»), которую осмелился поставить на сцене один из лондонских театров. Несмотря на то, что имя Уайльда, непристойное в английском обществе, не было указано на афише, и сама пьеса была переработана цензурой и поставлена со значительными купюрами, она все же произвела на Чуковского «сильное и сложное» впечатление. В комедии Уайльда критик видит, прежде всего, блестящее доказательство того, что «в искусстве важно не что, а как». Все кажущиеся недостатки пьесы — отсутствие настроения, шаблонность содержания, полное отсутствие индивидуальности у героев — полностью окупаются «ослепительным богатством формы», под которой Чуковский подразумевает блестяще написанные диалоги — непрекращающийся поток эпиграмм. Неправдоподобность содержания, по мысли критика, легко восполняется в пьесе жизненностью и правдой мировосприятия автора, чьим острым скептицизмом оказывается озарена ходульная сюжетная фабула. Не беда, что персонажи пьесы, все как один, говорят языком автора и схожи с ним, — убеждает Чуковский читателя — «это для них должно быть лестно! Ибо автор — многогранный, яркий, необычайно красивый мыслитель, тонкий артист, почти художник, почти поэт, сильный диалектик — верный сын своей эпохи, и походить на него не так уж плохо» [160, с. 489]. 92 Тем не менее, Уайльд, по мнению критика, не поэт (позже Чуковский напишет: «до странности, не-творец, не-создатель»), потому что слишком большой диалектик, слишком отстраненный наблюдатель: «жизнь манила его, как теорема, а не картина» [Там же. С. 490]. Художественно эта черта Уайльда проявляется в том, что в своем творчестве он «совершенно лишен красочности образов: ему доступны только штрихи, только линии. Настроений, полутонов он не знает. Отсюда его холодность, его бессилие» [Там же]. На подобное описание присущей Уайльду диалектичности Чуковского мог навести просмотр работ классика английского «модерна», художника Обри Бердслея, чью узнаваемую технику отличают «плоскостность», отсутствие объема, предельная контрастность черного и белого тонов. Чуковский, не упоминая в своей заметке Бердслея, как бы выявляет близость идейно-эстетических установок и стилевых приемов писателя и художника, оформлявшего издание «Саломеи». Уайльд, по мысли Чуковского, озабоченный теми же проблемами, что и Ницше, — «проблемами „великого и малого разума“, должного и возможного, личного и массового» — в отличие от немецкого философа «не переживал их кровью и нервами», поэзия отчаяния была недоступна Уайльду, и потому тотальный всеотрицающий протест странным образом вылился у него в развлекательном жанре великосветской комедии. Творческий почерк Уайльда, в котором ницшевская проблематика разменивается «на тысячи парадоксов, мелких уколов, партизанских набегов — шумных, молодецких, но бесцельных», Чуковский изобразил в живом, красочном образе: «Слушал я вчера эту пьесу — и все эти тысячи остроумнейших мнений, которые непрерывно лились оттуда, казались мне задорными мальчишками, играющими „в солдаты“... Знают они, что крепость им не сдастся, что она будет так же непоколебимо стоять и после их набегов — но почему же не броситься на нее с гиканьем, свистом и стрельбой из игрушечных ружей? Английское общество с его тяжелой рутиной, с мертвым формализмом взаимных отношений, не доймешь никакими проклятьями, и потому все протесты Уайльда вылились в такую грациозную, легкую форму. Он и сам не верит, чтобы эти протесты могли иметь какое-нибудь влияние на „миссис Гранди“ (как здесь 93 именуют грибоедовскую „княгиню Марью Алексевну“), — и увлекается этими протестами ради них самих, отчаявшись в их жизненной силе» [Там же. С. 489-490]. Чуковский показывает, как в одном коротком диалоге Уайльд способен мимоходом обозначить «крик времени», например, сознание бессилия разума — мировоззренческую проблему, овладевшую умами таких писателей, как Горький и Мережковский. Но в отличие от названных русских писателей, Уайльд присоединяется к «буйству против разума» только за тем, чтобы через секунду опровергнуть его такой же насмешливой остроумной эпиграммой. «Каждое замечание равно верно, равно действительно» — это единственная уверенность, которую, по мнению Чуковского, питал Уайльд. Этот художественный принцип невозможности универсальной истины, блестяще сформулированный в парадоксе из «Правды масок», — «Истина в искусстве отличается тем, что обратное ей тоже верно» — по мысли Чуковского, лишает творчество Уайльда глубины: «Он смеялся надо всеми — холодно, мимоходом, без страсти <…> Он никогда не изображал, как любят, как борются, как живут, нет, его интересовало только, что думают о борьбе, о любви, о жизни его герои, — эта мысль от мыслей его, а не плоть от плоти его. И потому-то его пьеса — это уродливое здание, построенное из великолепных камней. Чтобы построить пышное здание — Уайльду не хватало души, не хватало крика, не хватало страдания» [Там же. С. 490-491]. Тем не менее, Чуковский дважды восторженно повторяет: «Это удивительно хорошая пьеса». Критик оценивает произведение английского писателя как характерный для нынешнего человека «document humain» и снова сетует в своей заметке на российских переводчиков, которые все никак не познакомят русского читателя с Уайльдом. Долондонский и послелондонский периоды Чуковского-критика заметно отличаются. Погружение в культурную жизнь Лондона сыграло существенную роль в самоопределении молодого журналиста, сказалось на поисках своего жанра и своих тем. В корреспонденциях для «Одесских новостей», посвященных общественной, культурной и политической жизни Англии, Чуковский не уделяет ни 94 одному другому английскому писателю столько внимания, сколько Уайльду. Не будет преувеличением сказать, что прежде чем стать популяризатором Уайльда в России, Чуковский многому у него научился, возможно, не без влияния Уайльда критик нашел свой узнаваемый небрежный эссеистический стиль, усвоил умение поразить читателя неожиданным парадоксом. Из Лондона в 1904 году Чуковский отослал свою первую статью в московский новообразованный символистский журнал «Весы» — издание, которое сыграло ключевую роль в освоении литературного наследия Уайльда в России и его популяризации среди русской читательской аудитории. Направленная из Лондона статья была напечатана, как и несколько последующих, о чем можно судить, как о большом достижении журналиста провинциальной газеты — одобрение такого требовательного к качеству материала редактора, как В. Брюсов, было своеобразным гарантом качества для новичка в столичной журналистике. В письме из Лондона 1903 г., оговаривая с Брюсовым свое сотрудничество в «Весах», Чуковский писал: «Стихотворные <…> мои переводы крайне несовершенны, и я лично никогда не предложил бы их для Вашего журнала. Другое дело — переводы прозаические. Будь я уверен, что у меня найдется издатель, я бы перевел О. Уайльда „Decay of Lying“, снабдив перевод собственными примечаниями и предварительным этюдом о Уайльде» [165, с. 57-58]. По всей вероятности, замысел перевода «Упадка лжи» не был воплощен в жизнь. Однако существует гипотеза Т. В. Павловой, что, несмотря на невысокое мнение о своих стихотворных переводах, Чуковский все же мог быть автором перевода «Баллады Редингской тюрьмы» на русский язык: «Автор первого перевода „Баллады“, вышедшего отдельным изданием, обозначен на титульном листе как Н. Норн; на обложке же книги значится Н. Корн. Если допустить, что правильным чтением является второе (Н. Корн), а Норн — опечатка, то представляется допустимым предположение, что перед нами одно из первых литературных выступлений К. И. Чуковского: в начале 1900-х годов Николай Васильевич Корнейчуков еще не придумал своего ныне всем известного литературного имени и вполне мог превратить в псевдоним первую часть своей настоящей фамилии» [132, с. 89]. В предисловии «От пере- 95 водчика» говорилось: «Перевод этот — первая попытка познакомить читателей, не владеющих английским языком, с шедевром Оскара Уайльда. Если перевод нуждается в снисхождении со стороны читателей, то выбор произведения не подлежит оспариванию: оригинальность, гуманное направление и художественные достоинства «Баллады Редингской тюрьмы» вполне очевидны» [10, с. 3]. В рецензии на это издание прозаик и журналист Ив. Забрежнев (И. И. Федоров) справедливо отмечал, что «стих переводчика крайне не выработан и неуклюж, кишит разными допотопными перлами» [85, с. 266]. Если перевод принадлежит перу Чуковского, то именно низкое его качество и может послужить исчерпывающим объяснением того факта, что впоследствии маститый литературный критик и теоретик перевода никогда не вспоминал о нем и не указывал в числе первых проб пера. Впрочем, гипотезу Т. В. Павловой так и не удалось подкрепить никакими документальными аргументами. Чуковский, вернувшись из Лондона в 1904 г., перебрался из Одессы в Петербург и окончательно утвердился как литературный критик. Следующую статью об Уайльде Чуковский напишет уже 1911 г., когда произведения английского писателя будут известны каждому образованному человеку в России. Этюд «Оскар Уайльд» будет опубликован в № 49 «Нивы» — журнала для семейного чтения, тираж которого исчислялся сотнями тысяч экземпляров. Титульный лист номера будет рекламировать Полное собрание сочинений Уайльда под редакцией автора этюда — именитого литературного критика. Созданный отчасти по мотивам лондонских корреспонденций этюд, в свою очередь, ляжет в основу всех дальнейших публикаций Чуковского об Уайльде. Несколько преобразившись, этот очерк войдет в оба издания собрания сочинений Уайльда под редакцией Чуковского (1912 и 1914 гг.), затем, дополненный и переработанный, в книгу Чуковского «Лица и маски» (1914). Другая редакция этой статьи, обрамленная преамбулой «От автора» и послесловием, выйдет отдельным изданием в виде брошюры «Оскар Уайльд» (1922), появится в сборнике «Люди и книги» (1958) и, наконец, войдет в третий том обоих собраний сочинений самого Чуковского (1966, 2012). 96 Первый вариант этюда, как и последующие его редакции, выдержан в характерном для Чуковского стиле. Легкий, почти разговорный язык статьи создает ощущение задушевной беседы. Критик рисует образ, не похожий на того Уайльда, который был воспет русским модерном. В своем излюбленном критическом жанре — «литературном портрете без прикрас» — Чуковский показывает Уайльда не как выразителя иного эстетического сознания, чья жизнь была отмечена «роковым и трагическим алканием нового Фауста», жизнетворческим ницшеанским порывом сверхчеловека или даже добровольного мученика — Чуковский предлагает, наконец, читателю знакомство с Уайльдом-человеком, биография которого, несмотря на свой богатый нарратив, не лишена была повседневных событий. Живой, красочный, местами непочтительный к иконе русского символизма этюд стал новым словом об Уайльде в русской критике. К 1911 г. уже вышло в печать немалое количество книг об Уайльде. Чуковский цитирует в статье двух биографов английского писателя: Р. Шерарда и Л. Инглби — и приводит воспоминания собеседников Уайльда, свидетельствующих о неподдельном магнетизме его личности, необыкновенной способности очаровывать людей, даже настроенных негативно, скептически. Чуковский как бы вводит читателя в роль такого собеседника: «Вот <Уайльд> входит в комнату, в гостиную, изысканно одетый, усталой походкой, тяжелый, немного обрюзгший, — и не проходит пяти минут, как вы в него влюблены» [161, с. 910]. Критик называет Уайльда «Шехеразадой великосветских салонов», «гением разговора», который стал известен прежде всего благодаря таланту изустного слова и лишь потом как писатель и драматург: «…первые десять лет очень многим казалось, что в литературе он дилетант, случайный блестящий гость, что писанье его — это так, между прочим, а главное его назначение — блистать в блестящих салонах» [Там же. С. 911]. Чуковский открывает для русского читателя, что писательскую славу и репутацию Уайльду удалось упрочить отнюдь не романом «Портрет Дориана Грея» — ошеломительный успех к прослывшему «полуписателем», «вечно подающему надежды» Уайльду пришел, когда в 1892 г. на сцене лондонского театра была поставлена его четырехактная пьеса «Веер леди Уиндермир». 97 Говоря о великосветских комедиях Уайльда, Чуковский остается верен своему первому впечатлению, обозначенному в «Одесских новостях» в 1904 г.: «В пьесе Уайльда может быть банален сюжет, неинтересна завязка, примитивны характеры — и все же поразительный, необычный диалог делает ее великолепной. Похоже, как будто Уайльд взял первую попавшуюся тему — просто как канву, чтобы расшить ее пышными своими узорами» [Там же]. Чуковский не видит за блестящей поверхностью стиля, ослепительным остроумием диалогов, той лавины парадоксов и эпиграмм, которыми обмениваются герои философскую проблематику, разворачивающуюся в сюжете, новаторство формы пьес Уайльда по отношению к викторианской драматургической традиции. По мысли критика, главная заслуга Уайльда заключалась в том, что ему удалось перенести на сцену свой «гений беседы»: сделав персонажей похожими на себя, он наделил их своей способностью очаровывать и тем добился успеха у театральной публики. Но, по мнению Чуковского, уайльдовское умение понравиться странным образом сочеталось в личности писателя со стремлением к эпатажу, трагически сказавшемся на его судьбе: «Он, который мог при желании так очаровывать и привлекать, всегда как будто нарочно старался вызвать к себе раздражение и ненависть» [Там же]. Чуковский прослеживает эту «страсть» писателя в его поведении на разных этапах жизни и в разных ситуациях и приходит к выводу, что Уайльд получал удовольствие от того, что порой «над ним издевался весь Лондон». По словам критика, и «этот талант — раздражать и сердить Уайльд перенес на свои книги» [Там же]. Через эту, открытую черту характера Уайльда, Чуковский объясняет многие особенности его творчества. Склонность к парадоксальности, провокативная тематика, по мысли критика, не что иное, как простое стремление «говорить наперекор, назло». В то же время за этим фанатичным стремлением «выворачивать идеи, чувства, слова наизнанку», заставлявшим Уайльда идти не только против общественного вкуса, но и против нравственности, и даже против самой реальности — «искусственность для Уайльда важнее действительности бытия» — Чуковский угадывает «наивную, светлую душу»: «…изо всех щелей его упорного эстет- 98 ства так и пробиваются наружу сострадание, жалость, нежность. Он этого стыдился, он это скрывал: он повторял, что искусство безнравственно, что оно прекрасно своей бесполезностью, но все же его искусство именно тем и велико, что в нем слышишь биение глубокого, великого, человечного сердца» [Там же. С. 912]. Наиболее яркое подтверждение этому в творчестве Уайльда периода до тюремного заключения Чуковский находит в сказках писателя, где жалость и сострадание торжествуют над искусственной красотой, «красота тернового венца» торжествует над «красотой золотой короны». Действительно, в сказках, которые приводит в пример критик — «Молодой король», «Счастливый принц», «Мальчик-звезда» — наиболее непосредственно дана мораль. В них автор показывает несправедливость общественного неравенства, а также важность христианского самопожертвования, которое в названных сказках Уайльда получает вознаграждение. Но и в своих сказках Уайльд не совсем отказывается от провокативных приемов. Например, если посмотреть на содержание одного и другого сборника сказок Уайльда в целом, то можно заметить, что сказкам, в которых самопожертвование оценивается и вознаграждается («Молодой король», «Счастливый принц»), противостоят сказки, в которых жертва оказывается бесполезной и незамеченной («Соловей и Роза», «Преданный друг»). Понять смысл этого композиционного приема можно, уяснив, что́ Уайльд вкладывал в понятие нравственности. Уайльд противился восприятию нравственности как нормы, которая установлена культурой, обществом, религиозной конфессией или какой бы то ни было другой высокой инстанцией — быть подчиненным общим правилам для Уайльда вовсе не означает быть нравственным. Нравственный поступок не должен зависеть от последующего поощрения или наказания, не должен быть продиктован чужой насильственной волей, но — быть итогом свободного выбора личности. Соответственно этому пониманию нравственности выстраивается понимание роли художника, который, в свою очередь, не должен навязывать читателю нравственное поведение как норму, вообще не должен навязывать какие-либо ценности, т. е. должен избегать прямолинейной расстановки акцентов в художественном произведении, предоставлять возможность свободной 99 интерпретации акцентов читателю, вплоть до их самостоятельной расстановки. Уайльд оспаривает в своем творчестве непоколебимость моральных норм, и таким образом дезориентирует читателя, выбивает его из привычной нарративной колеи, которая традиционно предполагает торжествующую мораль, провоцируя таким образом на самостоятельное мышление. Чтобы достигнуть этого, Уайльд использует широкий спектр художественных средств. Не случайно, например, эссе Уайльда написаны в форме диалогов — нельзя до конца понять, которому из двух голосов принадлежит авторитет. Если прислушаться к голосу повествователя в сказках Уайльда, можно увидеть ту же тенденцию: голос этот нарочито изменчив, склонен к игре, провокации. Ярким тому примером может послужить сказка «Мальчик-звезда», которую Чуковский упоминает в числе произведений, раскрывающих нравственное начало личности Уайльда. Ее главный герой, мальчик, который, как замечает критик, «все отдавал прокаженному, даже жизнь свою и судьбу», был вознагражден тем, что в конце сказки превратился из урода и нищего в красавца и короля. Но короткий последний абзац подрывает, казалось бы, ясную мораль всей сказки — в этом абзаце происходит резкая смена языкового регистра, переход от языка детской сказки к языку реалистического жанра: «Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию — и спустя три года он умер. А преемник его был тираном» [15, с. 440]. Нравственное поведение главного героя в один момент обессмысливается с праксиологической точки зрения, но не перестает быть нравственным. Другое подтверждение глубокому нравственному чувству, которое, по мысли Чуковского, тайно руководило Уайльдом в его творчестве, стало неожиданное для эпикурейца и проповедника наслаждений эссе «Душа человека при социализме». «Быть может, ни одна статья по вопросам общественности не произвела в Европе более глубокого впечатления, — цитирует Чуковский Р. Шерарда. — Переведенная на все языки, она дошла до самых отверженных, беднейших, униженных, и теперь среди них Оскар Уайльд почитается пророком, спасителем, святым» [161, с. 912]. Примечательно, что упоминая эссе «Душа человека при социализме», в котором Уайльд наиболее ярко и полно выразил идею индивидуализма, 100 Чуковский обходит это ключевое для творчества писателя понятие стороной. Индивидуализм Уайльда как философская основа творчества, идейно сблизившая его со старшими символистами из круга «Весов», исключен из поля зрения Чуковского-критика: ни в одном из текстов об Уайльде это понятие не упоминается. Как видно, Чуковский не воспринимает Уайльда как серьезного мыслителя, а его произведения — как «изящную игру идей», но описывает их лишь как те или иные проявления его личности. Спор идей в творчестве Уайльда, художественные средства, которыми Уайльд достигает идейной разноголосицы, можно интерпретировать как сознательное стремление автора спровоцировать в читателе самостоятельное мышление, избавить его от диктата авторского мнения. Чуковский же представляет эти особенности творчества Уайльда как бессознательные проявления его личности. Например, в провокативности художественных средств Уайльда Чуковский видит не способ автора добиться какой-либо цели в отношении читателя, но простое проявление характера Уайльда (стремление «говорить наперекор, назло»). Причем одни эти проявления могут быть ложными, т. е. происходить из той или иной позы; другие — истинными и скрываемыми, происходящими из подлинной природы писателя. Проделывая некое подобие психоаналитической процедуры, критик выводит на свет «тайные, скрываемые» начала творчества Уайльда, о которых до поры до времени не подозревал и сам писатель. Эстетство, дендизм Уайльда, его презрение к толпе и к жизни для Чуковского — лишь маска, поза, которую Уайльд принял и в которую поверил: «Он надел на себя личину себялюбца и скептика, — и долго сам думал, что это его подлинный лик» [Там же]. Истина открылась Уайльду в тех жизненных испытаниях, которые выпали на его долю. Чуковский называет «De profundis» «Записками из мертвого дома», в которых Уайльду-эстету открылась красота страдания, «…и он с удивлением вспомнил, что и прежде „в ярме наслаждения“ — он чувствовал то же самое, что „прообраз и тень“ таких чувств являлись и в других его книгах» [Там же]. Заканчивается этюд в духе символистской интерпретации биографии Уайльда как жизнетворчества, фундаментом которой послужила статья «Поэзия Оскара Уайльда» Бальмонта. Чуковский пишет: «Он во всем доходил до предела, 101 до последней крайней черты, и оба полюса жизни были равно изведаны ему» [Там же. С. 914]. В последующих редакциях этюда Чуковский не будет прибегать к этому мотиву. По мысли критика, «многоликость» Уайльда была мнимой. За той или иной позой всегда скрывался истинный Уайльд, скрывался даже от самого себя. Такая концепция уводит от идеи сознательного стремления «причаститься к противоречиям мира, чтобы понять их» [104, с. 82], которое символисты приписывали Уайльду. В 1902 г. Бальмонт писал Брюсову из Оксфорда в контексте размышлений об Уайльде: «Вы когда-то мечтали о счастье протянуть руку за милостынью. Я знаю это счастье, как я знаю счастье расточительства» [133, с. 127]. Жизнетворческий порыв во всем дойти «до крайней черты», изведать оба полюса жизни предполагает их равноценность: и тот и другой предел — «счастье». Напротив, в интерпретации Чуковского, Уайльд шел к открытию своего подлинного «я» от одного полюса к другому — от ложного к истинному. В 1911-1912 гг. Чуковский работает над четырехтомным Полным собранием сочинений Уайльда. Это было не первое собрание сочинений, вышедшее в России, но оно, несомненно, стало одним из самых авторитетных в истории русскоязычных публикаций Уайльда. Собрание вышло в издательстве А. Ф. Маркса в качестве приложения к журналу «Нива», читательская аудитория которого была много шире, чем круг убежденных приверженцев «нового искусства». А. Дейч, вспоминая свою работу с Чуковским над переводом прозы Уайльда для собрания сочинений, называет его не только редактором, но и главным вдохновителем этого издания [90, с. 245-246]. Чуковский, будучи одним из наиболее компетентных в то время знатоков современной английской литературы, проделал колоссальную работу. Многие переводы, существовавшие на тот момент, не могли удовлетворить Чуковского как редактора ввиду их низкого качества. Большинство переводов были выполнены специально для издания, исключения составили «Саломея» в переводе К. Бальмонта и Е. Андреевой, «Флорентийская трагедия» в переводе М. Ликиардопуло и А. Курсинского, «De Profundis» в переводе Е. Андреевой, «Герцогиня Падуанская» в переводе В. Брюсова, а также пять произведений в переводе М. Ликиардопуло, переизданных под псевдонимом М. Ричардс. 102 Известно щепетильное отношение Чуковского к художественному переводу. В литературном наследии критика видное место занимает книга о теории и принципах художественного перевода — «Высокое искусство». Будучи редактором Полного собрания сочинений Уайльда, Чуковский привлек к переводу отобранных им текстов видных представителей Серебряного века: В. Брюсова, М. Кузмина, Ф. Сологуба, Н. Гумилева. К бесспорным достоинствам собрания сочинений относится перевод «Баллады Редингской тюрьмы», сделанный В. Брюсовым. Несмотря на то, что Чуковский воспользовался для нового собрания переводом «Саломеи» К. Бальмонта и Е. Андреевой, перевод «Баллады...», сделанный Бальмонтом в 1903 г., все же не мог удовлетворить Чуковского — критик весьма язвительно отзывался о переводческой деятельности поэта: «Бальмонт как переводчик — это оскорбление для всех, кого он переводит: для По, для Шелли, для Уайльда» [156, с. 55]. В письме от 24 ноября 1911 г. Чуковский предлагает Брюсову перевести для готовящегося «собрания» среди прочих произведений Уайльда «„Балладу Редингской тюрьмы“, испакощенную Бальмонтом» [165, с. 265]. В ответном письме, сетуя на большую занятость, Брюсов все же соглашается взять на себя перевод «Баллады...», тем более, что уже брался за эту работу для саблинского Полного собрания сочинений Уайльда, но перевод остался не завершен. Перевод «Баллады Редингской тюрьмы» Брюсова, нигде ранее не издававшийся, вышел в составе второго тома собрания сочинений Уайльда под редакцией Чуковского. Кроме того, в четвертый том вошел брюсовский перевод «Герцогини Падуанской», появившийся в печати незадолго до этого. В сохранившейся переписке можно проследить редакторскую работу Чуковского. С великой деликатностью и тактом критик делает замечания, указывает авторам на неточности переводов. Так, в письме от 16 марта 1912 г., по прочтении первого готового варианта «Баллады...», Чуковский предлагает Брюсову изменить в тексте одиннадцать фрагментов, сопровождая свою просьбу следующими словами: «Я сам понимаю, что все эти придирки могут показаться Вам наглостью, — и отмечаю их не без трепета, но таковы уж наши различные судьбы: Вы, счастливый, Вы умеете творить, а я умею — только „придираться“» [Там же. С. 288-289]. 103 В письме Кузмину Чуковский сообщает, что не может принять некоторые стихотворные переводы ввиду того, что их «приблизительность и неточность не выкупаются» присущими поэту «изяществом и кокетливой грацией» [Там же. С. 295]. С подобострастной обходительностью редактор просит обратить внимание Ф. Сологуба на некоторые стилевые промахи его переводов, оговариваясь, что «не фельетонисту учить поэта» [Там же. С. 293]. Отметим, что замечания Чуковского в большинстве своем принимались и учитывались авторами. Своим первым наставником в области художественного перевода называет Чуковского А. Дейч, чей перевод «Баллады Редингской тюрьмы» не был принят редактором, — по просьбе Чуковского Дейч перевел для собрания эссе «Истина масок» и рассказ «Лондонские натурщики». Самому Чуковскому принадлежат переводы сказок «Счастливый принц» и «Рыбак и его Душа», которые стали каноническими и переиздаются по настоящее время, а также перевод одной из наиболее известных лекций Уайльда «Ренессанс английского искусства». Все произведения, помещенные в собрании, снабжены датами, соответствующими годам публикации их в Англии, а также краткими примечаниями редактора. Первый том собрания открывают сборники сказок и рассказы писателя, вторую половину тома составляют две комедии Уайльда — «Как важно быть серьезным» и «Веер леди Виндермир». Именно сказкам Уайльда отдавала предпочтение широкая читательская аудитория: в этом жанре Уайльд был наиболее доступен, традиционен и демократичен. К моменту выхода в свет Полного собрания сочинений под редакцией Чуковского «Счастливый принц» Уайльда выдержал десятки переизданий в виде отдельных книжек или в составе сборников сказок. Не шел вразрез с традиционными читательскими вкусами и Уайльд — автор великосветских комедий. Жанрово-хронологический принцип в собрании не был соблюден со всей тщательностью: две другие комедии Уайльда оказались в третьем томе, в который также попала новелла «Портрет мистера W.H.», отколовшаяся от раздела «Рассказы» в первом томе; ранняя пьеса Уайльда «Герцогиня Падуанская» оказалась в четвертом томе и т. д. Претендуя на полный охват всего издан- 104 ного творческого наследия Уайльда, составители включили в издание некоторые письма и ранние стихотворения, впервые публиковавшиеся на русском языке. Тем не менее, стихотворные тексты были представлены далеко не исчерпывающе. За пределами издания осталась «русская» драма Уайльда «Вера, или Нигилисты». Работа над Полным собранием сочинений подвигла Чуковского на подготовку лекции об английском писателе. В письме Брюсову, датированном «не позднее 1 марта 1912 г.», Чуковский спрашивает: «нельзя ли, чтобы Литературный Кружок недели через 2 пригласил меня читать лекцию об Уайльде? Называется она «Религия Красоты и Страдания» <...> в ней есть мысли небанальные» [165, с. 285-286]. И хотя выступление Чуковского в московском Литературном Кружке не состоялось, лекции в марте-апреле 1912 г. прошли в Петербурге, Киеве, Минске, Гомеле, Витебске. Об их успехе можно судить по письмам Чуковского жене и друзьям: «Третьего дня я читал лекцию в Минске, вчера в Гомеле, сегодня буду читать в Витебске. Скоро сделаюсь миллионером. <…> В Минске я читал с колоссальным успехом: сбор полный, аплодировали даже когда я проходил по улице. В Гомеле меня чуть не растерзали от восторгов» [Там же. С. 294]. В Петербурге выступления также прошли при исключительно большом наплыве публики, что засвидетельствовала газета «Речь»: «За недостатком мест многие не могли попасть на лекцию» [136]. Текст лекции, скорее всего, основывался на редакции этюда «Оскар Уайльд», которую Чуковский в то время готовил для Полного собрания сочинений и отдельно не публиковал. Этюд открывает вторую книгу первого тома Полного собрания сочинений и выдержан в том же легком фельетонном стиле Чуковского, который присущ скорее литературному произведению, чем аналитическому исследованию. Критик живыми красками набрасывает портреты родителей Уайльда — людей эксцентричных и известных на родине. По мысли Чуковского, Уайльд больше похож на мать — от нее, салонной львицы, он унаследовал склонность к эффектным жестам, позированию: «У него, как и у нее, была тысяча разных талантов, но не было одного: таланта искренности. Вот этой русской (часто истерической) жажды — во что бы то ни стало, хотя бы назло себе самому — сказать о себе какую-то по- 105 следнюю, крайнюю правду, в сыне леди Уайльд не было даже и тени» [163, с. 5]. «Крайнюю правду» об Уайльде Чуковский стремится выяснить как бы против воли писателя, анализируя его творчество, которое берется как ключ к его биографии и личности — таинственной, и потому притягательной. При первой попытке осмыслить художественное кредо Уайльда критику бросается в глаза, что чуть ли не все его произведения объединены одной и той же «страстью» — выворачивать наизнанку традиционную фабулу, любую устоявшуюся истину, обыкновенную банальность — в общем «все, что ни подвернется ему под перо». Мир произведений Уайльда — это перевернутый мир, где люди пугают привидений, убийцы всегда нежны и утонченны, изображение героя стареет вместо героя и т. д. Чуковский признается, что, когда он впервые знакомился с творчеством писателя, его афоризмы — то, чем Уайльд более всего известен — производили на него впечатление дешевых трюков. Уайльд, в глазах Чуковского, готов с механическим однообразием выворачивать распространенные клише и трюизмы наизнанку: «Душа родится дряхлой, но становится все моложе», «Ненужные вещи в наш век единственно нам нужны», «Ничего не делать — очень тяжелый труд» и т. д. Чуковский рассказывает читателю, что вглядываясь в эти изречения, он все больше убеждался в том, что Уайльд «просто словесных дел мастер, изготовитель салонных афоризмов <...> он развил и довел до совершенства все методы салонного мышления, этой блестящей, но бесплодной игры ума, где остроумие дороже мудрости и яркость ценнее глубины» [Там же. С. 10]. Нужно отметить, что Чуковский не был единственным, кому уайльдовские афоризмы казались вывернутыми наизнанку банальностями, а их сочинение — недостойным хорошего писателя трюкачеством. По поводу того, что парадоксы Уайльда не так просты и примитивны, как кажутся критикам, еще при жизни писателя остроумно высказался Б. Шоу: «Новая пьеса Мистера Оскара Уайльда, поставленная на Хеймаркете, — опасная штука, потому что ее автор наделен способностью выставлять своих критиков занудами. Каждый из них злится, но смеется над его эпиграммами, как ребенок, которого заманили развлечениями в тот самый момент, когда он собирался издать яростный, мученический вопль. Критикам 106 пришлось не по душе, что трюк слишком прост и что таких эпиграмм может настряпать десятки любой достаточно легкомысленный, чтобы опуститься до подобных фривольностей. Насколько мне известно, я единственный человек в Лондоне, кто не может сесть и написать пьесу Оскара Уайльда по собственному желанию. Тот факт, что его пьесы, хотя и очевидно прибыльные, до сих пор остаются неповторимыми в этих условиях, уже многое говорит в пользу самоопровержения нашей пишущей братии»1 [188, p. 11-12]. Другими словами, все не так просто, иначе Уайльд не был бы популярным писателем, а после не стал бы классиком. Когда Уайльд переворачивает с ног на голову то или иное клише, он делает это не ради трюка самого по себе, как это может показаться. Парадокс (от др.-греч. παράδοξος — неожиданный, странный) есть нечто противоположное общепринятому мнению, и парадоксальное высказывание есть такое высказывание, которое, на первый взгляд, выглядит абсурдным, но при более внимательном рассмотрении становится правдоподобным. Так, высказывание: «Земля вращается вокруг солнца» — долгое время было парадоксальным, пока однажды не превратилось в трюизм. Если вдуматься в парадокс Уайльда: «Ненужные вещи в наш век единственно нам нужны», отвлечься от его бросающейся в глаза комбинаторной природы, можно различить в нем глубокий смысл: в век утилитаризма, погони за наживой особую ценность представляют вещи, не приносящие какой-либо осязаемой наглядной пользы. Если прибавить к этому парадоксу другое высказывание, из предисловия к «Портрету Дориана Грея»: «Всякое искусство совершенно бесполезно» — можно увидеть, как в этом «простом перевертыше» действительно 1 «Mr Oscar Wilde’s new play at the Haymarket is a dangerous subject, because he has the property of making his critics dull. They laugh angrily at his epigrams, like a child who is coaxed into being amused in the very act of setting up a yell of rage and agony. They protest that the trick is obvious, and that such epigrams can be turned out by the score by any one lightminded enough to condescend to such frivolity. As far as I can ascertain, I am the only person in London who cannot sit down and write an Oscar Wilde play at will. The fact that his plays, though apparently lucrative, remain unique under these circumstances, says much for the self-denial of our scribes». 107 кристаллизуется смысл целой философской системы. С выражением: «Ничего не делать — очень тяжелый труд» — также трудно не согласиться. С одной стороны, под «трудом» можно подразумевать внешнюю рутину, которая отвлекает от каких-то основополагающих, вечных вопросов, решение которых лежит в области внутреннего мира личности и требует, с внешней точки зрения, непросматриваемого, «пассивного» труда. С другой стороны, безделье, в прямом смысле слова, действительно может сопровождаться тягостным ощущением, сродни тяжелому труду. Например, известно, что сам Чуковский, как и любой деятельный человек, тяготился нерабочей обстановкой, называя время, потраченное без дела, «бездарным», в противоположность «талантливому», т. е. такому времени, которое критик проводил в интенсивной работе. Так, Уайльд в «De profundis», вспоминая период своей жизни, предшествующий суду, признается, как бы перефразируя свой же парадокс, что надел на себя «тяжкое ярмо наслаждения». Главный критерий критической оценки Чуковского — искренность — казалось бы, совершенно не применим к Уайльду — писателю, который сделал многое для того, чтобы дискредитировать самое понятие искренности в искусстве. Но для Чуковского имеет принципиальную важность вопрос: действительно ли парадоксальность Уайльда — простое «кокетство», «бесплодная игра ума», «словесная пиротехника», главная цель которой — «поразить, ошеломить, ошарашить», как это казалось ему при первом критическом взгляде на творчество английского писателя; есть ли за всем этим нечто «заветное», какая-то «выстраданная правда»? В понимании Чуковского, художник не может быть «равнодушным»: там, где нет подлинного лиризма — нет искусства, а есть только «искусность». Искренность художника, таким образом, у Чуковского неотделима от глубины художественного произведения. Для Уайльда же такая связь совершенно не обязательна, и даже вредна: художественное произведение перестает быть таковым, когда начинает выражать те или иные авторские воззрения («No work of art ever puts forward views. Views belong to people who are not artists. There are no views in a work of art» [182, p. 80]). Т. е. художник, в понимании Уайльда, в каком-то смысле обязан сохранять равнодушие. В то же время понятие глубины художественного произве- 108 дения также принципиально важно для Уайльда, как и для его критика: в «De profundis» писатель называет поверхностность «самым страшным из пороков». Но глубина, в понимании Уайльда, связана с тем, что в том же произведении писатель называет «„оксфордовским духом“ в области интеллекта», т. е. способностью художника возвыситься над борьбой мировоззрений, не занять ни одну из борющихся сторон, не навязывать мнение, но «изящно играть идеями». В таком понимании сущности художественного произведения и роли художника понятие искренности как ценности устраняется. Чуковский, называя Уайльда писателем, лишенным таланта искренности, видит свою задачу как критика в том, чтобы все-таки отделить «интимное» в творчестве Уайльда от того, что говорится ради эффекта, и обнаружить нечто такое, что было бы неразрывно связано с «заветной правдой» его личности. Такая критическая установка не могла не привести к парадоксальным выводам. То, что Чуковский называет «кокетством праздного ума», т. е. та — провокативная — сторона творчества Уайльда, которая, по мнению критика, рассчитана исключительно на публичный эффект, оказывается формально неотличима от другой стороны творчества писателя, которая «освящена» той искомой «заветной правдой» его личности. Чуковский показывает это на примере своей любимой книги Уайльда — сборника эссе «Замыслы» — книги, которая «вся полна парадоксов», но в которой «каждое слово — правда». Критик предупреждает читателя, что при легкомысленном чтении может показаться, что Уайльд опять-таки всего лишь жонглирует понятиями, переворачивая их с ног на голову и доводя до нарочитого абсурда, что это снова только игра ради игры. Но, по словам Чуковского, за маской абсурда скрывается мудрец, пророк: «чуткие почувствуют, что это — заветное, что под этими колпаками с бубенчиками притаились почти искренние, почти пережитые мысли. В статье „Критик как художник“, в „Упадке лжи“ — что ни страница, то перспектива куда-то вдаль и вширь, и какие пророчества, и какой прометеевский дух! — но Уайльду как будто стыдно своей искренности и своей глубины. Ведь бывает же такая благородная застенчивость. Этой парадоксальной душе как-то неловко быть священнослужителем во храме, и Уайльд притворяется, 109 как будто это не храм, а балаган, и как будто он не жрец, а только клоун» [163, с. 13]. Уайльдовские трактаты об искусстве, о которых восторженно говорит критик, написаны в форме диалогов и подражают салонной болтовне. В них нельзя полностью отождествить Уайльда с тем или другим участником диалога, несмотря на то, что читателю нетрудно заметить, чью именно точку зрения автор разделяет в большей степени. Уайльд дистанцируется от своих персонажей, намеренно радикализируя их позиции. В трактатах-диалогах Уайльда в полной мере реализуется концепция «изящной игры идеями»: автор не стремится выразить те или иные представления, не претендует на знание окончательной истины, но возвышается над борьбой идей, жонглирует ими, скрываясь за масками-персонажами, которые позволяют ему «переступать границы собственной личности, неизбежно замкнутой в жесткой системе интеллектуальных координат». По замечанию исследователя А. Аствацатурова, «Маска, как это ни парадоксально, возвращает человека к его собственному «я», дарит ему свободу, в отличие от обыденной личности, которая его сдерживает». Диалог как форма выражения, таким образом, позволяет Уайльду сохранить многовекторность, многосмысленность обсуждаемой идеи; выбор формы при таком понимании проистекает из сознательной авторской установки. Чуковский же не рассматривает особенности изложения в трактатах Уайльда как намеренный, сознательный прием мыслителя, но находит объяснение непосредственно в личности Уайльда, в приписываемых ему особенностях характера: в благородной застенчивости, неловкости. Так Чуковский подходит к ключевому для всего литературного портрета тезису. По логике его критического рассуждения, за провокативным имморализмом Уайльда, роднившим его с создателем Заратустры, за грандиозным бунтом против всего, включая даже истину, должно скрываться нечто, напрямую связанное с личностью писателя. И Чуковский открывает перед своим читателем эту «заветную правду», которая, впрочем, вовсе не была скрыта. Уайльд, по мысли критика, «есть религиозная и фанатичная душа, рыцарь и паладин единой суровой святыни <...> но чем громче он кричал <о ней>, тем меньше его слышали, и он лучше все- 110 го сохранил свою тайну, столь крикливо разглашая ее» [Там же. С. 15]. Эта «шумная, громкая тайна», способная, по мнению Чуковского, объяснить собою все в его творчестве, «заключалась в том, что Уайльд боготворил красоту» [Там же]. Несмотря на то, что писатель своими эксцентричными выходками будто нарочно старался превратить «свое евангелие в какой-то сборник анекдотов», все его творчество можно представить как череду жертв и подвигов во имя единственной святыни — красоты. Но прежде чем перейти к подробной иллюстрации этого тезиса, Чуковский останавливает внимание читателя на вопросе о том, в чем именно заключалась для одержимого эстета-Уайльда красота, в чем он видел ее высшее воплощение. Критик анализирует тексты произведений Уайльда, прослеживая наиболее часто повторяющиеся «мелочи»: мотивы, приемы, детали описания, которые, по мысли Чуковского, обнаруживают «пристрастья» писателя. Такими доминантами в текстах произведений Уайльда выступают описания украшений, драгоценных камней, одежды. Приводя многочисленные цитаты, критик наглядно демонстрирует присущую поэтике Уайльда декоративность. Подкрепляя примеры из текстов биографическими сведениями, высказываниями Уайльда, Чуковский настаивает на мысли о том, что уайльдовский идеал красоты — это идеал красоты искусственной, декоративной, созданной человеком для человека. Недаром, утверждает критик, Уайльд называл свой роман «золотой парчей», а один из его героев мечтал написать роман, «который был бы так же очарователен, как персидский ковер <…> Персидский ковер, парча — для Уайльда идеал, высшее выражение красоты, ибо в ковре и в парче нет ни мысли, ни чувства, ни природы, ни сходства с действительной жизнью, а только услаждение глаза» [Там же. С. 20]. Таким образом, Уайльд, по мысли Чуковского, как будто не способен заметить «источник всякой красоты — природу»: «Искусственную красоту он лелеял, а от естественной — отворачивался <…> Ни единого пейзажа, ни дуновения свежего воздуха: комнаты, стены, ковры! Из всех созданий природы Уайльд любит только цветы (у него на страницах много орхидей и тюльпанов), но цветы оранжерейные, искусственно выхоленные, тоже как будто ненастоящие» [Там же. С. 18-19]. Чуковский видит 111 в культе искусственной красоты, в представлении о превосходстве такой красоты над природой ограниченность Уайльда как художника. Уайльду чуждо все беспредельное, потустороннее: «Прозрение миров иных — для него величайший абсурд. Он бы никогда не написал, что „В беспредельное влекома / Душа незримый чует мир“, — ибо он видел только „предельное“, только зримое, только то, что можно осязать» [Там же. С. 22]. Выхолощенное, лишенное метафизики искусство Уайльда, по мнению критика, в своей сути противоположно символизму. Эта мысль пока не высказывается Чуковским прямо, возможно, ввиду неуместности ее в собрании сочинений Уайльда, к работе над которым редактором были привлечены мэтры русского символизма и по совместительству популяризаторы Уайльда. Критик выскажется более определенно в последующих редакциях этюда. Таким образом, Чуковский в своем литературном портрете Уайльда предлагает увидеть в писателе не мыслителя и художника, чьи действия отличает сознательность, но — нечто совершенно противоположное: фанатика, одержимого. К тому же оказывается, что красота — предмет его культа — «укороченная и урезанная, оторванная от природы, от правды, от духовности, — скорее не красота, а красивость». Все творчество Уайльда предстает как борьба во имя этого «ущербного, несуществующего божества»: «Превратите все картины в узоры, в арабески, в орнамент, в фантастические сплетения линий и пятен; стихи — только в музыку, в песни без слов; книги — в гобелены, в „декоративные панно“, и „Благоговея богомольно / Перед святыней красоты“, — Уайльд возликует и возрадуется: наконец-то красота свободна. О, всегда столько тянется рук, чтобы поработить красоту: она в рабстве у этики, в рабстве у науки и общественности, мы хотим в ней найти философскую мудрость, мы ищем в ней религиозных прозрений, в красоте же есть только одно — красота! <…> Все нити между искусством и человеческим сердцем оборвал, уничтожил Уайльд, — все нити между искусством и миром, — и, весь напряженный, зоркий, ревнивый, каждый миг готовый к нападению, стал на страже, как влюбленный рыцарь, у порога своего божества, <…> и чуть только ему померещится, что кто-нибудь и зачем-нибудь покушается 112 осквернить этот храм, он всеми силами своих парадоксов, всеми шутихами своих афоризмов изгонит оттуда дерзновенного» [Там же. С. 23]. Трагедия в жизни писателя спровоцировала переворот в его мировоззрении и творчестве, но этот переворот заключался лишь в том, что «мерилом всех вещей» стало не искусство, как прежде, а страдание: «Признав страдание единственною сущностью мира, единственным солнцем нового своего космоса, Уайльд — с той же своею сектантскою страстью, во имя этого нового бога, отвергает все остальное» [Там же. С. 32]. Глубокое понимание страдания, превращенного Уайльдом в новый алтарь и жертвенник, по мнению критика, сделало Уайльда близким и родным для русских читателей. Существенные коррективы в оценку мировоззрения Уайльда и характера его творчества были внесены Чуковским в новый вариант текста, который вышел статьей в сборнике «Лица и маски» (1914). В предисловии к книге Чуковский указывал, что в статью об Уайльде им были добавлены две главы, «значительно ее осложнившие». По всей видимости, критик решил «досказать» в собственной книге статей то, что показалось ему не совсем уместным во введении к собранию сочинений Уайльда. Характерно, что исчезает подзаголовок «Этюд». По аналогии с изобразительным искусством, этюд может означать набросок, эскиз, который служит частью другой, композиционно более полной картины. Чуковский был, возможно, первым русским критиком и уж точно одним из немногих за всю историю русской уайльдианы, кто заговорил о нетрадиционной сексуальной ориентации Уайльда прямо и попытался обозначить ее влияние на творчество писателя. Тот факт, что Уайльда судили за «половое преступление», был общеизвестен, обсуждаем в печати, но непосредственно литературная критика, как правило, не затрагивала этот вопрос, не заостряла внимание на этой стороне личности Уайльда. Чуковский же посвятил ей отдельную главу с подзаголовком «Modo vir, modo femina». В ней критик опирается на теоретическое исследование Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное исследование» (1903; первый полный русский перевод — 1908). Чуковский не пересказывает в своей статье теорию Вейнингера, да в этом и не было необходимости: ныне за- 113 бытое исследование носило сенсационный характер и имело феноменально массовый читательский спрос в России в начале XX в. В своей книге австрийский философ постулирует существование у всех биологических организмов «промежуточных половых форм», которые определяются совмещением в них мужского и женского начал. Индивидуальные особенности человека определяются соотношением в нем мужского и женского, при этом очевидный, социально признанный пол не имеет значения. Вейнингер описывает идеальное мужское и идеальное женское как абстрактные духовно- психологические начала, находящиеся в непрерывном конфликте. Для женского начала, по Вейнингеру, закрыты сферы интеллектуальной деятельности, духа, творчества и гениальности, т. е. творческая способность женщины определяется значительным присутствием в ней мужского начала. Поведение типичной женщины целиком определяется половым влечением, половым актом и целями полового размножения. Женское начало безличностно и представляет собой форму, смысл и ценность в которую привносятся мужчиной. Половое влечение возникает от притяжения между мужским и женским составляющими разных индивидов, и его интенсивность описывается Вейнингером при помощи математической формулы. Она достигает максимума в тех парах, в которых мужское и женское находятся в соотношении перевернутого отражения. Например, она будет максимальной в паре, в которой у мужчины 90% мужского и 10% женского, а у женщины 90% женского и 10% мужского. Для Чуковского Уайльд — «бедная женская душа, заключенная в мужское тело», «женомуж, modo vir, modo femina, — больше femina, нежели vir», а его творения — «тончайшее отражение идеального вейнингерского Ж» [157, с. 18]. Взгляд на Уайльда сквозь призму вейнингерской теории помогает Чуковскому еще более наглядно обосновать свою критическую оценку, делает весь литературный портрет более цельным и убедительным. Например, эстетическая радость созерцания драгоценных камней, одежды предстает как непосредственно сказавшаяся в творчестве женственная натура писателя. Гедонистическое восприятие Уайльдом произведений искусства теперь объясняется чувственностью, также присущей жен- 114 ской природе. Как типичная женщина, согласно Вейнингеру, не ведает разницы между чувством и мыслью, так и Уайльд из «великих мировых идей» делает «вкусовые ощущения»: «весь пыл своей чувственной натуры отдал печатным страницам. Он глотал их, как глотают устрицы, своими красными, дряблыми губами — великий чревоугодник души! <…> и эти его красные сенсуальные губы чувствуешь у него в каждой строке». Соответственно представлению о женской природе как о нетворческой, безличностной, пустой форме, требующей наполнения, Уайльд для Чуковского — «великий имитатор», «до странности не-творец, не-создатель»: «Это чисто женская была у него черта: восприимчивость, способность усвоить, принять, впитать в свою кровь, взрастить семена чужих вдохновений и чувств» [Там же. С. 16]. Тот факт, что Уайльду и его произведениям чуждо все запредельное, потустороннее, также хорошо соответствует представлениям Вейнингера о женском начале. Женственность постоянно проявлялась в поведении Уайльда, чему критик находит подтверждение в большом количестве доступных ему биографических сведений: «он был так говорлив, так суетен, так увлекался нарядами, так заботился о своей наружности, так ценил свои успехи в обществе, жаждал нравиться всем и каждому, он постоянно кокетничал, он любил комплименты <…> он скрывал свои годы <…> по-женски он боялся не смерти, а умирания, старости <…> некрасивость была для него, как для женщины, высшим позором» [Там же. С. 17]. Даже на своем портрете 1883 г., в глазах Чуковского, Уайльд — «переодетая женщина, в полном расцвете женственности, женских чар» [Там же. С. 18], — что также вписывается в теорию Вейнингера, считавшего, что определяющий характер индивида, конфликт мужского и женского распространяется на все клетки и ткани организма. Критик подмечает, «как страстно, по-женски, в своих стихах и в прозе <Уайльд> описывает красоту мужчин, розово-белых и смуглых, и как равнодушны, формальны его описания женщин». В статье цитируется пикантное письмо Уайльда к «юному любовнику» А. Дугласу. Чуковский истолковывает отношение Уайльда к Дугласу в соответствии с вейнингерским «законом полового влече- 115 ния» — как «чисто женскую позднюю безвольную страсть к молодому сильному самцу» [Там же. С. 19]. Критик полемически выступает против З. Венгеровой, писавшей: «Можно подумать, что вкусы, приведшие его к трагическому концу, были у Оскара Уайльда чем-то нарочитым, капризом его тщеславия». Чуковский парирует: «Нисколько. Совершенно напротив. Эти вкусы были в нем самое коренное и насквозь проникали все его творчество» [Там же. С. 18]. Другое существенное дополнение к литературному портрету Уайльда Чуковский внес главой «Легенда о его покаянии». Если в первой редакции этюда («Нива», 1911) критик рассматривал творчество Уайльда после тюремного заключения как результат перерождения писателя, осознания им своего истинного «я», то в последующих редакциях Чуковский изменил свое мнение. Уайльд, по новой мысли критика, лишь открыл для себя эстетику страдания и использовал мотив страдания как поэтическую возможность, что вовсе не говорит о его перерождении. В России Уайльд обрел популярность прежде всего произведениями, написанными в тюрьме и сразу по выходе из нее. Размышления о красоте страдания и христианстве в «De profundis» способствовали тому, что образ Уайльда — раскаявшегося гедониста и попирателя нравственности — резонировал в русском читательском сознании с образом Раскольникова. Чуковский задается вопросом: «…похож ли этот русский Уайльд на подлинного, настоящего Уайльда? Не слишком ли „по Достоевскому“ мы воссоздаем его черты?» [Там же. С. 52]. На эту мысль Чуковского могла натолкнуть, кроме всего прочего, публикация новых отрывков из тюремного письма Уайльда, обнародованных в 1913 г. на судебном процессе между А. Дугласом и биографом Уайльда А. Рэнсомом. Дополненный новыми частями, в которых Уайльд прямо обращается к Дугласу, текст «De profundis» предстает в несколько измененном свете. Это уже не пространные исповедальные тюремные записки, в которых писатель признает, что его жизнь до судов была движима поиском удовольствий, из-за чего до тюремного заключения он не мог осознать всей важности и красоты страдания. В отличии 116 от первоначальной редакции 1905 г., новая версия «De profundis» — это письмо конкретному адресату, А. Дугласу. В письме Уайльд обвиняет его в безответственности и эгоизме, послужившем причиной судебного разбирательства, которое повлекло за собой катастрофу. «Нет такой русской статьи, посвященной Уайльду, — констатирует Чуковский, — где не твердили бы о его раскаянии, перерождении, катарсисе. А между тем, если вникнуть внимательно, такого перерождения и не было. Это смиренномудрое страдальчество — такая же поза, как и все остальное. <…> Вечный позер и актер <Уайльд> так вдохновенно разыграл перед собою эту роль просветленного мученика, что и сам поверил в нее и сам умилился ею, и вот потекли, заструились прихотливые, великолепные периоды его „музыкальной композиции“ — „De profundis“» [Там же]. Именно музыкальность, чрезмерное великолепие стиля, по мнению критика, выдает в исповеди Уайльда позу, девальвирует ее до эстрадной декламации: «Это была бы великая книга, мировая, откровение для всего человечества, если бы в ней <оказалась> хоть одна нетеатральная фраза, хоть один не-эффектный жест! Каждая ее строчка есть чудо искусства, но искусства ораторского» [Там же]. Чуковский приводит в статье первые восторженные отклики критиков, «знатоков изящного слога» о вышедшей в печать тюремной исповеди Уайльда: «Вы только вслушайтесь, сколько раз повторяется здесь это f: „If after I am free a friend of mine gave a feast“, смаковал один, а другой прибавлял: „Какие дивные нюансы ритмики, какая превосходная инструментовка!“». Далее Чуковский признается: «Чем больше таких восторгов, тем явственнее ощущаешь, что пред тобою опять декламация, а не исповедь, что все это для эстрады, а не для души, что Уайльд и здесь — Уайльд: поведи его на дыбу, все равно не вырвешь задушевного» [Там же. С. 50-51]. Оценка Чуковского, безусловно, субъективна, т. е. не имеет под собой объективных оснований: чрезмерная (по мнению критика) изящность стиля не может быть достаточно убедительным доказательством неискренности писателя. Об этой проблеме размышляет философ В. В. Бибихин в связи с сочинением Петрар- 117 ки о годе чумы, принесшем смерть Лауре и многим друзьям писателя: «Посмотрите, Петрарке нет выхода: ведь и это, сказанное о беде, тоже, кроме того, что верно, еще и интересно, блестяще, красиво. Современный теоретик стиля усмехнется: говори, говори мне про горе; мы-то знаем, что ты писатель и главное для тебя риторика. Петрарка волей-неволей выдает себя для такого ограбления, потому что как не мог он уйти от мира, так не может и заглушить в себе дар слова, хотя знает, что из многого и важного в его речах большинство услышит только словесный звон» [56, с. 331]. То есть, по мысли философа, всегда остается опасность увидеть риторику, искусственность, манипуляцию в искреннем слове на том основании, что оно само по себе имеет художественную ценность. Парадоксальным образом, именно когда автор начнет заботиться о том, чтобы в его словах не увидели риторику, позу, он и будет позировать, говорить искусственно. Кроме того, когда Чуковский выносит вердикт о неискренности Уайльда, он как бы лишает его права на свой индивидуальный языковой стиль. Насыщенная литературность языка писателя, как, например, чрезмерная экзальтация поведения индивида, не всегда означает неискренность. Нельзя обвинять в неискренности всех женщин, которые в XIX в. падали в обморок — таков был язык эпохи, который, по замечанию Ю. М. Лотмана, в равной мере мог быть «использован для выражения и правды, и лжи» [121, с. 115]. Чуковский как бы помещает язык уайльдовской прозы в контекст языка реалистического искусства или — продолжая сравнение — берет за основу утверждение: «обмороков у честных людей не бывает». Изменить изящности своего стиля, заговорить на другом языке для Уайльда означало бы согласиться с Чуковским, признать за прежним своим творчеством лишь позу, рассчитанную на эффект — «осквернить ложью уста своей собственной жизни» (De Profundis). В целом, ключевой эпитет для статьи об Уайльде в ее редакции 1914 г. — «салонный». По мысли критика, Уайльд «был лучшее и благороднейшее, что только создано так называемым обществом, светом: его вкусы и образы, его темы и стиль, его восприятие жизни и приемы мышления — все было взращено и взлелеяно великосветской салонной культурой, которая в нем, в его творчестве получила на миг как 118 бы свое оправдание и смысл» [157, с. 54]. Даже в своем якобы социалистическом памфлете «Душа человека при социализме» Уайльд, по мнению критика, остается в рамках великосветской салонной культуры, за пределы которой он просто не умел выйти: «Правда, он социалист, но ведь тоже салонный, паркетный: „В интересах самих же богатых мы должны завести социализм!“ — таков был игривый лозунг этого великосветского Бабеля» [Там же]. Критик считает, что породившая Уайльда салонная культура и привела его к гибели. В начале 1916 г. Чуковский вновь посетил Англию в составе делегации российских деятелей печати. Русских журналистов принимал лично король Англии Георг V. Анекдотический разговор, якобы произошедший между королем и Чуковским, пересказал в своей книге «Другие берега» В. Набоков, отец которого также был участником делегации: «Во время аудиенции у Георга Пятого Чуковский, как многие русские преувеличивающий литературное значение автора „Дориана Грея“, внезапно, на невероятном своем английском языке, стал добиваться у короля, нравятся ли ему произведения — „дзи воркс“ — Оскара Уайльда. Застенчивый и туповатый король, который Уайльда не читал, да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного лучше английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман — „бруар“? Чуковский только понял, что король меняет разговор, и впоследствии с большим торжеством приводил это как пример английского ханжества, — замалчивания гения писателя из-за безнравственности его личной жизни» [127, с. 271]. Критик, ознакомившись с романом Набокова, записал в дневнике: «Вздор! Король прочитал нам по бумажке свой текст, и Вл. Д. Набоков — свой. Разговаривать с королем не полагалось. Все это анекдот. Он клевещет на отца...» [164, с. 308-309]. Тем не менее, анекдот этот возник, возможно, не на пустом месте. Дело в том, что в Лондоне состоялось знакомство Чуковского с Р. Россом. Литературный душеприказчик и один из самых близких друзей Уайльда, внимательно следивший за всем, что появлялось в печати и касалось памяти его покойного друга, заметил статью Чуковского, написанную на непонятном ему языке, и пожелал встретиться с ее автором. Про- 119 никшись симпатией к русскому критику, Росс подарил Чуковскому рукописную страницу «Баллады Редингской тюрьмы» со словами: «Я хочу, чтобы в России, где так любят Уайльда, сохранилась памятка о нем — эта рукопись. Больше у меня ничего не осталось из его вещей и писаний. Только одна страничка, и я с радостью дарю ее русскому» [159, с. 2]. Росс также оставил автограф в Чукоккале — рукописном альманахе, который на протяжении десятилетий составлял Чуковский: «Задача, стоящая перед англичанами двадцатого века: освободиться от идеалов девятнадцатого века. Когда это удастся, может быть, люди будут счастливее» [168, с. 169]. Запись Росса, по всей видимости, представляет собой отзвук тех бесед, которые происходили между ним и Чуковским — о лицемерии викторианской эпохи и о тех, кто боролся с ее догматами и предрассудками. Чуковский, скорее всего, обсуждал те же темы и со своими коллегами-журналистами, членами делегации, что могло послужить импульсом для появления шуточной истории, запечатленной в романе В. Набокова по рассказам отца. В 1922 г. выходит небольшая книга Чуковского «Оскар Уайльд», которая представляет собой всю ту же слегка переработанную статью из сборника «Лица и маски» (1914). Опубликованная отдельным изданием, статья была посвящена памяти Р. Росса, скончавшегося в 1918 г. Этот вариант текста об Уайльде более всего интересен небольшой преамбулой, в которой автор рассказывает о знакомстве с другом Уайльда, и послесловием, где выдвигает свои предположения о причинах настигшей Уайльда всемирной известности и, в частности, популярности в России. «Не странно ли, — задается вопросом Чуковский, — что этот салонный эстет стал через несколько лет после смерти одним из самых демократических, плебейских писателей?» [162, с. 415]. В глазах критика, Уайльд «по самому существу своего дарования, по всем своим литературным приемам» был популизатором чужих идей: «Ни у кого из основоположников эстетической школы, ни у Рескина, ни у Уолтера Пейтера, ни у Джона Элдингтона Саймондсона не было такой эффектной фабулы, и только Уайльд придал их учению те крылья, на которых оно облетело весь мир» [Там же]. Англичане не любили Уайльда не столько из-за ханжества и лицемерия, сколько оттого, что видели в Уайльде подража- 120 теля и эпигона — «вульгаризатора своих мудрецов и поэтов». В русской же рецепции «черты, присущие многим английским писателям, <…> были сочтены принадлежностью одного только Оскара Уайльда» [Там же. С. 416]. Кроме того, по мнению критика, Уайльд был ошибочно воспринят русским читателем как один из вождей символизма, что в корне неверно, т. к. «идейно с символизмом Уайльд боролся всю жизнь, ратуя за чистое эстетство, свободное от мистики и метафизики» [Там же]. В способности творить не для узкого круга, быть понятным всему миру Чуковский видит силу писателя, особенный присущий ему дар, обратной стороной которого становится беспочвенность, безнациональность, а значит, и — слабость. Справедливости ради, отметим, что критик воспринимал символизм весьма специфически и ограничительно. Ведь сами русские символисты безоговорочно признавали Уайльда «своим»: определяющие черты его личности и пафос его творчества вполне отвечали их эталонным представлениям о сущности художника. Что касается «блестящего эпигонства» Уайльда, в котором Чуковский видел главную причину мировой славы писателя, то критик не мог бы не внести корректировки в свою точку зрения, если бы знал, что Уайльд станет признанным классиком английской литературы, а его произведения будут сохранять актуальность и через более чем сто лет после смерти автора, в то время как властители дум конца XIX в. быстро отошли в историю. Действительно, Уайльд талантливо развивал и преподносил в остроумной форме идеи своих предшественников. Но, хотя исследователи единодушно признают, что Уайльд не был оригинальным мыслителем, все же некоторые аспекты эстетических концепций, уже вошедших в обиход до него, трактовались им весьма неожиданно и получали вполне оригинальное звучание. Чуковский же, как было показано, совершенно отказывает Уайльду в способности к оригинальному творчеству, самостоятельной мысли. Впрочем, в конце 1950-х гг. критик подверг значительному пересмотру свои взгляды на роль и значение английского писателя в мировой литературе. Пик постоянно растущей популярности Уайльда в России был обозначен выходом Полного собрания сочинений под редакцией Чуковского в 1912 г. (пере- 121 издание — в 1914 г.). После Первой мировой войны и Февральской революции произошел новый «сворот оси» в читательском сознании. По выражению А. Ахматовой: «приближался не календарный — настоящий Двадцатый Век», — интерес к Уайльду резко упал, и, несмотря на отсутствие очевидной «борьбы» с автором «Портрета Дориана Грея» и «Саломеи», в 1920-1950-е гг. о нем почти не писали. Замечательно, что возвращение Уайльда в русскую печать в 1960 г. также связано с именем К. Чуковского, который заново открыл английского писателя, выпустив под своей редакцией двухтомник его избранных произведений, но прежде — включив новую версию своей статьи об Уайльде в сборник «Люди и книги» (1958). В новой статье Чуковский безоговорочно признает бесспорные заслуги писателя перед английской словесностью. На смену представлениям об Уайльде как о «великом имитаторе», «эпигоне» приходит осознание несомненности оригинальности его творческой личности: «Ибо тот, в чьих произведениях современники видели всего лишь эхо чужих вдохновений и стилей, был вскоре после своей смерти воспринят всемирным читателем как один из самых оригинальных умов, пришедший в литературу со своим собственным словом, сохранивший под всеми личинами, под шелухой легковесных софизмов свою резко выраженную неповторимую личность. Личины давно уже спали с него, и оказалось (к сожалению, поздно!), что под ними скрывался не тот мастер острого и хлесткого слова, не только человек разнообразных талантов, но и создатель больших поэтических ценностей, остающийся вполне самобытным даже в самых явных своих подражаниях, накладывающий даже на них печать своей выразительной личности» [158, с. 632]. В новом литературном портрете нет ни слова о женственности Уайльда, и, соответственно, ослабевают все черты, перекликающиеся с представлениями О. Вейнингера о женском начале. На второй план уходит приверженность Уайльда культу «искусства для искусства» — эстетство английского писателя теперь рассматривается критиком как элемент провокативной тактики в борьбе против «архимещанства» и тупоумия нравов викторианской буржуазии. Если раньше ху- 122 дожественное кредо Уайльда критик всецело определял приверженностью писателя к салонной культуре, то в новой статье Уайльд предстает своеобразным диверсантом, борцом с царящими в его среде «форсайтскими» нравами. Неожиданный поворот своей критической мысли Чуковский объясняет, ссылаясь на А. М. Горького, который, по словам критика, помог ему разобраться в том, каково было назначение парадоксов Уайльда в контексте эпохи: «Вы неоспоримо правы, — цитирует Чуковский письмо Горького, — когда говорите, что парадоксы Уайльда — „общие места навыворот“, но — не допускаете ли Вы за этим стремлением вывернуть наизнанку все „общие места“ более или менее сознательного желания насолить мистрис Грэнди и пошатнуть английский пуританизм? <…> английское лицемерие — наилучше организованное лицемерие, и полагаю, что парадокс в области морали — очень законное оружие борьбы против пуританизма» [Там же. С. 641]. Трудно судить, насколько Горький действительно помог Чуковскому в осмыслении творчества Уайльда, ведь цитируемое письмо относится к 1918 г. — критик мог пересмотреть свои взгляды и раньше, в своей книге об Уайльде, вышедшей в 1922 г., но не сделал этого. К тому же антимещанский пафос творчества английского писателя был подмечен критиком еще в его первых статьях об Уайльде для газеты «Одесские новости» в 1903 г. Не говоря о том, что раннему Чуковскому вообще было свойственно парадоксальным образом причислять декадентов к «тайным союзникам» пролетариата на основании общей для тех и других антибуржуазной направленности [167]. Настораживает и то, что Горький, применительно к Уайльду, скорее разделял общее для советской критики 1930-х гг. мнение: ирония над светской средой в произведениях английского писателя — не более чем «благожелательная критика своего класса» [147]. В своем программном докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей в 1934 г. Горький заклеймил Уайльда в числе нескольких других писателей, как «социального вырожденца», созданного «анархическим влиянием бесчеловечных условий капиталистического государства» [89, с. 313]. 123 Возможно, Чуковский воспользовался авторитетом Горького, непререкаемого классика и родоначальника социалистического реализма, чтобы реабилитировать Уайльда, чье имя в советской литературной критике было связано с «буржуазным декадансом империалистической эпохи». Недаром, в статье так настойчиво подчеркивается гуманное начало его творчества, его невмещаемость в рамки декадентской эстетики, а главное — чужеродность Уайльда английскому высшему обществу: статья буквально начинается с того, что отец Оскара Уайльда «не мог считать себя большим аристократом». Соответственно, и творчество Уайльда не могло быть адресовано «тем лордам и герцогам, которых он так любил изображать в своих книгах», ведь против мрачной диктатуры их нравов он восстал всей силой своего дарования. Вывести Уайльда за пределы классово чуждой литературы, придав его творчеству социально-обличительный пафос, нужно было для того, чтобы легитимировать его новые русскоязычные издания — открыть почти забытому автору дорогу к новым поколениям русских читателей. 124 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Оскар Уайльд в письме к издателю У. Э. Хенли сделал важное замечание о литературной критике: «Вы, конечно, не думаете, что критика — это как решение задачки. Чем богаче произведение искусства, тем более многообразны подлинные интерпретации. Существует не один, а множество ответов. Мне жаль ту книгу, по поводу которой критики сошлись во мнениях. Это, должно быть, очень неглубокое, тривиальное произведение»1 [193]. Словно в подтверждение слов Уайльда, его творческое наследие показало в русской рецепции рубежа XIX и XX вв. чрезвычайную открытость для широкого спектра интерпретаций. Характерным, возможно, для всех авторов, писавших об Уайльде, было только одно — восприятие литературных произведений неотрывно от биографии, акцентированное внимание к личности, в которой критики искали ключ к пониманию творчества. Настоящая работа не претендует на охват всего литературно-критического материала означенного периода об английском писателе, мы лишь рассмотрели статьи тех авторов, которые, на наш взгляд, внесли наибольший вклад в ознакомление русской читательской аудитории с Уайльдом. Рост популярности Уайльда в России теснейшим образом связан со сложным процессом самоутверждения и развития русского символизма. В 1890-е гг., когда символизм в России переживал стадию становления, отмеченную в большей мере исканиями, чем оформленностью и определенностью эстетических основоположений, Уайльд интересовал немногочисленных модернистски ориентированных русских критиков, прежде всего, как самый яркий представитель нового течения в искусстве — эстетизма. Первым автором, кто заговорил об Уайльде с позиций литературной критики в России, была З. А. Венгерова. Первая из ее публикаций относится к 1892 г., т. е. к периоду, когда Уайльд еще не был известен как 1 «Surely you do not think that criticism is like the answer to a sum. The richer the work of art the more diverse are the true interpretations. There is not one answer only, but many answers. I pity that book on which critics are agreed. It must be a very obvious and shallow production». 125 обвиняемый в прогремевшем на всю Европу судебном процессе. Ни одно его произведение еще не было переведено на русский язык, а сумма публикаций о писателе равнялась нескольким заметкам в прессе. Со статьи Венгеровой начинается процесс осмысления творчества и личности Уайльда в русской печати, в котором автор сама не раз принимала непосредственное участие. В условиях почти полной неизвестности Уайльда в России первые статьи Венгеровой об английском писателе носили обзорный, ознакомительный характер. Ввиду отсутствия временной дистанции, позволяющей дать объективную оценку движению эстетизма и его главе, а также ввиду очевидной отрывочности тех сведений, которыми располагала Венгерова, ее критические работы об Уайльде, наряду с важными проницательными суждениями, содержат фактические ошибки, которые не могли не сказываться на общей характеристике писателя. Так, пытаясь определить место Уайльда в литературном процессе, Венгерова из раза в раз корректирует свои представления. В словарной статье энциклопедии Брокгауза и Ефрона 1892 г. критик определяет Уайльда как английского поэта второй величины и ошибочно причисляет его к движению прерафаэлитов. В сборнике Венгеровой «Литературные характеристики» 1897 г. Уайльд предстает уже как наиболее яркий представитель эстетического движения, которое хоть и восходит к прерафаэлитизму, но не тождественно ему. Кроме того, определяющая доминанта в творчестве писателя в новой характеристике смещается с поэзии к романному жанру и драматургии. Отмечая «Саломею» как самое значительное произведение Уайльда, Венгерова также уделяет особое внимание роману «Зеленая гвоздика», причисляя его авторству Уайльда и тем самым допуская фактическую ошибку: автор анонимного романа-пародии в истории литературы достоверно известен как Р. Хинчез. Таким образом, Венгерова, принимая пародию за декларацию, составляет несколько искаженное представление об Уайльде и эстетизме в целом. Венгерова снова возвращается к английскому писателю в 1905 г. в связи с выходом книги о нем немецкого исследователя К. Гагемана. Характеристика Уайльда в новой статье не содержит значительных изменений. Писатель в глазах 126 критика представляет интерес, прежде всего, как выразитель идей эстетизма, который, в свою очередь, по своему значению не выходит за рамки преходящей интеллектуальной моды и сильно уступает в творческом отношении своей предтече — движению прерафаэлитов. Венгерова солидаризируется с Гагеманом, призывая не искать в произведениях Уайльда «здоровых нравственных идей» и подчеркивая значение сатирической направленности его творчества. Совершенно новое отношение к английскому писателю Венгерова демонстрирует в статье «Суд над Оскаром Уайльдом» 1912 г. На смену сдержанным оценкам предшествующих статей приходит окончательное признание за Уайльдом статуса большого художника, чье новаторство оказало влияние на становление модернизма. Основой для пересмотра критической оценки стал новый взгляд на жизнь писателя, в которой, по мысли критика, его талант сказался едва ли не в большей мере, чем в литературном творчестве. Причиной для подобной смены аспекта критики могло стать тюремное послание Уайльда «De profundis». Частично опубликованное в 1905 г., это произведение писателя стало одним из самых главных для его репутации в России, помогло по-новому осмыслить судьбу писателя. Идея «творчества жизни» явилась недостающим компонентом, позволившим Венгеровой заново открыть Уайльда. Но задолго до Венгеровой о жизнетворчестве Уайльда в русской критике заговорил К. Д. Бальмонт на страницах журнала «Весы» — главного символистского печатного органа первого десятилетия XX в. Журнал во главе с В. Я. Брюсовым был призван легитимировать русскую символистскую школу в рамках литературной современности: завоевать симпатии широкого контингента читателей и подчеркнуть преемственную связь с западноевропейским символизмом и его предшественниками, в числе которых одной из главных фигур был, по мысли редакции журнала, Оскар Уайльд. Можно сказать, что журнал «Весы» начинается с полемики об Уайльде. В ноябре 1903 г., когда к выпуску готовился дебютный номер журнала, К. Д. Бальмонт при большом стечении публики выступил с лекцией об английском писателе в московском Литературно-художественном кружке, чем вызвал 127 заметный ажиотаж в литературных кругах Петербурга и Москвы и привлек к Уайльду широкое и пристальное внимание. Печатный вариант этой лекции вошел в дебютный номер «Весов», и первые отзывы на журнал часто содержали полемические суждения об английском писателе (наиболее интересные из которых были проанализированы в настоящей работе). В своем докладе Бальмонт изобразил Уайльда как фигуру, преисполненную огромного значения для понимания зарождающейся эпохи, законодателя новых эстетических ценностей. Интерпретация Уайльда, которую предложил поэт и основные положения которой разделяли все символисты из круга «Весов», подразумевала рассмотрение жизни Уайльда в качестве эстетического феномена. При таком подходе в центре внимания оказывается не литературное наследие, но прежде всего сама личность Уайльда: литературное творчество понимается как прообраз его «творчества жизни», а сам писатель предстает как прототип героев своих произведений. О судьбе Уайльда Бальмонт говорит аллегорически, в терминах произведения искусства, изображая ее как сверхчеловеческий порыв — жизненное воплощение философии Ницше. Уайльду, в глазах Бальмонта, свойственны почти героические черты: он возвышается над нарративом своей необыкновенной судьбы, как автор над художественным произведением. Каждый его поступок отмечен сознательностью человека, воплощающего творческий замысел. В свою очередь, жизни Уайльда свойственна присущая произведениям искусства цельность, законченность. Мифологизированный образ писателя, предложенный Бальмонтом, лег в основу символистской интерпретации творчества и личности Уайльда, которая получила свое продолжение и развитие не только на страницах «Весов». Возвращаясь к теме английского писателя в статье «Суд над Оскаром Уайльдом» в 1912 г., Венгерова трактует эпизоды биографии писателя уже всецело в русле символистской мифологии о нем, фундамент которой заложил Бальмонт. Критик рассматривает жизнь Уайльда как произведение искусства и интерпретирует связанные с судом и тюремным заключением события как нечто, в чем нужно искать подлинное воплощение его гения. Но исходя из одной и той же предпосылки — 128 идеи «творчества жизни» — Бальмонт и Венгерова по-разному осмысляют личность и судьбу писателя. Бальмонт видел в жизни Уайльда ницшеанский порыв, стремление во всем дойти «до крайней черты» и, изведав оба полюса жизни, «причаститься к противоречиям мира, чтобы понять их» [104, с. 82]. Отсюда в интерпретации поэта целостность образа Уайльда — его монолитная индивидуальность остается неизменной, несмотря на все контрасты и перипетии биографии писателя. В противоположность, в статье Венгеровой, жизнетворчество Уайльда заключается в преодолении во имя новых духовных ценностей своего прежнего «я», «наследственных инстинктов», «природного тщеславия», всего легкомысленного и наносного, а также эстетизма в смысле интеллектуальной моды, лишенной, по мысли критика, внутреннего идейного содержания. В странностях поведения Уайльда во время суда Венгерова видит симптомы внутреннего перерождения. Осознав ложность своих прежних убеждений, Уайльд совершает свой главный жизнетворческий акт — добровольно отдает себя под заведомо несправедливый суд невежественного общества, уподобляясь Сократу и Байрону одновременно. Символисты, объединившиеся в начале XX в. вокруг журнала «Весы» и издательства «Скорпион», с подачи Бальмонта сделали Уайльда знаменем своего движения за утверждение «нового искусства». Споры вокруг Уайльда были одновременно спорами вокруг «нового искусства» в целом. По мере того, как в первое десятилетие XX в. в России ощутимо возрастала популярность «декаденства», эстетизма, по мере того, как искусство и личность художника становились все более продуктивными мифообразующими символами общественного сознания, росла популярность Уайльда, олицетворявшего собой новую эпоху в литературе, искусстве, философской мысли. Но возрастающий интерес к модернизму нес в себе опасность его вульгаризации. Борьба с эпигонством и поверхностным пониманием «нового искусства» становилась важной миссией «Весов» по мере того, как задача самоутверждения уходила на второй план. Журнал всячески способствовал адекватному восприятию современной западноевропейской литературы, которая стремительно становилась все более востребованной. Многое для того, чтобы 129 русский читатель знакомился с «настоящим» Уайльдом, сделал секретарь журнала М. Ф. Ликиардопуло, представший строгим судьей первых изданий Уайльда, увеличивающийся поток которых далеко не всегда предполагал высокое качество работы издателя и переводчика. Начав со статей разоблачительного характера, направленных не только против «коммерческих» изданий Уайльда, но и переводов, выпущенных идеологически близкими «Весам» издательствами, Ликиардопуло отстоял свое право на критику, демонстрируя исключительную компетентность в знании творчества и биографии Уайльда, а также самостоятельно проявил себя как блистательный переводчик. В сотрудничестве с различными издательствами и журналами секретарь «Весов» зарекомендовал себя как наиболее компетентный и авторитетный знаток Уайльда в России Серебряного века. Неизменно почтенное отношение к английскому писателю, которое отличает статьи критика, энтузиазм, с которым он защищал имя Уайльда в русской печати, делает Ликиардопуло подобным тем подвижникам, которые в условиях продолжающегося и после смерти писателя остракизма старались восстановить его литературную репутацию на родине. Благодаря установленным связям с кругом друзей писателя, критик смог сделать «Весы» своеобразным представительством интересов Уайльда в России. Кроме того, благодаря сотрудничеству с литературным душеприказчиком Уайльда, Р. Россом, в «Весах» была опубликована серия переводов, сделанных непосредственно с рукописей. Постоянно растущая популярность Уайльда привлекала все более демократичные и универсальные издательства. Так, за подготовку Полного собрания сочинений взялось крупное книгопечатное товарищество «А. Ф. Маркс». Многотиражное издание вышло в 1912 г. в виде бесплатного приложения к «Ниве» — первому массовому журналу для семейного чтения. Вдохновителем и редактором собрания выступил знаменитый литературный критик К. И. Чуковский, которому удалось привлечь к работе над собранием видных представителей Серебряного века: В. Я. Брюсова, М. А. Кузмина, Ф. Сологуба, Н. С. Гумилева. Четырехтомное собрание сочинений под редакцией Чуковского выдержало переиздание в 1914 г. и обозначило собой пик популярности Уайльда в России начала XX в. 130 В первом томе собрания Чуковский поместил критический этюд об английском писателе, где предложил свою версию литературного портрета Уайльда. Этюд «Оскар Уайльд» восходит к статьям Чуковского 1903-1904 гг. и вместе с тем представляет собой основу всех последующих работ критика об английском писателе, включая книгу о нем 1922 г. Таким образом, критические работы Чуковского об Уайльде можно рассматривать как один снова и снова редактировавшийся текст. В связи с этим представляется возможным детально пронаблюдать эволюцию критической оценки автора. Литературный портрет Уайльда в исполнении Чуковского интересен тем, что являет собой едва ли не полную противоположность образу, устоявшемуся в критике символистов. Притом, что Чуковский сочувствовал символистам, был близок с их литературной средой — его статьи печатались в журнале «Весы», книги «Критические рассказы» и «Лица и маски» — в издательстве «Шиповник» — критика Чуковского об английском писателе полемична по отношению к символистскому прочтению и представляет собой попытку демифологизации сложившегося в русской печати образа Уайльда. Сама стилистика работ Чуковского, легкая, почти фельетонная манера изложения противостоят патетичности статей Бальмонта и Венгеровой, пиетету, с которым писал об Уайльде Ликиардопуло. Чуковский оставляет в стороне идею «творчества жизни» и видит в биографии Уайльда не результат творческого усилия, но, напротив, нечто, что сформировало его личность и тем самым полностью предопределило творчество. Установка на то, что личность писателя хранит в себе ключи к пониманию его произведений, превращает критический анализ в некое подобие психоаналитической процедуры: Чуковский, анализируя тексты произведений и биографические сведения, выводит на свет творческие интенции, которые, по мысли критика, были скрыты и для самого Уайльда. Такой подход, на наш взгляд, не лишен интереса, но, в сущности, является ограничительным, т. к. низводит смысл произведения до личностной экспрессии, нередко и вовсе подталкивая Чуковского на объяснение проблематики творчества ad hoc приписываемыми Уайльду чертами характера: например, эпатажная парадоксальность про- 131 изведений в одной из статей Чуковского объясняется «страстью» писателя «говорить наперекор, назло». С каждой новой редакцией разоблачительный характер литературного портрета Уайльда усиливается. Чуковский одно за другим переворачивает представления об английском писателе, устоявшиеся в среде поклонников «нового искусства», с ног на голову. Для символистов, смотревших на Уайльда сквозь призму идеи «творчества жизни», основной чертой его личности была сознательность: сознательная работа по жизненному воплощению своего эстетического кредо наделяла Уайльда героическими чертами канонизатора новых ценностей. В интерпретации Чуковского, Уайльд, наоборот, во всем бессознательно подчиняется диктату своей натуры и сформировавшей его среды. «Реальный» Уайльд, по мысли Чуковского, во всех своих ипостасях — противоположность мыслителя, художника, т. е. личности, способной рефлексивно возвыситься над собой и окружающим миром. Уайльд — праздный обитатель салонов, денди, чье литературное творчество — лишь выражение салонной культуры, ограниченное специфическим типом салонного мышления. Уайльд — наглядное воплощение гендерной теории Отто Вейнингера, заложник превратностей природы, «бедная женская душа, заключенная в мужское тело». И наконец, Уайльд — фанатик, одержимый идеей «чистой красоты», т. е. красоты выхолощенной, оторванной «от природы, от правды, от духовности». Сектантским поклонением этой, по Чуковскому, «скорее не красоты, а красивости» проникнуто мировоззрение Уайльда, лишь внешне сближающее его с Ницше. Критик старается развенчать миф о перерождении Уайльда, утверждая, что «смиренномудрое страдальчество» писателя в «De profundis» — очередная поза, что Уайльд лишь открыл для себя эстетику страдания и использовал мотив страдания как поэтическую возможность, что вовсе не означает действительное покаяние, катарсис. Кроме того, Чуковский приходит к выводу, что, вопреки расхожему мнению, символизм по своей сути был «чужд и враждебен» Уайльду, и потому русские символисты ошиблись в выборе литературного авторитета. 132 Чуковский детально прорабатывает произведения Уайльда в их соотношении с биографическими сведениями, и каждый выдвигаемый им тезис выглядит предельно наглядно и доказательно. Но, по замечанию В. Брюсова, убедительность литературных портретов Чуковского — это убедительность карикатур: «Что делает карикатурист? Он берет одну черту в данном явлении или в данном лице и безмерно увеличивает ее» [36]. Чуковский гиперболизирует обнаруженные доминанты мировоззрения, творчества, характера Уайльда, сгущает образ писателя, представляя все его литературное наследие в мельчайших особенностях как бессознательную реализацию одной и той же выявленной критиком идеи фикс. В этом отчасти заключается критический метод Чуковского, изложенный им в предисловии к книге «От Чехова до наших дней» — гипотетически «обезумить» писателя и выяснить его манию, скрываемый «особый пункт помешательства», чтобы понять центральные мотивы его творчества. Как ни странно, в определенной мере это сближает Чуковского с Уайльдом. В «Замыслах» — по признанию Чуковского, любимой его книги автора — Уайльд в лице персонажей своих трактатов-диалогов также склонен радикализировать те или иные идеи, доводить их до логического предела, тем самым упрощая их и обнажая стоящий за ними принцип мышления. То же мы видим и в статьях Чуковского об Уайльде: притом, что они имеют явно разоблачительную по отношению к символистскому мифу направленность, все же образ писателя, который в них представлен, нельзя назвать достоверным, «реалистичным» — для этого он слишком гротескный. Если принять во внимание утверждение самого Чуковского «абсурд — излюбленная маска Уайльда», можно увидеть, что Уайльд в литературном портрете русского критика предстал в очередной своей маске. 133 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК I. Художественная литература: 1. Уайльд, О. De profundis. Отрывки из тюремных записок Оскара Уайльда / Оскар Уайльд // Весы. — 1905. — № 3. — С. 1-42. 2. Уайльд, О. De Profundis: Тюрем. исповедь; Поэмы; Стихотворения; Стихотворения в прозе : [Впервые в полном рус. пер.] / Оскар Уайльд. — М. : Эксмопресс, 2000. — 462 с. 3. Уайльд, О. De Profundis: Записки из Рэдингской тюрьмы / Оскар Уайльд; пер. Ек. Андреевой. — М. : Гриф, 1905. 4. Уайльд, О. De Profundis: Три неизданных отрывка и предисловие Роберта Росса / Оскар Уайльд; с предисл. Р. Росса; пер. М. Ликиардопуло // Весы. — 1908. — № 3. — С. 42-48. 5. Уайльд, О. La Sainte Courtisane, или Женщина, увешенная драгоценностями: Отрывки из затерянной трагедии / Оскар Уайльд; пер. и предисл. М. Ликиардопуло // Весы. — 1908. — № 11. — С. 22-31. 6. Уайльд, О. Американские впечатления / Оскар Уайльд; пер. М. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — № 12. — С. 34-38. 7. Уайльд, О. Баллада Рэдингской тюрьмы / Оскар Уайльд; пер. с англ. размером подлинника В. Брюсова. — Москва : Универс. б-ка, 1915. — 46 с. (Универсальная библиотека; № 1098). 8. Уайльд, О. Баллада Рэдингской тюрьмы / Оскар Уайльд; пер. с англ. К. Д. Бальмонта; обл. работы М. А. Дурнова. — Москва : Скорпион, 1904. — 49 с. 9. Уайльд, О. Баллада Рэдингской тюрьмы / Оскар Уайльд; пер. в стихах с английского А. Дейча. — Киев : Б-ка «Гонг», [1910]. — 64 с. 10. Уайльд, О. Баллада Рэдингской тюрьмы / Оскар Уайльд; пер. Н. Норн. — СПб., 1903. — 82 с. 11. Уайльд, О. Веер лэди Уиндермер : Пьеса в 4-х д. / Оскар Уайльд; авториз. пер. с англ. М. Ликиардопуло. — М. : Польза, [1908]. — 79 с. — (Универсальная библиотека). 134 12. Уайльд, О. Душа человека при социализме / Оскар Уайльд; пер. с англ. М. А. Головкиной. — М. : Дилетант, 1907. — 93 с. 13. Уайльд, О. Душа человека при социализме / О. Уайльд // Избранные произведения : в 2 т. Т. 2. — М. : Республика, 1993. — С. 344-374. 14. Уайльд, О. Замыслы / Оскар Уайльд; пер. А. Минцловой. — Москва : Гриф, 1906. — 164 с. 15. Уайльд, О. Избранное / Оскар Уайльд; [Сост., вступ, ст., с. 3-20, и коммент. А. Зверева; иллюстрации В. Юрлова]. — М. : Худож. лит., 1986. — 639 с. 16. Уайльд, О. Нигилисты: Пьеса в 3-х действиях с прологом / Оскар Уайльд; пер. с англ. Н. Соловьева. — М. : Проблема, 1909. — 80 с. 17. Уайльд, О. Письма / Оскар Уайльд; [пер. с англ. В. Воронина, Л. Мотылева, Ю. Рознатовской]. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. — 409 с. 18. Уайльд, О. Письма / Оскар Уайльд; составители А. Г. Образцова, Ю. Г. Фридштейн; вступ. ст. А. Образцовой; коммент. Ю. Фридштейна. — М. : Аграф, 1997. — 415 с. 19. Уайльд, О. Полное собрание сочинений : в 4 т. / Оскар Уайльд; с крит.биогр. очерком и портр. авт. / под ред. К. И. Чуковского. — Санкт-Петербург : Т-во А. Ф. Маркс, 1912. — 4 т. 20. Уайльд, О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. — М. : Изд. В. М. Саблина, 1905-1909. — 8 т. 21. Уайльд, О. Полное собрание стихотворений и поэм / Оскар Уайльд. — СПб. : Евразия, 2000. — 428 с. 22. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея / Оскар Уайльд; пер. А. Минцловой. — М. : Гриф, 1906. — 157 с. 23. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея : Роман / Оскар Уайльд; пер. с англ. А. Абкиной. — СПб. : Азбука, 1999. — 296, [1] с.; 18 см. — (Азбука-классика). 24. Уайльд, О. Портрет Дориана Грэя / Оскар Уайльд; пер. М. Ликиардопуло. — М. : Универсальная библиотека, [1909]. 135 25. Уайльд, О. Саломея : Драма / Оскар Уайльд; пер. В. и Л. Андрусон / под ред. К. Д. Бальмонта. — М. : Гриф, 1904. — 60 с. 26. Уайльд, О. Саломея : Драма в одном действии / Оскар Уайльд; пер. с фр. оригинала К. Д. Бальмонта и Ек. Андреевой; с предисл. К. Д. Бальмонта, рисунками Обри Бирдслея и статьей о них С. Маковского. — СПб. : Пантеон, [1908]. — 135 с. 27. Уайльд, О. Сказки / Оскар Уайльд; пер. Т. и С. Бертеноон. — СПб., [1909]. — 285 с. 28. Уайльд, О. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1: Портрет Дориана Грея; Рассказы; Сказки / Оскар Уайльд; [сост.: А. Дорошевич]. — М. : ТЕРРА, 2000. — 509 с. 29. Уайльд, О. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2: Герцогиня Падуанская; Веер леди Уиндермир; Женщина, не стоящая внимания; Саломея; Идеальный муж; Как важно быть серьезным / Оскар Уайльд; [сост.: А. Дорошевич]. — М. : ТЕРРА, 2000. — 429 с. 30. Уайльд, О. Собрание сочинений : в 3 т. Т. 3: Стихотворения; Поэмы; Эссе; Лекции и эстетические миниатюры; Письма / Оскар Уайльд; [Сост.: А. Дорошевич]. — М. : ТЕРРА, 2000. — 587 с. 31. Уайльд, О. Социализм и душа человека / Оскар Уайльд. — СанктПетербург : Сириус, 1907. — 136 с. 32. Уайльд, О. Сфинкс без загадки: Офорт / Оскар Уайльд; пер. М. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — № 3-4. — С. 48-54. 33. Уайльд, О. Флорентийская трагедия / Оскар Уайльд; пер. с рукописи М. Ликиардопудо и А. Курсинского. — М. : Скорпион, 1907. 34. Уайльд, Оскар. Флорентинская трагедия : В 1 д. / Оскар Уайльд; единств. авториз. пер. с рукописи М. Ликиардопуло и А. Курсинского. — Москва : Скорпион, 1907. — 61 с. 35. Уайльд, О. Царь жизни: («The priest and the acolyte») / Оскар Уайльд. — Москва : Икар, [1908]. — 54 с. 136 II. Научно-исследовательская литература: монографии, критические статьи. 36. Аврелий [Брюсов, В. Я.] [Рец. на кн.:] Чуковский К. От Чехова до наших дней / В. Я. Брюсов // Весы. 1908. — № 11. — С. 59. 37. Аврелий [Брюсов, В. Я.] [Рец. на кн.:] Adolphe Rette. Le Symbolisme. Anecdotes et Souvenirs / В. Я. Брюсов // Весы. — 1904. — № 1. — С. 65-67. 38. Аврелий [Брюсов, В. Я.] [Рец. на кн.:] Ж.-К. Гюисманс. Наоборот. Перевод М. А. Головкиной / В. Я. Брюсов // Весы. — 1906. — № 9. — С. 60-62. 39. Аврелий [Брюсов, В. Я.]. Вехи. III. Чорт и хам / В. Я. Брюсов // Весы. — 1906. — № 3-4. — С. 75-78. 40. Акимова, О. В. Этика и эстетика Оскара Уайльда = Ethics and aesthetics of Oscar Wilde : учебное пособие / О. В. Акимова; под ред. Нины Яковлевны Дьяконовой; Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. — 190, [1] с. : ил.; 21 см. — (Pax Britannica). 41. Акройд, П. Последнее завещание Оскара Уайльда / Питер Акройд; [пер. с англ. Л. Ю. Мотылева; предисл. А. М. Зверева]. — М. : Слово, 1993. — 258 с. 42. Артабан В. Гнилая душа / В. Артабан // Русское слово. — 1904. — № 43. 12 февраля. — С. 1-2. 43. Артист. — 1892. — № 22. — С. 155. (без подписи). 44. Асташкин, А. Г. Типологические и жанровые особенности элитарных журналов об искусстве начала XX в. (на материале журналов «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно» и других): Автореф. дис… канд. филол. Наук / А. Г. Асташкин. — Екатеринбург, 2013. — 26 с. 45. Аствацатуров, А. А. Оскар Уайльд: искусство как гедонистический жест (на материале ранних произведений) / А. А. Аствацатуров // Феноменология текста: игра и репрессия. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — С. 11-29. 46. [Ашкенази, В. А.] Кстати: Из дневника Мимочки / В. А. Ашкенази // Новости дня. — М., 1903. — 20 нояб. (3 дек.). — С. 3. — Подпись: Пэк. 47. Бальмонт, К. Д. В странах солнца. Из писем к частному лицу / К. Д. Бальмонт // Весы. — 1905. — № 8. — С. 17-30. 137 48. Бальмонт, К. Д. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 6: Край Озириса; Где мой дом? Очерки (1920-1923); Горные вершины: Сборник статей; Белые зарницы: Мысли и впечатления / К. Д. Бальмонт. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 624 с. 49. Бальмонт, К. Д. Об Уайльде в России: Книголюбительские приложения // Уайльд О. Саломея: Драма в одном действии / Пер. с франц. оригинала К. Д. Бальмонта и Е. Андреевой. Спб. : Пантеон, 1908. — С. 105-121. 50. Бальмонт, К. Д. Поэзия Оскара Уайльда / К. Д. Бальмонт // Весы. — 1904. — № 1. — С. 22-40. 51. Бахнова, Ю. А. Поэзия Оскара Уайльда в переводах поэтов Серебряного века : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Юлия Анатольевна Бахнова; [Место защиты: Том. гос. ун-т].— Томск, 2010. — 188 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-10/216 52. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин; сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Берштейн и Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. — М. : Искусство, 1979. — 424 с. — (Из истории сов. Эстетики и теории искусства). 53. Белый, А. Арабески: книга статей / Андрей Белый. — Москва : Мусагет, 1911. — 501, [3] с. 54. Белый, А. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2 / Андрей Белый / редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; подгот. текста и коммент. А. Лаврова. — М.: Ху-дож. лит., 1990. — 687 с., ил., портр. (Литературные мемуары). 55. Белый, А. [Рец. на кн.] Оскар Уайльд. Саломея Драма. Перевод В. и Л. Андрусон, под редакцией К. Д. Бальмонта / Андрей Белый // Весы. — 1904. — № 1. — С. 70. 56. Бибихин, В. В. Язык философии / В. В. Бибихин. — 3-е изд., стер. — Спб.: Наука, 2007. — 389 с. — (Сер. «Слово о сущем»). 138 57. Бугаев, Б. [Белый, Андрей] На перевале. Место архаических теорий в перевале сознания и индивидуализме искусства / А. Белый // Весы. — 1906. — № 8. — С. 52-54. 58. Бугаев, Б. [Белый, Андрей] На перевале. IX. Детская свистулька / А. Белый // Весы. — 1907. — № 8. — С. 54-58. 59. Брюсов, В. [Рец. на кн.:] Оскар Уайльд. Замыслы. Перевод А. Минцловой. Книгоиздательство «Гриф». М. 1906 г.; Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Перевод А. Минцловой. С рисунками М. Дурнова. Книгоиздательство «Гриф». М. 1906 г. / В. Брюсов // Золотое руно. — 1906. — № 7-8-9. — С. 176-177. 60. Берштейн, Е. Русский миф об Оскаре Уайльде / Е. Бернштейн // Эротизм без берегов : Сборник статей и материалов. — М. : Новое литературное обозрение, 2004. — С. 26-49. 61. Берштейн, Е. Трагедия пола: две заметки о русском вейнингерианстве / Е. Бернштейн // Эротизм без берегов. Сборник статей и материалов. — М. : Новое литературное обозрение, 2004. — С. 64-89. 62. Брюсов, В. Я. Из моей жизни / В. Я. Брюсов. — М., 1927. 63. Брюсов, В. Бальмонт / В. Брюсов // Мир искусства. — 1903. — № 7-8. — С. 29-36. 64. Брюсов, В. В защиту от одной похвалы. Открытое письмо Андрею Белому / В. Брюсов // Весы. — 1905. — № 5. — С. 37-39. 65. Брюсов, В. Ключи тайн / В. Брюсов // Весы. — 1904. — № 1. — С. 3-21. 66. Брюсов, В. Фиалки в тигеле / В. Брюсов // Весы. — 1905. — № 7. — С. 9-17. 67. Вейнингер, О. Пол и характер. Принципиальное исследование / О. Вейнингер. — М. : Терра, 1999. — 464 с. 68. Венгерова Зинаида Афанасьевна // В. Шелохаев. Энциклопедия Русской эмиграции. — 1997 г. 69. Венгерова, З. А. Автобиографическая справка / З. А. Венгерова // Русская литература XX века, 1890-1910 / ред. С. А. Венгеров. — М., 1914. — С. 135-136. 139 70. Венгерова, З. А. Молодая Англия: (Лит. хроника) / З. А. Венгерова // Cosmopolis. — Спб., 1897. — Март. — С. 187-203. 71. Венгерова, З. А. Новости иностранной литературы. [О кн.:] O. Wilde. Die Herzogin von Padua. Deutsch von Max Meyerfeld. Berlin, 1904. Carl Hegemann. O. Wilde. 1904. / З. А. Венгерова // Вестник Европы. — Спб., 1905. — кн. 1. — С. 430-437. 72. Венгерова, З. А. Новости иностранной литературы. [О кн.:] The Green Carnation. London. W. Heinemann / З. А. Венгерова // Вестник Европы. — Спб., 1895. — кн. 6. — С. 437-449. 73. Венгерова, З. А. Новости иностранной литературы. [О кн.:] Wilde O. Trois Comédies. — Paris, 1906 / З. А. Венгерова // Вестник Европы. — Спб., 1907. — кн. 6. — С. 826-833. 74. Венгерова, З. А. Оскар Уайльд // Венгерова З. А. Соб. соч. в 14 т. Т. 1. Английские писатели XIX века. — СПб : Прометей, 1913. — С. 175-191. 75. Венгерова, З. А. Оскар Уайльд и английский эстетизм / З. А. Венгерова // Литературные характеристики, кн. I. — СПб., 1897. — С. 63-71. 76. Венгерова, З. А. Оскар Уайльд и английский эстетизм / З. А. Венгерова // Книжки недели. — 1897. — № 5. 77. Венгерова, З. А. Суд над Оскаром Уайльдом / З. А. Венгерова // Новая жизнь. — Спб., 1912. — № 11. — С. 157-179. 78. Вестник Европы. — 1891. — №9 — С. 142. 79. ВЕСЫ: Ежемесячник литературы и искусства : Аннотированный указатель содержания / Сост. А. Л. Соболев. — М.: Трутень, 2003. — 377 с. 80. Каталог № 6 // Весы. — 1908. — № 1. — С. 6-7. 81. Вильде // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. Т. 6. — СПб., 1892. — С. 368. 82. Волошин, М. Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов // Весы. — 1907. — № 2. — С. 74-81. 83. Волынский, А. Из жизни литературы: Оскар Уайльд / А. Волынский // Северный вестник. — Спб., 1896. — № 9. — С. 57-58 (отд. 2). 140 84. Волынский, А. Оскар Уайльд / А. Волынский // Северный вестник. — Спб., 1895. — № 12. — С. 311-317 (отд. 1). 85. Ив. Забрежнев [И. И. Федоров] [Рец. на кн.:] Уайльд О. Баллада Редингской тюрьмы / И. И. Федоров // Всемирный вестник. — 1903. — № 3. — C. 266. 86. Гагеман, К. Оскар Уайльд: Критический очерк / К. Гагеман // Уайльд О. Полн. собр. соч. : в 8 т. Т. 1. — М.: Саблин, 1906. — С. 9-205. 87. Гадамер, Г.-Г. Философские основания 20 века / Г.-Г. Гадамер // Актуальность прекрасного. — М. : Искусство, 1991. — С. 15-26. 88. Ге, Н. П. Врубель / Н. Ге // Мир искусства. — 1903. — № 10-11. — С. 183-187. 89. Горький, М. Советская литература. Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей 17 августа1934 года / М. Горький // Собр. соч.: в 30 т. Т. 27. — М. : ГИХЛ, 1953. С. 298-333. 90. Дейч, А. День нынешний и день минувший: Литературные впечатления и встречи / А. Дейч. — М. : Советский писатель, 1985. — 318 с. 91. Дневник артиста. — 1893. — № 7. — С. 53 (без подписи). 92. Добрицкая, А. В. Русская литература начала XX века и творчество Оскара Уайльда: проблемы влияния, перевода и типологических контактов : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01, 10.01.03 / Александра Витальевна Добрицкая. — Краснодар, 2005. — 202 с. 93. Журнал «Весы» (1904-1909 гг.). Указатель содержания / Составители: Т. В. Игошева, Г. В. Петрова. — Великий Новгород, 2002. — 117 с. 94. Зинченко, В. Г. Литература и методы ее изучения. Системно- синергетический подход : учеб. пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 280 с. 95. Иванова, А. С. К. Д. Бальмонт — переводчик английской литературы : диссертация... кандидата филологических наук : 10.01.01 / А. С. Иванова. — СПб, 2007. — 183 с. РГБ ОД, 61:07-10/862 141 96. Изер, В. Рецептивная эстетика. Проблема переводимости: герменевтика и современное гуманитарное знание / В. Изер // Академические тетради. — 1999. — Выпуск 6. — С. 59-96. 97. История эстетики : учеб. пособие / отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2011. — 815 с. 98. К читателям // Весы. — 1904. — № 1. — С. 3-4. 99. Камю, А. Художник в тюрьме / А. Камю // Творчество и свобода. — М., 1990. — С. 142-147. 100. Клинг, О. А. Брюсов в "Весах" (к вопросу о роли Брюсова в организации и издании журнала) // Из истории русской журналистики начала XX века : [сб. статей] / ред. Б. И. Есин. — М. : Изд-во Московского университета, 1984. — С. 160-186. 101. Константин Бальмонт глазами современников : [Сборник / вступ. ст. Л. Н. Таганова; сост. подгот. текстов, прим. и коммент. А. Ю. Романова]; — Спб.: Изд-во «Росток», 2013. — 976 с. 102. Котрелев, Н. В. Вступительная статья. Переписка [В. Я. Брюсова] с С. А. Поляковым (1899—1921) // Валерий Брюсов и его корреспонденты: Литературное наследство. Т. 98. Кн. 2. — М., 1994. — С. 5-137. 103. Критические заметки // Мир Божий. — 1896. — № 3. — С. 5. (отд. II). — Подпись: А. Б. 104. Куприяновский, П. В. Бальмонт / П. В. Куприяновский, Н. А. Молчанова. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 347 [5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1457). 105. Лавров, А. В. Весы / А. В. Лавров, Д. Е. Максимов // Русская литература и ... Буржуазно-либеральные и модернистские издания. — М., 1984. — С. 65-136. 106. Ламборн, Лайонел. Эстетизм / Лайонел Ламборн ; [пер. с англ.: Е. Козлова, Е. Чура]. — Москва : Искусство-XXI в., 2007. — 240 с. 142 107. Ланглад, Жак, де. Оскар Уайльд, или правда масок / Жак де Ланглад. — М. : Молодая гвардия : Палимпсест, 1999. — 325 с. — (Жизнь замечательных людей. Вып. 767). 108. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Halfdan Langaard. Oscar Wilde. Die Saga eines Dichters. Axel Juncker, Verlag. Stuttgart. / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — C. 89-90. 109. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Oscar Wilde. Der Priest und der Messnerknabe. Budapest. Verlag Schneider und Kunert. / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1907. — № 5. — С. 88-89. 110. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Robert Harborough Sherard. The life of Oscar Wilde. T. Werner Laurie. London. 1906. 12 s. 6 d. net. / М. Ф. Ликиардопуло // С. 9294. 111. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Robert Ross. Masques and Phrases / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1909. — № 8. — С. 86-88. 112. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Stuart Mason. A bibliography of the poems of O. Wilde. L. Grant Richards. London 1907. / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1907. — № 11. — С. 79-82. 113. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Оскар Уайльд. Душа человека при социализме. Перевод с английского М.А. Головкиной. К-во «Дилетант». Оскар Уайльд. Социализм и душа человека. К-во «Сириус» / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1907. — № 2. — С. 87-89. 114. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Оскар Уайльд. Полное собрание сочинений. Т. I. Сказки и рассказы. Пер. С.З. Изд. В.М. Саблина. М. 1906 г. / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — № 5. — С. 72-74. 115. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Оскар Уайльд. Полное собрание сочинений. Т. IV. О социализме. Герцогиня Падуанская. Веер леди Уайндермер. Изд. В.М. Саблина // Весы. — 1907. — № 6. — С. 72-74. 116. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Оскар Уайльд. Полное собрание сочинений. Том III. (Стихотворения в прозе. Сказки. De Profundis. Саломея). Изд. В.М. Саблина. / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — № 10. — С. 58-59. 143 117. Ликиардопуло, М. [О кн.:] Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Пер. А. Минцловой. С рисунками М. Дурнова. К-во «Гриф». Оскар Уайльд. Замыслы. Пер. А. Минцловой. К-во «Гриф» / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1906. — № 8. — С. 64-66. 118. Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования : в 5 кн. Кн. 1. / Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР; Редакция: Г. П. Бердников, Д. Д. Благой, В. Р. Щербина (гл. ред.) и др. — М. : Наука, 1980. — 567 с. 119. Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов / АН СССР; ИМЛИ им. А. М. Горького. — М. : Наука, 1976. — 854 с. 120. Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) / Ю. М. Лотман. — Спб. : Искусство — СПБ, 1994. — 399 с. 121. Луков, В. А. Феномен Уайльда: тезаурусный анализ : научн. монография / Вл. А. Луков, Н. В. Соломатина ; Нац. ин-т бизнеса, Моск. гуманитар. ун-т. — Москва, 2005 (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНИТИ). — 213 с. 122. Лукьянова, И. В. Корней Чуковский / И. В. Лукьянова. — М. : Молодая гвардия, 2006. — 988 с. («Жизнь замечательных людей»). 123. М. Р. [Балтрушайтис, Ю. К.] [Рец. на кн.:] In memoriam Oscar Wilde. Herausgegeben von Franz Blei / Ю. К. Балтрушайтис // Весы. — 1904. — № 4. — С. 65-66. 124. Манн, Т. Философия Ницше в свете нашего опыта / Т. Манн // Собр. соч. : в 10 т. Т. 10. — М., 1961. — 696 с. 125. На «вторнике» // Новости дня. — М., 1903. — 19 нояб. (2 дек.). — С. 2. (Без подписи). 126. Набоков, В. Другие берега / В. Набоков // Собр. соч. : в 4-х т. Т. 4. — М., 1990. — 480 с. 127. Ницше, Ф. Генеалогия морали / Ф. Ницше. — СПб., 1908. — 96 с. 128. Новости дня. — 1903. — № 7346. — 19 нояб.; (без подписи). 144 129. Образцова, А. Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда / А. Г. Образцова; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. — СПб. : ДБ, 2001. — 356 с. 130. Павлова, Т. В. Оскар Уайльд в русской печати начала XX века // Из истории русско-советского международного книжного общения (XIX—XX вв.). Л., 1987, с. 42-57. 131. Павлова, Т. В. Оскар Уайльд в русской литературе (конец XIX — начало XX вв.) // На рубеже XIX и XX вв.: Из истории международных связей русской литературы. — Л.: Наука, 1991. — С.77-128. 132. Переписка [В. Брюсова] с К. Д. Бальмонтом // Литературное наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты : в 2 кн. Кн. 1. — М., 1991. — С. 30239. 133. Потебня, А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня / Сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова. — М.: Высш. шк., 1990. — 344 с. — (Классика литературной науки). 134. Брюсов, В. Я. Tertia Vigilia. Книга новых стихов 1897—1900 / В. Я. Брюсов. — М.: Скорпион, 1900. 135. Речь. — 1912. — № 67, 9 марта. — С. 6. 136. Рауд, Н. П. Образный строй поэзии Оскара Уайльда : диссертация... канд. филол. наук : 10.01.03 / Нина Павловна Рауд. — СПб., 2006. — 172 с. РГБ ОД, 61:07-10/1236 137. Руднев, В. Энциклопедический словарь культуры XX века / В. Руднев. — М.: Аграф, 2001. — 599 с. 138. Русская мысль. — 1907. — № 18. — С. 235 (отд. II); (без подписи). 139. Русское богатство. — 1907. — № 11. — С. 117 (отд. II); (без подписи). 140. Синеокая, Ю. В. Восприятие идей Ницше в России: основные этапы, тенденции, значение / Ю. В. Синеокая // Фридрих Ницше и философия в России : сб. ст. — СПб., 1999. — С. 7-37. 145 141. Синеокая, Ю. В. Российская ницшеана / Ю. В. Синеокая // Ницше: pro et contra : антология. Сост., вступ. ст., примеч. и библиогр. Ю. В. Синеокой. — СПб.: РХГИ, 2001. — С. 1-29. 142. Соломатина, Н. В. Создание автомифа и его трансформация в «биографическом жанре» : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.03 / Н. В. Соломатина. — Москва, 2003. — 214 с. 143. Стародум, Н. Я. [Стечкин, Н. Я.] Журнальное обозрение («Весы» — январь, февраль, 1904 г.) / Н. Я. Стечкин // Русский вестник. — 1904. — № 3. — С. 341-349. 144. Толстой, Л. Н. Что такое искусство? / Л. Н. Толстой / Полн. собр. соч. : в 90 т. Т. 30. — М., 1951. — С. 27-202. 145. Тумбина, О. В. Контраст и парадокс в повествовательной прозе Оскара Уайльда : К характеристике творческого метода писателя : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.03 / О. В. Тумбина / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. — Санкт-Петербург, 2004. — 20 с. 146. Уайльд // Литературная энциклопедия : в 11 т. Т. 11. — М. : Худож. лит., 1939. — Стб. 477-481. 147. Успенский, В. Религия Оскара Уайльда и современный аскетизм / В. Успенский // Христианское чтение. — 1906. — Февраль. — С. 204-225. 148. Ходасевич, В. Ф. Некрополь / В. Ф. Ходасевич. — Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. — М. : Согласие, 1997. — 744 с. 149. Хорольский, В. В. Русская критика рубежа XIX — XX вв. об О. Уайльде / В. В. Хорольский // Питання літературознавства. — 1993. — Вип. 1. — С. 124132. 150. Хорольский, В. В. Английская поэзия рубежа ХІХ-ХХ веков в русской и советской критике / В. В. Хорольский // Типологические схождения и взаимосвязи в русской и зарубежной литературе ХІХ-ХХ вв. — Красноярск, 1987. 151. Хорольский, В. В. Литературная критика как фактор межкулыурной коммуникации (К вопросу о восприятии английской поэзии рубежа Х1Х-ХХ ве- 146 ков в России) / В. В. Хорольский // Вестник ВГУ, Серия: Филология. Журналистика. 2005. — С. 198-207. 152. Чистякова, О. А. Филологическая наука и литературная критика в журнале «Вестник Европы» : 1890-е гг. : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Ольга Александровна Чистякова; [Место защиты: Вологод. гос. пед. унт]. — Череповец, 2010. — 231 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-10/795 153. Чуковский, К. И. В защиту / К. Чуковский // Собр. соч. в : 15 т. Т. 11: Дневник 1901—1921 / Предисл. В. Каверина; Коммент. Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. — 592 с. 154. Чуковский, К. И. О буржуазности / К. Чуковский // Собр. соч. в : 15 т. Т. 11: Дневник 1901—1921 / Предисл. В. Каверина; Коммент. Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. — C. 462-468. 155. Чуковский, К. И. О пользе брома / К. И. Чуковский // Весы. — 1906. — № 12. — С. 52-60. 156. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд / К. Чуковский // Лица и маски. — Санкт-Петербург : Шиповник, [1914]. 157. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд / К. Чуковский // Люди и книги. 2-е изд., доп. — М. : Гослитиздат, 1960. — С. 625-670. 158. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд / К. Чуковский. — СПб. : 9-я Гос. тип., 1922. — 78 с. 159. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд и его пьеса («Необходимость быть Эрнестом») / К. Чуковский // Собр. соч. в: 15 т. Т. 11 : Дневник 1901—1921 / Предисл. В. Каверина; Коммент. Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. — С. 488-491. 160. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд. Этюд / К. И. Чуковский // Нива. — 1911. — № 49. — С. 910-914. 161. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд. Этюд / К. Чуковский // Собрание сочинений: В 15 т. Т. 3: Высокое искусство; Из англо-американских тетрадей / Сост. Е. Чуковской и П. Крючкова. — 2-е изд., электронное, испр. и дополн. — М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2012. — С. 375-416. 147 162. Чуковский, К. И. Оскар Уайльд. Этюд // Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 4 т. Т. 1. Кн. 2. — Спб., 1914. — С. 1-33. 163. Чуковский, К. И. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 13: Дневник (1936— 1969) / К. И. Чуковский; коммент. Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М.: Агентство ФТМ, Лтд, 2013. — 640 с. 164. Чуковский, К. И. Собрание сочинений : в 15 т. Т. 14: Письма (1903— 1925) / К. И. Чуковский; вступ. ст. Е. Ивановой; сост.: Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общая ред., подг. Текстов и ком-мент. Е. Ивановой и Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. —688 с. 165. Чуковский, К. И. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 15: Письма (1926— 1969) / К. И. Чуковский / Вступ. ст. Е. Ивановой; Сост.: Е. Иванова, Л. Спиридонова, Е. Чуковская. Общая ред., подг. текстов и коммент. Е. Ивановой и Е. Чуковской. — 2-е изд., электронное, испр. — М.: Агентство ФТМ, Лтд., 2013. — 800 с. 166. Чуковский, К. И. Циферблат г. Бельтова / К. И. Чуковский // Весы.-— 1906. — № 2. — С. 46-51. 167. Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского : сборник. — М., Искусство, 1979. — 448 с., ил. 168. Шабанова, А. В. Влияние английской литературы на творчество Н.С. Гумилева : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Анна Владимировна Шабанова; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. — Москва, 2008. — 170 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-10/529 169. [Шкловский, И. В.] Английские «Reviews» // Русское богатство. — Спб., 1898. — № 11. — С. 119-139 (отд. 2). — Подпись: Дионео. 170. [Шкловский, И. В.] Из Англии // Русское богатство. — Спб., 1898. — № 8. — С. 185 214 (отд. 2). — Подпись: Дионео. 171. Эллин [Ликиардопуло, М. Ф.]. [О кн.:] Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Перевод С. З. Издание В. М. Саблина / М. Ф. Ликиардопуло // Весы. — 1905. — № 1. — С. 60-63. 148 172. Эллис [Кобылинский, Л. Л.]. [О кн.:] Корабли. Сборник стихов и прозы / Л. Л. Кобылинский // Весы. — 1907. — № 5. — С. 73-76. 173. Эллман, Р. Оскар Уайльд: Биография / Р. Эллман; пер. с англ., составление аннотированного именного указателя Л. Мотылева. — М. : Издательство Независимая Газета, 2000. — 688 с., ил. — (Серия «Литературные биографии»). 174. Яусс, Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения / Х.-Р. Яусс; пер. с нем. и предисл. Н. Зоркой // Новое литературное обозрение. — М., 1995. — № 12. — С. 34-84. 175. [Рец. на кн.:] Oscar Wilde. De Profundis. Methuen & C-o. London // Весы. — 1905. — № 5. — С. 58-59. — Подпись: Athenaeum. 176. Atkinson, G. T. Oscar Wilde in Oxford // Wilde Oscar. Interviews and recollections / Ed. by E. H. Mikhail. — New York, 1979. Vol. I. — pp. 16 26. 177. Bernshtein, E. ‘Next to Christ’: Oscar Wilde in Russian Modernism // The Reception of Oscar Wilde in Europe, ed. by Stefano Evangelista pp. 490. London and New-York: Continuum, 2010, pp. 285-300. 178. Douglas, A. Oscar Wilde and myself. Duffield, 1914. 306 p. 179. Ernest La Jeunesse, André Gide, Franz Blei. In memoriam Oscar Wilde. The Literary collector press, 1905 — 107 p. 180. Gross, A. G. Konstantin Balmont in Oxford in 1897. — Oxford Slavonic papers. New siries. Vol. XII. Oxford university press, 1979. — PP. 104-116. 181. Holland, M. Irish Peacock and Scarlet Marquess: The Real Trial of Oscar Wilde. — Fourth Estate: London, 2004. — 384 p. 182. Iser, Wolfgang. The Reading Process: A Phenomenological Approach // New Literary History. Vol. 3, No. 2, On Interpretation: I (Winter, 1972). The Johns Hopkins University Press. Pp. 279-299. 183. Allen, James Sloan. Nietzsche and Wilde: An ethics of style // The Sewanee Review. Vol. 114, No. 3 (Summer, 2006), pp. 386-402. 184. Metz, E. Konstantin Bal'mont's Oxford Lectures on Russian "Fin de Siècle" Poetry: Publication, Introduction and Comments // The Slavonic and East European Review. — Vol. 87, No. 1 (Jan., 2009), pp. 78-99. 149 185. Moeller-Sally, Betsy F. “Oscar Wilde and the Culture of Russian Modernism.” The Slavic and East European Journal 34.4 (Winter 1990): 459-72. 186. Polonsky, Rachel (1998) English Literature and the Russian Aesthetic Renaissance, Cambridge: Cambridge University Press. 187. Shaw G.B. Two New Plays” (review of An Ideal Husband by Oscar Wilde and Guy Domville by Henry James, Saturday Review, 12 January 1895) / Dramatic Opinions and Essays, Volume One (1911) , pp. 7-15. 188. Sherard, R. H. The Life of Oscar Wilde. London: T. Werner Laurie. 1906. 189. The Reception of Oscar Wilde in Europe, ed. by Stefano Evangelista pp. 490. London and New-York: Continuum, 2010. 190. Wilde, O. A Critic in Pall Mall. London, 1919. 232 p. 191. Wilde, O. Impressions of America. Published by Keystone Press, 1906. 41 p. 192. Wilde, O. Letter to W. E. Henley, (?Dec. 1888), The Complete Letters of Oscar Wilde, ed. Merlin Holland and Rupert Hart Davis. Fourth Estate: London, 2000, pp. 372-3. 193. Wilde, O. Selected Prose of Oscar Wilde / With Preface by Robert Ross. London$ Methuen & Co, 1914. III. Интернет-источники 194. Уайльд, О. Душа человека при социализме. Перевод с англ. В. И. Постникова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.proza.ru /2008/01/08/25, свободный. — Загл. с экрана. 195. Письма Зинаиды Афанасьевны Венгеровой к Софье Григорьевне Балаховской-Пети [Электронный ресурс] / Revue des études slaves, Tome 67, fascicule 1, 1995. pp. 187-236. — Режим доступа: http://www.persee.fr/web/revues/home/ prescript/article/slave_0080-2557_1995_num_67_1_6255 196. Di Salvo Maria. Элементы теории литературной рецепции в трудах Ю. Н. Тынянова [Электронный ресурс] / Revue des études slaves, Tome 55, fascicule 3, 1983. Ju. N. Tynjanov. pp. 419-423. — Режим доступа: http://www.persee. fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1983_num_55_3_5348, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., фр. 150 197. New lecture series on Oscar Wilde, his life, his works and his philosophy delivered by Dr Sos Eltis, lecturer in English [Электронный ресурс]. — Аудио лекции и документальные материалы (всего 10 файлов). — University of Oxford, 2013. — Режим доступа: http://podcasts.ox.ac.uk/series/oscar-wilde, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. англ.