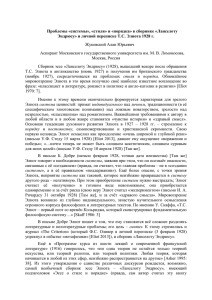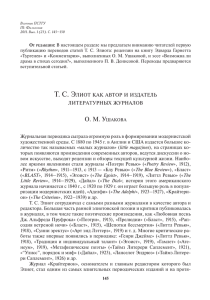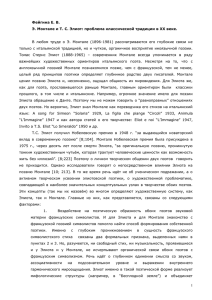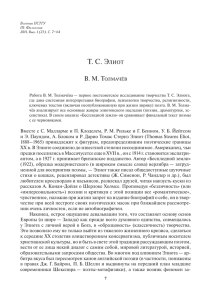I В. М. Т
advertisement
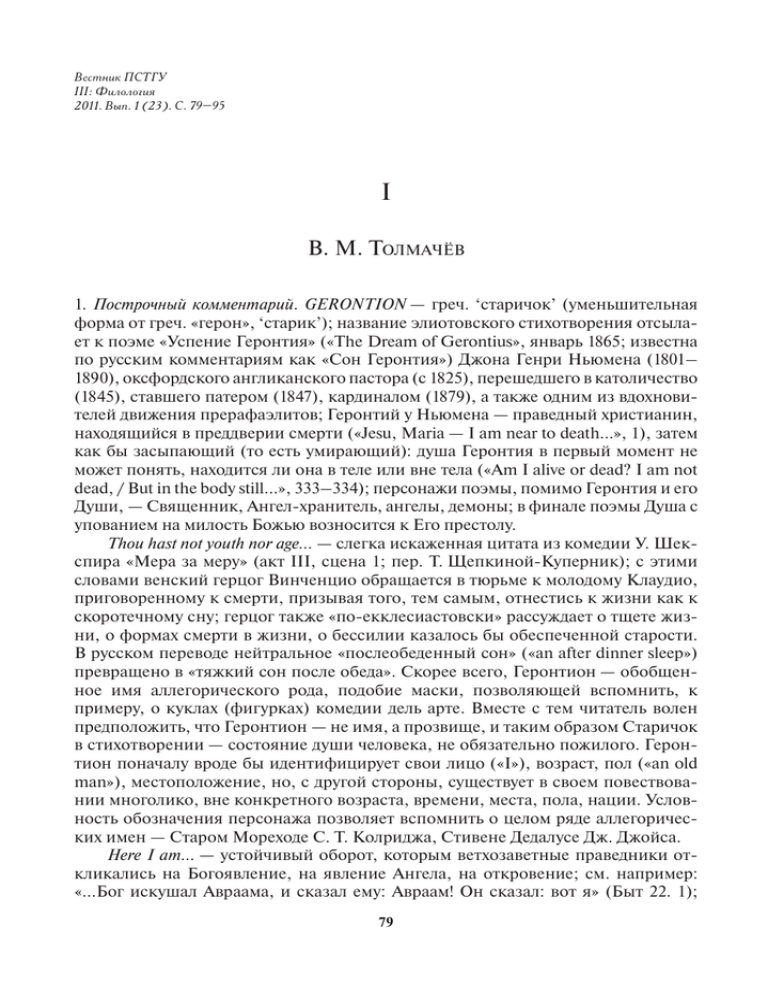
Вестник ПСТГУ III: Филология 2011. Вып. 1 (23). С. 79–95 I В. М. ТОЛМАЧЁВ 1. Построчный комментарий. GERONTION — греч. ‘старичок’ (уменьшительная форма от греч. «герон», ‘старик’); название элиотовского стихотворения отсылает к поэме «Успение Геронтия» («The Dream of Gerontius», январь 1865; известна по русским комментариям как «Сон Геронтия») Джона Генри Ньюмена (1801– 1890), оксфордского англиканского пастора (с 1825), перешедшего в католичество (1845), ставшего патером (1847), кардиналом (1879), а также одним из вдохновителей движения прерафаэлитов; Геронтий у Ньюмена — праведный христианин, находящийся в преддверии смерти («Jesu, Maria — I am near to death…», 1), затем как бы засыпающий (то есть умирающий): душа Геронтия в первый момент не может понять, находится ли она в теле или вне тела («Am I alive or dead? I am not dead, / Вut in the body still…», 333–334); персонажи поэмы, помимо Геронтия и его Души, — Священник, Ангел-хранитель, ангелы, демоны; в финале поэмы Душа с упованием на милость Божью возносится к Его престолу. Thou hast not youth nor age… — слегка искаженная цитата из комедии У. Шекспира «Мера за меру» (акт III, сцена 1; пер. Т. Щепкиной-Куперник); с этими словами венский герцог Винченцио обращается в тюрьме к молодому Клаудио, приговоренному к смерти, призывая того, тем самым, отнестись к жизни как к скоротечному сну; герцог также «по-екклесиастовски» рассуждает о тщете жизни, о формах смерти в жизни, о бессилии казалось бы обеспеченной старости. В русском переводе нейтральное «послеобеденный сон» («an after dinner sleep») превращено в «тяжкий сон после обеда». Скорее всего, Геронтион — обобщенное имя аллегорического рода, подобие маски, позволяющей вспомнить, к примеру, о куклах (фигурках) комедии дель арте. Вместе с тем читатель волен предположить, что Геронтион — не имя, а прозвище, и таким образом Старичок в стихотворении — состояние души человека, не обязательно пожилого. Геронтион поначалу вроде бы идентифицирует свои лицо («I»), возраст, пол («an old man»), местоположение, но, с другой стороны, существует в своем повествовании многолико, вне конкретного возраста, времени, места, пола, нации. Условность обозначения персонажа позволяет вспомнить о целом ряде аллегорических имен — Старом Мореходе С. Т. Колриджа, Стивене Дедалусе Дж. Джойса. Here I am… — устойчивый оборот, которым ветхозаветные праведники откликались на Богоявление, на явление Ангела, на откровение; см. например: «…Бог искушал Авраама, и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я» (Быт 22. 1); 79 Исследования «…и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, (Господи)!» (Исх 3. 4). Имеется и другой источник образа, о котором в 1938 г. сообщил сам Элиот. Им стала биография Эдуарда Фитцджералда (1809–1883; «Edward Fitzgerald», 1905), английского поэта-викторианца, знаменитого переводчика с различных языков, написанная поэтом и эссеистом Артуром Кристофером Бенсоном (1862–1925); фитцджералдовский перевод «Рубайят» Омара Хайяма («The Rubaiyat» of Omar Khayyam, 1859), выполненный катренами, заинтересовал Д. Г. Россетти, Ч. Э. Суинберна, вошел в моду, сделался объектом поэтических пародий; посмертная публикация наследия Фитцджералда вывела его как человека позитивистской эпохи, с одной стороны, и эксцентрика, пессимиста, гедониста (ценившего исключительно мужскую дружбу, известного своим неприятием христианства) — с другой. Элиот обратил внимание на следующие строки биографии, которые описывают престарелого и ослепшего писателя: «Here he sits, in a dry month, old and blind, being read to by a country boy, longing for rain»2 («И вот он сидит, в месяц засухи, старый и слепой, ему читает сельский мальчик, страстно ждущий дождя»; здесь и далее специально не оговоренные переводы принадлежат автору данной статьи). Очевидно, что Элиоту были известны и слова Фитцджералда из письма Фредрику Теннисону: «…I really do like to sit in this doleful place with a good fire, a cat and dog on the rug, and an old woman in the kitchen. This is all my live-stock. The house is yet damp as last year; and the great event of this winter is my putting up a trough round the eaves to carry off the wet»3 («…Мне действительно нравится сидеть в этом печальном месте, огонь хорош, кот и собака на ковре, старая женщина на кухне. Вот все мои жизненные запасы. Дом все такой же сырой, как и в прошлом году; большое событие этой зимы — я занимаюсь прокладкой слива вокруг кровли, чтобы отвести сырость»). in a dry month — имеется в виду весенний месяц (апрель, насколько можно судить по начальным строкам поэмы «Бесплодная земля»: «Апрель, беспощадный месяц, выводит / Сирень из мертвой земли, мешает / Воспоминания и страсть, тревожит / Сонные корни весенним дождем.», пер А. Я. Сергеева): природа томится по дождю, пробуждению, восстанию от зимнего сна; возможно, это намек на близость Пасхи. at the hot gates — буквальный перевод на английский греческого слова «Термопилы» (Фермопилы) — Фермопильского прохода, места легендарной битвы между войском Ксеркса и спартанцами под командованием царя Леонида (фактически битвы между двумя мирами, цивилизациями) в 480 г. до Р. Х.4 Комментаторы Элиота чаще всего не сомневаются именно в древнем значении образа. Вместе с тем, имеются, по нашему мнению, равные основания считать эту ассоциацию современной: Геронтион не воевал на Первой мировой войне, не защищал европейскую цивилизацию от нового «варварства». «Жаркие ворота» здесь — символ боевых действий на Средиземном море, борьбы за проливы («hot gates»): в феврале 1915 г. войска Антанты высадили десант под Галлиполи 2 Benson A. C. Edward FitzGerald. N. Y.; L., 1905. P. 142. Ibid. P. 29. 4 См. о битве и вооружении спартанцев: Конноли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории / Пер. с англ. М., 2000. 3 80 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв (ныне — Гелиболу) с целью захвата черноморских проливов, Стамбула, а также вывода Турции из войны; в течение года они пытались сломить сопротивление турецких войск, но, понеся большие потери, в конце 1915 г. вынуждены были эвакуировать свои войска в Грецию. Проливает свет на этот символ биография поэта. Как известно, 2 мая 1915 г. под Дарданеллами погиб близкий друг парижской юности Элиота, военный врач Жан-Жюль Верденаль (р. 1890); Верденалю Элиот посвятил свою первую книжку поэзии, вышедшую в Англии («Пруфрок и другие наблюдения», 1917), а также издание «Бесплодной земли» 1925 г. estaminet — кафешка («притон» в переводе А. Я. Сергеева); модное французское слово, принесенное в Англию солдатами, воевавшими во время Первой мировой войны в Бельгии и Франции. the Jew — «еврей», или хозяин «дома» Европы в данной строке — обозначение не столько национальное, сколько обобщенное: это человек современной Европы, который изменил своему религиозному призванию; в подобном смысле он — Вечный Жид, Агасфер (персонаж средневековых легенд, обреченный вечно скитаться из-за того, что отказался помочь Христу нести Крест на Голгофу), помещенный в трущобы, в подполье страшного мира современного города. Разумеется, владелец этого дома — не Бог… Некоторые комментаторы Элиота сравнивают жилище Геронтиона с образностью полотен М. Шагала. Думается, имеются основания искать переклички между «Геронтионом» и театром, а также немым кино немецкого экспрессионизма. Antwerp… Brussels… London — Антверпен, Брюссель, Лондон здесь — обобщенный образ «дома» Европы как современного Вавилона (международные порты, средоточие новейшего банковского капитала, смешение рас и народов, низменные удовольствия). Rocks, moss, stonecrop, iron, merds — образ «бесплодной земли», современной духовной пустыни, где обитает «старец» Геронтион. merds — множественное число от фр. merde, «дерьмо». Signs are taken for wonders. — «Знаменья кажутся чудом». Думается, этот перевод А. Я. Сергеева не совсем адекватно передает смысл элиотовской строки; очевидно, что англ. «are taken» здесь ближе к «принимаются» («принимаются за…»); поэтому слово «sign», формально совпадая с дальнейшим «sign» («знамение» — см. ниже), должно пониматься и трактоваться иначе, о чем свидетельствует дальнейшее развитие темы профанации, извращения веры; то есть «signs» — это некая символика, которая принадлежит практикам тех или иных современных мистиков и оккультистов (наподобие мадам де Торнквист). Возможный подстрочный перевод слова — «знаки», «символы» (карты для гадания и т. п.), которые «принимаются за чудеса», «за откровения». О таких «знаках» (или ложных знамениях) говорит св. апостол Павел во Втором Послании к Фессалоникийцам: «И тогда откроется беззаконник… которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными…» («…signs and lying wonders») (2 Фес 2. 8–9). «We would see a sign!» — Элиотом обыграны следующие слова из Евангелия от Матфея (Мф 12. 38–39): «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение [Master, we would see a sign 81 Исследования from thee]. Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения [an evil and adulterous generation seeketh after a sign]; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». В контексте стихотворения эти слова и имеют прямой Евангельский смысл, и выражают неверие современного человека. The word within a word, unable to speak a word — «слово в слове» здесь не столько отсылка к Богу Отцу, к Богу Сыну (см. Ин 1: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога»), к явлению Христа в мир («И Слово стало плотию… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»), сколько к бессилию суррогатов веры и их «пророкам», тщетно пытающимся облечь свое томление, свою эротическую взвинченность в слова. Swaddled with darkness — «Повитое мраком». Здесь обыгрывается вторая глава Евангелия от Луки, посвященная Рождеству Христову (например, стих 12: «И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» [And this shall be a sign unto you; ye shall find the Babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger»]), а также Евангелие от Иоанна (глава 1: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его»). Однако эти же самые слова у Элиота относятся по контрасту (свет / тьма) к темноте современного «лжеслова», не способного породить что-либо светлое, живое; соответственно в следующей строке Элиот, опять-таки по контрасту, меняет мотив младенца Христа, Христа-Агнца (Христос, «спеленутый тьмой», — Спаситель мира, смиренно появившийся на свет ночью, в пещере пастухов) — Он отвергнут современным миром! — на мотив Христа-Тигра, грядущего Гнева Божьего. Многие элиотоведы считают5, что в строке 18 («The word within a word…») поэт цитирует рождественскую проповедь 1618 г. любимого им англиканского епископа Ланселота Эндрюса (1555–1626), которая посвящена Евангелию от Луки (Лк 2. 12–14) и чуду Рождества — явлению в мир предвечного Логоса: «Verbum infans, the Word without a word; the eternal Word not able to speak a word; a wonder sure and... swaddled; and that a wonder too. He that takes the sea “and rolls it about the swaddled bands of darkness,” to come thus into clouts, Himself» («Verbum infans, Слово без слова; вечное Слово, не способное молвить и слова; чудо… в пеленах, что также чудесно. Он, берущий море и “свивающий ему одежду из пелен мглы”6, Сам спеленут»). the juvescence — элиотовский вариант англ. juvenescence (юность); ритм требует именно трехсложного слова; образовано по аналогии с лат. junescence. Юность года — весна. Christ the tiger — Христос-Тигр, образ восходит к стихотворению «Тигр» («The Tiger», 1794), где английский поэт-романтик и визионер Уильям Блейк (1757– 1827) задается вопросом о том, кем — Богом или сатаной — и с какой целью создан страшный зверь; у Блейка имеется и стихотворение «Агнец» («The Lamb», 1789). 5 См. например: Southam B. C. A Student’s Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot. L., 1987. P. 56. 6 См.: Иов 38. 9. 82 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв In depraved May — «В оскверненном мае» (перевод А. Я. Сергеева), ближе к оригиналу определения «порочный», «развращенный»; речь идет о «весне священной», языческом разгуле природы. dogwood and chestnut, flowering judas… — возможно, эти строки, как некогда предположил профессор Гарварда Ф. О. Маттисен, навеяны Элиоту чтением Генри Адамса (1938–1918), автобиографию которого («Воспитание Генри Адамса»; «The Education of Henry Adams», 1907, 1918) он рецензировал в 1919 г. (журнал «Атенеум», № 4647, 23 мая, «Скептичный патриций»; «A Sceptical Patrician»). См.: «No European spring had shown him the same intermixture of delicate grace and passionate discovery that marked the Maryland May. He loved it too much, as though it were Greek and half human» («Ни одна весна в Европе не явила ему ту же смесь деликатного изящества и бросающейся в глаза страстности. Она ему пришлась очень по вкусу, в ней словно заключалось что-то греческое, не вполне человечное»)7. Как по-своему Э. Фитцджералд, Адамс стал для Элиота и олицетворением скептицизма позитивисткой эпохи, и воплощенным противоречием: наблюдательный человек (давший в своей автобиографии оригинальное описание «ускорения истории»), ценитель европейской культуры, эстет, которого до определенной степени влек к себе католицизм (путешествие в монастырь Сен-Мишель в Бретани), он прошел мимо веры в Бога. Из «Воспитания Генри Адамса» Элиотом «заимствовано» описание мая на реке Потомак в штате Мэриленд. Это само «бесстыдство» природы, триумф всего чувственного и элементарного — буйное цветение кизила, каштанов, иудина дерева (с его красными цветами): «Here and there a negro log cabin alone disturbed the dogwood and the judas-tree… The brooding beat of the profligate vegetation…» («То здесь, то там на стоявшую на отшибе негритянскую хижину наступали заросли кизила и иудины деревья… Везде пульсировали токи бесстыдной растительности»)8. …In the juvescence of the year / Came Christ the tiger / In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas, / To be eaten, to be divided, to be drunk / Among whispers; by… — пример вольного поэтического синтаксиса. Скорее всего, перед читателем не анжамбеман (перенос строки), а разрыв между строфами (фрагментами текста). В этом случае на словах «Христос-тигр» одна фраза заканчивается (цезура и смена ритма заменяют точку), и тогда дальнейшее ассоциативное развитие нового предложения (строка 21) связано не с Христом (и Причастием; ХристомТигром не причащаются), а с лжепричастием «порочного мая». …flowering judas, / To be eaten, to be divided, to be drunk / Among whispers… — ярко-красные цветы иудина дерева (в России дерево Иуды — осина) ассоциируются не только с бесстыдством природы, но и с предательством Христа, с неким нечестивым «причастием» («Их съедят, их разделят, их выпьют…» в одном из вышеприведенных переводов), профанацией важнейшего христианского таинства. Судя по всему, в стихотворении суггестируется образ оккультного действа (черной мессы). «Whispers» («нашептывания») здесь — и некие произносимые шепотом ритуальные заклинания, и антитеза Богу Слову. 7 8 Adams H. The Education of Henry Adams. Boston (Mass.), 1918. P. 268. Ibid. 83 Исследования Mr. Silvero / With caressing hands, at Limoges — очередной образ чего-то порочного; все приобщившиеся к некоему темному причастию (испанец, японец, шведка, немка — все они жители современного Вавилона и служители некой «черной» мессы) наделены как нарицательными именами, так и противоестественными свойствами: мистер Силверо (это имя семантически связано с серебром, богатством и, возможно, с легендарным стивенсовским капитаном Силвером, попугай которого в романе «Остров сокровищ» памятен всем читателям по зловещему крику «Пиастры, пиастры!») всю ночь ласкает себя («caressing hands») в номере гостиницы. Расположение этой гостиницы именно в Лиможе позволяет вспомнить о средневековой культуре (знаменитые лиможские эмали), но что до нее г-ну Серебряному?! Hakagawa… among the Titians — японец, представитель древней цивилизации (что подчеркнуто его постоянными поклонами), помещен в европейский музей, который битком набит картинами Тициана; Хакагава явно кланяется «чужим богам», как по-своему и м-р Силверо, он изменил традиции; на наш взгляд, Хакагава отправлен Элиотом в Лувр или в флорентийский Палаццо Питти, где находятся такие шедевры Тициана, как «Поклонение пастухов» (1533), «Кающаяся Мария Магдалина» (1530–1535), «Портрет Пьетро Аретино» (ок. 1545) и др. Madame de Tornquist — шведка (намек на Сведенборга?) с такой фамилией вполне может быть спиритом (здесь — медиумом, устанавливающим контакты с миром духов посредством столоверчения; англ. turn — ‘вращать, крутить’). Fräulein von Kulp — фамилия якобы знатной немецкой девушки образована от лат. слова «грех» (culpa). Фрейлейн влечет к спиритизму — она заглянула в дверь и теперь не в силах уйти. Vacant / shuttles / Weave the wind — возможно, здесь обыграно сетование Иова по поводу безотрадности своей жизни: «Дни мои бегут скорее челнока [My days are swifter than a weaver’s shuttle], и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе» (Иов 27. 6–7). В этом случае образ весьма конкретен — призрачному дому, продуваемому ветрами, соответствует хлопанье пустых ставней. I have no ghosts — достаточно очевидно, что Геронтион, как и другие упомянутые лица, участвует в спиритическом сеансе; он желал бы вступить в контакт с духом (ghost) некоего близкого ему лица, но ему никто не является. Его горница пуста. knob. — лоб, всхолмье. Как и у других поэтов (см., например, «лобное всхолмье» у М. Цветаевой в стихотворении «Куст»), с этим словом связана и пространственная реалия (местоположение призрачного дома), и место темного обряда, и обозначение внутреннего мира лирического героя (сквозняки, шепотки беспокойного сознания — в дальнейших строках оно замыкается на самом себе), и, не исключено, отсылка к Евангелию — к Голгофе, горе в форме черепа (букв. перевод — «лобное всхолмье»). Здесь вновь проступает мотив «Вечного Жида» — мотив неискупимой вины. After such knowledge, what forgiveness? — Knowledge здесь — «знание», а не «познание» (в переводе А. Я. Сергеева). Геронтион взволнован молчанием «дорогой тени». Он корит себя за своего рода отступничество, измену. Речь идет о чем-то таком, что не проговаривается, но тем не менее связывает в стихотворении го84 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв ворящее «я» (Геронтион) и молчащее «ты» («Вдумайся…», «Think now…»). Последующие строки (вплоть до строки 48) являются попыткой Геронтия оправдать себя. Он изменил любви. History has many cunning passages, contrived corridors… — образ запутанных лабиринтов (коридоров) сознания, памяти, истории; как считают комментаторы Элиота9 (текст стихотворения не дает для этого достаточных оснований), коридоры в этом контексте позволяют вспомнить о Данцигском коридоре, польском проходе к Балтийскому морю через территорию Германии, появившемся на карте Европы согласно условиям (см. оттенок слова «issues») Версальского мира (подписан в июне 1919 г.). She gives… — строки 34–48 достаточно темны, хотя Геронтион, рассуждая о времени (истории), безусловно понимает, что именно его волнует прежде всего. Об этом говорит стилистика самооправдания. Обратим внимание, что состояние мира, с которым ассоциирует себя геройПротей (он постоянно перевоплощается, существует в условиях призрачного мира-театра), поражает своими нецельностью, «отсутствием центра» (знаменитый образ У. Б. Йейтса из стихотворения 1919 г. «Второе пришествие» — «the centre cannot hold»), а также смешением порока и добродетели: на этом карнавале одно легко подменяется другим. Следствие нецельности, фрагментаризации, отосительности мира — перерождение добродетелей в свою противоположность, бесстыдные грехи («impudent crimes»). Следование им ведет, как демонстрируют образы Силверо, Хакагавы, а также, судя по всему, самого Геронтия, к противоестественному состоянию души, тела, то есть к греху, к формам смерти в жизни. Так, на призрачных подмостках новейшей истории храбрость легко становится трусостью, идеалы — лицемерием, храм — пустым домом и местом оккультного действа, а старец — старикашкой и лицедеем. У Геронтия нет лика и лица. Зато у него есть множество личин, он существует в отражениях, в осколках, в выписках. Геронтион не сообщает напрямую ничего конкретного о чем-то глубоко личном, о любви, но именно перерождение любви в нечто, что томит тело и воображение, но не получает в виде дождя очистительного исхода, разрешения, важный символический подтекст сообщаемого стариком. Чтобы дополнительно подчеркнуть мотивы перерождения времени, пола, любви, Элиот вводит гендерную характеристику истории («Она», «She»). «Она» — и сама Ева, и блудница («And what she gives, gives with such supple confusion…»10), и современное «знание» (в том числе оккультное), щедро предлагающее дары своего «древа познания», и амбиции юности (мечты о любви, славе, власти и т. п.). Отпадение истории от религиозного корня времени — как трагедия любви (делающая возможной «weak hands», противоестественную любовь, хладный эгоистичный эротизм, саму катастрофу «обессиленной страсти» (пер. А. Я. Сергеева) — «reconsidered passion»), так и подразумеваемая духовная катастрофа, фрагментаризация, кошмар времени. Концу истории в передаче Элиота соответствует и homo finito, «последний человек», Геронтион. Он свидетель того, как 9 Southam B. C. Op. cit. P. 59. По остроумному предположению Х. Кеннера, эти слова относятся к Клеопатре: Kenner H. The Invisible Poet: T. S. Eliot. N.Y.: Ivan Obolensky, Inc., 1959. P. 126. 10 85 Исследования героическая пуританская мораль (Атлантическая мораль Антверпена, Брюсселя, Лондона), христианская по форме, внутренне переродилась («Virtues / Are forced upon us by our impudent crimes», 47). Gives too soon / Into weak hands… — «Дает слишком рано / В слабые руки» (перевод А. Я. Сергеева), усеченная цитата из написанной спенсерианской строфой пасторальной поэмы «Адониc: Элегия на смерть Джона Китса, автора “Эндимиона”, “Гипериона”…» («Adonais: An Elegy on the Death of John Keats…», 1821) английского романтика П. Б. Шелли: «O gentle child, beautiful as thou wert, / Why didst thou leave the trodden paths of men / Too soon, and with weak hands…» (строки 235–237; «О нежное дитя, столь чудное, / Зачем свернуло ты с путей надежных жизни / Так скоро, в немощи…»). У Шелли «слабые руки» — характеристика хрупкости «божественного» поэтического гения, сломленного несправедливой критикой (Китс умер от чахотки в Риме). Согласно мифу, обыгранному Шелли, Адонис погиб, растерзанный вепрем (от слез Афродиты над его останками мгновенно взошли красные анемоны), — но будет возрождаться вместе с природой от года к году вновь. These tears are shaken from the wrath-bearing tree. — Сухости, бесплодию, а также скорее интеллектуальной, чем физической похотливости Геронтиона противопоставлены «слезы… древа гнева». При первом рассмотрении это Древо Креста Господня (в этом случае «с проклятого иудина дерева» — неточность в переводе А. Я. Сергеева), плач Бога о падшем человечестве. Однако «слезы» могут принадлежать и самому Геронтиону. Он оплакивает покойное «ты», сожалеет, что, как Иуда, предал предлагавшуюся ему любовь. Слишком поздно Геронтион сознает, от чего отказался (противопоставление «she» / «you»). Если считать, что «древо гнева» здесь — именно иудино дерево, то оно роняет свой цвет в виде причудливых слез, красных лепестков. См. также вторую строфу стихотворения У. Блейка «Древо яда» («The Poison Tree», 1794), посвященного всходам гнева в душе человека: «And I watered it in fears, / Night and morning with my tears; / And I sunned it with smiles, / And with soft deceitful wiles». The tiger springs in the new year. — Одно из измерений образа связано со стихотворением «Тигр» У. Блейка и Христом-Тигром (см. выше); другое, и, на наш взгляд, более вероятное, — с китайским календарем, согласно которому «новый» 1914 год был Годом зеленого (деревянного) тигра (26 января 1914 — 12 февраля 1915 г.). То есть образ катастрофы истории подкреплен датой начала Первой мировой войны. Одновременно это и катастрофа отношений «я» / «ты» («мы»), любви («Us he devours»): они буквально «пожраны» войной. Как нам кажется, образ тигра позволяет параллельно вспомнить о «звере в чаще» из одноименной новеллы («The Beast in the Jungle», 1903) Г. Джеймса, писателя, высоко ценившегося Элиотом. Джон Арчер всю жизнь и томится по любви (в лице Мей Бартрем), и страшится ее как западни, которая помешает высшей реализации его судьбы как произведения искусства («spectacular fate»), чего-то противоестественного; в финале новеллы герой, в конечном счете отвергнув чувство Мей Бартрем, растерзан фантастическим существом. We have not reached conclusion… in a rented house — новая отсылка к месту обитания Геронтиона в одном из европейских городов времени «заката Европы»; этот 86 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв образ способен получить бóльшую конкретизацию в свете биографии поэта. Элиот при первом визите во Францию в 1910–1911 гг. снимал квартиру в Париже в одном пансионе с Жаном-Жюлем Верденалем (ставшим, как свидетельствовал в 1934 г. сам Элиот11, прототипом «гиацинтовой девушки» — см. строки 28–42 первой части «Бесплодной земли», названной «Погребение мертвого»). Сдержанный, застенчивый Элиот в лице Верденаля (сводного брата писателя Алена-Фурнье, автора романа «Большой Мольн») нашел человека, разделявшего с ним интересы (поэзия С. Малларме, Ж. Лафорга, А. Жида); друзья обменивались мнением о прочитанном (Ф. М. Достоевский), вместе гуляли по Парижу. Сохранившиеся письма Элиота и Верденаля датированы июлем 1911 — декабрем 1912 г. Не исключено, что молодые люди виделись в последний раз в Германии летом 1914 г. this show — одно из наиболее непонятных слов в стихотворении; обычно комментаторы, имея в виду интерес Элиота к драматургии младших современников У. Шекспира (Т. Миддлтон и др.), трактуют «show» как спектакль, инсценировку (обыгрывающую мотивы тех или иных драм Т. Миддлтона, Дж. Уэбстера, С. Тернера, Б. Джонсона, Дж. Чэпмена и др. )12, драматизацию подразумеваемого разговора Геронтиона с реальным или (скорее всего) вымышленным собеседником13. Однако перед читателем все же не фантастический вставной сюжет (елизаветинская «пьеса в пьесе»), демонстрирующий несомненные способности Элиота к стилизации, а возвращение к уже намеченной теме оккультного действа, сцене вызывания духов. of the backward devils — букв. «повернутых задом наперед бесов»; волхвы и прорицатели, описанные Данте в ХХ песне «Ада» (круг восьмой, четвертый ров), за предсказание будущего были наказаны тем, что в преисподней перемещались, как крабы, задом наперед: «Челом к спине повернут и беззвучен, / Он, пятясь задом, направлял свой шаг / И видеть прямо был навек отучен» (пер. М. Лозинского). В переносном смысле — устроители «шоу», спиритического сеанса. Отметим, что в 1910-е гг. Элиот, как и другие представители лондонской артистической богемы (М. Бирбом, А. Саймонс, У. Б. Йейтс и др.), испытывал определенный интерес к оккультизму14. В этом его отличие от праведного слепца из стихотворения Ньюмена. Именно как «старикашка», обреченный мысленно возвращаться к прошлому, Геронтий сопоставим с легендарным прорицателем Тиресием (помещенным Данте как раз в круг восьмой). 11 Eliot T. S. A Commentary // Criterion. 1934. April («I am willing to admit that my own retrospect is touched by a sentimental sunset, the memory of a friend coming across the Luxembourg Gardens in the late afternoon, waving a branch of lilac, a friend who was later (so far as I could find out) to be mixed with the mud of Gallipoli»; «Хотел бы признаться, что мой взгляд на прошлое тронут лучом сентиментального чувства — памятью о друге, который ближе к вечеру пересекает Люксембургский сад, помахивая веточкой сирени, этот друг (насколько я мог выяснить) позже был смешан с грязью Галлиполи»). 12 Op. cit. P. 58, 60. 13 См., например: Smith Gr. T. S. Eliot’s Poetry and Plays: A Study in Sources and Meaning Chicago: University of Chicago Press, 1974. P. 64. 14 Об оккультистском измерении творчества Элиота и его современников (У. Б. Йейтса, Э. Паунда) см.: Surette L. The Birth of Modernism: Ezra Pound, T. S. Eliot, W. B. Yeats, and the Occult. Montreal; Buffalo: McGill Queen’s University Press, 1993. 87 Исследования I that was near your heart — отсылка к Тайной Вечере, но не к фигуре любимого ученика Христа, апостола Иоанна Богослова, возлежащего на груди своего Учителя (см. Ин 13. 23), а к Иуде Искариоту; имеет как ассоциативный (измена любимому, предательство любви), так и прямой смысл — относится к вынужденному («I… was removed therefrom…») расставанию Геронтиона с сердечным другом. Собственно, в этом и состоит «исповедь» Геронтиона («I would meet you upon this honestly») так и не явившейся ему тени погибшего от воды (погибшего при «горячих воротах»). To lose beauty in terror… — расставание-измена ведет к перерождению всех чувств Геронтиона–Агасфера–Иуды–Тиресия (фигура прорицателя из Фив, упомянутая Данте среди других волхователей) — утрате зрения, обоняния, слуха, осязания, понимания прекрасного, а также пола. Перед читателем — подобие евнуха, «вечного старика», и по-карамазовски грезящего о любви, и страшащегося ее — исходящего из того, что всякая любовь продажна, обречена на профанацию (осквернение). Парадокс в том, что если бы дорогая Тень и явилась ему с того света, так сказать, воскресла, Геронтион не смог бы ни удостовериться в этом, ощупать ее («closer contact»), ни поговорить с ней. These… of mirrors. — Дальнейшие строки развивают тему «смерти в жизни», «ада». «These» явно относится к ранее упомянутым бесам («devils»), которые забавляются над Геронтионом, различными методами будят в нем «страсть». «In a wilderness of mirrors» восходит к комедии «Алхимик» (пост. 1610) Бена Джонсона (1573–1737) и сатирическому описанию в ней сэра Эпикура Маммона, жаждущего благодаря знакомству с алхимиком (Сатлом) разбогатеть, обрести эликсир вечной молодости и одержать фантастические любовные победы; цитируемые Элиотом строки восходят к описанию Маммоном зеркал своей «овальной залы», где он придается эротическо-мистическим «изысканиям» («Then, my glasses / Cut in more subtle angles, to disperse / And multiply the figures, as I walk / Naked between my succubae» — II, сцена 2, строки 61–64; «Да, мои зеркала / С искусством повернуты так, чтобы рассеивать / И множить отражения / Моих нагих блужданий среди суккубов»). Эти строки цитируются Элиотом в эссе «Бен Джонсон» (1919), вошедшем в книгу эссе «Священный лес» (1920). Beyond the circuit of the shuddering bear — в книге «Назначение поэзии и назначение критики» (1933) Элиот указал, что образ созвездия Большой Медведицы в нужном ему контексте был взят им из исторической трагедии «Бюсси д’Амбуаз» («Bussy D’Ambois», 1603–1604?, публ. 1607) елизаветинского драматурга Джорджа Чэпмена (1559–1634). Легендарный ловелас и дуэлянт Луи-Клермон д’Амбуаз, барон де Бюсси (1549–1579), попадает в засаду мужа соблазненной им графини де Монсоро. Погибая, Бюсси желает уведомить небеса о своей кончине и видит посмертное существование своей души среди других грешников, где-то в ледяных далях вселенной: «…fly where men feel / The burning axletree, and those that suffer / Beneath the chariot of the snowy Bear…» («…несусь туда… где мучаются / Под колесницей снежного Медведя»). Параллельно это образ распыления жизни, центробежных сил вселенной. In fractured atoms — в июне 1919 г. британский физик Эрнест Резерфорд (1871–1937), ранее выдвинувший теорию о существовании ядра атома, опуб88 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв ликовал экспериментально подтвержденные материалы о методе расщепления атома водорода. Мир Геронтия — мир «распада атома», мир-сон, мир-фантом, мир-бормотанье, мир неудовлетворенного желания. Belle Isle — островок в Атлантике; ироническое обозначение «рая», «острова блаженных» (в букв. пер. с фр. «Красивый остров»). Gulf — Гольфстрим; здесь — воды сна, забвения, воронки времени (см. аналогичную образность в новеллах Э. По), смерти. To a sleepy corner — по-видимому, еще одна реминисценция из «Воспитания Генри Адамса» (глава 21 «Двадцать лет спустя, 1892»), где повествователь, которому исполнилось 54 года, возвращается в Лондон и наблюдает с одра болезни химеричность современной жизни: «Adams would rather, as choice, have gone back to the east, if it were to sleep forever in the trade-winds, under the southern stars, wandering over the dark purple ocean, with its purple sense of solitude and void!» («Адамс с радостью, для разнообразия, отправился бы на Восток, чтобы, убаюканный пассатами, заснуть там навсегда под южными звездами, блуждающими над мрачным лиловым океаном, с мрачным чувством пустоты и одиночества»; пер. М. А. Шерешевской). 2. Время написания. В письме Джону Родкеру (от 9 июля 1919 г.), готовившему для публикации книжку стихов «Ara Vos Prec» в основанном Вирджинией и Леонардом Вулф издательстве «Овид пресс», Элиот упоминает, что готов включить в нее только что завершенное стихотворение «Геронтион» («Gerontion»). В составе этой книжки «Геронтион» после определенной шлифовки и был представлен на суд читателей в феврале 1920 г., чтобы позднее неизменно перепечатываться Элиотом в составе тех или иных изданий своего поэтического «Избранного» (начиная с «Поэзии 1909–1925» («Poems 1909–1925», 1925), раздел «Стихотворения — 1920» («Poems — 1920»)). Хотя существуют точные датировки времени работы над «Геронтионом» (май–июнь 1919 г., как считает Линдалл Гордон15), непросто сказать, когда возникла идея этой вещи и как долго Элиот трудился над ней. Соблазнительно предположить, что она навеяна тем же парижским, верденалевским переживанием (см. комментарий), которое дает о себе знать в где-то аналогичных по содержанию и по технике «Песне любви Дж. Альфреда Пруфрока» (февраль 1910 — июль–август 1911, 1915), «Погребении мертвого» — первой части «Бесплодной земли» (1922). Элиот, как известно, намеревался сделать текст «Геронтиона» введением в поэму, но, по совету Э. Паунда, отказался от этого намерения. Тем не менее в многоголосом повествователе «Бесплодной земли», Тиресии, нетрудно распознать некоторые черты Геронтиона. Мы не исключаем, что цельность стихотворения условна, и оно, как и поэма, составлено из трех-четырех фрагментов, связанных между собой достаточно вольно. Помимо автобиографического пласта, обращенного к предвоенному времени (тень того, кто воевал и — подобно спартанцам у Фермопил — погиб), в «Геронтионе» содержится немало отсылок к позднейшему опыту Элиота. Во-первых, это реалии 1918–1919 гг. — Версальский мир (Данцигский коридор), открытие Э. Резерфорда, жаргон военных лет («estaminet»), публикация 15 Gordon L. Т. S. Eliot: An Imperfect Life. N. Y.: W. W. Norton & Company, 2000. P. 541. 89 Исследования полного текста «Воспитания Генри Адамса», знакомство с авангардистской манерой Э. Паунда (сатирическая эпитафия «Хью Селвин Моберли») и техникой потока сознания в «Улиссе» Дж. Джойса. Во-вторых, цитаты, обыгранные в «Геронтионе», не только введены во внутренний мир героя, но и отражают личный интерес Элиота к елизаветинской драматургии (одна из тем его преподавания в 1916–1917 гг.)16, У. Блейку (написанная в 1919 г. рецензия на книгу Чарлза Гарднера «Уильям Блейк — человек» — публикация в февральском номере журнала «Атенеум» за 1920 г.), а также Ш. Бодлеру (открытие Бодлера заново именно летом 1919 г., во время путешествия с Э. Паундом по южной Франции, когда Элиот из-за запутанных отношений с женой был близок к нервному истощению и слышал «голоса»!17). Более того, ряд цитат использован Элиотом в собственных эссе конца 1910–1920-х гг., посвященных Тернеру, Джонсону (эссе «Бен Джонсон» завершено вчерне 5 ноября 1919 г.), Миддлтону, Уэбстеру, Чэпмену, а также Ланселоту Эндрюсу. Заметим попутно, что к концу 1920 г. Элиот опубликовал около 90 эссе и рецензий и был преимущественно известен как критик, эссеист. 3. Композиция. Композиционно «Геронтион» представляет собой повествование, прерывистый внутренний монолог от первого лица (I). Первая и последние строки стихотворения смыкаются: «Here I am, an old man in a dry month… Thoughts of a dry brain in a dry season». Все, что заключено между исходным тезисом и его конечной универсализацией (последние две строки идут после отбивки), так или иначе является примерами засухи — подразумеваемого бесплодия долгой жизни, которая в сознании героя, как страницы книги, бегло перелистывается. Серия этих подсушенных воспоминаний постепенно уступает место интеллектуальной автобиографии «одного из нас», описанию «духа времени». Несомненное чувство вины — приобщенность Геронтиона к различным формам смерти в жизни — превращает монолог этого «героя нашего времени» как в самокритику, исповедь или даже в театральное действо, так и в некий субъективный эпос, посвященный «ярмарке на площади» (Р. Роллан), «фельетонной эпохе» (Г. Гессе). Таким образом, погружение в себя, в свое сознание, вроде бы единое, локализованное («Нere I am…»), оказывается множественностью, иероглифом блуждания по аду буржуазной современности. Поскольку в монологе «я» встречается обращение к «ты» (пусть и хранящему молчание), то резонно предположить, что у нового Данте в своих странствованиях имеется спутник. Кто это? Новый Вергилий? Тень умершего? Некий ангел? Сама смерть? И насколько можно доверять повествователю — то автору исповеди, то спящему (с его блуждающими снами), то коробу опавших листьев, то кукольнику (разыгрывающему жизнь свою на подмостках балаганчика), то трагическому философу (рассуждающему о времени, истории, судьбах культуры), то объекту психоанализа, то необычному лирику? Элиотовский текст провоцирует возникновение подобных вопросов и способен по мере ответа на них — чтения 16 См. программу платных вечерних лекций Элиота о елизаветинцах, читавшихся в 1918/19 учебном году (до мая) в Саутхолле (графство Миддлсекс) на курсах, устроенных Лондонским университетом для представителей рабочего класса, в изд.: Schuchard R. Eliot’s Dark Angel: Intersections of Life and Art. N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 45–51. 17 Ibid. P. 13, 23. 90 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв его на разные голоса, с разными интонациями — раскрываться как метатекст, как веер. В любом случае сознание повествователя, каким бы сомневающимся в себе и примеряющим различные одежды оно ни было, выдает в нем фигуру в широком смысле религиозную. По контрасту с засухой, чаем на грязной кухне, лжепричастием, утеканием жизни в хаотическим потоке времени, конвульсиями любви, размножением природы (буйное цветение деревьев, перелет птиц), черными водами Гольфстрима, льдом смерти оно смутно помнит о чем-то обратном, о живой воде. 4. Дальнейшие пути понимания и интерпретации. С одной стороны, перед читателем стихотворение, развивающее традицию драматического монолога, формы, мастером которой в английской поэзии ХIX в. принято считать Роберта Браунинга. С другой — нечто несомненно нетрадиционное. При сохранении элементов драматического монолога (подразумеваемый диалог Геронтиона c различными — реальными и воображаемыми — проекциями своего сознания, а также с неким «ты» или «мы»: «us», «you», «your») Элиот уходит и от рифмы, и от четкого деления на строфы, и от связного повествования. Их заменяют ямбический тетраметр белого стиха, 6 строф разной длины, венчающихся двухстрочным резюме. Правда, это не живая пульсация «частиц», хаотично сталкивающихся друг с другом, а подобие интеллектуального порядка — все как бы подморожено, схвачено незримым льдом критицизма и александризма. Сознание удвоено, рассматривает само себя в особой перспективе — нашло себе соответствие в строках различных текстов. Геронтион — книжник. Его сознание едва ли уподобляет себя прочитанному. Оно сливается с ним. И Геронтион стихотворения существует прежде всего как последовательность цитат, имеющих в этом случае двойной смысл — прямой (цитата остается цитатой, заимствованием; Геронтион — цитатник) и переносный (косвенная характеристика сознания, где свое и заимствованное слово сплелись). Нельзя сказать, что за этими масками, культурою, сухостью, не угадывается ничего естественного, влажного (чувственного, инстинктивного, эротического). Напротив. Однако импульсы внутреннего мира Геронтиона («such knowledge»), внушающие ему боль, чувство вины (Геронтион приводит длинный список недолжных дел: не воевал, не любил, не был… — «neither… nor…»), укрощены — овнешнены, инсценированы, превращены в «литературные номера», картинки комикса, отождествлены с чужими языками. Да и сам Геронтион, обладая несколько неожиданным прозвищем (такое имя мог был носить монах, отшельник, старец, святой), не имеет достоверного имени. Так в стихотворение входит конфликт между правдой глубинного измерения личности и лжи «исторического» бытия, существующего в виде не вполне достоверных воплощений, маскарада истории, «слов». Допустим, что принцип экспозиции сознания героя (замещение жизни в ее глубинно эмоциональном проявлении эстетикой, культурой, «искусством лжи») объясним для Элиота, который по тем или иным причинам взялся отделить в своем творчестве человека от поэта. По сути, Элиот и сделал подобные разъяснения в своих эссе («Гамлет и его проблемы», «Традиция и индивидуальный талант»). В восприятии же читателя далеко не все в механизме этой криптографии понятно. Однако материя «Геронтиона», отставаясь непроницаемой 91 Исследования в ряде частностей, в целом доступна для понимания. Ведь конфликт человека и художника, реальности и ее видения, жизни и культуры, культуры и цивилизации, — это, выражаясь языком О. Шпенглера, показатель «заката Запада», декаданса. Старичок и есть культура, из которой утекает жизнь и которая как нечто односторонне интеллектуальное, аполлоническое, иллюзорное фатально клонится к сну, к смерти. Итак, Геронтион в силу смысла своего имени — лицо обобщенное, персонаж чуть ли не аллегорический («имярек» — старик кануна европейской ночи, ветхий эвримен — сам последний человек перед лицом собственного небытия и смерти породившей его культуры), не собирательный. Отсюда — распространенная среди специалистов стратегия искать в образе, сотканном из «слов, слов, слов», лишь инструмент элиотовской критики культуры. Отчасти с ней нельзя не согласиться. Виновен в декадансе и сам Геронтион (не имел отца, дома, отечества; не трудился и существовал на банковские проценты; не воевал на «великой войне», защищая Европу от нашествия новых гуннов; будучи интеллектуально и эмоционально страстным, оставался хладным Нарциссом, никого реально не любил, был склонен к чему-то противоестественному; не верил в смысл времени, в Бога, но отдал должное оккультизму), и воспитавшие его интеллектуально властители дум довоенного времени (Фитцджералд и стоящий за ним британский «конец века» с его гедонизмом, эпикурейством, порочной чувственностью, стоицизмом; Адамс как эмблема американизированного позитивизма, идей ускорения времени, мультиверсума, мира как хаоса). Такой Геронтион слеп, бессилен, беспол — похотливое существо, возбуждаемое весенним теплом, преследуемое «бесами», теми или иными фантомами его воображения. Необычная сторона этого поэтического «сатирикона» — проекция лоскутного сознания эпохи цивилизации на экран античного мифа (кумская Сивилла; Тиресий), елизаветинской поэзии и драматургии (с ее барочным мотивом жизни как сна, эротизированностью метафор), а также техника ассоциаций, позволяющая вспомнить о З. Фрейде (допустим, что Геронтион помещен в санаторий и его монолог адресован психоаналитику, пытающемуся понять источник невроза пациента), Дж. Джойсе (журнальная публикация «Улисса»), «автоматическом письме» французского сюрреализма или о визионерстве У. Б. Йейтса. Оговоримся, что при подобной стратегии чтения Геронтион остается условностью, не истекает даже клюквенным соком и сопоставим разве что со старым попугаем, которому с момента появления на свет читают вслух антологию английской поэзии. И в то же время, «Геронтион», увиденный через увеличительное стекло биографии Элиота, способен раскрыться иначе: как мучительная рефлексия об ужасе истории, «вышедшей из берегов», не имеющей представления о ценности, и как трагедия любви, и как самооправдание лирического поэта, который, совершая насилие над своей музой, автоцензуру, о самом дорогом, сокровенном для себя сообщает как паяц, клоун, мим. Иначе говоря, многоголосие сознания Геронтиона, в рамках которого сосуществуют отзвуки высокой культуры и штампов, духовность и нечто низменное, молитва и кощунство, не может скрыть индивидуальность трагического 92 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв персонажа. Геронтион исполнен личного ощущения вины, проклятости, ужаса. Он даже культивирует в себе ощущение греха, что наделяет его, как и других аналогичных персонажей (гюисмансовский Дез Эссент), свойствами парадоксальной, творческой святости. От предчувствия проклятия, гибели, переживания, которое отделяет его от «скучного» буржуазного мира, существующего по ту сторону греха (то есть всякого представления о ценности), всяких ценностей, этот святой Орфей начинает петь… Перед лицом некоего «ангела творчества» («Here I am…») песнь Геронтиона обращена вспять, но вместе с тем не раскручивает ленту времени, не демонстрирует творческих усилий памяти. Это постоянно горящий «бледный огонь», то чистое время, которое, сохраняя визуальные характеристики, существует как бы по ту сторону пространства и зрения, существует в виде образов, мыслей, голосов, отзвуков, видений, которые, оторвавшись от своих пространственных носителей, стали эхом, звуком, словом. Прошлое звучит, шумит. Голоса прошлого, дух времени говорят сквозь Геронтиона. Этому странному слепцу — телу, лишенному веса, пространства («Here I am…» парадоксально: «Вот я...»), — не читают. Он свидетель чтения. Время в лице мальчика, по-видимому, читающего учебник по истории или популярную книгу о Древней Греции, в него вчитывается («Being read to by…» — букв. перевод «Ему читает мальчик» сглаживает пассивность адресата чтения, переданную в оригинале), овладевает им. То есть он — медиум, визионер, прорицатель, пророк, лирик. Слепота — алиби своеобразной зрячести, прорыва к музыке поэзии и времени. Геронтион не цитирует Фитцджералда. Голосом переводчика Хайяма или драматурга-елизаветинца говорит его личное прошлое, ставшее в Геронтионе продолженным, продолжающимся прошлым, настоящим. История и культура, время и поэзия, становление и ставшее поменялись местами. Культура, поэзия и есть носители духа истории, а Геронтион — тот гомероподобный слепой бард, кто сочиняет об истории стихи, лирический эпос. Пока будет жить культура Геронтиона, все более и более ветхая, растащенная на цитаты, музейная, будет поневоле жив и ее хранитель, оракул. Бремя, рок культуры и его бремя, его рок. Геронтиону для репрезентации своей жизни именно как культуры (поэзии) не требуется «прозы», пространных путешествий байроновского Чайлда Гаролда и Пера Гюнта… Этой лирической автобиографии, сжатой до театра культуры, до иероглифов, существующей в формате «четвертого измерения», явно ближе письмо второй части «Фауста». Но кем бы и чем бы ни был Геронтион в стихотворении — подобием героя (новым Гамлетом) или антигероя (элиотовским Пером Гюнтом), гротескной карикатурой, «маской» авторской биографии с ее вытесненными желаниями, идеей первенства творчества (поэзии) над жизнью (историей), неким нетрадиционным приемом лирической композиции и т. д., — его общее назначение — вести монолог от лица целой гибнущей культуры, которая утратила цельность, органичность и находится на грани гибели. Еще раз повторим, сознание Геронтиона в руках Элиота наделено свойствами лирической поэзии. Оно способно нащупывать связи, примерные переклички, способно сводить вместе разрозненное, разноплановое и инсценировать получившееся в виде «игры снов» (А. Стринд93 Исследования берг). Сны эти трагического рода — Геронтион имеет представление о первородном грехе. Без ощущения греха (в прямом и переносном смысле) поэзия несостоятельна. Читатель так и не узнает, в чем истоки трагической рефлексии Геронтиона о грехе. Вместе с тем не будет слишком грубым преувеличением предполагать, что она связана с неоднозначным пониманием любви (латентно гомосексуальной), с навязанной Ш. Бодлером мифологией «проклятости» «поэта современной жизни»18, которая внушает своему носителю чувство своей избранности. Геронтий мог бы стать проповедником, аскетом, но выбирает ту религиозность, которая осуществляется как лирика. Именно ангел лирики, темный ангел дионисизма19 касается своими крылами Геронтиона, приникает к его устам. И тот начинает говорить: «Here I am…» В конце концов, перед читателем новый вариант элиотовского «In Memoriam», «Песнь любви Геронтиона», плач о бесплодии, проклятии любви, которая обречена в падшем мире — мире универсализации историзма — на утрату, на перерождение. Память о «ты» как о важнейшем флюиде эротизированого duréе Геронтиона нет-нет да и всплывает в стихотворении. И это «ты», теневая сторона геронтионовского времени, его молчание, счастье и ужас, — явно мужского рода. Наличие загадочного «ты» конституирует важнейший контраст. На фоне этой мужской тени все женское в стихотворении — от женщины, кипятящей чай в грязном транснациональном доме Геронтиона, от колоритных участниц оккультного действа, от мисс Верблюд (!) и Фрески до Истории («She», наделенной признаками знаменитой своими дарами блудницы) — гораздо более однозначно. Как и полагается символу, тень любви внесловесна, принадлежит глубинам поэтического первоначального, тогда как сам текст, переживание любви как вины, является, выражаясь языком Элиота-критика, его многосоставным «объективным коррелятом», образно-музыкальной вариацией. Также несомненно желание Элиота развернуть это умолчание, сделать его объектом если не исповеди, то во всяком случае сублимации, комического отстранения. Скрещение в лирическом стихотворении трагического и комического, религиозно возвышенного и кощунственного, исповеди и психоанализа, мифа и современности, цитаты и «живого слова», книжного и антикнижного («бытового»), выпуклой детали (пятна, пятнышка, крапинки) и «рассуждения», поэзии и прозы (здесь — свободного стиха), упорядоченного слова и «слов на свободе» выдает в Элиоте поэта-символиста. Наименование Элиота «модернистом» препятствует пониманию его поэтического метода. Разумеется, символисты и современники Элиота — Дж. Джойс (рядом с Геронтионом Блум, другие персонажи «Улисса»), Э. Паунд («Хью Селвин Моберли», «Кантос»), У. Б. Йейтс («Второе пришествие», «1919», «Плавание в Визан18 См. следующие высказывания Элиота о Бодлере: «…damnation itself is an immediate form of salvation — of salvation from the ennui of modern life, because it gives some significance to living» (Eliot T. S. Baudelaire [1930] // Selected Essays. L.: Faber, 1951. P. 427); «…the poetical possibilities… of the more sordid aspects of the modern metropolis, of the possibility of fusion between the sordidly realistic and the phantasmagoric, the possibility of the juxtaposition of the matter-of-fact and the fantastic» (Eliot T. S. To Criticize the Critic and Other Writings. L.: Faber, 1965. P. 126). 19 См. трактовку образа у американского литературоведа Р. Шухарда: Schuchard R. Op. cit. 94 «Геронтион» Т. С. Элиота: четыре разбора. I. В. М. Толмачёв тию»), которые, расширив границы французского поэтического символизма, ограниченные, как правило, реформой стиха, взялись не без влияния Ф. Ницше (мифология «переоценки ценностей»), З. Фрейда (проблема «Lustprinzip» как проблема психологии и проблема культуры), Дж. Фрейзера (сопоставительное изучение архаических верований), а также Ш. Бодлера (мифология «современного», или «проклятого» поэта; эротизированный образ города сознания; техника «соответствий»), первых авангардов, кино (Элиот не только сближает поэзию и драму, но и занимается монтажем преимущественно визуального материала!) за сочинение текстов-«иероглифов» о конфликте культуры и цивилизации. Применительно к «Геронтиону» символ композиционно подобен волнам, всплескам («шепотки»), коридорам сознания, то бодрствующего, то грезящего, полудремлющего, то проваливающегося в сон, то блуждающего. Этот монолог на грани реальности / воображения, прошлого / настоящего, яви / сна, жизни / смерти, единства / множественности сознания, своего / чужого слова и т. п. ничем не кончается, не разрешается. Геронтион и мечтал бы умереть, но продолжает агонизировать. Собственно, и Старичок он потому, что по какой-то причине бессмертен, что сжался до фигурки, подобной кумской Сивилле, которая испросила у богов бессмертие, но забыла оговорить при этом свою вечную молодость. Но на абстрактности образа (образа как приема, способа организации глубоко личностной метафоры), разумеется, не стоит настаивать. В конечном счете, «Геронтион», по нашему убеждению, — разновидность лирической автобиографии, апология элиотовского поэтического творчества по его состоянию на 1919 г. «Геронтион» вышел из-под пера человека 30 лет, то есть человека, чья жизнь, в дантовском понимании, «пройдена до середины». Вместе с тем это стихотворение принадлежит личности, не уверенной в своем поэтическом будущем. Элиот берется «преодолевать» в поэзии то, что в сущности творчески не пережил, что известно ему преимущественно с интеллектуальной стороны. Лирика начинающего байронического поэта — цветистого, манерного, обрабатывающего темы катастрофы любви, рокового проклятия жизни, демонизма творчества, грядущей гибели и т. п., — подвергнута казни, демонстративной ссылке в стариковский мир, где, выражаясь словами У. Б. Йейтса, «нет места молодым», нет места музыкальному, стихийному, женственному. Еще не успев по существу начаться, поэзия Элиота, словно вспомнившего о своих кальвинистских предках-пуританах, создает себе автоэпитафию. Сочетание революционности и консервативности, эпатажа и маньеризма, эротичности и отрицающей ее религиозности, желания писать романтические стихи и признания ущербности романтической поэзии на многие годы предопределит творческое бытие Элиота.