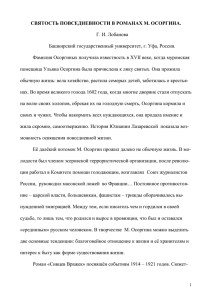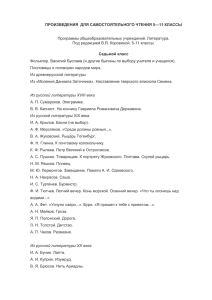Русский язык как иностранный. Проза М.А. Осоргина
advertisement
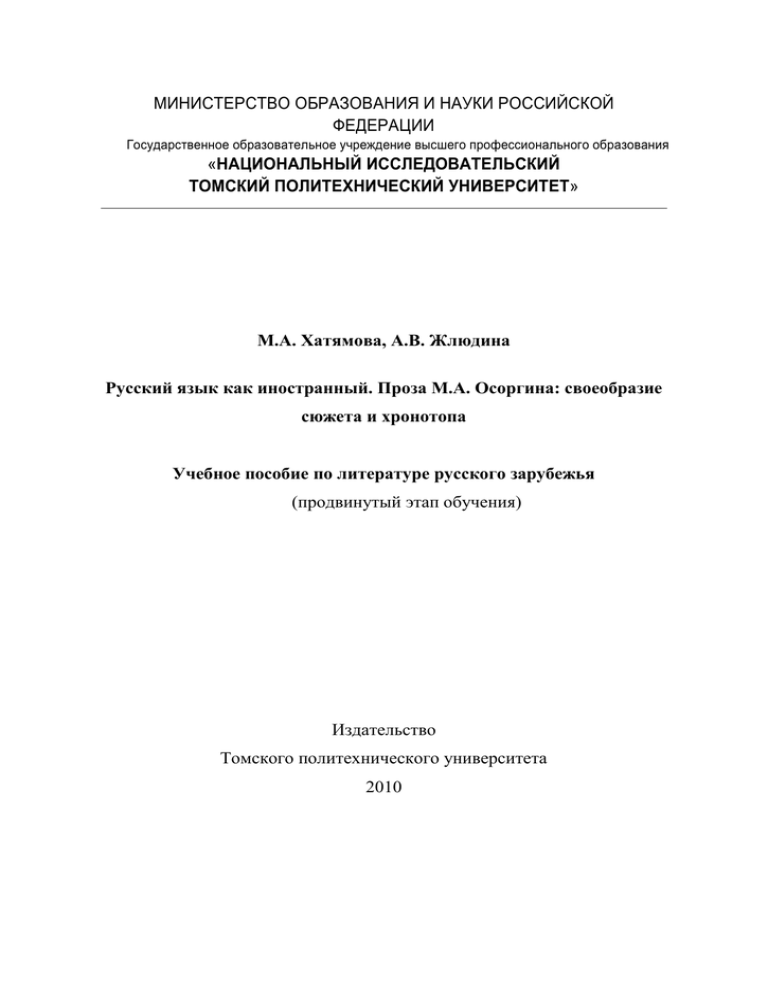
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» М.А. Хатямова, А.В. Жлюдина Русский язык как иностранный. Проза М.А. Осоргина: своеобразие сюжета и хронотопа Учебное пособие по литературе русского зарубежья (продвинутый этап обучения) Издательство Томского политехнического университета 2010 Хатямова М.А., Жлюдина А.В. Русский язык как иностранный. Проза М.А. Осоргина: своеобразие сюжета и хронотопа. Учебное пособие по литературе русского зарубежья. Русский язык как иностранный. Проза М.А. Осоргина: своеобразие сюжета и хронотопа. Учебное пособие по литературе русского зарубежья: учебное пособие/ М.А. Хатямова. А.В. Жлюдина – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. Учебное пособие подготовлено для занятий по курсу «Русский язык как иностранный: профессиональная сфера (гуманитарный профиль). Литература русского зарубежья» на продвинутом этапе обучения. Это пособие представляет собой три раздела, посвященных поэтике романов М.Осоргина, вопросы для самоконтроля, краткий словарь литературоведческих терминов а также фрагменты текстов с минимальной степенью адаптации (приведено толкование устаревших слов). Предназначено для иностранных студентов гуманитарного профиля, обучающихся в группах академической мобильности и изучающих литературу русского зарубежья как обязательный предмет. Рецензент Кандидат филологических наук, доцент кафедры РКИ ТПУ И. И. Тюрина 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение …………………………………………………………… 4 1. Поэтика пространства в романе «Сивцев Вражек» (1928) 1.1. Топос Дома………………………………………………………7 1.2. Топос Москвы…………………………………………………..17 1.3. Топос Природы…………………………………………………28 2. «Вольный каменщик» (1937): метатекстовая организация сюжета……………………………………………………………….39 3. Концепция времени в автобиографическом повествовании «Времена» (1955)……. ……………………………………………..64 Фрагменты текстов …………………………………………………70 Краткий словарь литературоведческих терминов………………100 Список литературы ……………………………………………….111 3 Введение Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия – Ильин) родился в Перми 7 (19).10.1878, в дворянской семье (отец его, А.Ф. Ильин – юрист), умер в эмиграции, в Шабри (Франция). В 1902 году окончил юридический факультет Московского университета. С 1904г. состоял в партии эсеров, примыкал к его левому крылу – максималистов-террористов. В 1905 г. арестован. С 1907г. по 1913 – годы первой эмиграции в Италии, где уже известный в России журналист Осоргин (начал сотрудничать в периодике с 1895 года) активно занимается журналистикой, отправляя свои материалы в либеральные издания («Вестник Европы», «Русские ведомости»). В 1916 году вернулся в Россию, приветствовал Февральскую революцию, но с советской властью сотрудничать отказался. В 1918 – 1921 годах организовал и был активным сотрудником Книжной лавки писателей в Москве, был одним из организаторов Всероссийского Союза писателей и Всероссийского союза журналистов, в которых и состоял до отъезда из России. Осоргин был участником комитета помощи голодающим (знаменитого Помгола) и редактором издаваемого им бюллетеня «Помощь», за что в 1921 году был арестован и сослан в Казань. Вскоре после возвращения в Москву в 1922 году Осоргина высылают из России среди большой группы культурных деятелей и писателей. До отъезда из России Осоргин больше известен как журналист, он выпустил несколько публицистических брошюр, а также три книги беллетристики: «Призраки». – М., 1917, «Сказки и несказки». – М., 1918, «Из маленького домика: Москва 1917 – 1919. Очерки». – Рига, 1921. Сделанный осоргиным перевод «Принцессы Турандот» Гоцци был использован Е. Вахтанговым для его знаменитой постановки. После остановки в Берлине и двух поездок в Италию, Осоргин обосновался в 1923 году в Париже, печатаясь, главным образом, в газетах «Дни» и «Последние новости». Выбор изданий был продиктован его левыми убеждениями. Но, как писал позднее М. Алданов, если бы «ненавистник партий», «анархист» Осоргин «хотел сотрудничать в газетах, его взгляды разделявших, то ему сотрудничать было бы негде» (Алданов М. Предисловие // Осоргин М. Письма о незначительном. 1940 – 1942. – Нью-Йорк, 1952. – С. ХVI). Публицистику Осоргина, выходившую иногда по много месяцев и даже лет и образовывающую циклы, отличает многожанровость (от фельетонов до серьезной литературной критики), «блеск юмора», как отмечали современники, 4 мемуарный характер (очерки из цикла «Встречи», которые печатались в «Последних новостях в 1918 – 1934 годах). Огромный читательский успех пришел к Осоргину после публикации за границей его первого романа «Сивцев Вражек» (1928). На историческую катастрофу в России писатель хотел посмотреть беспристрастно, с точки зрения гуманизма, и потому его попытка осмысления революционных событий связана прежде всего с русской интеллигенцией. Отклики на роман были строго-критическими: от оценки формы романа как «сырой» и незавершенной – до критического отношения к пантеистическим умонастроениям автора. Однако первый роман Осоргина полюбился читателям за искренность и веру в будущее России. Опубликованная в 1930 году в главном эмигрантском журнале «Современные записки» «Повесть о сестре» посвящена, напротив, изображению «безвозвратного» мира ушедшей России. Она навеяна памятью о семье писателя, что во многом обусловило лиризм, автобиографизм и поэтичность. Акварельность и поэтичность Осоргин привносит и в свои мемуарные рассказы (сборники «Там, где был счастлив», 1928; «Вещи человека», 1929; «Чудо на озере», 1931). Постепенно Осоргин становится самым читаемым автором Тургеневской библиотеки в Париже. Как талантливый и разносторонний литератор Осоргин обладал и даром комического рассказчика. «Особая роль его юмористических произведений заключается не в забавном казусе, не в анекдотической ситуации самой по себе, а в такой стилистике, когда заложенный в житейском факте комический эффект получает выразительное словесное воплощение» (Т.В. Марченко). В наибольшей степени это мастерство сказалось в «старинных рассказах», лишь небольшая часть которых составила сборник «Повесть о некоей девице» (Таллин, 1938). Большинство же прозаических сочинений Осоргина, созданных в малом жанре, рассеяно в эмигрантской периодике. Обладая отменным литературным вкусом, Осоргин-критик умел уловить оригинальную концепцию автора и своеобразие его поэтики. В 1930-е годы Осоргин создает романную дилогию «Свидетель истории» (1932) и «Книга о концах» (1935) и повесть «Вольный каменщик» (1937). В повествовании о революционерах-террористах писатель на автобиографическом материале художественно осмысливает революционные умонастроения молодежи начал века, обреченность и безнравственность террористической борьбы. Безнадежность и тупиковость революционного движения, его неоправданность подтверждается и судьбами гибнущих персонажей 5 романа. Стремление к познанию исторической правды воплотилось в образе отца Якова Кампинского, «свидетеля истории», чьи воззрения на жизнь обусловлены здравым смыслом народной «срединной» России. Страстный любитель природы, «огородный чудак» М.А. Осоргин оставил после себя и книгу лирических очерков «Происшествия зеленого мира» (София, 1938), в которой звучит протест и против технократической цивилизации, и драматизм покинувшего родную землю и природу изгнанника. А в «Записках старого книгоеда», публиковавшихся в газете «Последние новости» в 1928 – 1934 годах, Осоргин знакомит своих читателей с миром богатейших русских изданий, «противопоставляя мудрость собирания катастрофе русского рассеяния». Осоргин был блюстителем точности, грамматической правильности литературного языка, а в этих рассказах стремился оживить архаизированный, позабытый русский язык как историческое достояние каждого его носителя. В последние годы жизни Осоргин работает над мемуарным автобиографическим повествованием «Времена» (книга вышла в Париже уже после его смерти, в 1955 году). Бежав в 1940 году вместе с женой от немецкой оккупации на юг Франции в городок Шабри, Осоргин из завоеванной Европы передает антифашистские материалы, статьи, письма под общим названием «Письма из Франции» и «Письма о незначительном». В книге «В тихом местечке Франции» обнажается давно нараставший в душе писателя пессимизм и трагедия индивидуально человеческого существования в мире, охваченном еще более страшной войной. М.А. Осоргин скончался в разгар войны 27 ноября 1942 года и похоронен на нейтральной территории в городке Шабри, в департаменте Индр, месте своего последнего изгнанничества. 6 1. Поэтика пространства в романе М.Осоргина «Сивцев Вражек» 1. Топос Дома1 Посмотрите значения слов в словаре: Особняк Изоморфный Усадьба Тождественный Орнитология Разомкнутый Иерархия Замкнутый Фарс Последовательный Трансформировать Прилегать Доминировать Лицедействовать Объясните словосочетания: Многоуровневая структура Противопоставленные миры Концентрические круги Вертикальная (горизонтальная) протяженность пространства Интимное (личное) пространство Колыбель московской интеллигенции Смутное время Семейная идиллия Дворянское (родовое) гнездо Название романа – «Сивцев Вражек» – отражает пространственную ограниченность действия небольшим арбатским переулком. В романе изображаются разворачивающиеся в пространстве Москвы и России крупные исторические события (революция, гражданская война), однако в центре внимания остается Сивцев Вражек, а точнее, особняк профессора орнитологии. Указание на название 1 На значимость топоса Дома в романе «Сивцев Вражек» указывали исследователи творчества М.А. Осоргина. Так, Н.Б. Лаптева указывает на равноценность происходящих в пределах дома событий и мировых изменений (Лаптева Н.Б. «Большое» и «Малое» как стилевая антиномия в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Н. Б. Лаптева // Русская литература XX века: направления и течения. Вып. 4. – Екатеринбург: Изд-во Ек. Университет, 1998.- С. 72). В.В. Мароши, исследуя символический образ ласточки в романе «Сивцев Вражек», говорит о соотношении природного пространства и пространства отдельных фрагментов дома (Мароши В.В. «Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» / В.В. Мироши // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество: Материалы первых Осоргинских чтений / Пермский университет. – Пермь: 1994. – С. 47). Э.С. Дергачева, рассматривает особняк на Сивцевом Вражке в историческом ракурсе. Также исследователь указывает на центральность топоса Дома, которым начинается и завершается роман (Дергачева Э.С. «Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Э.С. Дергачева // Материалы Первых Осоргинских чтений/ Пермский университет. – Пермь, 1994. – С. 57). 7 улицы свидетельствует о «центральности» топоса, о «привязанности» героев и событий к данному месту, их обусловленности этим пространством. Улица выбрана автором не случайно, именно на Арбате в разное время находились дома деятелей науки и искусства (композиторов Н.Я. Мясковского и С.В. Рахманинова, художника М.В. Нестерова, дом Тургеневых, М. Цветаевой и Е.П. Ростопчиной, дом академика А.А. Богомольца и др.). Сивцев Вражек – место концентрации искусства и культуры в Москве, колыбель московской интеллигенции. Реальную основу арбатского пространства М. Осоргин переносит в свой роман. С первых страниц дается внутреннее, предметно-вещественное описание особняка и обозначается его внешняя включенность в более широкие топосы – Москвы, России, Земли, Солнечной системы, Вселенной: «В беспредельности Вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович»2. Задается пространственная организация в виде концентрических кругов, несущих социальную (Москва, Россия) и природную (Вселенная, солнечная система) семантику. Автор представляет читателю своего рода организм, здоровый организм, в котором протекают нормальные процессы жизнедеятельности. Последовательность кругов выстраивает космос, центром которого является особняк на Сивцевом Вражке и населяющие его герои. Сам Дом (особняк) организован как самостоятельная Вселенная: со своими законами, правилами, обитателями, характерными процессами: «В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнц, носится остывшая планета – лампа Аглаи Дмитриевны» [С. 42]. О гармонической сущности пространства профессорского особняка говорится в главе «Космос», где представлен изоморфизм природного и культурного миров: «Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на землю, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван, милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством…» [С. 42]. «Малый» 2 Осоргин М. Сивцев Вражек / М. Осоргин// Осоргин М. Собрание сочинений. Т.1. Сивцев Вражек: Роман. Повесть о сестре. Рассказы – М.: Моск. Рабочий;1999.- С. 33. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы. 8 космос дома на Сивцевом Вражке является моделью «большого» космоса: жизни и уклада дворянской России. Особняк в романе, прежде всего, носитель культурного начала, хранитель духовности, которая позволяет его героям не потерять своей индивидуальности в эпоху перемен. Дворянский мир М. Осоргина сродни природному миру, где иерархия задана самим мирозданием, а в основе – культурное содержание, не требующее изменений. Однако в пространстве Дома, имеющего горизонтальную и вертикальную протяженность, обнаруживают себя элементы не только природного и культурного миров, но и социального. Горизонтальная составляющая пространства раскрывается последовательным расположением комнат, ходов, а также расстановкой мебели. Это социальное пространство впускает разных людей, вместе с которыми проникают события «внешнего» мира. Космически организованный топос Дома в начале произведения свободно открыт социальному миру, ибо этот мир еще не враждебен и не разрушителен. Соотношение природного и социального миров наиболее явно раскрывается в вертикальном «срезе». Особняк предстает сложной многоуровневой структурой. Она включает в себя, прежде всего, два жилых этажа дома. Первый этаж представляет собой совокупность личных (спальни) и общих (зал, столовая, кухня, кабинет профессора) комнат. Кабинет профессора в первой главе показан местом сужения концентрических кругов, что позволяет рассматривать его в качестве научного центра Дома. Уже на этом уровне видна связь научного и природного начал: наука не оторвана от жизни, от природы, а наоборот, неразрывно с ней связана (изучение птиц). Кабинет – интимное пространство, отделенное от всего остального пространства особняка; в нем совершаются открытия, рождается истина, язык природы переходит в язык науки, законы этой трансформации подвластны одному человеку в Доме – профессору. Но центром вертикального пространственного уровня, как и центром всего Дома, является не кабинет профессора с его письменным столом, а зал. Именно в зале вокруг рояля собираются гости: «Рояль этот был господином дома. Профессор играл … Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо… Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно… И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполье в те вечера» [С. 35]. Люди приходят в это пространство, чтобы приблизиться к тому, чего им не хватает в социуме, но что каждый из них хранит внутри себя. Стоящий 9 в центре зала рояль – не только источник музыки, культуры, но – шире – гармонического начала. Источник, объединяющий различных по характеру и роду занятий людей в творческий союз. Второй жилой этаж дома наполнен атмосферой семейной жизни. Именно здесь открываются процессы внутренней жизни главных героев. На первом этаже обсуждаются проблемы исторические, социальные (военные действия на фронте), на втором – интимные, скрытые: «Попрощавшись, прошли к Тане наверх. Тут хорошо было и поговорить и помолчать» [ С. 111]. Вертикальная структура особняка включает в себя не только два жилых этажа. Существуют еще два уровня, связанные с природным миром. Автор «впускает» в Дом животный мир, расположившийся в подвальном помещении и на крыше. Подвал – основа Дома, но именно здесь скрыта угроза его разрушения: «В подвальном помещении под кабинетом ученогоорнитолога, в том месте, где в фундаментальную стену упиралась балка, было на стене зеленоватое пятно, покрытое пухом белой плесени… Тысячи поколений работали над ним… Без общего командования, как бы без плана шла работа разрушения…» [С. 49]. В подвале наблюдается «особая» жизнь, со своим населением, своими природными законами, таящими в себе опасность. Если в жилом пространстве человека все очевидно, то природное пространство невидимо для человека: червяк точит балки особняка, мышь прогрызает доски. Верхний природный уровень особняка располагается под крышей (гнездо ласточки) и носит временный характер. Как и нижний уровень, он принадлежит миру природы, но не несет разрушительной опасности, а, напротив, символизирует сезонное возрождение жизни. Птица, прилетающая каждую весну, вьет гнездо: «Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок» [С. 49]. Жители особняка ждут ежегодного появления ласточек, свидетельствующего о начале нового природного цикла, а значит, о продолжении жизни. Сложная вертикальная организация топоса Дома имеет, на наш взгляд, особое значение. С одной стороны, автор воплощает идею тождества человеческого и природного, животного существования (смерть бабушки и смерть крысы), с другой стороны, указывает на их различия. Смерть бабушки, как и смерть крысы – реализация природного закона: срок жизни ограничен и каждое живое существо обречено на гибель. В то же время смерть бабушки оправдана 10 социально: наступает новое время, эпоха перемен, старый человек не способен перенести эти перемены. Слабый и старый уступает место сильному и молодому: теперь Танюша становится хозяйкой Дома. И природный и социальный уровни особняка скрывают в себе опасность. К Дому профессора прилегает небольшой участок двора. Это отсылает читателя к традиционному, классическому образу усадьбы – дворянского гнезда, семейного пространства, природно-сезонного топоса – внесоциального пространства гармонии и спокойствия. М. Осоргин трансформирует классический образ, перенося усадьбу в город, помещая среди московских домов, оживленных улиц, динамичной суетной жизни. Особняк служит не местом семейного отдыха в летнее время, а местом повседневной жизни и работы. При этом он остается родовым гнездом (из рассказов профессора читатель узнает, что дом был построен его предками). В московском варианте усадьбы нет хозяйства и слуг (кроме дворника Николая и Дуняши). От усадьбы в традиционном ее понимании на Сивцевом Вражке остается лишь дом (родовое гнездо) и некоторые надворные постройки: дворницкая и баня. В дореволюционное время баня используется по назначению, в период голода и разрухи гражданской войны баня разбирается на дрова. Иная ситуация с забором и воротами. В довоенное и дореволюционное время они не являются востребованными, во времена смуты, напротив, возникает потребность в ограждении от враждебного большого мира; ворота теряют прежнюю прочность и возникает угроза стирания границ: «Ворота… Это запор по прежнему времени хорош был, а нынче и через ворота. Народ пришлый, того и гляди залезут» [С. 102]. В этом плане значима фигура дворника, соотносимая с пограничником: он сообщает хозяевам об износе ворот, решает, кого впускать в пространство Дома, а кого оставлять за его пределами. В неспокойный период Николай советует завести собаку. Дворнику, существующему на границе двух противопоставленных миров, автор вверяет анализ событий современности: Николай говорит о ненужности войны, об абсурде происходящих в революционной Москве перемен, осуждает действия новой власти: « – Убивать никого не надобно. Ты суди, коли есть за что. И кого отпусти, а кого на каторгу, для исправленья. Убивать человека нельзя» [С. 210]. Автор показывает неприятие «спасительной» революции теми, для кого она совершалась. В смутное время пространство Дома испытывает на себе влияние социума, но сохраняет себя благодаря жителям, благодаря культурным традициям и духовному укладу. В трудное историческое время 11 происходит взаимообогащение Дома, его жителей и гостей: пространство становится «ноевым ковчегом», спасающим представителей разных сословий от потопа революционной смуты. Для топоса Дома характерно наличие «своих» героев. Всех героев романа можно условно разделить по территориальному признаку на героев Дома, героев фронта, героев Москвы. Жители особняка – это хозяева (профессор, Аглая Дмитриевна, Танюша) и слуги (Дуняша, дворник Николай). Вместе они образуют единство живущих в Доме людей. Хотя слуги осознают свое место в социальной иерархии барского особняка, отношения с хозяевами дома зачастую внесоциальны. Автор показывает человечные отношения между людьми разного происхождения. Открытость и доброта дворян в отношении крестьян оборачивается добротой и открытостью крестьян в смутное революционное время: слуги помогают добыть дрова для хозяев. Дуняша и дворник Николай остаются преданными не только профессору и его внучке, но и особняку, добросовестно выполняют свою работу: «Перед самым светом дворник выходил из калитки профессорского дворика… Мел долго, чисто и, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный тротуар и на мостовую соседей. И думал о том, что со всеми этими свободами народ стал лентяй. На дворе свет, а улица не метена» [С. 101]. В отношениях доминируют не социальные, а природные и культурные связи, благодаря которым люди остаются людьми несмотря ни на что. Но социальные различия все же существуют. Николай, Дуняша и ее брат Андрей Колчагин осознают, что есть в мире дворян «что-то», им непонятное. Это «что-то» – культура, которая организует жизнь в доме профессора. Новая власть агрессивно воспринимает духовность дворянского сословия именно потому, что сама лишена и культуры и духовности. Однако в пространстве особняка конфликты на почве классовой неприязни не возникают, а трудности революционного времени только объединяют его жителей. В центре романа – судьба хозяев Дома. Исторический хозяин пространства – старый орнитолог. Важна научная деятельность героя. Профессор настолько увлечен природной жизнью, что его образ жизни и среда обитания сопоставляются автором с птичьими: «Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, – а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни. Вылупились птенчики – три птенца. Оперились, выросли, отлетели…» [С. 34]. Научная деятельность героя отчасти моделирует пространство особняка. Это выражается в 12 отдельных элементах (например, письменный стол – научный центр особняка, стеллажи с книгами – хранилище научной мысли, часы с кукушкой – своя система времяисчисления) и в общем восприятии особняка как уютного птичьего гнездышка. Хозяйка дома и верная спутница орнитолога – Аглая Дмитриевна. Ее функция в пространстве – создание уюта и поддержание семейных традиций. В ее подчинении бытовая сторона жизни. В начале романа воскресные встречи в Доме не мыслятся без Аглаи Дмитриевны, она не только определяет бытовую сторону встреч, но и задает атмосферу доброты и гармонии. Образ Аглаи Дмитриевны не центральный в романе, но сцена смерти обнаруживает его значимость в пространстве Дома и в концепции пространства в целом. В момент смерти бабушки Дом замыкается, семейное горе отграничивает его от всего остального мира. Умер человек, обустраивавший бытовое и духовное пространство особняка. На фоне старения и жизненного угасания Аглаи Дмиртиевны показано взросление ее внучки – Танюши. Внучка возьмет на себя функции бабушки и функцию хозяина Дома, которая лишь формально будет принадлежать профессору. Танюша меняется на фоне романных событий (революция, гражданская война), ее сознание эволюционирует. Катастрофические события закаляют ее, делают сильнее. Танюша – единственный герой романа, стойко перенесший все тяготы военного, революционного и послереволюционного времени при этом не растерявший внутренний духовный потенциал3. Танюша находится в двух пространствах – в пространстве Дома и в пространстве Москвы и при этом открыта миру. Она живет в особняке, но общается с «героями города», приглашает их к себе. Она ежедневно оказывается за переделами Дома, работает в рабочих районах Москвы. Способность Танюши объединять пространства связана с мотивом пути. В революционное время Танюша вынужденно отправляется на заработки в клубы рабочих: «…Танюша была такой бледненькой, так уставала после своих концертов в рабочих районах» [С. 162]. Музыка, которая является для нее воплощением культуры и гармонии, становится средством заработка, путь в рабочие кварталы 3 Э.С. Дергачева видит в этом желание М. Осоргина показать историю «через восприятие молодого поколения русской интеллигенции»: «Психологизм романа связан прежде всего с раскрытием характера Танюши, внучки профессора. Писатель внимателен к ее переживаниям, прослеживает ее внутреннее движение, нравственные искания» (Дергачева Э.С. «Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Э.С. Дергачева // Материалы Первых Осоргинских чтений/ Пермский университет. – Пермь, 1994. – С. 59). 13 оправдывается продуктами, которые она приносит домой. Но предательства по отношению к своему искусству она не совершает. Танюша исполняет классику, а не развлекает нетребовательную публику. Она играет честно, а не лицедействует (в отличие от Астафьева): «Танюша погрела руки дыханием, радостно улыбнулась (как странно играть здесь!) и стала играть первое, что вспомнилось… Все равно – в холодном сарае или в блестящей огнями зале, знатокам или солдатам. Как это странно и как это прекрасно!» [С. 141]. Друг Танюши, приват-доцент Астафьев, превращающий искусство в фарс, оправдывается жестокостью революционного времени: «И вам тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Но вы, Татьяна Михайловна, страдаете за свою музыку серьезно, а я хоть тем себя облегчаю, что смеюсь над ними, над теми, кого смешу…» [С. 173]. В революционный период возвращение в пространство Дома особо желанно для героини. Путь домой, ситуация «возвращения» мотивированы не только стремлением обрести безопасность, но и желанием погрузиться в свой мир, обрести привычное состояние духа. Именно духовность, сохраняющаяся в особняке, заставляет возвращаться в него как хозяев, так и гостей. Танюша, объединяющая в своем доме разных людей, является хранителем духовных и культурных ценностей. Она пианистка; музыка для нее – не просто профессия, но вечное и незыблемое, к чему человек может только стремиться. Это вечное она хранит внутри себя, оставаясь искренней, не изменяя своей природе. Подлинное в Танюше притягивает к ней людей. Она необходима одинокому инвалиду Обрубку, учителю музыки, который передает ей свое мастерство, входящему в жизнь Васе Болтановскому, влюбленному в нее – как смысл жизни и Астафьеву – как жизненный ориентир. Танюша становится композиционным центром романа. В тяжелое время герои Москвы стремятся попасть в пространство Дома, сохраняющего мир культуры, именно в период социальной нестабильности. Отграниченность Дома дает гостям ощущение спокойствия и защищенности. Однако не всех московских героев «принимает» особняк. Дядя Боря, родной дядя Танюши, инороден пространству Дома: он равнодушен к музыке, чего особняк не прощает. Не случайно дядя Боря не задерживается надолго в профессорском особняке, «выталкивающем» его вместе с его «порядками». Остальные герои уходят из Дома вынужденно: философ Астафьев попадает в тюрьму, Вася Болтановский переносит тяжелую болезнь. Но их не покидают 14 воспоминания о доме на Сивцевом Вражке и желание попасть в это пространство: «Нет, не домой, где сразу найдут, а обходом, улочками, лабиринтом – на Сивцев Вражек, чтобы, не входя, постучать в окно, дождаться, пока откроется форточка, и негромко крикнуть: – Таня, не пугайтесь, это я, Астафьев, актер Смехачев. Меня ловят – приютите меня, Таня» [С. 240]. Герои остаются преданными особняку. Одним из преданных Дому героев на протяжении всего романа остается музыкант Эдуард Львович. Культура, музыка востребована во все периоды жизни особняка. Присутствие в Доме учителя Танюши (не только музыканта, но и создателя музыки) способствует передаче культуры от одного поколения к другому. В конце романа, как и в начале, Эдуард Львович играет свое новое произведение. Но «Opus 37» совершенно иной по жанру и по содержанию. Новая музыка противоречит и классической эстетике, и прежним представлениям о творчестве самого Эдуарда Львовича. Породивший «Opus 37» опыт трагических переживаний становится для композитора собственным путем к поиску истины. Трагедию современной жизни, выраженную в нотах, композитор представляет на суд верных гостей Дома. После долгого перерыва, в честь дня рождения профессора снова собираются друзья: «…особнячок собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве» [С. 289]. Появляется Леночка, уже не девочка с веселыми глазами, а мать двоих детей; приходит Вася Болтановский, но не в качестве «верного рыцаря» Танюши, а со своей избранницей Аленушкой и др. Избегающие социальных тем гости вновь погрузились в праздничное пространство общения, окунулись в атмосферу культуры и гостеприимства дома на Сивцевом Вражке. Однако драматический опыт не забыт, как не забыты люди, погибшие во времена исторических катаклизмов. В начале романа автор указывает на особый порядок пространства Дома: «Вообще – все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства» [С. 40]. В конце романа порядок сохраняется, что утверждает незыблемость формировавшегося веками уклада и стоящих за ним культурных ценностей. Именно это помогает не только хозяевам, но и гостям Дома пережить социальные испытания. Топос дома – центральный топос романа. В него, как в гармоничное пространство, сохраняющее культурные и духовные традиции, проникают разрушительные социальные и исторические веяния. Сохранение Дома как цельного микромира – гарантия сохранения макромира. Автор изображает его жизнеспособность как в 15 мирное время, в период социального благополучия, так и в военное и революционное времена, когда окружающее Дом пространство представляет собой хаос. Топос Дома показывает диалектику картины мира М. Осоргина. С одной стороны, особняк «выживает» в период исторических перемен, что способствует сохранению индивидуальности его героев. С другой стороны, на Дом и на героев влияет социум: взросление и старение, следы революции, иная музыка, иная культура. Меняются люди, меняется жизнь. М. Осоргин видит в этом не конец, а начало чего-то неопределенного, «нового». Это «новое» не органично природно-культурной основе особняка и его героям, а «навязано» деформированным пространством Москвы. Ответьте на вопросы: 1. О чем говорит название романа? 2. Какова пространственная схема романа? Какое место в этой схеме занимает особняк на Сивцевом Вражке? 3. Что показывают горизонтальный и вертикальный уровни особняка? 4. Можно ли назвать Дом на Сивцевом Вражке усадьбой? Почему? 5. Какие герои находятся в пространстве Дома? Что их объединяет? 6. Меняется ли Дом под воздействием социальных перемен? Как это соотносится с картиной мира М.А. Осоргина? 16 1.2. Топос Москвы Посмотрите значения слов в словаре: Макропространство Микроапространство Целостность Проекция Вандализм Динамика Радиальный Противоестественный Повсеместный Смертоносный Дисгармоничный Разобщенный Аморфный Актуализировать Устранять Воздействовать Выталкивать Регулировать Эксплуатировать Прогнозировать Обозревать Объясните словосочетания: Пространственная структура Органическое единство Гармоничное мироздание Топографическая разобщенность Атмосфера болезненности Хаос московского мира Аллегорическая картина событий Вставной элемент повествования Книжная лавка Одно из центральных мест в пространственной организации романа «Сивцев Вражек» занимает топос Москвы. Это макропространство, соединяющее в себе несколько микропространств. Город меняет свою семантику в зависимости от изображаемых в романе социально-исторических событий и может быть рассмотрен в четырех временных отрезках – довоенном, военном, революционном и постреволюционном. В начале романа пространство Москвы вместе с пространствами России, Земли, Вселенной и Дома, включается в гармонично организованное радиальное пространство романа: «В беспредельности вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве …» [С. 33]. Жизнь города разворачивается в соответствии с природным циклом; Москва характеризуется единством людей, домов, улиц, природы, пробуждающихся от зимы: «В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие; прищурились, слушали колокольный воскресный перезвон… У верующих было на душе 17 пасхально, неверующим весна принесла животную радость» [С. 37]. Довоенная Москва характеризуется целостностью, составляющие ее топосы не конфликтны, не противопоставлены друг другу. Концентрически сужающиеся круги (Вселенная, Земля, Россия, Москва) отражаются друг в друге, что задает изоморфную семантику: Москва как Россия, Земля и Вселенная. Для пространственной организации Москвы военного времени характерно деление на микротопосы. Она уже не воспринимается органическим единством, намечается топографическая разобщенность: природные, культурные, научные топосы города отходят на второй план, уступая место социальным. Одним из них становится актуализированное в военных период пространство госпиталя. Их распространение в городе формирует общую атмосферу болезненности Москвы. Лишенные какой-либо духовной семантики (научной, культурной, природной) госпитали воспринимаются безжизненными топосами и противопоставляются «живым» частям города. В оппозиции к «живому» пространству Москвы, в том числе и к особняку на Сивцевом Вражке, находятся социальные топосы архивных домов («бумажные кладбища»). В начале романа архивные дома были редким «вкраплениями» в основном пространстве Москвы, заполненном частными домами, подобными особняку профессора. В военное время их количество увеличивается. Люди в архивах ведут работу по разрушению устоявшихся законов общества. В социуме меняются порядки, они уже присутствуют в общем пространстве Москвы, но еще не проникают в индивидуальные пространства московских домов. Жизнь уходит и из Москвы – город пустеет. В романе изображается процесс вымирания населения, представляющий собой отлаженный механизм: люди уходят на фронт живыми и здоровыми, возвращаются – больными и изуродованными. Один из них – Эрберг, расчетливый молодой человек, стремящийся реализовать свои честолюбивые планы, но погибший от вражеской пули. Еще более трагична судьба Стольникова, ставшего на войне инвалидом. После возвращения в Москву, автор уже не упоминает его фамилии, а называет Обрубком. М. Осоргин изображает войну противоестественным процессом, убивающим все живое. Внезапное начало войны представлено смертоносным вторжением в природный, животный мир: «Погибли не только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики 18 вереска, миллионы живых и готовящихся к жизни существ – личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых пташек, чашечки едва распустившихся цветов, – все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда <…> на месте живого мира осталась затоптанная полоса земли с глубокой колеей» [С. 46]. В этой же главе изображена схватка муравьев, но она несравнима по жестокости с человеческой войной4. Бой людей ничем не оправдан, в отличие от муравьиного боя, которому автор находит оправдание в природных законах. Сражения несравнимы по степени человеческой жестокости, сопоставляемой с мировой катастрофой: «В пространствах, не ведомых даже острейшему муравьиному уму, быть может, в чуждом ему измерении, как невидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, неотразимая, всеуничтожающая сила» [С. 46]. «Божественность» в данном случае понимается автором как признак неуправляемости. Эта сила без разумного регулирования, все «высокие» цели, приводящие ее в движение, ведут лишь к одному результату – устранению живого. Пространство Москвы находится в постоянном контакте с пространством фронта. В связи с этим актуализируется мотив пути, связанный с образами поезда и вокзала. Вокзал – еще один социальный топос в пространственной структуре романа. Он становится пограничным между фронтом и Москвой пространством: отправка на войну, как и возвращение, начинается с вокзала. Вокзал изображается неоднозначно. Это место, куда люди приходят встречать близких с войны. Но оно несет в себе и трагическую семантику: изуродованные люди возвращаются в город, чтобы поправить здоровье и снова вернуться на войну. Москва становится проекцией одного большого вокзала с «атмосферой» повсеместного трагического ожидания. Постоянное взаимодействие топосов Москвы и фронта осуществляется посредством поезда. В его изображении используется прием олицетворения. Неживая машина предстает живым и страшным существом: «Сталь, медь, чугун – таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь… Громадный, круглогрудый, мощный, – вдали он превратился в головку 4 В.В. Гашева видит в этом проявление авторской оценки действительности: «Авторская оценочность выражается в романе через использование принципов параллельно-ассоциативного монтажа смысловых эпизодов, зрительных образов (такова экспрессивная картина грандиозной и страшной битвы муравьев, неожиданно вкрапленная в сугубо реалистическую ткань повествования о повседневной жизни людей, как бы предваряющая грядущую человеческую бойню и предрекающая бессмысленность мирового апокалипсиса)» (Гашева Н.Н. Кинематографичность прозы М.Осоргина/Н.Н. Гашева// Материалы Первых Осоргинских чтений/ Пермский университет. – Пермь, 1994. – С. 39). 19 гусеницы, ползущей по земле…» [С. 61]. Образ поезда – один из постоянных образов в романе, меняющий свои функции в зависимости от изображаемых социально-исторических обстоятельств. В военный период его основная задача – поставка к полю боя нового «живого материала» (и возвращение полуживого, изувеченного) а также снарядов, оружия и почты5. Автор изображает механический, бессознательный путь железной машины: «Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи… Сбыл их, сбросил на конечной станции, – и назад, без устали. Теперь тащит груз немалый… Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый…» [С. 6263]. Особый трагизм рождает сопоставление бессмертного поезда с обреченным на смерть человеком: «Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку из-под земли: «Стой, подожди, я помер» [С. 61]. Во время войны Москва становится враждебным и беспощадным городом, выталкивающим людей из своего пространства, обрекающим их на смерть. Те, кто остаются в городе, ощущают трагическое единство с людьми фронта, ощущают общность, обусловленную единым горем – войной. Едины и люди, сражающиеся на фронте: там нет врагов и союзников, все солдаты равны перед лицом смерти. Это показывает противоестественность и ненужность войны, мешающей эволюционному развитию человечества. Катастрофические процессы военного времени ведут к разрушению гармонического мироздания: из обозначенной в начале романа цепочки «Вселенная – Россия – Москва – дом на Сивцевом Вражке» исключается фронтовая Россия, как место массовых убийств. Революционный и постреволюционный периоды переносят военные действия с фронта в Москву. Война, о которой тревожно думали и которой боялись москвичи, переместилась в пространство города. Топос становится еще более разобщенным, чем в военное время. Социальные изменения привели к хаосу московского мира, признаками которого становятся страх, голод, обреченность. Москва замыкается, становясь местом концентрации зла и насилия. Уже не существует той гармоничной космической взаимосвязи, что была в довоенный период. 5 Н.Н. Гашева соотносит образ поезда с образом войны: «Образ войны воплощается у Осоргина в экспрессивно-гротескном зрительном символе поезда – зловеще-грохочущего исчадия ада, олицетворения свехнувшегося мира». (Гашева Н.Н. Кинематографичность прозы М. Осоргина / Н.Н. Гашева // Материалы Первых Осоргинских чтений / Пермский университет. – Пермь, 1994. – С. 40). 20 Москва окончательно утрачивает связи с природой и культурой. Архитектурные памятники, монументы, улицы и кварталы разрушаются, сгорают. Памятники известных исторических и культурных личностей подвергаются вандализму («памятник Скобелеву, вокруг которого только что сняли бронзовые фигуры»), уцелевшие монументы становятся местом сбора митингующих, становятся площадкой, возвышением, сценой для выступления. Культурную составляющую Москвы если не уничтожают, то трансформируют, эксплуатируют. Роман топографически конкретен, автор называет исторические и культурно значимые места, улицы, площади, районы: памятник Пушкину, возле которого собираются инвалиды, Лубянка, Сретенка, Арбатский переулок, Театральная площадь, Троицкий бульвар, Тверской бульвар, Патриаршие пруды. Атмосферу опасности и разрушения передают ситуации, в которые попадают герои6. В революционное время люди избегают посещения центральных городских мест, опасаясь за свою жизнь. Трагичны не только случайные убийства на улицах Москвы, но и «убийства» самих этих улиц, разрушение домов, гибель культуры. Но культурная составляющая Москвы не разрушается полностью. Несмотря на то, что улицы теряют здания, они продолжают сохранять исторические имена и «жить»: «Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища – ряды имен великих людей всего мира… А вот Арбат жив; идут по нему за Смоленский и со Смоленского…» [С. 235]. Дисгармоничное, разобщенное и хаотичное пространство Москвы обретает культурный центр. Им становится лавка писателей в Леонтьевском переулке 7. Автор изображает реально существующее пространство – книжную лавку, которую посещали представители интеллигенции, чтобы продать свои книги и приобрести что-то новое: «…забегал Поплавский и рассказывал, какие изумительные старинные книги довелось ему видеть в Книжной лавке писателей в Леонтьевском переулке. Сейчас 6 Если в мирное время студент Вася Болтановский, обедая в столовой на Троицкой, наблюдал за окружающими его людьми («Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстуком фантэзи. И конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба» [С. 74]), то в революционное время его внимание обращено на происходящие за окном события: «… когда Вася Болтановский корочкой хлеба обтер остаток соуса, в конце бульвара, против дома градоначальника, началась стрельба. Из окна в перспективе бульвара видны были бежавшие по аллее фигуры прохожих ли, или жаждущих нового строя, или защитников старого» [С. 106]. 7 М. Осоргин был создателем и участником книжной лавки писателей в Москве, работа которой описана в рассказе «Книжная лавка писателей» // Наше наследие,1989, №3, С. 21-26. 21 появились на рынках такие книги, которых раньше невозможно было найти в продаже» [С. 161]. В романе показано обесценивание книг как культурных памятников: «Никакой цены в то время старые и редкие книги не имели» [С. 161]. Посещение лавки писателей приносит радость старому профессору: он продает свои старые книги, чтобы хоть как-то помочь внучке, но и находит многое для себя: «…очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание <…> Любовно перелистал брошюрку, радостно, захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков» [С. 162]. Лавка писателей – единственное место в пространстве Москвы, которое спасает интеллигенцию в новой социокультурной ситуации. Характерным признаком революционного периода становится вторжение новых порядков в личное пространство домов москвичей. Население Москвы живет в тревожном ожидании того, что в дверь постучат представители власти. О массовых арестах говорит дворник Николай: «Вот я и говорю, если, например, за дело. А тут забрали людей, держали – держали, а потом всех для острастки и прикончили…» [С. 210]. Москва стала чужой, страшной и непредсказуемой. Аллегорическая картина происходящих в Москве событий изображена в главе «Обезьяний городок». Она представляет собой вставную новеллу притчевого характера. На первый глава выпадает из общей сюжетной линии романа и расположена «случайно» между главами о жизни московских инвалидов. Композиционно притча разделяет революционный и постреволюционный периоды. Предшествующие ей главы «Октябрь», «Карьера Колчагина» (становление новой власти и начало разрушительных процессов в Москве), «В простенке», «Пуля» (изображение страхов и предположений, связанных с будущим, жителей Москвы) изображают революционные перемены в городе и реакцию на них интеллигенции. В «Обезьяньем городке» в сжатой аллегорической форме через вымышленное пространство вольера зоопарка показано реальное пространство Москвы. Через отношения серых и рыжих мартышек показаны отношения между представителями дворянства и новой власти: «Огромной семье серых мартышек жилось привольно <…> Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу <…> Новые граждане были чуть-чуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озорнее <…> Серый страх поселился в обезьяньем городке» [С. 120 – 121]. Автор прогнозирует дальнейшее развитие сюжета, изображая ужасы постреволюционного времени: «…скоро худшие ожиданья оправдались 22 <…> Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая врасплох на исхудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая клочьями шерсть. Серая колония таяла – рыжая плодилась и благоденствовала» [С. 121-122]. Изощренные формы пыток реализуют скрытые возможности пространства (загнать в страхе в угол, сбросить с дерева, утопить в бассейне). Издевательства животных ради развлечения и забавы – проекция столь же изощренных и сомнительных по мотивации действий человека. Притчевая форма, вставной элемент произведения, позволяет автору напрямую обратиться к читателю, указать на очевидность происходящего. М. Осоргин показывает абсурдность уже случившихся событий и катастрофичность предстоящих. В главе аллегорически излагаются не только романные события, но и реальные события, исторические, легшие в основу произведения. Так, в выживших серых обезьянах (не способных стать рыжими по законам природы, а значит и не способных существовать в обществе рыжих), помещенных в клетку и удаленных из пространства обезьяньего городка, угадывается существование эмигрантской интеллигенции, вынужденной покинуть Россию: «Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским названием <…> невозможно было установить, вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне. Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подаяние, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию» [С. 122-123]. Как заключенные в клетку обезьяны не видят нормальной жизни, так и «старые» московские люди не нужны новому социуму, от них отворачиваются, их разгоняют: «Проходите, товарищи, расходитесь, довольно! Нельзя занимать площадь» [С. 125]. Символичным является сравнение власти и народа с рыжими и серыми обезьянами. Народ в этом сопоставлении выступает чем-то «аморфным», безвольным, неспособным к сопротивлению. В изображении «обезьяньей» власти акцентируется ее недоразвитость и животная жестокость. Обезьяна внешне напоминает человека, копирует его поведение, но и значительно искажает его. В революционный и постреволюционный периоды Москва распадается на несколько несвязанных между собой топосов. Они разрушаются, разрушая и общее пространство Москвы: «…загорелся дом, запиравший устье бульвара, и дотла сгорела столовая Троицкой… 23 Догорел этот – занялся пламенем другой громадный дом…» [С. 107]. Однако в тесном единстве продолжают существовать «мертвые дома», их количество увеличивается. Они создают новое пространство города, которое уже не изоморфно Космосу, Вселенной, России, а становится одним большим «Кораблем смерти» (по названию одной из тюрем), отражением тех доминирующих социальных топосов, из которых она состоит. Если в довоенное время к числу «мертвых домов» относились только архивы («бумажные кладбища»), то в постреволюционный период им на смену приходят «дома смерти». Такие топосы многочисленны и имеют типовую организацию, в соответствии с основной целью – уничтожением человека: «Много, очень много было мест в Москве, где козам рога правили <…> И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Арсеньевском <…> Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия <…> От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас – яма <…> сейчас – знаменитый корабль смерти. Пол вложен изразцовыми плитками. При входе – балкон, где стоит стража <…> Балкон окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, – ждут своей участи» [С. 218]. Символичным является подземное расположение камер пыток. Это уже не приспособленный для жизни человека уровень, а замкнутое подземное помещение, сходное с пространством подвала, могилы. В стенах этих зданий, под землей, в «коллективной могиле» оказываются случайные люди, которым суждено быть убитыми в яме смерти. Автор представляет весь ужас происходящего, описывая подробные сцены убийств. Смерть становится повседневным событием. Данный микротопос требует героев определенного типа. Если в начале романа представлен один служащий архивного дома («маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал решить свою жизнь по-своему» [С. 38]), то в постреволюционное время, в связи с увеличением количества «мертвых домов», увеличивается число служащих в них людей. Их объединяют общая болезненность, желание замкнуться, отграничиться от внешнего мира, вершить суд под землей и вера в необходимость своей работы. 24 Таковы следователь Брикман и палач Завалишин. Брикман – вершитель судеб, но его собственная судьба давно предрешена: «В жизни его не было радостей, и тянуть эту жизнь – ненужного никому чахоточного человека – он мог, только поддерживая себя верой в революцию, в будущее счастье человечества <…> Брикману суждено было стать одним из героев и защитников нового строя <…> Слабый здоровьем, он должен быть стойким, стальным, несокрушимым волею, – в этом все оправданье жизни» [С. 223]. В особом ряду стоит палач Завалишин, сосед приват-доцента Астафьева (актера Смехачева) по квартире. Именно Астафьев побуждает ищущего духовных ориентиров соседа к реализации своей истиной сущности: «Тут все просто. Хотите себе дорогу пробить? Тогда будьте сволочью и не разводите нюни. Время сейчас подлое, честью ничего не добьешься» [С. 158]. Позднее Завалишин появляется в романе в качестве палача, исполнителя приказов, беспристрастно убивающего сотни людей. Образ Завалишина трагичен своей обреченностью, он, как и все его жертвы, также находится в могиле, он, как и арестанты, лишен полноценной жизни. Жестокие расправы новых хозяев Москвы (глава «Пятая правда») включаются автором в число повторяющихся исторических событий России, называемых «историческими правдами». Все они запоминаются потому, что после пережитых мучений остается след в народных душах. Этот след выражается в языке: «Не сказал правды подлинной – скажешь подноготную», «чесали черти затылки», «у Воскресенья в Кадашах», «была, да в лес ушла», «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет», «укорачивали на полторы четверти», «на костях и крови» и т.д. [С. 215-216]. В отношении пятой правды – Лубянской, знаменитого «Корабля смерти» автор иронизирует: «Богат, красив и полнозвучен русский язык. Богат, а будет еще богаче» [С. 217]. Это позволяет представить масштаб постреволюционных трагических событий и придает им символический смысл вечно повторяющихся в истории России разрушительных событий. Москва и Россия находятся под столь же сильным влиянием социально-исторического цикла, как и природного. С «домами смерти» связан мотив пути. Жители Москвы в страхе ожидают, что за ними придут, и поведут страшным путем к смерти. В связи с этим возникает образ кладбища как более безопасного, чем город пространства. Несколько героев романа посещают кладбища: Григорий несет туда коробку с Обрубком, чтобы похоронить, Эдуард Львович идет к матери на могилу, чтобы рассказать о своем горе. На кладбище музыкант чувствует себя безопаснее, чем в Москве: «Даже 25 соседние могилы были знакомы. Так хорошо было встретиться, опять быть в кругу таких простых, тихих и приятных <…> Какая уютная эта могила – его матери, – хотя такая простая…» [С. 132]. Однако мотив пути связан не только со смертью, но и с попыткой ее избежать. Москвичи вынуждены ежедневно отправляться в путь, чтобы найти себе пропитание и топливо для печи. В это же время актуализируется образ поезда, приобретающий иную семантическую нагрузку. Теперь поезд – помощник в добывании средств к существованию. Городские жители выезжают за пределы Москвы, в деревни для того, чтобы обменять вещи на продукты. Голодное время вынуждает людей разрушать то, что еще несколько лет назад составляло пространство любимого города. В главе «Москва девятьсот девятнадцатого» Москва обозревается последовательным движением от одной улицы к другой (Гранитный переулок, Лубянская площадь, Театральная площадь, Тверская, Арбат). Автор показывает не только изменившиеся улицы, но и заброшенные памятники, здания (как обычные жилые, так и культурно значимые): «В Гранатном переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно снята; стены наполовину разобраны; только и целы колонны. Умирающее, уютное, дворянское, отжившее…» [С. 234]. Обычные городские здания растаскиваются замерзшими москвичами на дрова, что задает пространственное засилье неприкосновенных домов «новой власти». Однако с течением времени стойкость этих зданий ставится под угрозу: «У ворот соседнего дома, стоявшего в глубине за решетчатой оградой, дежурил молодой красноармеец с винтовкой. Люди сюда входили, предъявляя бумажку – пропуск <…> В восемь часов вечера здесь назначено было важное собрание <…> темная фигура поднялась по лесенке к балкону и осторожно заглянула в окно <…> темная фигура, откинувшись от стены, взмахнула рукой. Взрыв слышали даже на окраинах Москвы <…> В доме с двумя фасадами не было теперь крыши и одной из стен» [С. 270]. В основе угрозы – уставшие, жаждущие активного протеста жители Москвы. Им ненавистны устанавливаемые в «домах смерти» и распространяющиеся во все пространство Москвы законы и порядки. Дисгармоничная Москва выделяется большим кровавым пятном на фоне мирного мирового пространства. Динамика топоса Москвы в романе – это движение от состояния гармонии с природным космическим миром к разрушению этой гармонии. Входящий в концентрическую структуру Вселенной топос 26 Москвы становится показателем социально-исторических изменений. М. Осоргин детально изображает движение от состояния гармонии Москвы и Мира к утрате этой гармонии. Движущая сила этого процесса (война, революция) «противоприродна», трагические результаты неоправданны. Оппозиция социального и природного миров снимается автором в пользу природного. Действия творящего историю человека жестоки и смертоносны, однако природа, вселенские законы, неистребимы. М. Осоргин видит в новых людях (таких как Танюша) надежду на преобразование хаоса в космос. Он надеется на восстановление прежней вселенской гармонии за счет культуры и природы, организующей в романе отдельный топос. Ответьте на вопросы: 1. Какие исторические периоды представлены в романе «Сивцев Вражек»? 2. В какой из периодов пространство Москвы изоморфно России, Земле, Вселенной? О чем это говорит? 3. В какой исторический период намечается топографическая разобщенность Москвы? С чем это связано? 4. Что изображает глава «Обезьяний городок»? Почему автор обращается к притчевой форме? 5. Какова динамика топоса Москвы в романе? Что видит за этими изменениями М. Осоргин? 27 1. 3. Топос природы Посмотрите значения слов в словаре: Диссонанс Целесообразный Концентрироваться Включение Отправной Упорядочивать Аномалия Финальный Воссоздавать Преображение Подлинный Реализовывать Чужбина Схожий Классифицировать Деформация Приоритетный Соотносить Противостояние Искажать Преемственность Объясните словосочетания: Интегративная функция Выстраивать системные связи Рассеянный характер пространства Природная основа Предмет исследования ученого Утверждать право на преображение Отводить спасительную роль Цикл времен года/ сезонное время природы Скрывать последствия жестокости людей Пантеистическая картина мира Топологическое устройство романа М.Осоргина «Сивцев Вражек» составляют не только пространства Дома и Москвы. Не менее важен природный топос. Он выполняет интегративную функцию: выстраивает системные связи между топосами, героями, образами, мотивами и состояниями. Природная основа проявляется на всех уровнях организации романа: в составе отдельных топосов (Дома, Москвы), в семантике топологического наполнения (культуре, науке, социуме). Кроме этого природа организует отдельный топос. Его пространственное выделение осложняет рассеянный характер: природа, обнаруживая себя во всех пределах произведения, концентрируясь в отдельных его частях в форме образов, состояний и процессов. В отношении топосов Дома и Москвы целесообразно разграничение внутренней и внешней составляющих природного влияния. Природный компонент пространства особняка на Сивцевом Вражке формируют, прежде всего, представители животного мира: мышиная семья, кошка, черви, точащие балки в подвале. Кроме того, природную основу имеют формирующиеся и сохраняющиеся в 28 особняке культурные, научные и социальные основы человеческой жизни. Помимо внутренних природных проявлений, существуют внешние проявления, включающие особняк в природный цикл (времена года, преображающие дом; солнце и т.д.). М. Осоргин изображает особый природный ритм внутри Дома, сходный с человеческим (смерть бабушки, продолжение традиций предков), но и отличный от него (борьба за выживание, страх). Животные раскрывают природную основу особняка в вертикальном срезе (подвальный уровень и крыша). Горизонтальный срез открывает пространственные центры дома (кабинет, зал), природная основа которых сконцентрирована в их духовном, культурном и научном содержаниях. Кабинет профессора орнитологии (центр научного мира особняка) напрямую связан с предметом исследования ученого. Природа организует интерьер кабинета профессора орнитологии8и особую атмосферу. Мысли профессора, работающего в этом кабинете, также обращены к миру природы. Благодаря им М. Осоргин раздвигает границы кабинета до границ подлинно природного пространства леса, родственного в своей основе внутреннему миру героя: «Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка…» [С. 33]. Природная основа просматривается в культурном центре Дома – зале. Это связано с роялем и с музыкой. Так, профессор воссоздает на рояле звуки птичьего мира: «″Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр… и трель… а вот как щелкает – никак не изобразишь!″» [С. 35]. Воспроизводимая музыка, как культурная категория, стремится к выражению природной основы жизни. Характер музыки меняется в зависимости от социальноисторических периодов. Она демонстрирует движение от гармоничного природного космоса: «Звуки – как цветы, музыка – пестрый луг, леса, водопады…» [С. 42] до хаоса, исключающего природную гармонию: «Пусть мир рушится, пусть гибнет все, – уступить нельзя. Рвутся все нити, сразу, скачком; далеким отзвуком тушуются и быстро умолкают концы музыкальной пряжи, тема мертвеет и умирает, – и рождается то 8 В этом аспекте показательны часы с кукушкой, выполняющие несколько функций. Перваяотсчет срока жизни профессора: «Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка? Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык» [С. 33]. Вторая- организация особого времяисчисления в особняке: «В старых и любимых часах профессора – часах с кукушкой – давно уже развинтился винтик <…> Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса – ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату, а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла. Пока все в доме спали, время бешено летело…» [С. 69]. 29 новое, что ужасает автора больше всего: рождается смысл хаоса» [С. 280-281]. В сознании автора и исполнителя музыки – Эдуарда Львовича оживают звуки и ноты (как оживают птицы в мыслях профессора). Они выражаются в образах животного мира: «Эдуард Львович попробовал поймать одного живчика за двойной хвостик, но промахнулся и рука его непомерно вытянулась в пространство. Тогда он приподнялся на цыпочки, стоя босыми ногами на снежном холме, и стал дирижировать хором нотных головастиков: быть может они поддадутся. К удивлению Эдуарда Львовича, хор оказался прекрасным» [С. 113]. На высоте птичьего полета, на уровне Вселенской организации, куда мысленно поднимается композитор, возникший на Земле хаос можно упорядочить. Порождающие действительность диссонансы укладываются в рамки природных процессов. Поделиться своим открытием, сыграть новое гениальное сочинение композитор способен только в пространстве особняка. Именно потому, что он ощущает родственность топоса Дома топосу природы. Особняк профессора заключает в своих пределах природные локусы, и, в то же время, сам является одним из локусов природной Вселенной. Включение Дома в пространство природной в своей основе Вселенной реализуется благодаря внешнему влиянию природного мира. Проявлением этого становятся (так же как и в рамках Дома) образы животных. Так, ласточка, значима, как для особняка, так и для людей его населяющих9. Весеннего прилета птиц ожидает и профессор и его внучка: «Внучка деда своего, птичьего профессора сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке» [С. 36]. Ласточка включает особняк в общемировое пространство. Она делает его отправной и финальной точкой обратимого пути из России в Центральную Африку. Путешествие ласточки делит мир на два больших пространства – Родину и чужбину. Россия и Сивцев Вражек едины как топосы Родины. Внешнее влияние природы обнаруживается во включенности Дома в цикл времен года. С наступлением весны пространство Дома преображается. Изменение топоса несет существенную смысловую нагрузку. Ворвавшийся в размеренное природное время губительный 9 О многозначности образа ласточки в романе «Сивцев Вражек» Дергачевой Э.С. «Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» и Мароши В.В. «Ласточки в интертекстуальной скрипции романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» (Мароши В.В. «Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» / В.В. Мироши // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество: Материалы первых Осоргинских чтений/ Пермский университет. – Пермь: 1994; Дергачева Э.С. «Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Э.С. Дергачева // Материалы Первых Осоргинских чтений / Пермский университет. – Пермь, 1994). 30 социум (революция) меняет весеннее влияние на особняк с положительного на отрицательное: «Даже профессорский особнячок, с крыши которого снег не был вовремя убран, немного пострадал» [С. 3637]. Сезонное время природы объединяет и преображает топосы, нивелируя их иерархию. Влияние природного топоса на пространство Москвы также можно разделить на внешнее и внутреннее. Внешнее влияние (сезонные циклы, меняющие топос) позволяет проследить движение от гармонии Москвы с природным миром к потере этой гармонии. Весна описывается М. Осоргиным в романе «Сивцев Вражек» три раза. Действие романа начинается весной. Дореволюционная и довоенная весна еще не искажена социальными изменениями. Преображение отдельных макротопосов влечет общее преображение города, что проявляется на природном уровне, исключающем влияние человека: «В верхние этажи, солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель <…> Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение» [С. 37]. И на уровне мира человека, преображающем пространство под влиянием природы: «Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник и крошки сора падали за окно» [С. 36]. Весна воспринимается долгожданным временем внешних (облик города) и внутренних (духовных) преображений, несущих беспричинную радость москвичей и порождающих их детскую беспечность. Вторую часть романа также открывает весна. Но характер ее влияния на пространство города иной. С одной стороны, она ожидаема, как и в прежние времена: «Пришла весна, долгожданная, медлительная, неповоротливая» [С. 155]. С другой стороны, ее наступление деформирует пространство отдельных домов («В других домах протекли потолки, просочилась в стены вода и грязь лопнувших зимой труб, в затопленных подвалах таяли последние желтые льдинки» [С. 155]) и Москвы в целом («По Москве разлилась грязными потоками, зловоньями неубранных дворов, заразными болезнями» [С. 155]). Приоритет социально в Москве этого периода меняет характер воздействия природного топоса с положительного на отрицательный. Озабоченные решением насущных проблем москвичи отстранились от преобразования пространства и лишь в отдельных случаях способствовали наведению порядка: «Весенней уборкой города занялась сама природа. Но и люди пытались помогать ей, – там, где 31 видели ясно, что жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа» [С. 155]. Третья весна упоминается в финале романа. Детального описания ее влияния на пространство города нет, однако автор указывает на предтечи изменения мира Москвы. Профессор, отправившись на прогулку, покупает свежую булочку; это становится символом надежды. Старый орнитолог живет ожиданием весны. Являясь подлинным природным героем, он осознает тщетность всего социального и верит в торжество природного. Летнее преображение Москвы подробно изображается один раз – в послереволюционный период. Остальные летние сезоны только упоминаются в романе. Представленный глазами Танюши летний день Москвы утверждает «неизменность» топоса: «Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была всетаки безалаберно красивым, любимым городом, славным русским городом <…> Нет, Москвы не изменишь!» [С. 169-170]. Эта неизменность объясняется постоянством природы: именно этот мир, лежащий в основе пространства города, служит гарантом возрождения в нем жизни. Но автор выносит природному миру неутешительный приговор. М. Осоргин предвидит поражение природного мира в противоборстве с социальным. Социум и человек не смогут устранить природу совсем, но поспособствуют ее вытеснению далеко за пределы города: «Киркой и машиной уберут булыжник, зальют землю асфальтом <…> На долгие годы трава уйдет в поля – ждать, пока не перевернется и эта страничка…» [С. 167]. Безудержное зарастание Москвы сорняками, нестриженые ветки деревьев свидетельствуют о несоблюдении людьми прежних порядков. Человек задавлен ужасами социума и не способен воспринимать цветущий летний мир. Побеждающая городские мостовые и бульвары природа не может овладеть человеком. Революционные события надолго подчинили его власти социума. Осеннее увядание природы характерно для революционной Москвы. Цикличный кризисный период природы (осень), совпадает с кризисным историческим временем (революцией). Первое упоминание этого природного времени года связано с Октябрьской революцией. Осень этого года характеризуют в романе «Сивцев Вражек» природные аномалии. Природная неопределенность дополняет атмосферу социального страха и политической неопределенности: «Был октябрь бесснежен. Ночью подмерзало, днем таяло» [С. 101]. Население Москвы ждало природного снега, но на город обрушивается снег из пуль. М. 32 Осоргин сравнивает пули с летающими насекомыми («свинцовые шмели», «жужжание пуль»), их звуки сходны со звуками животных («тявканье пуль»), снег заменяется дождем («свинцовый дождь»), игру детей в снежки вытесняет жестокая игра взрослых («кидали люди страшные мячики»), осеннее небо обретает страшный эпический образ («воздушный свод пуль»). Еще одним примером искажения природного мира Москвы становится замена природной ночной темноты искусственным светом. Близость зимы сокращает световой день. Однако ночную темноту Москвы нарушает разрушительный свет горящих домов (зарево пожаров), придающий городу неестественную освещенность. В пространстве Москвы революционного времени сталкиваются два природных топоса: независимой от человека природы и природы, порожденной человеческими деяниями. Их сосуществование в пространстве Москвы невозможно. Естественная природа входит в свои права только после отступления социальных аномалий: «Снег выпал только тогда, когда к концу пятого дня смуты московской перестали летать свинцовые шмели» [С. 111]. Природа скрывает последствия жестокости людей, покрывает трупы и раны московского пространства. Влияние природы испытывают на себе и люди. Если отсутствие снега вызывало у горожан беспокойство, то его появление, напротив, породило радость (снег становится единственным украшением города). С зимним периодом связаны ужасы постреволюционного времени: влияние зимы становится губительным для города. В первой части романа, описывающей период войны и революции, зиме уделено незначительное внимание (зима упоминается в связи с ожиданием весны). В революционный и постреволюционный периоды сезонная гибель природы соотносится с гибелью социума. После октябрьской революции жители зимней Москвы ждут наступления тепла: «Последние морозы. Город замерз. Только бы дотянуть до весны – там будет легче» [С. 138]. Измучившийся и замерзший московский народ ждет спасительного влияния природы. Иная ситуация во времена постреволюционного голода, когда природные образы усиливают разрушение пространства города. Москва зимы 1919 года показана безжизненной, наполненной опасной тишиной. Морозы, не вызывавшие в мирные времена угрозы, теперь сродни катастрофе. Они усиливают общее болезненное состояние Москвы и способствуют трагическому объединению отдельных домов: «Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами» [С. 233]. В начале романа единство московского пространства объяснялось его 33 включением в преобразующее, весеннее природное состояние. Теперь единство обусловлено его трагичным исключением из вселенской гармонии. Изменение пространства Москвы под влиянием времен года не единственное проявление природного топоса в романе. Его формируют природные объекты города (пруд, бульвар, парк) и образы животных. При изображении пространства дореволюционного времени М. Осоргин не обращается к ним. Автор ограничивается созданием идиллической картины весеннего преображения Москвы. Смещение акцента происходит во второй части романа, когда возникают изменения, обусловленные беззаботным человеческим отношением к природе. Автор вверяет сопоставление природных состояний двух исторических периодов героине романа. Танюша замечает изменения водоема: «Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная скорлупа, гнилая рогожа» [С. 171]. Вместе с тем она отмечает неизменность природного мироустройства. Неразумные действия человека, как и его бездействие, лишь внешне искажает природу: «Но так же, как и прежде, смотрят в воду кустики и деревья, и прохлада та же и легкая рябь воды» [С. 171]. Героиня замечает трагические изменения, но не принимает их во внимание, сосредотачиваясь на том «неизменном», что лежит в основании локусов. Городское пространство, как место открытого столкновения социального и природного топосов, противопоставляется пространству деревни10. Оппозиция города и деревни актуализируется на страницах романа неоднократно. В начале романа показано губительное влияние города на деревню: «Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла <…> Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падет, распластанный и оглушенный остывшим и вновь разгоряченным металлом» [С. 39]. Так, честный труд одного человека уничтожает жизнь другого. Возникающая в начале романа трагическая связь города и деревни усиливается на протяжении повествования. 10 Во вступлении к статье «Большое» и «Малое» как стилевая антиномия в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» Н.Б. Лаптева утверждая принцип бинарных оппозиций основным принципом организации текста М. Осоргина, указывает на соотношение пространственного образа города (столицы) и деревни (провинции): «В произведениях М. Осоргина присутствуют и особым образом моделируются мотивно-тематические антиномии (человек – история, Россия – Запад, провинция – столица, родина- чужбина), времени (прошлое – настоящее, настоящее – будущее, до революции – после революции) и т.д.» (Лаптева Н.Б. «Большое» и «Малое» как стилевая антиномия в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» / Н.Б. Лаптева // Русская литература XX века: направления и течения. Вып. 4. – Екатеринбург: Изд-во Ек. Университет, 1998. – С. 70). 34 Образ деревни неразрывно связан с образом народа. Народные герои романа (дворник Николай, прислуга особняка Дуняша, ее брат Андрей Колчагин, Григорий) существуют в пространстве города, но не становятся «городскими». Их сознание приближено к природе. Героям из народа принадлежит оценка действительности, открывающая несоответствие естественным природным законам искусственных социальных правил. В революционное время образ деревни возникает в связи с мотивом спасения. Искаженный социальными изменениями мир теряет гармоничную природную основу. Пришедшие из деревень герои возвращаются назад, чтобы избежать смерти. Деревня спасает и городских жителей. Москвичи едут по деревням в поисках необходимых продуктов. Это актуализирует оппозиционную пару: голодный город – сытая деревня. Однако деревня не способна сохранить свое состояние неизменным. Гармония природного мира деревни разрушается пришлыми людьми. Альтернативой этому топосу выступает полностью лишенное человеческого вмешательства пространство леса. Это единственное постоянное и неизменное природное пространство в романе. Путешествие героев в лес сопровождается легкими и радостными чувствами. Пространство леса позволяет отграничиться от мира людей («встречных было мало»). Герои не сразу попадают в лес. Их движение имеет направление от безобидного и приятного пространства поля к пугающему своей вековой историей и мощью лесу: «Высокая трава била по ногам. Тропинок становилось меньше. В заповедный лес вошли, как в грот, раздвинув ветви старого кустарника» [С. 179]. Именно пространство старого леса показывает силу, могущество и неизменность природного мира. Наличие и значимость природного топоса в рамках других пространств обнаруживают и герои. Их можно классифицировать не только по территориальному признаку (герои, вышедшие из деревни, и городские герои), но и по степени соотнесенности с природой. Наиболее близки природе герои Дома. Так, постоянное научное взаимодействие профессора с миром природы позволяет ему смотреть на окружающую действительность сквозь призму природных законов. Поэтому все социально-исторические изменения приобретают «природную» оценку. Осмысленное поведение профессора, находящегося в состоянии природного созерцания и видимого безразличия к социальноисторическим переменам, обусловлено его ориентацией на вечные ценности. Уверенный в том, что природный мир не способны изменить 35 никакие человеческие действия, профессор на всем протяжении романа продолжает заниматься наукой. Близость к природному миру характерна и для внучки орнитолога. Воспитанная дедом Танюша тоже осознает приоритет всего природного в пространстве Дома, в пространстве Москвы и в пространстве Вселенной. Не всегда способная оценить значимость «природного» в повседневной жизни она открывает естественное начало внутри себя, отвергая все противоестественное. Танюша старается отграничить себя от влияния социума, сохранить внутреннее гармоничное состояние. В ряду романных героев революционного времени Танюша изображается единственной «достойной». Она признается достойной жить, в отличие от уже погибших или обреченных на смерть героев. Это признание дарится природой: «Стены шепнули струнам, струны донесли весеннему воздуху, – и вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил: – Axios! – Достойна!» [С. 152]. Символичным становится финал романа. Профессор просит Танюшу продолжить его труд: отметить в тетради день прилета ласточек. Тема преемственности поколений, осознания общей ответственности за природный в своей основе мир, рождает оптимистичный финал. Ценности деда поддерживаются и перенимаются внучкой. В романе представлена структура гармоничной Вселенной, как единой идеальной пространственной организации, имеет в своей основе природное начало (хотя имеет и социальный компонент). Оно проявляется в регулирующих мировые процессы (кроме социальных) законах. Естественно-природная основа вселенной прослеживается на уровне организации времени (исторического, сезонного, времени частной жизни), на уровне законов жизни мировых организмов (развития, старения, самосохранения), на уровне всеобщего подчинения порождающей и регулирующей жизнь силе Солнца. Параллельно Вселенной (включающей в себя признаки живого и неживого мира, социально-исторического, природного и культурного пространств) в романе возникает образ мира. Он схож по масштабу со Вселенским пространственным уровнем, но не тождественен ему. Вселенная имеет природную основу и выступает неуправляемой человеком, независимой от его действий категорией. Мировое пространство, напротив, напрямую связано с человеческой деятельностью: «Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль уходившая 36 по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизнь, и каждый считал себя и был центром. Центром своего мира был и Андрей Колчагин…» [С. 253]. Мир человеческого порядка предрасположен к завоеваниям и изменениям, что немыслимо в отношении Вселенной. Характеристика мира меняется в соответствии со сменой социально-исторической ситуации. Военный мир автор называет сошедшим с ума: «Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе» [С. 63]. Человеческий разум становится губительным для мира, в котором он живет. Наполненность мирового пространства, как и его пустота, становится важной характеристикой. Обнаруживаемые Астафьевым массовые убийства показывают истинный масштаб происходящего террора. Это особым образом отражается на мире: «Мир был. Но был мир пуст, мертв и бессмысленен» [С. 192]. Вселенная противопоставлена миру своим постоянством. Герои не замечают ее существования, самым большим пространственным образованием для них является мир. Для автора Вселенная – идеальное пространство. Единство природной Вселенной и человеческого мира оформляется благодаря Солнцу и связанным с ним мотивом света. Законам солнца подчинено все мирозданье. Световая энергия – единственный источник жизни: «Все, что делал полип и человек, – было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питанье, смерть – были лишь превращением его световой энергии» [С. 38]. Создающий свой мир и борющийся с солнцем человек опровергает эти законы. В противовес природе он пытается усилить свою роль, использует власть, не принимая в расчет природное. Действия человека «не одобряются» солнцем, особенно в периоды войны («Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро и плавной дугой ушло под землю, оставив красный след» [С. 66]) и ужасов октябрьской революции («Выглянуло было солнце зимнее, но в белом молоке исчезло» [С. 102]). С солнцем и мотивом света связана жизнь любимых героев автора. Оно подтверждает состоятельность жизни Аглаи Дмитриевны («солнышко улыбалось тебе»), его свет приносит радость профессору («день хоть и холодный, но солнечный и приятный»), его влияние испытывает на себе Вася Болтановский («это я от солнышка с ума схожу»). В романе «Сивцев Вражек» выстраивается панэстетическая картина мира с центром – Солнцем. В художественном мире М. Осоргина оно сопоставимо с божеством, которое руководит, направляет, дает оценку, наказывает. В противостоянии человек – 37 солнце для М. Осоргина очевидна победа солнца. Человеку кажется, что Вселенная тождественна мировому пространству, которое находится в его власти, но автор утверждает торжество управляемой солнцем Вселенной. Благодаря Солнцу самый масштабный природный топос не теряет прочных связей и не останавливает действия своих законов: «С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю – и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло было быть созданием солнца» [С. 38]. Утверждение природной власти Солнца ставит под сомнение все социально-исторические изменения и утверждает незыблемость природных законов способных упорядочить хаос человеческого мира. Ответьте на вопросы: 1. Назовите основную функцию природного топоса в романе. 2. В чем проявляется внешнее и внутреннее влияние природы на особняк профессора орнитологии? 3. Какова функция сезонного времени природы в романе? 4. Как проявляется природа в пространстве Москвы? Какой приговор выносит городской природе автор? 5. Существуют ли в романе истинно природные пространства? Какова их особенность? 6. Как соотносятся в романе категории вселенной и мира? Кто, по мнению М. Осоргина, победит в противостоянии «человек – солнце»? Почему? 38 2. «Вольный каменщик» М.А. Осоргина: метатекстовая организация сюжета Посмотрите значения слов в словаре: Фикция Мистический Трактовать Репрезентация Кодовый Воспевать Тематизация Профанный Проецировать Арсенал Юродивый Квалифицировать Поприще Сакральный Наставлять Метаморфоза Экстатический Умиротворять Камертон Авторефлексивный Фиксировать Клерк Малопросвященный Влачить Секта Перекочевывать Объясните словосочетания: Собственно литературная семантика структуры Двойственность знаковой природы Игра в семиотическом поле Соположение разнородных текстов Повествовательная манера Автокомментированное письмо Национальная культурная идентичность Разрешить внутреннюю дилемму Культурный штамп Развенчивать миф о собственной малости Фикциальная реальность Экстатическое слияние с природой Двунаправленная повествовательная структура В своей классической работе «Текст в тексте» Ю.М. Лотман обосновал собственно литературную семантику данной структуры, обусловленную двойственностью знаковой природы текста как «притворяющегося» самой реальностью и одновременно чьего-то создания, имеющего смысл: «Текст в тексте – это специфическое риторическое построение, при котором различие в закодированности разных частей текста делается выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста. Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом случае основу генерирования смысла. Такое построение, прежде всего, обостряет моменты игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст 39 приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер: иронический, пародийный, театрализованный и т.д. смысл»11. Введение чужого по отношению к «материнскому» тексту семиозиса переключает внимание «с сообщения на язык как таковой», обнаруживая кодовую неоднородность «материнского» текста12. Игра в семиотическом поле «реальность – фикция», осуществляемая при помощи разнообразных соположений разнородных текстов, обострилась в литературе и культуре ХХ века, имеющей в своем арсенале широкий спектр возможностей: от аллюзии и реминисценции – до зеркальности, двойничества и «текста о тексте». Наиболее изученным в этом смысле является «центонная» поэтика акмеистов, вызванная «установкой текста на самопознание, поисками мотивировки его права на существование, привлечением аргументов поэтической «правоты» <…>, рефлексией над собственными генератическими… и типологическими параметрами…», в связи с чем текст у акмеистов есть одновременно «повествование о событиях и повествование о повествовании в сопоставлении с другими текстами, т.е. сбалансированное соотношение собственно текстового, 13 метатекстового и «цитатного» аспектов» . «Текст о тексте», или метатекст, предполагающий изображение самого процесса письма и его комментирования, является самым убедительным способом саморефлексии прозы. Как отмечает исследовательница современной метапрозы, «изучение метапрозы не только выявляет актуальные и идеальные писательские авторефлексивные репрезентации, но и правила литературного развития и даже «проигрывание», виртуальное переживание его не осуществленных, но возможных вариантов», «ни в каком ином жанре невозможно присутствие столь широкого спектра значений, существенно необходимых для понимания современного авторского сознания и литературного процесса в целом»14. На наш взгляд, наиболее полное определение метатекста сформулировано в книге М.Н. Липовецкого «Русский постмодернизм» и означает «тематизацию процесса творчества через мотивы сочинительства, жизнестроительства, литературного быта и т.д.; 11 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. С. 13. 12 Там же. С. 10. 13 Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. С. 65. 14 Абашева М.П. Литература в поисках лица (русская проза в конце ХХ века: становление авторской идентичности). Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. С. 22. 40 высокую степень репрезентативности «вненаходимого» автора-творца, находящего своего текстового двойника в образе персонажа-писателя»; а это воплощается в «зеркальности повествования, позволяющей постоянно соотносить героя-писателя и автора-творца», структуре «текста в тексте» и «рамочного» текста; метатекстовых комментариях, трактующих взаимопроникновение текстовой и внетекстовой реальностей; «обнажении приема», переносящем акцент с целостного образа мира, создаваемого текстом, на сам процесс конструирования этого еще не завершенного образа», что активизирует читателя, поставленного в положение со-участника творческой игры» и приводит к усилению «творческого хронотопа» (Бахтин), приобретающего равноправное положение по отношению к окружающим его «реальным» хронотопам»15. Среди писателей первой волны русской эмиграции М.А. Осоргин воспринимался наиболее последовательным продолжателем традиций русского реализма. К.В. Мочульский писал, например, что он «своей простоте учился у Тургенева и Аксакова», с которыми был связан «не только литературно, но и кровно»16. Однако уже современная писателю критика отмечала изменение повествовательной манеры в последнем романе Осоргина. Одна из первых оценок принадлежит Глебу Струве: «В отличие от первых вещей Осоргина, роман написан в игривозамысловатом стиле, с игрой сюжетом, постоянным ироническим вторжением автора, с элементами «конструктивизма» (смысловая и стилистическая роль масонских символов и терминологии). Чувствуется, с одной стороны, влияние Замятина и советских «неореалистов», с другой – нарочитая попытка стилизации под XVIII век»17. В наше время В.В. Абашев продолжает исследование игровой поэтики Осоргина «как глубинной тенденции в развитии русской прозы ХХ века», обнаруживая многочисленные параллели с Набоковым в структуре повествования, мотивной организации, системе персонажей18. 15 Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. С. 46- 47. Ср.: «Рецензенты нередко говорили о писательской старомодности и даже провинциальности М.А. Осоргина, о его неприятии новейших веяний в словесности. Он действительно, как и Бунин, тяготел к классической школе с ее идеалами простоты и соразмерности, нетерпимости к любой эстетической фальши. Среди его кумиров – Пушкин (особенно нравилась его проза), С.Т. Аксаков (привлекал богатством и сочностью языка), Гончаров, Тургенев, отчасти Лесков и Чехов. В вечном споре «О Толстом и Достоевском» (в эмиграции его продолжали И.А. Бунин и Д.С. Мережковский) М.А. Осоргин безоговорочно был на стороне Толстого (Ласунский О.Г. Михаил Осоргин: структура, качество и эволюция таланта // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество: Материалы первых Осоргинских чтений / Пермский ун-т. – Пермь, 1994. С. 12. 17 Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris, 1984. С. 274. 18 Абашев В.В. Осоргин и Набоков: вероятность встречи // Михаил Осоргин: Жизнь и творчество… С. 28-37. 16 41 Удивительные конкретные совпадения между «Приглашением на казнь» и «Вольным каменщиком» (опубликованными, как показывает Абашев, в одних и тех же номерах «Современных записок» в 1935 году, так что о заимствованиях говорить не приходится), отвлекают от главного вопроса о функции автокомментированного письма в том и другом произведении. Сближаясь с Набоковым «по форме» (наличию метатекстовых структур, мотивам кукольного театра), «по сути» Осоргин не изменяет своим эстетическим (реалистическим) принципам, сохраняет единство реальности и текста о ней. Для доказательства необходимо рассмотреть соотношение жизни и текста, сюжета героя и сопровождающую этот сюжет авторскую рефлексию в романе «Вольный каменщик». В основе фабулы (изображение жизни простого русского обывателя, ставшего в эмиграции масоном) лежит проблема сохранения национальной культурной идентичности. Для М.А. Осоргина, эмигранта с тридцатилетним стажем, борца со всякого рода несвободой, любящего «плыть против течения» (Г. Струве), страстного патриота своей родины и русской природы, проблема сохранения национальной самобытности, и своей собственной, и в целом, эмигрантской культуры, стояла необычайно остро. Особенно болезненно Осоргин переживал «русский вопрос» в период своей второй и последней эмиграции 1922-1942 годов. В 1923 году в письме итальянскому профессору-слависту Этторе Ло Гатто Осоргин писал: «Русская революция, приведшая к гигантской национальной катастрофе, изменила отношение Европы <…> к нашей стране, к нашему народу и ее отдельным представителям <…> Русский за границей, независимо от своего социального положения – будь он политическим эмигрантом, изгнанным с родины, или служащим советов, – не может не чувствовать ряд унижений своей национальной гордости. Мы вдруг превратились в низшую расу <…> даже в друзьях мы часто не находим чувств, в которых нуждаемся. Потому что мы не жаждем сострадания или жалости, мы хотим быть признанными, хотим, чтобы знали истинное лицо России и принимали Россию такой, какая она есть, без экзотических прикрас и сентиментальных надежд на будущее исправление в духе хорошего европейского воспитания…»19. Семантика имени главного героя Егора Егоровича Тетехина, превращающегося из заурядного французского клерка в творческую личность – масонского брата и сознательного «Обитателя» природного 19 Цит. по: Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией. М.: Круг, 1992. 42 мира20, несет в себе национальный культурный код. Дважды борцом со змеем (в себе и окружающем мире) призван быть рядовой русский обыватель, «тетеха» (Егор – народная форма имени «Георгий»21, которое многократно обыгрывается в повествовании в связи с домашним именем героя (Гришей его называла жена) и его французским вариантом: Жоржем зовут сына Тетехина). Духовное самосознание героя начинается в момент вступления в масонскую ложу. Если не знать о масонской биографии автора, то окажется не совсем понятной выстроенная в романе зависимость космополитического духовного единения в братстве от русского происхождения и предыдущей жизни Егора Егоровича. Для русских масонов в эмиграции, и Осоргина в том числе, чувство родины входит в «масонское восприятие мира»22. Поэтому для героя Осоргина масонство как возможность обретения внутренней свободы нравственно определяющейся личностью невозможно без сохранения национальной идентичности. Кроме того, масонство, как форма вольномыслия в России, традиционно считается одним из путей возникновения интеллигенции23. И путь Е.Е. Тетехина, как мы увидим далее, спроецирован на существование русского интеллигента. Повествователь, взявший на себя задачу написать повесть о «человеке со смешной фамилией и прекрасным сердцем», с первых страниц характеризует его как «срединного, ничем не выдающегося», но русского по интенсивности судьбы: «Из одного года его биографии, правильно нарезав, можно было бы создать десять-двадцать полновесных житий англичанина, француза и итальянца; для русского человека – это как раз на одного» [С. 17]24. Сам Тетехин воспринимает братство по аналогии с национальной родственностью. Открывающиеся в результате обретенного братства лучшие свойства души героя – доброта, сострадательность, эмоциональная отзывчивость, любовь к людям и всему живому – квалифицируются окружающими как 20 Обитатель – один из псевдонимов, которым Осоргин подписал цикл своих рассказов (Обитатель. Окликание весны // Последние новости. 1930. № 3280. 16 марта – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992. С. 15. 21 Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. М.: Русские словари, 2000. С. 98. 22 Авторы вступительной статьи «Воспитание души» О.Ю. Авдеева и А.И. Серков приводят протоколы заседаний масонской ложи «Северная звезда», в которую входил Осоргин, и цитируют отчет одного из членов Переверзева: «Чувство родины, не поддающееся никакому рационалистическому определению, входит целиком в масонское восприятие мира, пламень его горит на алтаре нашего храма» (Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 11). 23 См.: Кондаков И.В. К феноменологии русской интеллигенции // Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 2000. С. 82. 24 Роман М. Осоргина с указанием страниц в скобках цитируется по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. М.: Московский рабочий, 1992. 43 «чудаковатость», «комплекс русского». Егор Егорович «стал учеником и неотесанным камнем», и в масонском братстве он надеется преодолеть свое одиночество эмигранта, чужеродность окружающей среды и (сначала неосознанно) семьи: «Или, как вчера говорил француз: «Где бы ты ни был, в любой чужой стране, в любом городе ты найдешь человека, который поймет тебя по знаку и слову и поможет тебе в затруднении» [С. 23]. Пытаясь проникнуть в тайный смысл масонских символов, он ищет аналогии им в собственной культуре: «Почему, например, треугольник? Потому что он соединяет три в едином. Ну, так что же из этого, и какие три в каком едином? И однако три – число священное с незапамятных времен. «Без троицы дом не строится» или там что-нибудь подобное» [С. 23]. В ложе Егор Егорович обретает истинного учителя – мастера Жакмена, наставляющего его на путь нравственного самосовершенствования – служения недостижимому идеалу. Очень быстро герой понимает, что «прежний Егор Егорович умер естественной смертью и истлел в земле; новый Егор Егорович лежит в пеленках, щурится от света и, не умея ни читать, ни писать, по складам произносит некое слово, не имеющее никакого смысла, но очень важное и очень таинственное» [С. 25]. С этого момента единый обывательский спокойный мир Егора Егоровича раскололся на «два мира»: на «мир рассудочный и логичный, мир монет, товаров и вечерних газет» и мир идеальный, «златорого оленя», которого нельзя догнать (из притчи, рассказанной Жакменом). Мир наполняется «тайнописью смыслов». Герой, который никогда раньше «о странной границе двух миров не думал», начинает существовать на границе бытовой, привычной и мистической реальностей, хотя присутствие последней может мотивироваться чтением и осмыслением масонских книг, легенд: «Вот он сидит, великий Трисмегистос, голова его увенчана коронованной чалмой с коническим верхом, в правой руке циркуль, в левой глобус; вдали распростер крылья царственный орел. И рядом за малым письменным столиком, Егор Егорович с трубкой в зубах <…>, – а перед ним загадочная малопонятная книга <…> Заведующий экспедицией тщетно силится понять «Изумрудную таблицу» Гермия. В кухне звякают кастрюли <…> Всегда чем-нибудь недовольная Анна Пахомовна недосчитывается соусника, не подозревая, что соусником завладел Феофраст Парацельс Бомбаст Гогенгейм, лысый, не без добродушия человек в длинной одежде, с солнцем и луной за плечами» [C. 26]. 44 Мистическое масонское пространство оказывается пространством культуры: вход в реальную ложу оборачивается проникновением в школу Геометрии Платона, из которой есть профанный выход – руководитель ложи «философ Платон продолжает служить агентом в Обществе страхования от огня, от старости, от болезней…» [С. 42]. Пятиконечная звезда – символ совершенного человека в масонстве – становится для героя путеводной: теперь стать «полным благородных чувств и просвещенным человеком» – его задача. В соответствии с тремя низшими иоанновскими степенями масонства25 Егор Егорович понимает задачу «отесывания грубого камня» своей несовершенной природы двуедино: духовно-нравственно и научнофилософски26. С жадностью малопросвещенного человека герой начинает страстно работать на ниве самообразования, он планирует пополнить свои знания по геометрии, истории, философии и естествознанию и заняться науками, с которыми не встречался – риторикой и диалектикой. Учитель Жакмен пытается скорректировать задачу в сторону самопознания: книга Тао-Те-Кинг («это почти его фамилия в его французском варианте», – догадывается Егор Егорович) оказывается помещенной среди вечных книг: Библии, Веды, Книги Мертвых, Корана; и смысл «нового знания» в том, чтобы вписать индивидуальный духовный путь человека в духовное развитие мира, однако сам герой до этого пока не дорос. Кроме того, Тао-Те-Кинг (искаженное название древнекитайского трактата о Добродетели и Потенции основоположника даосизма Лао-Цзы27) – это проповедь срединности28. Совпадение фамилии героя с названием восточного трактата кодирует жизненный путь Тетехина в соответствии со смыслами книги мудрости: «лучше всего удерживать срединность» (пятый джан «Тао…»); «человек мудрости помещает свою личность позади, а его личность оказывается впереди» (седьмой джан)29. 25 Интерпретация романа сквозь призму масонской символики представлена в диссертации Г.И. Лобановой (Лобанова Г.И. Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920-1930 годов. Дисс… канд. филол. наук. Уфа, 2002. С. 108-144). 26 «Розенкрейцерство имело две стороны: духовно-нравственную и научно-философскую. Первая боролась против упадка нравственности в обществе, вызванного отчасти отсутствием просвещения <…>; вторая стремилась дать положительное знание, в противность скептицизму энциклопедистов <…> Главное основание этики розенкрейцеров – познание самого себя и указание идеалов, к которым должен стремиться человек <…> Надо сделаться безгрешным, каким был Адам до падения, а для этого необходимо самоусовершенствование» (Лучинский Г. Франк-масонство // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Том ХХХV (72). С. 512-513). 27 Серков А.И. Комментарий // Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 328. 28 См. об этом: Лобанова Г.И. Указ. соч. С. 122. 29 Антология даосской философии. М., 1994. С. 25-26. 45 Но трудность «ученической деятельности» 53-летнего героя ничто по сравнению с ситуацией нравственного выбора, в которой он оказался благодаря подлости одного из своих подчиненных и братьев по ложе Анри Ришара. Ришар – полный антипод главного героя, которому в произведении уготована роль змея-искусителя жены, сына и самого Тетехина. С легкой руки Ришара, приведшего героя в масонскую ложу, рухнет вся его «профанная» жизнь: он останется без работы и без семьи. Именно в истории с Ришаром Егор Егорович впервые становится «нравственным змееборцем». Когда взяточник Ришар пытается воспользоваться особыми, братскими, отношениями с начальником, «спокойнейший и мирнейший из шефов истерически взвизгнул, затопал ногами и закричал непонятное на своем варварском языке» [С. 32]. Однако в «соборной душе» Егора Егоровича разворачивается целая буря противоречивых мыслей и эмоций. Вместо того чтобы наказать подлеца, Тетехин по-братски принимает его вину на себя («вовремя не подал ему доброго совета и не протянул руки помощи» [С. 35]), и даже приглашает домой на обед, чем вызывает недоумение самого Ришара: «Сказать, что Анри Ришар не смущен великодушием мосье Тэтэкин, было бы несправедливо. Во всяком случае, этот русский – большой оригинал <…> В общем – пресмешная история» [С. 37]. Если Ришар будет и дальше использовать юродивого шефа в своих целях, то другие служащие конторы, считающие непонятного Тетехина «разновидностью святого дурака» и «прекрасным человеком», «которого любой мерзавец может оставить в дураках», объясняют его чудачество ame slave (славянской душой) – «нечто вроде пуаро под шоколадным соусом с анчоусами» [С. 38]30. Можно предположить, что сознание героя раздваивается из-за принадлежности ответственного французского служащего к братству всего человечества, но брат Жакмен, к которому взволнованный герой отправляется «по-русски», без приглашения, обсудить ситуацию и получить совет, не понимает предмета внутренних противоречий русского брата, ведущего к чувству вины: «Думаете ли вы, дорогой брат, – говорит он Тетехину, – что масонство призвано решать 30 Ср.: «Понятие «интеллигенция» в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец <…>, «служба воспитанности <…> [Служба совести – М.Х.] проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими – с властью и народом <…> Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни второй половины XIX – начала XX в» (Гаспаров М.Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигенция. История и судьба. С. 9). Герой Осоргина испытывает чувство вины перед подчиненным Ришаром, но оказывается непреклонен в отстаивании своих этических принципов в разговоре с директором компании по поводу распространения порнографического журнала. 46 профанские дела и делишки? Мальчишка оказался негодяем – при чем тут Братство вольных каменщиков? Прогоните его со службы – и вы будете правы» [С. 33]. Этот слишком «европейский», рациональный совет не разрешает внутренней дилеммы Егора Егоровича. В какой-то момент герой стыдится своей национальной чувствительности и задается вопросом европейца: «На каком основании он поощряет и тем плодит порок во вверенном ему учреждении? За чей счет? Кто поручил ему заниматься нравственным перевоспитанием человечества вообще и Анри Ришара в частности вместо того, чтобы следить за процветанием экспедиционной конторы? И нельзя ли в деле чисто коммерческом, да еще чужом, обойтись без эманаций славянской души и без Теодор Достоевски?» [С. 39]. Имя Достоевского выступает здесь культурным штампом представлений европейцев о русской ментальности, однако автор, сопроводивший героя в эмиграцию со статуэткой Достоевского (на камине 2 статуэтки – Жанны Д Арк, «на сходство с которой (до носа) претендовала Анна Пахомовна», и Достоевского), вряд ли подвергает сомнению этот символ русской души. Однако жертвенность героя граничит с прекраснодушной мечтательностью. Пространством мечты героя (введенным в повествование как «текст в тексте», наряду с масонскими легендами) моделируется равноценность мечты и реальности, должного и сущего в его сознании (сюжет о спасением кошки в гл. 6, где хозяйка воображаемого пострадавшего животного благодарит героя за великодушие, свойственное русским; мечты о возрождении духовности в периодической печати с помощью масонов, как это было когда-то в России, при возникновении организаций – в гл. 9). «Метаморфозы», происходящие во внутреннем мире героя благодаря усиливающейся тяге к науке, образованию, увеличивают его отчуждение от семьи. Чтение начинает заполнять жизнь Егора Егоровича и размывать границы между мыслимым и действительным мирами, и повествователь не без иронии фиксирует почти фанатичную устремленность героя к конкретному знанию, подменяющему высокую духовную идею: «На пути в главную контору Кашет с месячным отчетом своего отделения Егор Егорович штудирует зоологию, предмет поистине увлекательный. Тургеневская библиотекарша, Марья Петровна <…> заполнила его портфель двумя толстыми томами Брэма, посулив и остальные восемь. Область распространения полосатой гиены гораздо больше, чем у других видов; она еще встречается во всей Северной Африке <…> и до Бенгальского Залива. Знаю бенгальский Залив, проезжали мимо. Как Сольферино? Пересадку-то я и пропустил! 47 Ну, пересяду на Сэн-Лазар, лишних минут десять. Ее детеныши похожи на старых <…> станция Мадлэн, пересадка на следующей. Сунув палец в пасть Брэма, Егор Егорович идет с толпой душным подземным коридором; все это – спешащие служащие, комиссионеры, барыньки за покупками. При случае они хватают овец, коз, а также и собак. Молодые экземпляры считаются в Индии довольно способными к приручению. Далее на север <…> стоп: станция Реомюр» [С. 49]. Несмотря на то что Егора Егоровича не понимает не только его собственная семья, но и некоторые из братьев-масонов (один из почтенных французских братьев спрашивает, зачем Егору Егоровичу читать по истории религий, когда можно обратиться к знакомому кюре, «которые все это назубок знают», а его сын Жорж, будущий французский инженер и гражданин, которому русский отец советует «читать как можно больше и по естественным наукам и по философии», отвечает ему на плохом русском и с сильным акцентом о ненужности чтения по естествознанию для профессии инженера; с Анной Пахомовной, не одобряющей новых занятий мужа, происходят свои метаморфозы: «мусор греховных мыслей» о Ришаре порождает желание «офранцузиться», поменять прическу, привычки, говорить на французском), герой последователен в своей уверенности, что «никакое знание нелишне для посвященного» и горе лишь в том, что «столько лет потеряно напрасно» [С. 50]. Но как только герой встречает необходимого ему на новом поприще проводника в мир науки и учителя, к которому у него «куча вопросов», знакомого казанского профессора Панкратова, его утопическая в своей абсолютности вера в знание рушится. Лоллий Романович Панкратов («всевластный», «дважды римлянин», т.е. истинный служитель науки, культуры, духовности) влачит одинокое голодное существование в чужой стране, в комнате для прислуги на 7 этаже, и клеит этикетки (псевдотексты) на коробочки с надписями средств от полысения и проч. Егор Егорович потрясен несправедливостью мира, он впервые открывает, что знания не облегчают жизнь человеку («знаний все больше, а счастья все меньше»). Бунт героя, не желающего «быть бессмысленной скотиной, как был до сей поры», и требующего от профессора «немедленного ответа на то, что есть истина» (тогда как сам он истину видит во всеобщем благе), – русский бунт31. Метатекстовый пародийный прием – изображение 31 Ср.: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине <…> Интеллигенция <…> корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного 48 автором версии поведения своего бунтующего героя («Вот идет Егор Тетехин, воплощение бунта и восстания <…> и согнутой рукоятью трости бьет стекла магазинов, уличные фонари <…> и нет ему покоя на земле» [С. 68]) – остраняет и доводит до абсурда, казалось бы, благие мысли героя, тем более что бунтующий герой по контрасту попадает в гармонизирующую атмосферу масонского храма. На заседании ложи герой переживает соборное единение: «чувствует, как сердце его отходит, и, отказавшись от самостоятельного галопа, норовит попасть в общий шаг», видит «чудо превращения», приобщается «к тайне посвященности»; и благодарное сердце «побеждает» ограниченный разум: «Он сам – маленький конторский служащий, никогда бы не узнавший ни бунта, ни радостей прозрения, если бы благодетельная рука однажды не простерла над ним бутафорский пламенеющий меч, если бы в руку его не сунули долото и деревянный молоток. И уж если это забава, то будь она благословенна! Деревянными молотками ржавое железо душ перековывается в металл благородный» [С. 71]. Однако не так просто умиротворить новоиспеченного русского масона ритуальной деятельностью («как будто больше слов, чем дела», – говорит он одному из братьев): проснувшаяся совесть Егора Егоровича требует конкретного дела, к чему он и призывает, «неожиданно сам для себя», озадаченных братьев по ложе, окрестивших между собой русского брата «хоть и недалеким, но славным малым». Герой Осоргина обречен на «торопливость в делании добра»32. Не ограничиваясь формальной акцией, Егор Егорович вскоре организует «союз помощи»33, или «союз облегчения страданий»: с аптекарем Руселем и торговцем обоями Дюверже налаживает благотворительную раздачу лекарств малоимущим. Вначале конкретное дело стыдящегося своего благополучия Тетехина не совсем понятно его рационалистичным французским друзьям, которые воспринимают переворота, народного благополучия, людского счастья… (Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. Из глубины. Сб. статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 17). 32 В своей публицистике Осоргин много писал о прагматизме буржуазной эпохи. Например, по поводу одного из представителей вымирающего типа русских интеллигентов: «Личное дело, «торопливость в делании добра» уже не идут в счет там, где раздается проповедь созидания общечеловеческого счастья любыми мерами, вплоть до единичного и массового убийства, где «сегодня» приносится в жертву гуманному будущему. <…> Вымерли чудаки, люди малых дел, утрированные филантропы, их сменили вожди, люди грандиозных заданий, командиры вооруженных спасателей человечества» (Осоргин Мих. Утрированный филантроп // Последние новости. 1936. № 5754. 25 дек. – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. С. 14). 33 Название отсылает к Помголу, активным организатором и участником которого был Осоргин, подвергшийся за это тюремному заключению, смертному приговору, замененному нансеновским паспортом. 49 проект как финансовую операцию. «Наконец, до его [Дюверже – М.Х.] сознания дошло, что ему попросту предлагают жертвовать франков пятьдесят в месяц на отпуск неимущим йода, салицила и слабительного. Тут его мысль начала путаться, а вместо нее заговорило то неразумное, щекочущее, но приятное чувство, которое он привык испытывать на тайных собраниях ложи, но в природе которого никогда не мог разобраться» [С. 150]. Позже, в самый трудный момент своей жизни, оставшийся без работы и почвы под ногами «утрированный филантроп» Егор Егорович Тетехин пожертвует свои последние сбережения на благотворительные взносы за полгода вперед. Милосердие создает истинное братство: «в мире прибавилось трое счастливых людей, несколько смущенных своим счастьем» [С. 152]. Для двух французов брат Тэтэкин – «обладатель славянского сердца», дружба с которым дает смысл в жизни, и на последней встрече они переживают экстатическое единение душ. Использование повествователем при изображении «триптиха святых дураков» комедийных красок не снижает высоты их помыслов: (для повествователя) в их маленьком добром деле «больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей» [С. 72], их имена образуют «культурный треугольник» – Жан-Батист, св. Георгий и Себастьян. Любовь и жалость к человеку оказывается сильнее доводов разума. Несмотря на предостережения двух самых авторитетных для Егора Егоровича людей – «посвященного» брата Жакмена («от обмирщения символических восприятий», «ведь великий мастер менее всего был революционером» [С. 90], и «непосвященного» профессора Лоллия Романовича (скептически относящегося к жертвенности отдельных людей в век наступающего тоталитаризма34), он продолжает делать свое дело, сочувствуя и помогая им обоим, чем и вызывает их ответные добрые чувства. Факт организации благотворительной аптеки отсылает к русскому масонству: «Новиков и его товарищи по Дружескому Ученому обществу основали огромную аптеку на Садово-Спасской, где новейшие лекарства отпускались по низким ценам, а беднякам – бесплатно»35. Позднее, в период борьбы с журналом «Забавы 34 Профессор рисует Егору Егоровичу картину тоталитарного рая, сильно напоминающую Единое Государство Е.И. Замятина, которому Осоргин посвятил статью (Осоргин М. Евгений Замятин // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1. С. 142-148). Интересно, что Г. Струве писал в свое время о воздействии на игровую поэтику позднего Осоргина «советских «нео-реалистов» и Замятина в том числе (Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 274). 35 Иванов Вяч. Вс. Интеллигенция как проводник в ноосферу // Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 2000. С. 51. 50 Марианны», герой (вдруг, немотивированно) вспомнит о нравственной роли русского масонства в духовной жизни общества: «Разве не так было у нас в России при Екатерине, в дни Николая Новикова? Разве не вольные каменщики заложили основы нашего просвещения? <…> Егор Егорович с объемистой тетрадью подымается на Восток и занимает место витии. Речь его льется плавно, повествование его обосновано документами славной эпохи от Великой Екатерины до благословенного Александра. Тайная ложа Гармонии, Дружеское ученое общество. Московская Типографическая Компания. Великая Директориальная ложа. Союз Астреи. Сумароков, Херасков, Карамзин, Пушкин, Грибоедов, Пестель, Рылеев, Муравьевы. Михаил Илларионович Кутузов. Генералиссимус Суворов…» [С. 114]. Вряд ли рядовой почтовый служащий, не помышляющий в России о масонстве (каковым был Тетехин) мог знать названия и участников русских лож. Автор «поручает» герою информацию, необходимую для заострения собственной идеи о генезисе русской интеллигенции, корректируя и список выдающихся масонов в пользу деятелей, формировавших национальную культуру: писателей, полководцев и декабристов36. Есть и еще одно указание на русское масонство 18 века – новиковский розенкрейцеровский кружок: титул учителя Жакмена – рыцарь Розы и Креста37. Секта Розового Креста была в основе немецкого розенкрейцерства, принятого московскими масонами38. В этой связи настойчивое увязывание масонской деятельности героя с русской масонской традицией, конечно, не случайно и выводит на важные для автора проблемы происхождения39 и, особенно, сохранения интеллигенции как культурного генофонда нации в условиях 36 В исследованиях Т.А. Бакуниной, жены М.А. Осоргина, «Знаменитые русские масоны» и «Русские вольные каменщики» указаны и государи, и государственные деятели, которые в романе не названы. В заключении предисловия к парижскому изданию, подписанном В.К. (Вольный Каменщик), неизвестный автор проводит близкую Осоргину мысль о генетической связи русской интеллигентской культуры с масонством (Бакунина Т.А. Знаменитые русские масоны. Русские вольные каменщики. М.: Интербук, 1991. С. 9). 37 «Розенкрейцеры, т.е. Розы и креста. Роза – символ вечной материи, возрождающихся сил природы, над распознанием законов коих работали розенкрейцеры; крест – символ духа, истинное происхождение и назначение коего розенкрейцеры также стремились познать» (Масоны. История, идеология, тайный культ. М.: Вече, 2005. С. 317). 38 См.: Масоны. История, идеология, тайный культ. М.: Вече, 2005. С. 218-224. 39 Масонство XVIII века его исследователи называли «первым кружком русской интеллигенции» (Семека А.К. Русское масонство в 18 веке // Масонство в его прошлом и настоящем: В 2 т. 1914-1915. М., 1991. С. 134). Р.М. Байбурова, например, относит московских масонов 18 в к русской интеллигенции, т.к. на первый план они выдвинули «проблемы нравственного самосовершенствования и совестливого, уважительного отношения человека к человеку, братской любви, подтолкнувших русское общество к восприятию этих истин» (Байбурова Р.М. Московские масоны эпохи Просвещения – русская интеллигенция XVIII в // Русская интеллигенция. История и судьба. С. 250). 51 эмигрантского изгнания. По-настоящему духовная работа начинается у героя на природе, во время одинокого пребывания на своем дачном участке под Парижем40. Именно там формируется жизненная философия героя – философия природокультуры. Егор Егорович отбывает на дачу с тремя книгами: «Спутником садовода», Библией и «творением высокоученого Папюса» («масонским справочником»); «на месте его ждала великая книга Природы» [С. 74]. На природе герой не только занимается садоводством, но и возделывает свой духовный сад: впервые внимательно читает и переживает Библию, осмысливает легенду о Соломоне и Хираме. Введение текста легенды в повествование не только задает всякой человеческой жизни универсальный масштаб судьбы, но и позволяет изобразить рождение саморефлексии в герое, его духовное становление через переживание, усвоение текста культуры: «Вот каков был Хирам дремавшего Егора Егоровича, а в сердечко глухой ставни пламенеющим мечом врывался лунный свет и сияющим пятном пробуравливал стену. Подобного не бывало раньше: жизнь была, конечно, довольно удобной, но не была сказочной. Дела-делишки, годы прибывали, волосы седели, – а зачем все это? И вот вошло в жизнь новое, заманчивое, а кругом, в сущности, не бушующий океан, как стараются описывать нашу жизнь, а, правильнее сказать, томительное топкое болото. Мастер Хирам приходит из иного мира – настоящий учитель мудрости и созидатель неизреченной красоты. Откуда берутся в голове мысли, откуда рождаются картины, нигде не описанные? Никак этого не объяснишь» [С.77]. Здесь, на природе, герой постигает смысл легенды о Хираме как главной заповеди масонства о недостижимости истины, к которой следует стремиться. Но достигается это понимание не умозрительно (готовая истина Жакмена не была усвоена учеником: охота на оленя, которого невозможно догнать, была воспринята начинающим масоном как новая оригинальная сказка), а в процессе единой природномыслительной деятельности, которая носит сознательнобессознательный характер, поэтому прозрение приходит на границе сна и яви, когда размышления о вечном соседствуют с планированием 40 Известно, что у Осоргина был участок земли с домиком в Сен-Женевьев де Буа. Т.А. БакунинаОсоргина вспоминала: «Своими руками обработанная земля, выращенные из черенков розы, акация, развившаяся из тоненького стебелька в громадное дерево,- все это создавало свой особый мир, позволяло уходить от тягостей жизни в природу, заполняло пустоту и безнадежность, которая с годами чувствовалась все сильнее» (Cahiers du Monde Russe Sovietique. Vol. XXV (2-3). April – Septembre. 1984. Paris. – цит. по: Осоргин Мих. Вольный каменщик. М., 1992. С. 7. Розы и акацию как культовые растения, символизирующие единство природы и культуры, выращивает и герой Осоргина. 52 повседневной огородной работы: «Вот сейчас, например, все-таки помнят, что такой Храм был, Храм Соломонов <…> «Я тебе построю Храм» – и веками и в веках… но сам-то не вечный. И действительно, все время разрушается! Пожалуй, уж часов одиннадцать, а в семь часов непременнейшим образом встать и поливать грядки, грядку за грядкой, все грядки в порядке…» [С. 78]. Герой Осоргина стал Цинциннатом (название главы), счастливым человеком, познающим Природу. Экстатическая творческая радость, переживаемая героем, разделяется и усиливается автором, субъектно демонстрирующим читателю свою готовность изменить создаваемый им сюжет повести в пользу воспевания природы: «Если бы не скудость слов и не холодок белой бумаги; если бы не застенчивость автора, уставшего улыбаться читателям всеми родами крашеных масок; если бы не вечная проклятая боязнь остаться не до конца понятым и вызвать скуку, – мы бы резко изменили весь тон нашей повести для тех глав, где мы видим Егора Егоровича Тетехина примкнувшим ненасытными устами ко груди матери-природы <…> Мы рядком с нашим героем простираемся ниц перед величием этой Природы, которая и в измятых и лохматых одеждах остается для нас единой царицей и повелительницей. Ни перед кем рабы – только перед Нею! И только Ей молитва – страстным шепотом немеющих губ! Побеждать Ее – никогда! Изумленно смотреть, учиться и вечно сливаться с Нею!» [С. 80-81]. Иронично-игровой повествовательный тон уступает место страстнопублицистическому и возвышенно-поэтическому авторскому слову. Слом в повествовании фиксирует потрясение, переживаемое героем, которое приведет к обретению гармоничного мировосприятия. В ситуации сильного эмоционального накала и «перелицованный» текст Пушкина не выглядит нарочитым, а обретает сакральный статус вечного текста культуры о духовном прозрении: «И тогда Она [Природа – М.Х.] простерла над ним лилейные руки и благословила его на счастье творческого познания. Она не посчиталась ни с его житейской малостью, ни с сумбуром догадок и знаний, нахлестанных из популярных книжек и остальных учебников. Она рассекла ему грудь мечом, и сердце трепетное вынула, и угль, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинула. И тогда Егор Егорович услыхал и понял то, чего не может услышать и понять непосвященный» [С. 81]. Посвященному природой Егору Егоровичу открывается стройная взаимосвязанность и взаимообусловленность происходящего в природном мире, значимость и равновеликость жизни петуха, собаки, мошки. 53 Природа становится камертоном в углубляющемся расхождении Егора Егоровича с женой и сыном. Анна Пахомовна, мастерица составлять букеты из уже выращенных цветов, отпуску в загородном домике предпочитает модный курорт с сыном и Ришаром. По контрасту с трепетным и глубоким переживанием единения с природой Егора Егоровича изображается приезд на загородный пикник семьи во главе с Ришаром. Гости за неполный день разрушают созданное природой и Егором Егоровичем: Ришар, не видя, топчет семью анютиных глазок, Анна Пахомовна, не задумываясь, рвет самый красивый тюльпан, Жорж «сшибает головки маргариток», швыряет камушки в птичий домик, который (к ужасу Егора Егоровича) покидает красногрудка. Напротив, отношения с профессором Панкратовым, которого герой приглашением на дачу спасает от голодной смерти, только укрепляются. Лоллий Романович не просто ученый, а ученый-биолог, способный, несмотря на скепсис рационалиста, разделить с Тетехиным радость существования в природе. Их объединяет и символическая для культуры акация, и память о казанских пихте, ели, березе. Милосердная душа Тетехина (принесшая в жертву свое счастливое загородное одиночество и, «к большому своему удивлению», пригласившая профессора на две оставшихся недели отпуска на дачу) окажется сполна вознагражденной чувствами братского единения с земляком и новым другом. С возвращением в цивилизацию, в «мир, совершенно чуждый Егору Егоровичу», – в Париж и в семью – начинаются испытания героя: его духовная мудрость и душевная стойкость подвергаются проверке. Егора Егоровича ждет череда предательств, но его это не сломит. История о трех предателях мастера Хирама не случайно предшествует реальному предательству героя со стороны жены, Ришара и уволившего его со службы шефа компании. Герой переживает легендарный сюжет предательства, отождествляя себя с каждым из шпионов Соломона из-за собственного несовершенства: «В темноте, локтем на подушке, Егор Егорович думает о том, что все три имени, Юбелас, Юбелос и Юбелюм, суть не что иное, как псевдонимы заведующего экспедиционным бюро Тетехина, который, никем, конечно, не подкуплен, но обладает всеми недостатками и пороками дурных подмастерьев: недостаточной пламенностью, неспособностью отрешиться от мирского, непросвещенностью и, кажется, даже гордыней» [C. 95]. Герой, как истинный вольный каменщик, «начинает с себя». Прорыв глубинного чувства вины, вины эмигранта перед своей утраченной родиной, происходит во сне, где герой отождествляется с третьим шпионом: «Я не тот, я не убийца, не раб и шпион царя Соломона. Я – Абибала, 54 мирный труженик, отец семейства, усердный служака очень прочной французской коммерческой фирмы. И я даже не Абибала, а просто – Егор Егорович Тетехин, муж своей жены, казанский простак, убежавший от революции. Чего вы хотите? Я не мог остаться, я и не герой, и не строитель, я совершенно не подготовлен жизнью ни к мученической кончине на костре, ни к сожиганию на том же костре ближнего. И это не от равнодушия и беспламенности, а только от моей природной малости, в которой я, во всяком случае, не виноват» [С. 9798]. Однако явившийся в том же сне брат Жакмен в очередной раз напомнит герою главную заповедь масонов – «ценить свой храм недостроенным, видеть блаженство в небытии и смиренном возрождении – опять в виде зерна, ростка и растения, которое расцветает, чтобы погибнуть» [С. 98] – и удостоверит его движение вверх по духовной лестнице присвоением звания мастера. Результатом этой ступени развития героя явится понимание, что «никакое маленькое дело не пропадает и никакой самый маленький человек не бесполезен, если только он работает по чистой совести и доброму сговору с другими» [С. 112]. Далее Егор Егорович начнет развенчивать свой миф о собственной малости; он будет бороться со злом как истинный масон и неуемный русский (для которого «мир подлежит пересмотру») и совершит сразу несколько подвигов. Он начнет борьбу (ни много ни мало) за сохранение европейской культуры, против распространения порнографических изданий и готов покинуть работу, если его принципиальная позиция не будет удовлетворена, чем вызывает искреннее недоумение начальника, на первый раз уступившего «горячему русскому». В беседах с Лоллием Романовичем, который рационалистически пытается уберечь своего друга от разочарований и потерь, Егору Егоровичу «внезапно открывается самое главное, то нелогичное, чего не поколеблет никакая логика <…> Путь вольного каменщика един и прям <…> Нет малого и великого: микрокосм равен макрокосму <…> Рушилась с грохотом Вавилонская башня напрасных умствований – выжило и проросло горчичное зерно простой правды. Ум – дешевая стекляшка! Только любовь, Лоллий Романович, только любовь! Это и есть творческое постижение вечно убегающей истины!» [С. 124]. Получив анонимку о неверности жены и не сразу осознав, что она адресована ему (за что отправившая письмо из лучших побуждений секретарша Ивэт называет его «кретином»), Егор Егорович не может оскорбить Анну Пахомовну даже тенью сомнения в ее честности, – она 55 никогда не узнает о существовании этого письма. Позднее он благословит жену и сына на более благополучное существование в Марокко, поняв и объяснив французское гражданство Жоржа жизненной необходимостью. Конец профанной жизни героя ускорило предательство Ришара (совпавшего с болезнью Егора Егоровича, недельным нахождением на границе жизни и смерти), приведшее к потере работы, семьи и места во французском обществе. Однако «возвращенный к жизни» герой уже способен подняться над личной участью и воспринять собственные беды как знаки гибели культуры, человеческого братства. Французы, глухие к участи уволенных с работы иностранцев, советуют Егору Егоровичу вернуться в Россию, где нет никакой безработицы и все благоденствуют. Герой теряет всякую надежду найти работу – и жертвует свои последние сбережения в кассу «союза помощи». Он принимает завет мастера, умирающего Жакмена («Уходящего мастера сменяет новый, работа не должна прекращаться! [С. 184]), и «с этого момента духовный путь Егора Егоровича навсегда определился» [C. 186]. Вера в собственные внутренние силы позволяет герою вступить в открытый и буквальный поединок со Змеем: Егор Егорович бьет Ришара, воплощающего в себе все зло мира, тростью (символическим мечом) по голове. Герой не без боли расстается с теперь чужими ему женой и сыном и удаляется в свой загородный домик с одиноким профессором. Последняя глава, названная несуществующим в латыне словом «vitriolum» (основа означает – «что-то неуловимое, из тонкого стекла»), возможно, отсылает к тайне слова, которое каждый должен найти сам, как нашел его герой Осоргина. Эпиграф к главе («Посети недра земли – и путем очистки ты откроешь Тайный Камень истинной Медицины») может толковаться расширительнее, чем достижение высших степеней масонства: не пострадав, не исцелишь других. На это указывает перевоплощение повествователя в «небесного адвоката» находящегося между жизнью и смертью Егора Егоровича: адвокат просит оставить героя «там, где он нужен и где, сам того не зная, он лечит всякого, с кем соприкасается, найденным им философским камнем». Существующая в другом повествовательном пространстве, за границей «сюжета героя», «адвокатская речь» утверждает ценность «срединного» пути «маленького человека»: «Он кажется вам малым и ничтожным, не заслуживающим вашего внимания? А я вам говорю, что этот нескладный и добрый чудак духовно выше ваших прославленных героев, ваших любимых модных философов, политических вождей, 56 изобретателей, сладкогласых поэтов, чемпионов бокса, актеров киносцены и нобелевских лауреатов науки и литературы. Кто сказал вам, что истина опирается на плечи гигантов и макушки гениальных голов? Неправда! Ее куют срединные люди, пасынки разума, дети чистого сердца, способные постигнуть то, чего не могут найти холодные мудрецы, запутавшиеся в таблицах умножения» [С. 166]. Итак, фабула романа – изображение событий судьбы Егора Егоровича Тетехина – выстраивает модель интеллигентского существования, с жаждой справедливости, «наследием нестяжательства», комплексом «юродивого» (святого дурака), чувством вины перед страдающими и подчиненными и свободой от вышестоящих, благотворительностью и стремлением к духовному и интеллектуальному развитию и просвещению себя и других, поиском утраченной веры и обретению ее в масонстве, культом братства и готовностью пострадать за свои убеждения и ценности. Однако, помимо «сюжета героя», роман обладает автометаописательной структурой «текста» о «тексте», обнажающей проблему текста и жизни в значении истинной и неистинной реальности. Автор выстраивает 3 повествовательных уровня: 1) повествование о написании повести о Егоре Егоровиче Тетехине, оформленное рамкой вначале и в конце и содержащее комментарии в процессе создания текста; 2) сюжет героя «как сама жизнь»; 3) тексты масонских легенд, ритуалов и символов. Естественно предположить, что повесть о герое, масоне и интеллигенте, прокомментированная автором и встроенная в корпус масонских поэтических текстов, несет в себе и задачу изображения жизни русских эмигрантов как она есть, и возможность обнажения авторского сознания, сокровенных мыслей о национальной ментальности и путях сохранения национальной культуры, в том числе и интеллигенции. Как уже было сказано, «сюжет героя» ограничен рамкой «повести о герое». Наличие жанрового определения (повесть) и метаструктурных элементов в тексте романа не дают читателю отвлечься от того, что перед ним – литературное произведение о жизни русского эмигранта. Повествователь на протяжении всего повествования «занят» процессом создания фикциальной реальности: «Постепенно расскажутся некоторые подробности парижской жизни Егора Егоровича Тетехина, а предварительно излагать их вряд ли нужно» [С. 17]; «Маленький сдвиг картины – и Егор Егорович оказывается за липким мраморным столиком» [С. 65]; «Полюбовавшись на свое произведение, художник впихивает его [Тетехина – М.Х.] в пасть метро, протаскивает волоком под землей и вытягивает в другом конце Парижа, скрыв от профанов 57 название квартала» [С. 68]; «Схема дальнейшего повествования такова» [С. 102]; «Ход повести заметно ускоряется» [С. 152]; «Остальная часть сцены интереса не представляет» [С. 181] и т.д. Более того, традиционность романной структуры (в центре – биография рядового человека41) воспринимается как следование законам русского классического романа, в котором события эмпирической реальности переведены в текст42. Текст о герое сопровождается прямыми авторскими вторжениями, оценками и назиданиями в духе толстовских отступлений: «И да воссияет на небе сознания нашего сия пятиконечная звезда!» [С. 45]; «О, дети, берегите и хольте свои яхточки! В них больше всамделишной истины, чем во всех хартиях вольностей!» [С. 72]. Имена Пушкина, Толстого, Достоевского имеют в романе Осоргина абсолютное, сакральное для русской культуры и ментальности значение (Анна Пахомовна профанирует образы Татьяны Лариной и Анны Карениной, бюсты Достоевского и Жанны Д Арк на камине Тетехиных воплощают соответственно русский и западный психотипы, экстатическое слияние с природой главного героя изображено «языком» пушкинского «Пророка»). Повествователь вступает в дружеский диалог как с героем, так и с читателем. Если переживания первого он всецело разделяет и оправдывает («Тут тайна, Егор Егорович, и радостно, что тайна существует и что она так многообразна» <…> Тут, мой дорогой, никакие рассуждения ничего не дадут, а раз тебе хочется верить, ты, Егор Егорович, верь и радуйся своей вере…» [С. 70]), то второго вовлекает в процесс создания сюжета постоянными обращениями и риторическими вопросами («Что общего между Егором Тетехиным, одним из служащих конторы Кашет, и Гермием Трижды Величайшим, сыном Озириса и Изиды, открывшим все науки?» [С. 25]; «Неужели вы думаете, что маленький человек об этом не помышляет или не имеет права рассуждать?» [С. 103]; «А вы понимаете, по каким побуждениям мадемуазель Ивэт рвет письмо на мельчайшие кусочки и выходит с видом, нисколько не напоминающим святую деву?» [С. 118]; «Но нам приятно, не пытаясь интриговать читателя, заранее предупредить его, что победителем останется вольный каменщик» [С. 119]). Постепенно и читатели перекочевывают внутрь художественного пространства и превращаются в участников событий повести: «Уезжающих Анну Петровну и инженера Жоржа провожает огромная толпа; ней отметим 41 О. Мандельштам в статье «Конец романа» назвал «мерой романа» «человеческую биографию». Это подтверждают и существующие интерпретации «Вольного каменщика» как романа о «маленьком человеке» (см., например, указ соч. Г.И. Лобановой). 42 58 опечаленного предстоящей разлукой Егора Егоровича; остальные – читатели, навсегда расстающиеся с почтенной русской женщиной и ее французским сыном» [С. 208]. Границы между текстом и жизнью оказываются проницаемыми: жизнь «перетекает» в текст, но и текст удостоверяет «правду жизни». Всеведающий повествователь создает иллюзию достоверности, «записывая» реально происходящее: «Если бы кто-нибудь знал, что будет завтра, он удивился бы, как эта женщина может спокойно есть» [С. 52]; «Но еще никто не знает, что прописывать счетов ему больше не придется, – это в дальнейшем будет делать Анри Ришар» [С. 168-169]; «Каким все это кажется сказочным и далеким от действительности! А между тем в канцелярии министерства колоний благодетельный чиновник как раз макает перо в чернильницу – мир иллюзий вот-вот обратится в действительность» [С. 200]; «Заглянем в щелочку: что это он там такое вынимает из тайного ящика <…> ?» [С. 215]. Для доказательства подлинности изображаемого повествователь даже открывает читателю «несовпадение» форм реальной и фиктивной событийности: «Нижеследующий отрывок написан в форме монолога, но в действительности это была беседа, даже ряд бесед, преимущественно за столиком кафе на улице Вожирар <…> Обработанная для печати речь Лоллия Романовича принимает следующий вид…» [С. 121]. Герои произведения также оказываются людьми со своими неповторимыми характерами, и автор с удовольствием демонстрирует их нелитературность, независимость от собственного замысла. Авторские версии поступков персонажей служат оживлению последних. Например, в момент встречи супругов после возвращения Анны Пахомовны с курорта, ироничный повествователь сначала выстраивает «литературную» модель их поведения: «О прости, прости меня!» – воскликнула опозорившая себя, но раскаявшаяся женщина, ломая руки. «Я знал это и был готов к худшему». – «О нет, я осталась тебе верна, клянусь!» – «Не нужно клятв, я верю. <…> Он протягивает ей руку, которую она хватает и целует. Комната наполняется хныкающими от умиления ангелами, а радио за стеной играет гимн Гарибальди или «Славься-славься» [С. 131]. Но «жизненная» логика характеров берет верх: «Именно так мы и закончили бы главу «Забавы Марианны» или даже всю повесть, если бы подобна сцена, сама по себе сильная, хоть немного соответствовала характерам героев. И однако Анна Пахомовна просто ответила: 59 – Жоржу я позволила остаться и дала немного денег. Но это не курорт, а какой-то ужас. Я предпочитаю сидеть в Париже. Ну, как у тебя?» [С. 131]. Или финал сцены в «кукольном театре»: «Профессор выпивает огромный бокал цикуты и умирает. Конечно, мы неточно воспроизводим разговор старых друзей и побочные события. Профессор не умирает, а с трудом взбирается на седьмой этаж, где он довольно дешево снимает комнату для прислуги, светлую и без отопления» [С. 149]. Другим приемом снятия литературности является страстный авторский монолог в защиту (жизни) героя, находящегося на грани смерти. Эффект жизнеподобия создают и мечты, мысли, сны героев, которые включаются в повествование на правах «текстов в тексте», и несут функцию другого сознания, отличного от авторского. Автор, таким образом, создает двунаправленную повествовательную структуру, при которой жизнь и текст взаимообратимы, перетекают друг в друга; и «текст о жизни» и «текст о создании текста» не противоречат изображению «жизни как она есть». Подобную структуру Д.М. Сегал обнаружил в «Евгении Онегине»: «…Погружаясь в имманентный мир романа, мы не получаем иллюзии действительности, поскольку автор не только сообщает нам об определенном ходе событий, но все время показывает декорации с обратной их стороны и втягивает нас в обсуждение того, как можно было бы иначе построить повествование. Однако стоит нам, выйдя за пределы внутренней по отношению к тексту позиции, взглянуть на него в свете оппозиции «литература – действительность», чтобы, с известной долей изумления, обнаружить, что «Онегин» вырывается из чисто литературного ряда в мир реальности. <…> Специфическая автометаописательная структура «Евгения Онегина» «работает» в двух направлениях: моделирование особого типа реальности – живой реальности, неорганизованной, свободной реальности («текст равен миру») и моделирование принципов такого моделирования»43. Думается, Осоргин сознательно ориентируется на структуру «первого русского романа», манифестируя тождество жизни и текста, наличие мощного проективного заряда в литературном произведении, идеалам которого можно следовать. Автор создает своего героя времени, и его путь (сохранение культуры и интеллигентских 43 Сегал Д.М. Литература как охранная грамота // Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. М.: Водолей Publishers, 2006. С. 65. 60 ценностей) утверждается как вариант истинного существования в эмигрантском изгнании в эпоху дегуманизации и коричневой угрозы. Маятник «жизнь» – «литература», на одном полюсе которого «правда факта», а на другом – авторские комментарии по поводу создания собственного произведения, на протяжении всего повествования набирает амплитуду колебаний, пока, наконец, в последней главе не разрешится полным и ироничным обнажением авторских идей с позиции ожидаемого читательского восприятия: «Лежащая перед нами повесть о вольном каменщике представляет собой попытку автора изобразить, как простой человек может правильно ощутить и принять идею Соломонова храма» [С. 211]; «Попутно в той же повести миру вольного каменщика противополагается мир профанный в лице смешной Анны Пахомовны, ее неинтересного сына и особенно крайне развращенного молодого человека Анри Ришара. Для стройности повести автор ввел в нее живописную фигуру старого масона Эдмонда Жакмена (иррациональное в познании) и несчастного судьбою профессора биологии Панкратова (тип рационалиста). Самой повести придан тон добродушной шутливости, не исключающей мыслей возвышенных, а также разоблачено немало масонских тайн, что должно вызвать справедливое негодование в заинтересованных кругах» [С. 212]; «Приводим эти разговоры как образчик приемов, которыми пользуется автор для иллюстрации руководящей идеи повести: противопоставления профанного разума – просвященному познанию вещей» [С. 213]. Автор играет с предсказуемо рационалистическим сознанием своего будущего критика и – достигает цели: именно метаструктурное «взрывание» логики повествования в конце и будет воспринято исследователями как крушение масонских идеалов Осоргина, следствием чего явится концепция игры ради игры (и сравнение его с Набоковым). Однако, развенчивая ходульные повествовательные приемы и лежащие на поверхности идеи произведения, Осоргин настойчиво отстаивает свои ценности. Автор выстраивает ситуацию «романа о романе» для того, чтобы роман стал жизнью; программирует судьбой героя существование читателя (русского эмигранта) и свое собственное44. Самоирония повествователя не подвергает сомнению 44 Последние годы жизни Осоргина (еще одна эмиграция, теперь уже от фашистов- в Шабри) подтверждают, что сознательно выстроенному личному мифу он следовал. Писатель, пусть в других обстоятельствах, «тайно», но воплощал в жизнь обстоятельства жизни своего героя, «выезжал в Париж для встречи с вольными каменщиками, его посещали в Шабри, хотя и редко, друзья-ученики по ложе «Северные Братья» (Серков А.И. Масонское наследие Осоргина // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. Пермь, 2006. С. 74). 61 путь героя, она скорее связана с пониманием ограниченности новой положительной утопии («стыдом утопизма»45, по определению Ф. Аинсы). Ирония снимет назидательность предлагаемой спасительной идеи – идеи природокультурного существования, вариантом которого является и масонское братство. Масонские легенды о языческих богах Иштар, Изиде, Озирисе (помимо магистральной – о Соломоне и Хираме), включенные в повествование по принципу «текста в тексте», не только создают суггестивное, поэтическое, идеальное пространство культуры, в которое герой, вместе с читателем, совершает бегство из лишенного «воздуха», меркантильного Парижа, но и являются образами, вариантами природокультурной утопии. Осмысливающий масонские тексты и совершающий масонские ритуалы, посвященные познанию Природы, вооружившись, главным образом, литературой по естественнонаучному направлению, Е.Е. Тетехин постепенно и закономерно приходит к природному существованию на участке земли под Парижем с профессором биологии Лоллием Романовичем Панкратовым46 («Так сказать – будем познавать Природу», – говорит Тетехин последнему, приглашая его «вместе жить»). Автор, вместе со своим героем, ищет священное Слово истины, и путь Тетехина оказывается небесполезным (не случайно же он Егор Егорович!). Финал романа – единение с природой и поездка героя на собрание масонской ложи в Париж (куда Е.Е. Тетехин отправляется «весь в тайной радости и явном смущении» [С. 215]) – оставляет идеалы Осоргина незыблемыми, лишь защищенными мягкой самоиронией понимающего 47 необщеобязательность найденного для всех остальных . 45 Все тем же желанием защитить сокровенное объясняется и использование автором хронотопа кукольного театра в момент разговора Е.Е. Тетехина с профессором Панкратовым о главном – о сохранении русскости, гибели культуры в современном мире и наступлении тоталитарной системы. Однако сцена завершается подтверждением подлинности происходящего: «Конечно, мы неточно воспроизводим разговор старых друзей и побочные события» [С. 149]; кукольный театр – лишь целомудренный камуфляж, но не отмена жизненных ценностей. 46 Как уже отмечалось, семантика имени (Лоллий Романович- «дважды римлянин», Панкратов«всевластный») и статус профессора биологии (познающего природу) опять же воплощают идею природокультуры. 47 Ср.: «Миросозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии <…> утверждает потерянную веру картинами подлинного рая, высокого и вдохновенного благополучия, гармоничного общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ. С той же простотой и убедительностью оно отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая сами эти понятия, так как в природе их нет, они придуманы нами <…> Познание природы есть открытие сущности вещей и их взаимоотношения, познание бытия. Никакой другой задачи не может быть у того, кто ищет истину, кто хочет определить свое место в природе, свое отношение к живущему, потому что без этого он не может построить ни своей жизни, ни жизни общества. Иной задачи нет ни у науки, ни у творчества, ею поглощается вся наша духовная работа» (Осоргин М. Доклады и речи. Париж, 1949 – цит. по: Авдеева О.Ю. «Природа мертвой не бывает…» (О книге Михаила Осоргина 62 «Вольный каменщик» – повествование о пути русского интеллигента в эмиграции, создание новой положительной утопии сохранения культурной идентичности. Метатекстовая структура «романа о романе» служит у Осоргина не для замещения утраченной реальности текстом о ней, а для сохранения истинного существования с помощью проективной силы искусства. Позднее, во «Временах», это (традиционное и классическое для русской литературы) представление о творчестве примет вид эстетической формулы: «я пишу не произведение – я пишу жизнь»48. Ответьте на вопросы: 1. Объясните значение терминов: метатекст, метатекстовая структура, метапроза, метароман. 2. Является ли метатекст порождением только модернистского и постмодернистского искусства? 3. Как можно объяснить расцвет метароманной формы в литературе первой волны русской эмиграции? 4. Синонимичны ли понятия «сюжет письма» и «метасюжет»? 5. В чем своеобразие сюжетной организации романа М.А. Осоргина «Вольный каменщик»? 6. В чем смысл и каковы функции метасюжета («сюжета автора») в романе? 7. Почему метатекстовая структура романа Осоргина не разрушает его реалистическую природу? 8. Какова реалистическая семантика метасюжета в романе «Вольный каменщик»? «Происшествия зеленого мира» // Михаил Осоргин: Художник и журналист / Пермский гос. ун-т. Пермь, 2006. С. 69. 48 Осоргин М. Времена. Романы и автобиографическое повествование. Екатеринбург, 1992. С.549. 63 3. Концепция времени в автобиографическом повествовании М.А. Осоргина «Времена» («Детство») Посмотрите значения слов в словаре: Канон Мемуарист Законность Пересоздание Монтирование Хутор Патетичность Фактический Исповедальный Смыслообразующий Структурообразующи й Слитный Обусловливать Фантазировать Мифологизировать Реконструировать Корректировать Рефлектировать Объясните словосочетания: Одна из вершин русской мемуаристики Книга увидела свет Многообразный фон мемуаров и автобиографий Темпоральная организация Свободная от наследства крепостного права провинция Перетекание знакомой природной жизни в произведение Ассоциативное сближение временных пластов Подтвердить верность идеалам Последнюю книгу М.А. Осоргина «Времена» критики называют итогом творчества писателя и одной из вершин русской мемуаристики ХХ века. Задумывалась она в 1930-е годы, первые две части («Детство» и «Юность») были опубликованы перед войной, полностью книга увидела свет уже после смерти автора, в 1955 году. Как и многие его современники, Осоргин подводил жизненные итоги в книге воспоминаний: «Пишется долго, больше ночами, когда оживают тени прошлого, которые боятся денного шума. Пишется со всей силой правды последней, нужной для душевного покоя – при прощаньи с жизнью»49. На многообразном фоне мемуаров и автобиографий русской эмиграции (Б. Зайцева, В. Ходасевича, И. Бунина, Г. Адамовича, В. Набокова, З. Шаховской, Р. Гуля, Вяч. Костикова, В. Яновского, Н. Берберовой, И. Одоевцевой и др.) книга Осоргина выделяется сознательной установкой на разрушение «канона» воспоминаний русского рассеяния. Традиционной установке мемуаристов на 49 Осоргин М. Возлюбленной: похвальное слово – цит. по: Марченко Т.В. Творчество М.А. Осоргина 1922 – 1942 гг. Дисс… канд. филол. наук. М., 1994. С. 87. 64 сохранение событий культурной жизни эмиграции, ее фактических подробностей, портретов современников и их взаимоотношений Осоргин противопоставляет написанный по впечатлениям «роман души»50. Чаще всего исповедальность автобиографической прозы обусловливает «преобладание в художественном целом воспоминания, которое вытесняет вымысел», поэтому исследователи считают основой автобиографии «работу памяти», а не воображения, фантазирования51. Осоргин, нарушающий хронологию «нагромождением событий, толпой людей, путаницей сроков и дат», напротив, утверждает законность воображения, право автора на творческое пересоздание реальности прошлого: «Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а светочувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами»52. Автор, любовно сохраняющий картинки далекого прошлого, понимает избирательность памяти, сохраняющей лишь самое важное, «отшлифованное прибоем жизни». В автобиографической прозе с ее установкой и на «поиски утраченного времени» и на преодоление времени53 темпоральная организация и перспектива выполняют смысло – и структурообразующую роль. Название же книги Осоргина «Времена» указывает на особую авторскую интенцию в осмыслении категории времени. Закономерно предположить, что именно концепция времени автора определяет своеобразие, неповторимость его воспоминаний. Первая часть «Детство» выстроена по законам мифологизации «далекого прошлого», которое всегда – «сказочная страна» [С. 488]. Автор знает, что абсолютная реконструкция давно утраченного рая невозможна, однако рисует «цветными детскими карандашами» дом своего детства, призывая изобразительные, вкусовые, звуковые картинки из прошлого: шерстяной вкус ледяных сосулек, горький 50 Марченко Т.В. Осоргин (1878 – 1942) / Т.В. Марченко // Литература русского зарубежья: 1920 – 1940.- М, 1993. С. 313. 51 Абуталиева Э.И. Содержательные и структурные доминанты автобиографического романа в русском зарубежье 20 – 50-х годов ХХ века / Э.И. Абуталиева // Русский роман ХХ века: Духовный мир и поэтика жанра: Сб. научных трудов.- Саратов, 2001. С. 78-79. 52 Осоргин Мих. Времена / М.А. Осоргин – Екатеринбург, 1992. С. 512. Далее текст цитируется с указанием страниц в скобках. 53 Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы / Н.А. Николина – М., 2002. С. 344. 65 аромат черемухи, гомон прилетевших птиц, музыку капели и ручейков. Автор спорит с собственными воспоминаниями: «Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибоем ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек» [C. 489]. Давнопрошедшее время детства существует только в творческом сознании автора-героя, поэтому и способно корректироваться из настоящего; за воспоминаниями следует другой временной срез, в котором герой рефлексирует над воспоминаниями, уточняет конкретные факты: «Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачевую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеком крайнего левого окна, так мне рассказывали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот» [C. 489]. Монтирование в один фрагмент текста разных временных пластов не вызывает разрыва, столкновения прошлого и настоящего; время дискретно, но и слитно, ибо это время человеческого сознания. Автор уже не стремится «догнать время», вернуть невозвратное прошлое буквально: вернувшись из первой эмиграции на малую родину, он обнаруживал, что «все… чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть» [C. 489]. «Необратимость детских воспоминаний» – вот главная из причин, почему он перестал любить жизнь [C. 508]. Он даже полемично заявляет, что прошлое, опыт детства – это только пища для творчества: «…картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном», однако тут же и торопится восстановить реальные факты, опровергая сам себя: «Но не мог не быть скат к речке Егошихе…» [C. 490]. Как будто стихийно и немотивированно, но на самом деле последовательно, стройно и иерархично выстраиваются им детские воспоминания как факторы, сформировавшие душу ребенка и будущего взрослого человека со своей неповторимой судьбой. 66 Первым по значимости и влиянию автор называет существование в природе, как в доме: «Если я начал с описания родного дома…, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожием, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, – я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу» [C. 489]. Лирическое признание в любви к уральской природе, русской свободной от наследства крепостного права провинции, деревне Загарье (которую повествователь помнит, «как зарисованную в альбоме»), хутору его крестной матери, наполненному удивительными, незабываемыми вещами, эмоционально контрастирует с первоначальными ироничными установками автора, захватывая читателя в мир глубоких и неповторимых авторских переживаний своего детства. Свободолюбие, как главная ценность семьи, воспринятая мальчиком с самого раннего детства (единственным наказанием, которое он драматически пережил и помнит до сих пор, было лишение его свободы – его заперли в чулан), вырастает именно в бесконечных пространствах уральского леса: история про высосавшего корову арестанта, сочувственное отношение к беглым арестантам у местных крестьян, которые их подкармливали, негативная реакция отца, члена окружного суда, на выдачу арестантов властям – изображаются как естественное продолжение этой свободолюбивой земли. Семья, в которой царили любовь, гармония и взаимное уважение («я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного… упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе»), воспитает в нем убеждение, что «свобода в триллион раз ценнее жизни» [C. 493]. К царству зверей, птиц, растений, цветов, собиранию гербария и «грибному спорту» ребенка приобщил отец, приезд которого был «праздников праздник и торжество из торжеств» [C. 492]. Отец пятерых детей и провинциальный чиновник, он и был первым для мальчика «кавалером осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков» [C. 545], воспринимающих природу одухотворенно, идеально и сумел передать ребенку свое восприятие единства природы и культуры: «То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелете птиц, я даже не всегда и целиком понимал и понял только взрослым, – понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе» [C. 501]. Отец подарил мальчику две первые и самые важные для него книги – «Робинзона в 67 русском лесу» и «Багрова-внука» Аксакова, с которым семья была в родстве. Кровная и пространственная, «географическая родственность» с Аксаковым и Гончаровым сообщает детским переживаниям героя единство природокультурного, перетекание знакомой природной жизни в произведение (обрыв в деревне Загарье, изображенный в романе Гончарова), и, напротив, восприятие живой жизни под влиянием великих классических книг: «…Все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет «Багрова-внука», знакомых мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, – но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость» [C. 504]. Яркие события детства и размышление об их роли в дальнейшей судьбе героя: детские игры, в которые герой играл, и карточные игры взрослых как проявление страстности русской натуры и стремления поиграть с судьбой, общение с приходящими в дом людьми, которые влияли на впечатлительность ребенка (приезд водовоза в мороз, судебный курьер, привозящий подарки от отца), первый «роман» как «предвидение трудности и сложности жизненного пути», музыка и пение в семье, игры в «хижине Робинзона» под столом отца, чтение священных для мальчика книг, мистические взаимоотношения с рекой Камой, первый дальний выезд на родину отца и внезапная смерть отца – это нестираемые из памяти образы, которыми наполнен «альбом памяти». «Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни», – признается автор. Однако хронологическая последовательность этих картин (а герой не раз замечает, что «не присягал на верность последовательной строчке») постоянно нарушается внезапным вторжением других «времен». Картины путешествия по рекам Белой и Деме «перетекают» в плаванье на гондоле по венецианскому каналу, рыбалку на лесном озере в верховьях Камы, затем – на Средиземном море и, наконец, на «узкой, но глубокой речонке в Звенигородском уезде». Как фотографии близких людей в семейном альбоме, самые важные для человека переживания столь же реальны в пространстве сознания, как и «вещи человека» (название сборника рассказов М.Осоргина), они предзаданы, обусловлены детством. Автор не хочет изменять детской вере, ибо с позиции сегодняшнего дня знает, что «все возвращается и снова уходит, что гибнет растение – но возрождается в зерне; что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц…» [C. 515]. 68 Ассоциативное сближение временных пластов призвано показать единство жизни и судьбы человека. То, «что привито в детстве, остается на всю жизнь» [C. 498], – резюмирует автор. Размышляя о своем воспитании, он замечает, что «не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего… кроме удовольствия!» Но таким независимым Робинзоном Осоргин и был сначала в России, а потом – в эмиграции. Кроме того, именно в детстве формируются механизмы взаимодействия с внешним миром, ударами судьбы. Атмосфера любви и взаимного уважения между родителями и детьми, высокая жертвенная миссия матери, без остатка посвятившей свою жизнь детям и мужу, в самые тяжелые моменты жизни помогали герою выстоять, пережить очередное испытание судьбы. Последовательное монтирование трех эпизодов из разных периодов жизни героя, когда он чувствовал себя «глубоко несчастным» (эпизод в гимназии, завершившийся «защитой» матери, которая оставила его дома и позволила не учить уроков, и два других эпизода в жизни уже взрослого человека – внезапная болезнь в отеле в Неаполе и арест в Чека, пережитые благодаря «передышке» – «пригрезившейся материнской ласке»), воплощают связь начал, детства – с концами, последующей жизнью и поступками человека. В финале «Детства» автор подтверждает верность привитым и воспринятым в детстве идеалам: «Не изменять никогда детской вере – и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь» [C. 514]. Эмоциональная патетичность, сменившая иронию скептика, доказывает, что мир русской природы, который для Осоргина и есть Родина, был и остался на всю жизнь главным его «символом веры»: «Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности – русской природы, – в тех пределах, в каких мне этот язык доступен. И эти строки случайных и беглых воспоминаний – только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей» [C. 516]. Ответьте на вопросы: 1. В чем жанровое своеобразие автобиографической книги М.А. Осоргина «Времена»? 2. Разграничьте время реальных событий и художественное время произведения? 3. Какие модели художественного времени вам известны? 69 4. Что такое «мифологическое время»? 5. Наложением каких временных пластов создается художественное время в повествовании «Времена»? Фрагменты текстов «Сивцев Вражек» (1928) ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОРНИТОЛОГ В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы (баночка для чернил), календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки. Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует – столько и жить осталось. Таково народное поверье (примета), и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать (сказать заранее), когда человека задавит трамвай. Широколицый, руссейший (превосх. ст. от русый), седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое – любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка? Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул – хороший признак. На старости лет (в старости) страдал он 70 бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул – и, потушив лампу, вышел в спальню. Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, – из-под книжного шкапа (шкафа) выползла мышь и стала прислушиваться. Кажется – все благополучно, все спит, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь. Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни – и столовую. Такова малая вылазка (маленькая прогулка), за крошками. Более длинное путешествие – в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход – из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу. Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться (случайно сойти) с пути. Если бы видеть так, как видит кошка! Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка – и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: "Что? Почему? Ах, это все равно!" Но вот дышит ровно, спит. Всю жизнь так и убил (потратил) на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, – а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал (выбрал) себе подругу жизни, вылупились (появились на свет, родились) птенчики – три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка – осталась без родителей. Старуха жива – былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы... Опять старик пошевелился во сне, и юркнул (быстро пробежал) серый комочек под дверь в соседнюю спальню. Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки (лекарства) и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым. Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась. Здесь было покойно, как нигде, и как нигде – безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой. 71 Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая (шумная) и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами. В круге зрения мышки блеснуло – и она отпрянула (резко отодвинулась). На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной! Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть (здесь – заиграть) всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома. Профессор играл: "Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр... и трель... а вот как щелкает – никак не изобразишь!" Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. "Ну, руки у меня стары, еле двигаются". Танюша – будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки. Эдуард Львович – пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный немного человек. А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло – и пришлось бежать. В столовой все обшарила (обыскала). Опять теперь через залу и спальни – за книжный шкап (шкаф), в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно. Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает (заканчивается) энергия мира – но еще далеко до конца. Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу – и исчез. Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна. 72 Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек. DE PROFUNDIS Сталь, медь, чугун, – таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно. Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он – дрогнула, звякнула, ожила вся цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится (суетится) его нянька, паразит и ласкатель, чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко. Громадный, круглогрудый, мощный, – вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они – железные рабы человека. В теплушке (деревянный вагон), перегруженной живыми телами, он увез на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне (вагон для пассажиров) молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно-умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стуки поезда. Две минуты верста – медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажень. Ти-та-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву, – и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Ти-та-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч. Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул (попил) воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались (лезли вверх) солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном вагоне офицер, – а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же. 73 Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри, не опоздай, служивый (солдат), с побывки (короткий отпуск в армии)! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость54 и ведро извести (известки) на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился (жаловался); сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи (ешь) скорее баранью ногу, – эх, вы, солдаты, головы бараньи! Но вот ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону, и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд. Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные (изуродованные) тела человечьи. На десять человек – пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки, – насквозь, под соском вышло. Кашляет, значит, жив. А тот слепой – значит, тоже жив; зрячих на земле не осталось. Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку (сигареты), цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков – за чин (звание) его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил – стал душить, душить, бить костылем по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская (прижимая) их деревянным молотом: это за букетикто! Но улыбаются раненые: у сестер на губах умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые воины, которых везет обратно поезд! Сбыл (оставил) их, сбросил на конечной станции, – и назад без устали. Теперь тащит груз немалый: пулеметы – убивают, противогазы – чтоб не убили, снаряды - – убивать, медикаменты – чтобы не умереть, бомбометы – убивать, повозки – для раненых... Что еще? Мясорубка где ж? Чтобы в одном котле порубить и прожать сквозь железное сито вместе Ивановы мозги и Петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш, – жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазные впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и клочья. Вместо них везут бинт – перевязывать малую царапину: бедный солдатик щепал лучину и напорол мизинец; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом – получилась куколка. А если он возропщет (выскажет недовольствие)? И вы думали, что солдаты останутся на фронте, когда повеет в воздухе 54 Георгия за храбрость -- солдатский Георгиевский крест, вручаемый за личное мужество и считавшийся наиболее почетной наградой. 74 свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязан быть умным: захотелось в цари дураку... Довез и эту кладь (груз). Везет назад вагон почтовый, – от Миколая Дарье, с поклоном и всем соседям. "А я ничего, здоров". Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку изпод земли: "Стой, подожди, я помер". К Дарье от Миколая новый приказ: "долго жить". А сам Миколай жил недолго, очень недолго, – зарыт в землю по двадцатому году. Есть и от Эрберга два письма, одно – матери, другое – на Сивцев Вражек. "В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется". И Танюше: "Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресенья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще не раз услышать, как..." Полон надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист,- – вам еще это не знакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг! В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл Dе рrofundis. ОБЕЗЬЯНИЙ ГОРОДОК Замкнутым кругом вырыли ров, сделав внешнюю стену отвесной. Получился островок, выхода с которого не было. Посреди острова высокое сухое дерево с голыми ветвями. На них обезьянам удобно заниматься гимнастикой. Под деревом домики с окнами, чердаками, крышами, – совсем как человеческие. Хорошие качели. Бассейн с проточной водой, а над ним, на перекладине, подвешено на веревке кольцо. Все для удовольствия. Огромной семье серых мартышек жилось привольно (свободно). Плодились, размножались, наполняли городок. Смотритель зоологического сада рассчитал правильно: обезьяний городок пользовался большим успехом у публики. Мартышкам бросали орехи, хлеб, картофель, любовались их фокусами, смеялись над их любовью и семейными раздорами. 75 Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу. Добавили домик, крышу сделали покрепче. Новые граждане были чутьчуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озорнее. Сначала все шло хорошо. Были, конечно, драки, но без драк не бывает прочной общественности. Затем выяснилось соотношение сил и началось расовое засилие. Был среди рыжих один – чистый (здесь – настоящий) разбойник. Сильный, ловкий, злой, командир среди своих, он стал истинным бичом серых. Не пропускал случая задеть, куснуть в загривок, цапнуть (укусить) за ногу. Сначала побаивался тронуть самку-мать, возле которой суетился голый, тоненький живчик. Но кончилось тем, что белыми острыми зубами, ловко подкравшись, тяпнул (укусил) нежного младенца и спасся на дерево от разъяренной матери. Проделка рыжим понравилась; они почувствовали свою силу. И тогда же в обезьяньей душе серых впервые родилось сознание предопределенности, грядущей неминуемой гибели их патриархального племени. Серый страх поселился в обезьяньем городке. И скоро худшие ожидания оправдались. Рыжий насильник скучал. Все одно и то же, все одно и то же. Даже никакого серьезного сопротивления. После того, как он, загнав одну робкую жертву на край ветки, заставил ее сделать неудачный прыжок вниз (серый сломал заднюю руку), никто из серых больше на дерево не лазил. Отнимать пищу тоже скучно, и надоело, и ни к чему, своей достаточно. Нужно что-нибудь особенное. От скуки рыжий делал стратегические обходы, высматривал кучу дрожащих обезьянок, бросался прямо с крыши домика в самую гущу, цапал за загривок кого попало, потом садился поодаль, почесывая бок, и белыми зубами дразнился и издевался над трусами. Те вновь скучивались поодаль, уставив на него близкие глазки и стуча зубами. Куда бы он ни упрыгивал, все, как по команде, поворачивались в его сторону, зорко наблюдая за его движениями и готовясь в нужный момент отпрыгнуть. Когда он отходил далеко или спал дома, они решались зализывать раны, глодать морковку, искать друг у друга блох и, наскоро и несмело, любить друг друга. Жизнь, хоть и ставшая невыносимой, должна была продолжаться. Но это была жизнь обреченных. Однажды, когда рыжий скучал от безделья, один из серых рискнул позабавиться: прыгнул в кольцо над бассейном и стал качаться. 76 Рыжий заметил, тихо спустился в ров, обошел понизу обезьянью усадьбу, нацелился, внезапно появился у бассейна, поймал серого за хвост и быстро сдернул его в воду. Серый поплыл к краю, но враг его был уже там; поплыл к другому, но и здесь не удалось выйти. Едва он цеплялся за край, рыжий насильник крепкой рукой ударял его по макушке головы и окунал в воду. Вот наконец новая и интересная забава. Серая жертва обессилела и, погружаясь в воду, пускала пузыри. Когда в последний раз мокрая обезьянья головка появилась у края, рыжий, уже без особого увлечения, лишь легким щелчком, погрузил ее в бассейн и подержал недолго. Теперь всплыли только пузыри. Издали на эту шалость рыжего смотрели дрожащие серые обезьянки, скаля зубы и поджимая хвосты. Рыжий подождал, обошел еще раз бассейн, задорно выгнул спину, потом отошел, присел, оскалил зубы, отряхнул мокрую руку и, найдя турецкий боб, принялся его чистить. Забава окончилась, и опять стало скучно. Но в общем, опыт ему понравился, и бассейн стал чаще привлекать его внимание. Теперь он уже сам загонял сюда новые жертвы. Когда ему удавалось схватить крепкими зубами зазевавшегося серого, он подтаскивал его к бассейну, отбиваясь зубами от судорожных рук, и быстро сталкивал в воду. Топил не торопясь, давая жертве немного отдышаться, лукаво отходя к краю и возвращаясь вовремя, чтобы погрузить голову слабого пловца, играл, забавлялся, прыгал в кольцо, качался и вновь подоспевал вовремя. Утопив, скучал, растягивался на крыше домика, забирался на дерево и сильными мускулами сотрясал большие сухие ветви. Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая внезапно на исхудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая клочьями шерсть. Серая колония таяла – рыжая плодилась и благоденствовала. Смотритель зоологического сада слишком поздно заметил исчезновение серых, лишь когда воду спустили для чистки бассейна. Сторожам досталось. Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским названием. Разрешили жене одного из сторожей поставить рядом столик с пакетиками турецких бобов. Это давало сторожихе небольшой постоянный доход, особенно по 77 воскресным дням, а саду – экономию на пропитание обезьяньего племени. Глядя на пополневших мартышек, невозможно было установить, вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне (родине). Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подаяние, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию. ЧАСТЬ ВТОРАЯ КНИГИ Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации. Прежде, чем вложить ее в портфель, уже туго набитый, он осмотрел корешок (переплет) книги, подслюнил и пальцем приладил отставший краешек цветной бумаги переплета. Книга хорошая и в порядке. Но вдруг вспомнил, заспешил, снова вынул книгу и, присев к столу, осторожно подскоблил (здесь – стер) ножичком свое имя в авторской надписи: "Глубокоуважаемому учителю... от автора". Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком. В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнатке, рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин, только дома бывал редко, больше ночевал в Совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья. Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислугой она больше не была – была жилицей. Профессор был еще достаточно бодр. Идя в Леонтьевский переулок, присаживался на лавочку на бульварах не больше трех раз и то из-за тяжелого портфеля, который оттягивал руки. Отдыхал не подолгу и, отдыхая, обдумывал, в который раз он идет в писательскую лавочку в Леонтьевском и на сколько раз еще хватит ему книжного запаса. Как-то однажды случилось, что в доме совсем не оказалось денег. Хлеб, пайковый, страшный, выдавали, но Дуняша, в то время еще 78 считавшая себя прислугой и жившая при кухне, объявила, что ни картошки, ни крупы, ни иных каких запасов у нее больше нет и готовить ей нечего. Танюша думала, что есть деньги у дедушки, и очень смутилась, узнав, что у дедушки нет. Тогда совсем немножко заняла у Васи Болтановского. Вечером Танюша долго обсуждала с Васей какие-то хозяйственные вопросы, с утра она исчезла, а вернувшись к обеду, возбужденно и не без смущения рассказала, что ей предложили выступать на концертах в рабочих районных клубах. – Это очень интересно, дедушка; и мне будут давать за это продукты. В тот день забегал Поплавский и рассказывал, какие изумительные старинные книги довелось ему видеть в Книжной лавке писателей, в Леонтьевском переулке. Сейчас появились на рынке такие книги, которых раньше невозможно было найти в продаже. – Я нашел полного Лавуазье в подлиннике; для Москвы это исключительная редкость. И видел любопытную книжицу, пожалуй, первую, изданную в России по математике, еще церковными буквами, 1682 года. И название любопытное: "Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, удобно изыскать может число всякия вещи". Есть у них еще таблицы логарифмов петровского времени. – Что ж, купили что-нибудь? – Я? Нет, профессор, наоборот. Я продавал свои. Там можно продать хорошо, а то на комиссию. На нижних, закрытых полках большого библиотечного шкапа лежали у профессора запасы "авторских экземпляров" его ученых трудов. Идя утром на прогулку, он захватил по экземпляру. В Леонтьевском, в писательской лавочке, его встретили приветливо и почтительно; оказались за прилавком и знакомые, молодые университетские преподаватели. Книги взяли, расплатились, сказали, что такой товар им очень нужен: сейчас он требуется для новых публичных библиотек в провинции и для новых университетских. Просили еще принести. И никто не удивился, что вот известный ученый, старик, самолично носит на продажу свои книги. Сам большой любитель книги, порылся старый орнитолог на полках книжной лавки, больше из любопытства. И очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание: "Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека" – с тремя изображениями. Любовно 79 перелистал брошюрку, радостно, с захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков: "Изображение курицы в профиле весьма верно и представляет старушку так, как она есть. Вторая фигура представляет голову с лица и показывает в ней настоящего Сатира. Третья фигура представляет ее зевающей и вместе показывает ея язык". Повертел в руках, справился о цене. Никакой цены в то время старые и редкие книги не имели. – Мы, профессор, продаем сейчас петровские и екатерининские издания дешевле, чем только что вышедшие стихи имажинистов. И сами не покупаем; эта случайно попала в какой-то купленной нами библиотеке. Давайте сделаем так: мы вам преподнесем эту брошюрку, а вы нам обещаете принести на комиссию ваши книги. – Но ведь это же редкость величайшая, хоть и не такое старое издание. – Тем лучше. У вас, профессор, она будет сохраннее. Домой профессор вернулся в отличном расположении духа. Вечером, за чаем, Вася Болтановский читал книжку вслух, и профессор радовался каждому слову, как малый ребенок. А наутро набрал целый портфель "ненужных" своих книг и понес в знакомую лавочку, где так его обласкали. – Танюша, немножко денег у меня есть, так что ты не беспокойся. Но уже давно рубли стали сотнями, и близились миллионы. "Авторских экземпляров" хватило ненадолго. Пересмотрев свои полки, орнитолог открыл на них новые коммерческие ценности, сначала дубликаты, затем издания популярные, для ученой работы лишние, хоть и важные для коллекции, после атласы и таблицы, без которых обойтись все же можно, наконец, книги дареные, с автографами. Полки профессора пустели, но Танюша была такой бледненькой, так уставала после своих концертов в рабочих районах. Орнитолог думал, что она не знает о частых его визитах в лавочку писателей, и рад был, что он, старик, уже никому больше не нужный, не в тягость милой своей внучке, может чем-то помочь ей. Он не знал, что детские книги Танюши, раньше лежавшие в ее шкапчике (шкафчике), давно уже проданы, в той же лавочке, и неплохо, так как цена на них всегда была высокой. Зато еще ни разу к завтраку дедушки не подавались котлеты из конины, и к чаю в его стакан Танюша клала настоящий сахар, тихонько опуская в свою чашку лепешечку сахарина. – Сахар, Танюша, сейчас, вероятно, очень дорог? 80 – Не знаю, дедушка, мне ведь выдают бесплатно. МОСКВА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов55 спешно зарисовывал и резал на дереве исчезавшую красу (красоту) деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Увозили на санках – только бы не встретить милицию. За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее – захватив и топор. Въедались глубже, разобрав лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая примятый снег и себя торчащими коваными гвоздями. Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам. На двух плечах молча плыла балка. Согнувшись, тащили: бабушка – щепной мусор, здоровый человек – половицу. И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, – греются люди, варят что-нибудь. Когда вставал день, изо всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, искали глазами белую с красными линялыми буквами коленкоровую вывеску, трепавшуюся на ветру, и становились в очередь, сами не зная точно, подо что. Поздно открывалась дверь, и, дрожа, входили в нее замерзшие люди, в строгие очереди, с номером, написанным мелом на рукаве или химическим карандашом на ладони. Получали, что удавалось получить, – не то, что нужно больше, а то, что оказывалось в наличности: кусок серого мыла, банку повидла, пузырек чайной эссенции. Кто получил – уходил под завистливыми взглядами Догадливый художник-гравер- Иван Николаевич Павлов (1872 -1951), автор станковых тоновых и цветных ксилографии и линогравюр об архитектурно-пейзажных достопримечательностях "уходящей" Москвы, книжных знаков, в т. ч. экслибриса М. А. Осоргина. 81 55 еще не получивших. Но уже захлопывалась дверь – все вышло, приходите завтра или черт его знает когда. В Гранатовом переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно снята; и стены наполовину разобраны; только и целы колонны. Умирающее, уютное, дворянское, отжившее. На воротах оставалось: "Звонок к дворнику". Снег в саду лежал глубокий, белый, чистый. Снегом покрыты и пестрые куполы (купола) Василия Блаженного. Внутри, под низкими расписными сводами, пробежал попик в камилавке. В приделе, где служба, жуют губами старухи в черном, закутаны шалями; а у дьякона под парчовой рясой надет полушубок и валенки на старых зябких ногах. В холоде чадит (дымит) дешевым ладаном кадило: – О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временем мирных... Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральной, летит по сугробам нечищеной улицы ломовой на еще живой лошади. Парень крепкий, а ломовики (извозчики) сейчас все наперечет – работай! Эти не боятся: и дров сами привезти могут, и для лошади добудут сена. Только с овсом плохо. Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают. От Владимирских ворот до Ильинских, вдоль стены Китай-города только и есть, что зажигалки да камушки к ним. Зажигалки делают на заводах рабочие, которым не платят, так как платить нечего и не за что. А откуда берутся камушки – неизвестно. Рассказывают, что один торговец сохранил случайно целый ящик камушков; теперь он – самый в Москве богатый человек. Однако, перемигнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала; но не здесь, а где-нибудь в воротах без постороннего глаза. Зато листы папиросной бумаги – сколько угодно, открыто, и разложены они как красный товар: аккуратненько выдраны из торговых копировальных книг. Товарищи покупают по листам и курят письма: "Милостивый Государь... в ответ на любезное В... С совершенным почтением". Говорят, что на один том такой бумаги, продавая по листкам, можно сейчас прожить безбедно и сладко целую неделю. По Тверской идут закутанные люди с портфелями и мешочными ранцами за плечами. Служба-паек, чернила замерзли, машинки без лент, но – слышно – привезли с Украины мед, выдавать будут. Хочется губам сладкого, – челюсти свел проклятый сахарин. 82 Сбоку Иверской на стене написано непонятное про опиум – и еще много надписей на стенах и каменных заборах. Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища – ряды имен великих людей всего мира; среди великих и пигмеи, и много великих отменено и забыто. Люди читают, удивляются, но думать некогда. Что сегодня написано – назавтра линяет. Стоит Кремль, окруженный зубчатыми стенами, а за стенами – непривычные к Кремлю люди. У ворот штыки, на штыках наколоты пропуска. Не во все ворота проедешь, даже и с бумажкой и с печатями: только в Никольские да в Троицкие. Холодно высится Иван Великий, мертвый, как все сейчас мертвое: и пушка, и колокол, и дворцы. Всегда было холодно в Московском Кремле; только под Пасху к заутрене теплело. Но нет ни Пасхи, ни заутрени. А вот Арбат жив; идут по нему на Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятником (слышно - – звякает пружина) и еще белые туфельки. Это значит – несет последнее: кому надобны зимой белые туфли. А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем – неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Картошку кладут сначала в холодную воду, чтобы тихо оттаяла, а потом, обрезав черное, варят обычным порядком. Не каждый же день можно добыть палой (умершей) конины. Но если варить картошку неумело, – получится чернильная каша. Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе. Все нужно знать, ко всему нужно привыкнуть. Упрямые люди хотят жить. Жуют овес, в пол-аппетита набиваются горклым пшеном, прячут друг от друга лепешечки сахарина. В ходу и почести играный сахар, на который солдаты играли в карты; он продается дешевле, а между тем, если умело выпарить и слить грязь, а потом, просушив, нарезать на куски – ничего себе, получается хорошо и все-таки сахар. К вечеру люди утомятся, намаются, заснут. Спят не раздеваясь, на голове шапка, на ногах валенки. Спят больше по кухням, где осталось тепло от обеда. Тряпочкой затыкают дверные щели в другие комнаты, где стоит студеная зима. Если есть печурка (печь) – спят звездой, ногами к печурке. Где есть электричество, там его жгут без экономии, потому что теперь все бесплатно. Догадался один провести в каждый валенок по электрической лампочке; так и спит, – все-таки теплее, греет. Мудрыми стали люди: но только не везде и не всегда действует свет, – много линий перегорело и закрыто. Тогда приходится делать из 83 бутылки коптящий ночничок, при нем и работать; масло дорого, и горит в ночнике вонючий керосин. Всех фитилей лучше – старый башмачный шнурок. Все нужно знать! А когда засыпали люди, тогда через множество новых ходов выползали из подполья крысы, смелые, дерзкие, хвостатые, с глазами черного бисера. Бегали по комнатам, по кухням, гремели банками и бутылками, роняли на пол сковородки, визжали, грызлись, забирались под самый потолок, где подвешено хозяйками на веревочках прогорклое масло и остаток мяса. Крысы теперь ходили не одиночками, а стайками и шайками, нагло, уверенно, и, не найдя поживы, кусали спящих людей за открытые места. Лета тысяча девятьсот девятнадцатого город Москва был завоеван крысами. Сильного серого кота отдавали внаймы соседям иной раз за целый фунт муки в ночь. Иные, в расчете на будущее, лишали себя куска (здесь – пищи), воспитывая котеночка, – кормили его последним. Очень было важно иметь в доме кошку. Только бы вырастить, а там сама пропитает себя, а то и своих хозяев. Первый враг – люди, второй – крысы, третий – бледная, злая вошь. По притонам, по вокзалам, по базарам, – вот где от нее не избавишься. А умирать сейчас, пожалуй,- – не дешевле, чем жить; и очень уж хлопотно (проблемно) для близких. Не одно горе было – были и радости. Радостью был каждый случайно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь близкого, который и сам ничего не имел, а все же пришел, посочувствовал, помог распилить сырую балку на мелкие дровишки. Радостью было утро, – что вот ночь прошла благополучно, без страхов и без убытка. Радостью было днем солнце – может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя, или когда случалось оно не с нами, а с нашим соседом. Была тяжела в тот год жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети-пятилетки считались и были взрослыми. В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека. ВЕЧЕР НА СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ Ступени деревянной лестницы приветливо поскрипывали под знакомыми шагами, дверь открывалась с ласковым гостеприимством, 84 вешалка с вежливой выдержкой принимала пальто и шляпы, стены старого дома ловили звук знакомых голосов. В день рождения профессора особнячок на Сивцевом Вражке собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве. Даже Леночка, прежняя девушка с удивленными бровями, а теперь уже мать двоих детей, даже она, гостья редкая, пришла навестить старика и свою гимназическую подругу. Первым пришел физик Поплавский, в совсем потрепанном черном сюртуке, но в новых калошах, полученных недавно ценой долгого стояния в очереди. По мнению Поплавского, очарованного калошами, жить стало много легче, и плохо только то, что получить из заграницы новую книжку почти невозможно, даже и при знакомствах. – Этак мы до того отстанем, что потом и в десять лет не догоним Европы. а ведь там, подумайте, об одном Эйнштейне целая литература создалась. Протасов утешал: – Не беда. Пока достаточно и того, что знаем. Хоть бы эти знания к делу хорошенько приложить. Дядя Боря поддержал коллегу: – Уж какие теперь новые книжки. Хоть бы копировальной бумаги достать да лент для машинок. У нас в Научно-техническом отделе... Пришли и Вася с Аленушкой. Вася стал сразу взрослым и солидным, хотя и брил бороду, так как Аленушке нравилась ямочка на его подбородке. Все пуговицы у Васи были на своих местах, воротничок чистый, носовой платок подрублен и с его меткой. Прошло и прежнее смущение; с Танюшей Вася говорил почтительно-дружески, с Протасовым вспоминал о совместной их поездке мешочниками. Аленушка держалась просто, но боялась смеяться. Все-таки в конце вечера орнитолог рассмешил ее, и Аленушка раскатилась (здесь – рассмеялась) колокольчиком, хрюкнула и смутилась, увидав, как удивленно поднялись брови незнакомой ей Леночки. Сидела Аленушка рядом с профессором, который все время с ней заговаривал, любовно смотря в сторону Васи Болтановского. Не было только тех, кто уже не мог прийти, чьи имена произносились тихо и с серьезными лицами. Не было того, с кем не раз в этой самой комнате спорил Поплавский, не любивший и не понимавший ленивых парадоксов, чей трагический уход из мира живых был еще слишком свеж и недавен, был еще не изжитым домашним горем. И как ни старалась московская жизнь приучить людей к постоянным потерям и испытаниям, в мирных комнатах особнячка 85 старались не произносить имени Астафьева. Придет время – имя его сольется в синодике ушедших с именами молодого Эрберга, несчастного Стольникова и многих других друзей, близких и далеких. Ровно в девять часов вечера вешалка в передней приняла и повесила на крайний крюк пальто на калетчатой подкладке. Эдуард Львович, щурясь от света и потирая руку об руку, вошел, поздоровался со всеми и занял за чайным столом обычное свое место близ самовара, направо, когда-то от Аглаи Дмитриевны, а теперь от Танюши. Для торжественного дня пили чай настоящий, а на самой середине стола, на большом блюде, лежал парадный сладкий крендель из белой муки. В одной маленькой вазочке был сахар, в другой ландрин. Было сливочное масло и полная тарелка нарезанной тонкими ломтиками копченой колбасы. Чайный стол исключительный, праздничный, в честь дедушки. И было еще одно, поданное Танюшей специально для Эдуарда Львовича и вызвавшее всеобщее удивление: сладкие белые сухарики, любимое его лакомство. В былые времена ни Аглая Дмитриевна, ни Танюша никогда не забывали заготовить для композитора сладкие сухарики. Но вот уже два года, как Эдуард Львович забыл их вкус; могли для него сушить только ломтики черного хлеба. Сегодня Танюша, ради дедушки и любимого учителя, добыла целую тарелочку сладких сухариков. – Это только Эдуарду Львовичу! И вы должны съесть все сухарики, чтобы ни одного не осталось. Эдуард Львович был смущен, но Танюше не удалось даже таким исключительным вниманием рассеять грусть композитора. Уже давно Эдуард Львович перестал оживляться даже в разговоре о музыке, даже за клавишами знакомого рояля. Орнитолог сидел в кресле, рядом с Аленушкой, которую он шутливо дразнил, уверяя, что Вася без ее помощи не умеет помешать чай ложечкой. – А ведь раньше был такой самостоятельный, что занимался вместе с Петром Павловичем обменной торговлей с дикими племенами России. И мои болотные сапоги выменял на золотой песок и слоновую кость. Вот был какой! Дядя Боря пробовал говорить о грандиозных планах и заданиях Научно-технического отдела, особенно по части электрификации. Протасов посмеивался: 86 – Планы планами. Вот только настоящему делу нашему не мешайте, простой заводской работе. А планы – хорошо, особого вреда от них нет. Даже могут пригодиться впоследствии ученые ваши проекты. Танюша хозяйничала, оглядывая маленький тесный круг друзей особнячка и думая: "Дедушка доволен. Приятно ему, что его не забыли. Непременно нужно, чтобы Эдуард Львович согласился играть сегодня". И когда тарелка с колбасой опустела, а от кренделя остались одни сладкие крошки, Танюша зажгла свечи у рояля. – Вы нам сыграете, Эдуард Львович? К ее удивлению, он согласился сразу: – Да, я очень хотер (хотел) бы сыграть. Я бы хотер одну вещь, которой еще никогда... – Ваше новое? – Уже борьше (больше) года. Но я еще нигде не испорняр (исполнял). Это называется... то есть названья нет никакого, но оно - – это мой посредний (последний) опус. Это мой опус тридцать семь. Он потушил свечи и выждал, пока все рассядутся. Кресло дедушки подвинули ближе к дивану, где сели Аленушка, Леночка и Вася. Поплавский в затененном уголке на стуле, дядя Боря и Петр Павлович остались у стола. Танюша – на ковре, у ног дедушки, голову положив к нему на колени. Только Танюша могла заметить и понять, какую жертву принес Эдуард Львович, согласившись сыграть свою последнюю вещь. Она слушала, не проронив ни звука, и страдала вместе со своим учителем, а может быть, страдала за него. Она увидела, что в творчестве старого композитора случился излом, произошла катастрофа, что он, бессильный отказаться от музыкальной идеи, которой всю жизнь служил, вдруг потряс колонны и обрушил на себя им самим созданный храм и бьется теперь под его обломками. Родилось – рядом с его жизнью – что-то новое, что он хочет понять, осилить и, кажется, оправдать, но у него нет для этого слов и музыкальных сочетаний, а есть только крик боли, заглушенный чужими голосами, ему враждебными и незнакомыми. Танюша видела, как вцеплялись в клавиши длинные пальцы Эдуарда Львовича, как он хочет убедить самого себя, как дергается его худое и бледное лицо, как Эдуард Львович страдает. "Зачем я просила его играть!" 87 Он кончил оборванным аккордом, тотчас же вскочил со стула, дрожащими пальцами потянул крышку, уронил ее, болезненно вздрогнул и растерянно застыл на месте, спиной ко всем. Танюша знала, что нужно чем-то помочь. Она подошла и, не говоря ни слова, ласково погладила рукав его пиджака. Эдуард Львович оглянулся и пробормотал: – Да, да, вот это посредний опус тридцать семь... Затем он потер руками и, не прощаясь, быстро вышел в переднюю. Вышла за ним и Танюша. Но она не знала слов, какие нужно было ему сказать. И есть ли такие слова? Сорвав с вешалки пальто, Эдуард Львович быстро надел один рукав и долго искал другой. Танюша помогла. Тогда он повернулся к ней лицом, вынул из кармана ноты, свернутые в трубочку и обмотанные в несколько раз тонкой ниткой, и сунул Танюше. – Вот это дря (для) вас. Я посвятир (посвятил) вам опус тридцать семь, мой посредний (последний) опус. Он торько (только) дря вас. Да, это так надо, до свиданья. – Спасибо, Эдуард Львович. Но почему вы так уходите? – Так надо. Я доржен (должен) уйти. Он подошел к выходной двери, взялся за задвижку замка, вернулся и, опять смотря в лицо Танюше, сказал скороговоркой: – "Опус тридцать семь" есть произведение гения. До свиданья. Танюша слышала, как Эдуард Львович оступился на лесенке, но затем шаги его стали быстро удаляться. КОГДА ПРИЛЕТЯТ ЛАСТОЧКИ Гости разошлись рано. – Дедушка, вы, вероятно, очень устали. Может быть, сегодня пораньше ляжете? – Немножко, правда, утомился, а спать не хочу. Вот посижу с вами, отдохнем, а потом пойду к себе. Танюша убрала со стола, переставила на место мебель, накрыла чехлом рояль. Помогал ей Петр Павлович. Профессор сидел в своем глубоком кресле, полузакрыв глаза. Опять присела Танюша на коврик у его ног. Погладив внучку по голове, сказал орнитолог: – Вот когда у нас тихо и так сидим, все мне кажется, будто стены шепчутся. Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом, Петр 88 Павлович, еще моя мать строила, Танюшина, значит, прабабка. По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был. На дворе разные службы, конюшни, птичник, баня, конечно. Банюто эту мы совсем недавно разобрали на дрова. Тут я всю жизнь свою и прожил. И конца дождался. Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие. – Они тихие, дедушка, нам не мешают. – Ничего, что ж, всем жить надо. Я ведь не жалуюсь, вспоминаю только. Времена теперь изменились. И опять заговорил: – Вот скажите мне, Петр Павлович, как будет вам, молодежи, жить дальше? Лучше, чем мы жили, или так же, или труднее? – Думаю, профессор, что нам будет сложнее жить. Уж, конечно, в одном доме целой жизни не прожить, теперь это невозможно. – А вообще-то людям лучше станет? Сейчас, конечно, плохо совсем. Ну, сейчас время исключительное, переходное. Перемучаться надо. И долго. – На наше поколение хватит. – То же и я думаю. Долгие годы нужны, чтобы опять жизнь направилась. Вон Поплавский жалуется, что оторвались мы от Европы, что не догоним теперь. Ученому этого нельзя не чувствовать. Обидно ученому человеку. – В чем другом, профессор, а в этом-то догоним скорее, чем Поплавский думает. Вот в хозяйстве тяжело, все у нас разрушено и бедность страшная. И людей настоящих еще мало. – Люди придут; людей в России много. – Люди придут, – сказал Протасов, – Совсем новые люди придут и, пожалуй, посильнее прежних. Старик помолчал, потом погладил Танюшину голову. – Вот, Танюша, это очень хорошо, что Петр Павлович надеется. Ты тоже постарайся так верить. – Я и верю, дедушка. – Люди придут, новые люди, начнут все стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что прежней культуры не обойдешь, не отбросишь ее. И опять возьмутся за старую книжку, изучать, что до них изучено, старый опыт искать. Это уже обязательно. И вот тогда, Танюша, вспомнят и нас, стариков, и твоего дедушку, может быть, вспомнят, книжки его на полку опять поставят. И его наука кому-нибудь пригодится. 89 – Ну, конечно, дедушка. – Птички пригодятся. Обязательно должны пригодиться мои птички! И им место в жизни найдется. Верно ли, Танюша? – Дедушка, вот скоро весна, и ласточки наши прилетят. – Ласточки непременно (обязательно) прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел (победил). Сегодня он меня – завтра я его, а потом снова... А у ласточки свои законы, вечные. И законы эти много важнее наших. Мы еще мало их знаем, много изучать нужно. Долго молчали. И правда, стены старого дома шептались. Наклонив голову к Танюше, так что седая борода защекотала ее лоб, орнитолог тихо и ласково сказал: – Ты отметь, Танюша, запиши. – Что записать, дедушка? – А когда нынче весной ласточки прилетят – отметь день. Я-то, может быть, уж и не успею. А ты отметь обязательно. – Дедушка... – Да, да, отметь либо в календаре, либо в моей книжечке, где я всегда отмечаю. Будет одной отметкой больше. Это, Танюша, очень, очень важно, может быть, всего важнее. Отметишь, девочка? Мне приятно будет. Ласковая дедушкина рука гладит голову Танюши. – Дедушка, милый дедушка... Ну да, конечно... я отмечу, дедушка... «Вольный каменщик» (1937) Повесть ТАО-ТЕ-КИНГ Щелкнула дверь, и медная дощечка с надписью «George Tetekhine» иронически блеснула в спину носителю этого имени. В такую погоду только рассеянный человек может выйти из дому без зонтика. 90 Бывшего казанского чиновника мочит парижским осенним дождем, но он слишком погружен в свои мысли, чтобы обратить внимание на такой пустяк. Предстоящий вечер полон значения и тайны. Раз уверовав — нужно цепко держаться за этот подарок судьбы, и тогда весь мир предстанет в ином освещении. И предстал уже! Совсем иными, чем прежде, глазами смотрит Егор Егорович на дома, на людей, на освещенные витрины магазинов. Суета, пускай неизбежная, даже милая, но — суета, маетность, бессодержательность! Люди с зонтиками и без зонтиков чертят ногами узоры по земле; Егор Егорович сознательно, но тайно плывет над их головами, жалея их, проникнутый большой к ним любовью, но не смешиваясь с толпой. С этой высоты он плавно опускается под красные шары метро и затем катится по рельсам мимо станций, порядок которых давно знает наизусть: Convention, Vaugirard, Volontaire — вплоть до Concorde, где пересадка. С некоторого времени Егор Егорович стал исключительно чутким к вывескам и к звуку и значению слов. Он десять лет прожил на улице Convention, не задумываясь над тем, что означает ее имя. Сейчас ему кажется знаменательным, что его путь — от Договора к Согласию. Случайность, полная смысла для ума, воспитанного работой над тайнописью символов. Даже коньячная реклама на потных стенах туннеля звучит для него намеком на этапы нравственной последовательности: «Дюбо» — «Дюбон» — «Дюбоне». От простого житейского Сговора, через Красоту и Добро — к высокому братскому Согласию. Эта догадка поражает Егора Егоровича, и он застенчиво озирается,— один ли он об этом думает, или та же мысль занимает умы всех, сжатых взаимно локтями и мокрыми спинами? Не может быть, чтобы еще кто-нибудь не думал о том же! Потом наступает момент — Егор Егорович перед дверью, на которой надпись: «За этим пределом билеты не действительны». Как бы иначе говоря: «Ты можешь с тем же билетом ехать дальше, можешь бесконечно метаться, меняя направления, по подземным туннелям,— но раз ты решил перешагнуть порог и выйти из-под земли на улицу, в мир реальный, помни, что возврата нет». Роковая черта! «Оставьте всякую надежду сюда входящие!» И опять — никогда раньше он не замечал этой вывески и о странной границе двух миров не думал! Символы окружают нашу жизнь, оплетают ее тонкой паутиной, в которой нужно уметь разобраться,— иначе запутаешься или порвешь ее нити. И рвут, и путаются, не делая попытки проникнуть в значенье слов, недооценивая образов. И есть еще дверь с надписью не менее загадочной; ее порог Егор Егорович переступит сегодня вечером: «Пусть не входит сюда не 91 знающий Геометрии». Эти слова начертал Платон над входом своей школы… МЕТАМОРФОЗЫ На пути в главную контору Кашет с месячным отчетом своего отделения Егор Егорович штудирует (…) зоологию, предмет поистине увлекательный. Тургеневская библиотекарша, Марья Петровна, наизусть знающая все книги по всем отраслям наук, и их названия, и их библиотечные номера, заполнила его портфель двумя толстыми томами Брэма, посулив (предложив) и остальные восемь. Область распространения полосатой гиены гораздо больше, чем у других видов; она еще встречается во всей северной Африке; начиная от крайнего запада, в значительной части южной Африки и в юго-западной Азии, начиная от Средиземного моря и до Бенгальского залива. Знаю Бенгальский залив, проезжали мимо. Как Сольферино? Пересадку-то я и пропустил! Ну, пересяду на Сэн-Лазар, лишних минут десять. Ее детеныши похожи на старых. Во всех местах, где она живет, встречается много падали... станция Мадлэн, пересадка на следующей. Сунув палец в пасть Брэма, Егор Егорович идет с толпой душным подземным коридором; все это — спешащие служащие, комиссионеры, барыньки за покупками. При случае они хватают овец, коз, а также и собак. Молодые экземпляры считаются в Индии довольно способными к приручению. Далее на север Монтейро во всей области Куанза... стоп: станция Рермюр… Егор Егорович возрождается из-под земли в сообществе прирученных полосатых гиен. Голова у них толстая, а морда относительно тонкая, на конце – довольно тупая; их детеныши действительно старообразны. Может быть, на воле эти животные хищны и прожорливы; здесь, в неволе города, они смахивают (похожи), скорее всего, на простых собак в намордниках, виляющих хвостами на слова хозяина. Вместо шерсти — на них юбки, гитаны (…), шляпы, в руках сумочки и зонты, под мышками свертки. А то бывают еще гиены пятнистые, и те приручаются нелегко, злы, неопрятны, вместо шляп носят кепки, за ухом недокуренную папиросу. Пятнистая гиена известна своим воем, похожим на сардонический (…) хохот; и когда она хохочет поблизости от благоустроенного человеческого жилья,— люди трясутся от непобедимого страха, хотя пятнистая гиена опасна только для 92 мелкого скота, а крупный справляется с ней рогами, человек — палкой, в неволе — кнутом… ЮБЕЛАС. ЮБЕЛОС. ЮБЕЛЮМ С холма Хирам смотрел на людской муравейник: у каменных глыб и древесных стволов суетились кучки черных людей, хватая, толкая, подводя рычат и машины, им, Хирамом, придуманные для поднятия тяжестей. Движения каждого муравья были случайны, движенье всех их вместе предугадано и направлено волей мастера Хирама. Белым жаром сверкали свежеетесанные камни, желтым румянцем ликовали доски, золотым солнцем слепил глаз металл. Зажиревшие, вислогубые, отупевшие от ленивой жизни подданные царя Соломона с удивлением и недоверием смотрели на работу Хирамовых учеников. Иной подходил и спрашивал: — Как и чем обтесываете вы камни нужной величины и столь изумительной гладкости? И хитрые рабочие, сделав из ладони створку раковины, шептали на ухо толстым дурням: — То не мы, а чудесный червь шамир слизывает со строевых глыб всякую неровность. — А где тот червь и велик ли он? — Тот червь с ячменное зерно, и лежит он в свинцовом сосуде, наполненном ячменными отрубями и прикрытом шерстяным покровом. Видеть его нельзя. Он принесен царю Соломону орлом из рая, где хранился с вечера шестого дня творения. Только смотри — никому не рассказывай! С радостью наблюдал Хирам, как кипит работа днем и как замирает, к вечеру,— только не затухает никогда огонь плавильных печей, и дым стелется над песками. Тысячи строителей Храма выполняли единый план, никому из них целиком не известный. Ученики тесали камень, остругивали дерево и выливали в форму расплавленный металл. Обученные всем ремеслам подмастерья клали фундамент, подгоняя камень к камню, и возводили стены по чертежам мастеров, с которыми каждый день совещался сам великий мастер Хирам. Всякий рабочий делал свое — все вместе делали единое общее дело, радуясь невиданному доселе чуду строительства… … в середине отпускного месяца Егор Егорович съездил на один день в Париж по делу важнейшему, а оттуда вернулся уже не тем, чем был раньше, и чашу гордости и радости довез, не расплескавши. 93 Теперь несокрушимые подошвы его сабо шаркали по двум последним четвертям универсального круга герметической квадратуры. Был человек подобен утру и восходящему дневному светилу; следуя движению земли, стал он человеком полудня и зенитного солнца. Был человек как будто мертвым зерном, но пустил росток и расцвел в пышности; он уже готовился к Деланию и был допущен к разысканию истинного философического огня. Был человек весной — стал горячим летом. И в то время, когда путь казался ему свершенным (законченным) и цель близкой к достижению,— вдруг померк свет пламенеющей (горящей) звезды, солнце склонилось к закату, лето к осени и зиме, осыпались лепестки цветка, философская ртуть почернела, и в лицо человеку пахнуло тлением (…). Смерть? — воскликнул человек. Да, врата мудрости,— ответил ему череп, лязгая челюстями. Смерть ли, мудрость ли,— но радостно приемлет каменщик высшую степень глубокого посвящения. Из впечатлений Парижа у человека осталась обычная очередная беседа с братом Жакменом в кабачке. За полтора года знакомства брат Жакмен успел постареть и стать еще строже и суровее. — Да, брат Тэтэкин, вы правы, вольный каменщик свободен в толковании символов и легенд, как и вообще свободен исповедовать и проводить в жизнь любые убеждения. Но это не исключает стремления к единому пониманию основных идей Братства, следовательно, и к общности этапов символического познания. Я должен предостеречь вас от обмирщения ваших символических восприятий. Великий мастер менее всего был революционером! Егор Егорович пытается разъяснить свою мысль: Да я и не утверждаю, что он — политический заговорщик. Я сам политикой даже и не интересуюсь, брат Жакмен. Я в России служил по почтовому ведомству, здесь — в торговой фирме по части экспедиции. Но не может душа порядочного человека, а тем более посвященного, мириться с тем, что делается на свете. Уж если строить Храм, так настоящий, стоящий, а не какую-то, — простите меня, брат Жакмен,— казарму начальством утвержденного образца. Все-таки кое-что, а помоему, и очень многое из нынешнего нужно бы перевернуть вверх ногами, попросту и грубо говоря — послать к черту. Возможно, но для меня, брат Тэтэкин, Хирам есть Солнце, Озирис современного посвящения, ложа — его вдова Изида, вольный каменщик — сын вдовы и света. Революционер не может быть строителем, его задача и его область — разрушение. А строят, мой дорогой, брат 94 Тэтэкин, способные, простые, усердные и дисциплинированные работники, по планам таких же мирных идейных руководителей. VITROLUM Лежащая перед нами повесть о вольном каменщике представляет собою попытку автора изобразить, как простой человек может правильно ощутить и принять идею строительства Соломонова храма. Бывший почтовый чиновник Егор Тетѐхин отесал грубый камень, придав ему кубическую форму, пригнал свой камень к подобным же камням братьев Жан-Батиста Руселя и Себастьяна Дюверже и тем самым положил основание Храму просвещенного человечества. Попутно в той же повести миру вольного каменщика противополагается мир профанный в лице смешной Анны Пахомовны, ее неинтересного сына и особенно крайне развращенного молодого человека Анри Ришара. Для стройности повести автор ввел в нее живописную фигуру старого масона Эдмонда Жакмена (иррациональное в познании) и несчастного судьбою профессора биологии Панкратова (тип рационалиста). Самой повести придан тон добродушной шутливости, не исключающей, мыслей возвышенных, а также разоблачено немало масонских тайн, что должно вызвать справедливое негодование в заинтересованных кругах… … приводим эти разговоры как образчик (образец) приемов, которыми пользуется автор для иллюстрации руководящей идеи повести: противопоставления профанного разума — посвященному познанию вещей. Когда же сумерки отнимают у цветочного ковра яркость его красок, Егор Егорович, сладостно зевнув, говорит: — Ну, я, пожалуй, пойду и зажгу лампу. Закусим, и я на боковую, а вы, верно, еще почитаете, хочу завтра перебросать компостную кучу, нет ничего мертвого, в чем в самый момент смерти не зарождалась бы новая жизнь. Откуда происходят все вещи? Из одной и единой Природы. Сколько в ней областей? — Четыре главнейших: сухость, влажность, жар и холод, четыре простейших качества, от коих (которых) происходят все вещи. – Дай мне идею Природы! 95 – Она невидима, хотя действует видимо, ибо она лишь дух летучий, присутствующий в телах и их одушевляющий духом вселенским, который в масонстве учебном олицетворен почтенной эмблемой Пламенеющей Звезды. – Что же такое Природа? – Божественное дыхание, центральный и вселенский огонь, оживляющий все, что существует. Над колбой зеленого стекла склонился Великий Алхимик с загрубевшими от огня пальцами, в одежде, прожженной кислотами, обросший мохом и сединой. Рушились без видимой пользы девять тысяч опытов, и стольким же предстоит обмануть мудреца, владеющего тайной слова Vitriolum. «Посети недра земли — и путем очистки ты откроешь Тайный Камень истинной Медицины». Обомшалый Алхимик нагнулся и подбросил топлива в пламя печи. Ни единый мускул не дрогнул на его морщинистом лице, когда с треском лопнула колба. Потревоженный Егор Егорович перевернулся было на другой бок, но, услышав клохтанье кур, учуявших утро, открыл глаза и принудил себя встать. «ВРЕМЕНА» (1955) АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ ДЕТСТВО При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это – наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего. Далекое прошлое всегда – сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать, но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый (низкий) дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут и румянятся пальцы 96 в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала – для весенних дней – никаких, ни ярких, ни мешаных, красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое талыми островками, а золото солнца ненарисуемо (нельзя нарисовать) и неописуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки и воробьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника, и красноперые голосистые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама и в щелочку, где отпала замазка, и в печную трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай, и я, конечно, по лужам не бегаю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим, и вот расцветает черемуха. Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибоем ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачовую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал врастать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос 97 окончательно, то на его месте выстроили дом каменный; и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки, так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитания (бесцельного путешествия) по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть. Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье – с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница (помощница) бука и защекочет в темному углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный кран, заверещит лебедкой, черкнет по небу и горизонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние (здешние), рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех 98 скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищеный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавов с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет: и особенно на его четвертой версте поворот налево, на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками – в деревню Загарье, где летом мы жили на даче, а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменилась (изменилась): картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат (спуск) к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой (плотной) стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная, прокоптелая хибарка – баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать. 99 Краткий словарь литературных терминов и понятий56 А Автобиография (лат. autos – сам, bios – жизнь, grapho – пишу) – описание автором собственной жизни, иногда художественное. Представляет суждения автора о самом себе, о своем месте в обществе, в мире; часто выражает творческие принципы писателя. Аллегория (греч. allos – иной, agoreuo – говорю) – изображение абстрактного понятия или явления через конкретный образ. Аллюзия (фр. allusion – намек) – сознательный авторский намек на общеизвестный литературный или исторический факт, а также художественное произведение. Анализ художественный – разложение художественного произведения на составляющие элементы (форма, содержание, словесное оформление, организация пространства и времени и т.д.) с целью выявления авторской концепции. Архетип (греч. archetypon – модель, первообраз) – универсальный образ, мотив или сюжет, который пронизывает культуру человечества с древнейших времен и до современности. Б Беллетристика (фр. belles letters – изящная словесность) – 1. Вся художественная литература. 2. Жанровая литература (авантюрный, приключенческий роман, дамский роман и т.п.). 3. Проза, занимающая промежуточное положение между классической (высокой) литературой и массовой. 56 Для составления использовались: Словарь литературоведческих терминов для выпускников и абитуриентов / авт. -сост. А.А. Инджиев. – Изд. 3 – е, доп. и перераб. – Ростов н / Д: Феникс, 2010. – 219 с. Ильин И.И. Постмодернизм. Словарь терминов / Ильин И.И. – Москва: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA. 2001.- 384 с. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Под ред. А.Н. Николюкина. Институт научной информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001 г. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. Пособие для учащихся сред. Школы/ Тимофеев Л.И., Тураев С.В. М.: Просвещение, 1978 г. – 223 с. 100 Бессюжетный роман – роман, в котором фабула ослаблена или отсутствует. В бессюжетном романе можно легко переставить части без ощущения изменения сюжета. Библиография (греч. biblion – книга, grapho – пишу) – 1. Отрасль знания о методах и способах составления указателей, списков, обзоров печатных произведений. 2. Список книг, журналов и статей с указанием основных данных. 3. Отдел в периодических изданиях, в котором разбираются недавно вышедшие книги. Биография – 1. Описание жизни человека; жанр исторической, художественной и научной прозы. 2. Жизнь человека как совокупность его поступков, событий и умонастроений. В Вечные образы – художественные образы, которые возникли в прошлом, в конкретных исторических условиях и возникают в творчестве писателей последующих эпох. Внесюжетные элементы – вставные эпизоды, рассказы и лирические (авторские) отступления в эпическом или драматическом произведении, не входящие в сюжетное действие. Внутренний монолог – воспроизведение речи действующего лица, обращенной к самому себе и не произнесенной вслух. Время в литературе – важнейшая характеристика образа художественного. Вместе с художественным пространством обеспечивает целостное восприятие действительности и организует композицию произведения. Вставной рассказ (вставная новелла) – внесюжетный элемент повествования: фрагмент текста художественного произведения, напрямую не связанный с основным повествованием, но подчиненный главной мысли произведения. 101 Вымысел художественный – характерная для искусства форма воссоздания и отображения жизни в сюжетах и образах, не имеющих прямой соотнесенности с реальностью. Г Герой литературный – главное или одно из главных действующих лиц в прозаическом или драматургическом произведении, художественный образ человека, который является субъектом действия и объектом авторского исследования. Гипербола (греч. hyperbole – преувеличение, излишек) – сильное преувеличение чувств, значения, размера, красоты описываемого явления. Гипертекст (греч. hyperbole – преувеличение, излишек) – вид текста или способ организации текста, который позволяет работающему с одним текстом обращаться к другим текстам (которые поясняют, раскрывают смысл какого – либо понятия) и возвращаться к чтению основного текста. Градация (лат. gradation – постепенность) – последовательность чеголибо (слов, словосочетаний, частей сложного предложения), при которой каждое последующее увеличивает значение предыдущего. Гротеск (итал. grottesco – причудливый)– вид комического: изображение людей, предметов или явлений в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде. Гротеск совмещает реальное и нереальное, ужасное и смешное, трагическое и комическое, тем самым показывает противоречие жизни. Д Действие – 1. Поступки персонажей эпических и драматических произведений в их взаимосвязи, составляющие важную сторону сюжета. 2. Часть драматического произведения или спектакля. Деконструкция (агл. deconstruction -) – анализ текста, основанный на выявлении внутренней противоречивости текста, обнаружении в нем скрытых и незамечаемых автором и читателем «остаточных смыслов» 102 прошлого, доставшихся в наследство от дискурсивных практик прошлого. Деталь художественная – одно из средств создания образа: выделенный автором элемент художественного образа, несущий значительную смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении. Дилогия (греч. di – дважды, logos – слово) – произведение одного автора, состоящее из двух самостоятельных, имеющих особые заглавия частей, которые объединяет общий замысел и персонажи. Динамика – 1. Выражение движения, действия, развития, изменений во времени; описание хода развития какого-либо явления. 2. Создание впечатления подвижности художественной формы (ускорение или замедление ритма произведения). Документальность – опора на факты, активное привлечение документов, цитирование свидетельств и источников в художественном произведении. Ж Жанр литературный (фр. genre – род, вид) – форма, в которой реализуются основные роды литературы: эпос, лирика и драма. Жанры характеризуются теми или иными общими сюжетными и стилистическими признаками. Жизнеподобие – «прямое», непосредственное отображение реальности: создание иллюзии полного сходства (тождества) жизни и ее художественного отражения. З Заглавие – название, именование литературного произведения. Замысел авторский – первая ступень творческого первоначальная схема будущего произведения. процесса, Звуковая организация речи – одно из изобразительно-выразительных средств: целенаправленное использование звукового состава языка для усиления художественной выразительности речи. 103 И Игровой принцип в литературе – понимание литературной деятельности как игры, установка автора на смысловую игру с культурными моделями, текстом, читателем (характерен для постмодернистской литературы). Идея художественная (греч. idea – идея, понятие, первообраз) – главная мысль, лежащая в основе художественного произведения. Интерпретация (лат. interpretation – толкование, объяснение)– толкование текста, направленное на понимание его смысла. Интертекстуальность (фр. intertextualite, англ. intertextuality) – один из главных приемов постмодернистской литературы: отдельные тексты постоянно «вступают в диалог», «ссылаются» друг на друга и все вместе являются частью некоего общего текста. Интерьер (фр. intérieur – внутренний) – изображение в художественном произведении внутренней обстановки помещения (дома, усадьбы, комнаты героя и т.д.). Часто выступает как средство характеристики персонажа. К Композиция (лат. composition – составление, соединение, сложение) – построение художественного произведения: расположение и взаимосвязь его частей, образов, эпизодов в соответствии с содержанием, жанровой формой и замыслом автора. Конфликт (лат. conflictus – столкновение) – острое столкновение (противоречие, противоборство) характеров и обстоятельств, взглядов и жизненных принципов, положенное в основу действия художественного произведения. Концепция (лат. conception – восприятие) – система взглядов, точка зрения; способ рассмотрения каких-либо явлений; общий замысел. Критика литературная – тесно связана с историей и теорией литературы, но в отличие от них оценивает главным образом современное литературное развитие, истолковывает художественные произведения с точки зрения современности. 104 Л Лейтмотив (нем. Leitmotiv – ведущий мотив) – основная мысль, которая неоднократно повторяется и подчеркивается на протяжении всего произведения (конкретный художественный образ, выразительная деталь или слово, многократно повторяемые и упоминаемые). Лиризм – прямое, открытое выражение эмоций, чувств, настроений персонажей и автора в художественном произведении. Может быть свойством произведения любого рода литературы. Лирическое отступление – внесюжетный элемент произведения: форма авторской речи (размышление, высказывание), выражающая отношение к изображаемому или имеющее к нему косвенное отношение. М Мемуарная литература (фр. memoire – память, воспоминание) – вид эпической словесности: хроникальное и фактографическое повествование от лица автора, в котором отражены подлинные события, некогда реально происходившие, а теперь воспоминаемые (нет поэтического вымысла, только достоверные впечатления жизни). Метафора (греч. metaphora – перенос) – переносное значение слова, в основе которого лежит уподобление одного предмета или явления другому; скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте явлений (разновидности метафоры: олицетворение, овеществление и др.). Метод художественный – способ отражения действительности в произведениях искусства: особый тип образного видения мира (концепция мира и человека); общий принцип отбора, обобщения и оценки писателем жизненного материала, общий подход писателя к действительности. Мотив (фр. motif – мелодия, напев) – 1. В произведениях устного народного творчества: мельчайший элемент сюжета, простейший значимый компонент повествования (например, мотив дороги, мотив встречи и др.) Из многочисленных мотивов складываются различные сюжеты. 105 2.Второстепенная, дополнительная тема произведения (своеобразная микротема), подчеркивающая основную тему. Н Направление литературное – общность идейно-эстетических принципов, свойственных творчеству множества писателей на определенном этапе литературного развития. Несобственно-прямая речь – особая форма повествования: выражение речи героя в эпическом произведении, когда местоимения и формы глаголов соответствуют авторскому повествованию, а лексика и синтаксис – речевой манере самого героя. Новелла (итал. novella – новость) – один из малых эпических жанров (близка рассказу). Фабула новеллы отличается динамичностью событий, неожиданностью их развития и развязки. О Образ художественный – обобщенное художественное отражение действительности в конкретной форме, картина человеческой жизни, созданная при помощи творческой фантазии художника. Олицетворение, прозопопея (греч. prosopon – лицо, poieo – делаю) – изображение неодушевленных предметов, при котором они получают свойства живых существ. Очерк – эпический жанр: прозаическое произведение, в основе которого факты, документы, личные впечатления автора (нет вымысла). П Повествование – 1. Речь персонифицированного рассказчика или речь автора в произведении. 2. Речевая форма эпоса: рассказ о событиях, происходящих во внешнем по отношению к повествователю мире. Поэтика (греч. poietike – поэтическое искусство) – 1. В античную эпоху – учение о художественной литературе вообще; позднее – описание художественной формы произведения. 2. В современном литературоведении – наука о строении литературных произведений и системе эстетических средств, в них используемых, а 106 также об исторических законах их изменения, о возможных способах художественного воплощения авторского замысла. Предметный мир – в литературе – реалии (вещи, предметы), которые отображены в произведении, располагаются в художественном пространстве и существуют в художественном времени. Прием художественный – (то же, что и изобразительное средство) композиционное, ритмическое, стилистическое или звуковое средство, которое конкретизирует, подчеркивает какой-либо элемент повествования. Притча – небольшое поучительное произведение. Назидания и поучения в притче выражаются не открыто (прямо), а в иносказательной (аллегорической) форме. Пространство художественное – важнейшая характеристика образа художественного. Вместе с художественным временем обеспечивает целостное восприятие действительности и организует композицию произведения. Р Реминисценция (позднелат. reminiscentia – воспоминание) – неявная (скрытая) отсылка к другому тексту. Рассчитана на воспоминания и ассоциации читателей. Род литературный – способ воспроизведения действительности в художественном произведении, которое может более или менее объективно отображать окружающий мир (эпос), или состояние говорящего (лирика), или воспроизводить процесс общения (драма). Роман (фр. roman)– большое эпическое произведение, в котором подробно изображается жизнь людей в определенный период времени или в течение целой человеческой жизни. Свойства романа: многолинейность сюжета, система равнозначных персонажей, большой круг общественных явлений, значительная временная протяженность действия. С 107 Символ (греч. symbol – знак, опознавательная примета) – универсальная эстетическая категория, особый художественный образзнак. Символ имеет множество значений и обладает огромной смысловой емкостью. Сравнение – уподобление соотносимых явлений (предметов, состояний). При этом свойства или качества одного явления (предмета или состояния) переносятся на другое с целью его художественного описания. Сюжет (фр. sujet – предмет) – событие или несколько событий в произведении, позволяющие показать характеры героев и суть изображаемых явлений в соответствии с авторским замыслом. Т Творчество – деятельность, направленная на создание эстетических, художественных ценностей часто выражающихся в произведениях искусства. Текст (лат. textus – ткань, сплетение) – 1. Письменное или печатное закрепление речевого высказывания. 2. Выраженная и закрепленная при помощи языковых знаков чувственно воспринимаемая сторона речевого, в том числе и литературного произведения. Топос (общее место) (греч. topos – место, лат. – locus communius) – 1. В риторике – отвлеченное рассуждение, используемое в речи в конкретном случае. 2. В широком смысле – стереотипный, привычный образ, мотив, мысль. В том числе и устойчивые пространственные мотивы и образы (например, идиллический «приятный уголок», домашнее пространство и т.д.). У Условность художественная – черта художественного произведения, состоящая в том, что созданные художником образы воспринимаются как нетождественные действительности, как нечто созданное волей автора. 108 Устное народное творчество (УНТ) – виды непрофессионального словесного творчества, создаваемые коллективным автором (народом) и распространяющиеся в устной форме. Ф Фабула (лат. fibula – рассказ, повествование)– последовательность событий произведения, которая составляет сюжет. В отличие от сюжета фабула – это то, что было на самом деле (сюжет – это то, в какой последовательности узнал об этом читатель). Форма и содержание – литературоведческие термины, обозначающие внутреннюю (содержание) и внешнюю (форма) стороны художественного произведения. Эти стороны находятся в органическом единстве. Х Хронотоп (греч. chromos – время, topos – место) – взаимосвязанное и взаимообусловленное изображение в произведении времени и пространства. Термин ввел М.М. Бахтин. Хронотоп воспроизводит пространственно-временную картину мира и организует композицию. Художественность – сложное сочетание качеств произведения, которое позволяет отнести его к области искусства. Для художественности характерны завершенность и адекватность воплощения художественного замысла автора. Ц Целостность художественная – единство литературного произведения, проявляющееся на всех его уровнях. Циклизация (греч. kyklus – круг, окружность) – объединение несколько художественных произведений на основе общей темы, действующих лиц, общего повествователя. При этом произведения сохраняют самостоятельность. Цитата (лат. citation < citare – приводить, вызывать) – включение в собственный текст точного (дословного) высказывания другого человека. Э 109 Эпизод (греч. episodion – вставка) – целостная и самостоятельная часть произведения, которая отражает завершенное во времени событие, законченный момент действия в произведении. Эпос (греч. epos – слово, повествование, рассказ) – 1. Один из трех основных родов литературы (эпос, лирика, драма). Характеризуется объективным изображением действительности, повествованием о различных явлениях жизни, людях, их судьбах, характерах, поступках. Эпос делится на крупные жанры – эпопея, роман, эпическая поэма, или поэма – эпопея; средние – повесть и малые – рассказ, новелла, очерк. 2. В устном народном творчестве совокупность эпических песен, сказаний разных народов. Я Язык художественной литературы – язык художественных произведений, словесного искусства. Отличается от литературного языка тем, что ориентирован на поэтическое отражение действительности, на поиск изобразительных средств для выражения авторского замысла. Также отличается художественной образностью. 110 Список литературы 1. Абашева М.П. Литература в поисках лица (русская проза в конце ХХ века: становление авторской идентичности)/ Абашева М.П. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. -. 123 с. 2. Абуталиева Э.И. Содержательные и структурные доминанты автобиографического романа в русском зарубежье 20 – 50-х годов ХХ века// Русский роман ХХ века: Духовный мир и поэтика жанра: Сб. научных трудов. – Саратов, 2001. с. 78-79. 3. Авдеева О.Ю. «Больше зритель, чем участник …»/Осоргин М.А. Свидетель истории. Книга о концах: Романы. Рассказы/ сост., примеч., вступ. статья О. Ю. Авдеевой. – М: НПК «Интелвак», 2003 – 496 с. 4. Бакунина Т.А. Знаменитые русские масоны. Русские вольные каменщики/ Бакунина Т.А. М.: Интербук, 1991. – 54 с 5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет/ М.М. Бахтин. М., «Худ. лит.», 1975. – 504 с. 6. Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи: Сб. статей о русской интеллигенции. Из глубины. Сб. статей о русской революции. М.: Правда, 1991. – с. 17 – 25. 7. Гаспаров М.Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интеллигенция. История и судьба. с. 9 – 23. 8. Гашева Н. Н. Кинематографичность прозы М. Осоргина (На материале анализа романа «Сивцев Вражек») // Михаил Осоргин: жизнь и творчество. Материалы первых Осоргинских чтений. – Пермь, 1994. – с 132 - 134 9. Дергачева Э. С. Дом и история в романе М. Осоргина «Сивцев Вражек» // Михаил Осоргин: жизнь и творчество. Материалы первых Осоргинских чтений. – Пермь, 1994. – с. 54-67 10.Иванов Вяч. Вс. Интеллигенция как проводник в ноосферу//Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 2000. – С. 51 – 65. 11.Ильин И.И. Постмодернизм. Словарь терминов / Ильин И.И. – Москва: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA. 2001. – 384 с. 12.Кондаков И.В. К феноменологии русской интеллигенции//Русская интеллигенция. История и судьба. М.: Наука, 2000. – с. 82-97. 13.Лаптева Н.Б. «Большое» и «Малое» как стилевая антиномия в романе М.Осоргина «Сивцев Вражек» //Русская литература XX 111 века: направления и течения. Вып. 4. – Екатеринбург: Изд-во Ек. Университет, 1998. – с. 70 – 87 14.Ласунский О. Г. Михаил Осоргин: структура, качество и эволюция таланта// Михаил Осоргин: жизнь и творчество. Материалы первых Осоргинских чтений. – Пермь, 1994. – с. 12-15 15.Лихачев Д.С. Поэтика Древнерусской литературы /Д.С. Лихачев.– 3е изд. – М.: Наука, 1979 – 360 с. 16.Ло Гатто Э. Мои встречи с Россией/ Ло Гатто Э. – М.: Круг, 1992. 17.Лобанова Г.И. Эволюция нравственного сознания «маленького человека» в романах М. Осоргина 1920-1930 годов. Дисс… канд. филол. наук. – Уфа, 2002. – 21с 18.Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Книга для учителя/ Лотман Ю.М. – М.: Просвещение, 1988 – 352 с. 19.Лотман Ю.М. Структура художественного текста/ Ю.М. Лотман. М., 1970 – 456 с. 20. Лотман Ю.М. Текст в тексте//Ученые записки Тартуского университета. Вып. 567. Текст в тексте. Труды по знаковым системам. Тарту, 1981. – с. 13-34. 21.Лучинский Г. Франк-масонство // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона. Том ХХХV (72). с. 512-513 22.Мароши В.В. Ласточка в интертекстуальности и скрипции романа М. Осоргина «Сивцев Вражек» // Михаил Осоргин: жизнь и творчество. Материалы первых Осоргинских чтений. – Пермь, 1994. – с. 56-67 23.Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы / Николина Н.А.– М., 2002. с. 344. 24.Осоргин М.А. Времена / Осоргин М.А. – Екатеринбург, 1992. 25.Осоргин М.А. Вольный каменщик/ Осоргин М.А. – М.: Московский рабочий, 1992. – 156 с. 26. Осоргин М. «Книжная лавка писателей» // Наше наследие,1989, №3. – с. 21-26. 27.Barmache N., Fiene D.M., Ossorguine T. Bibliographie des oevres de Michel Ossorguine/ Barmache N., Fiene D.M. – Paris, 1973 – 124 с. 112