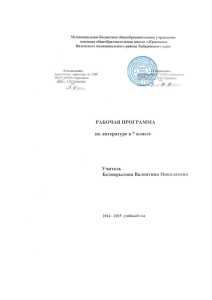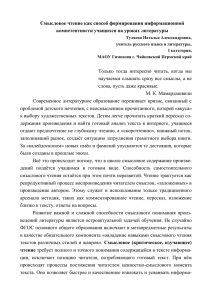3 ВВЕДЕНИЕ Литература – непрерывно развивающаяся и
advertisement
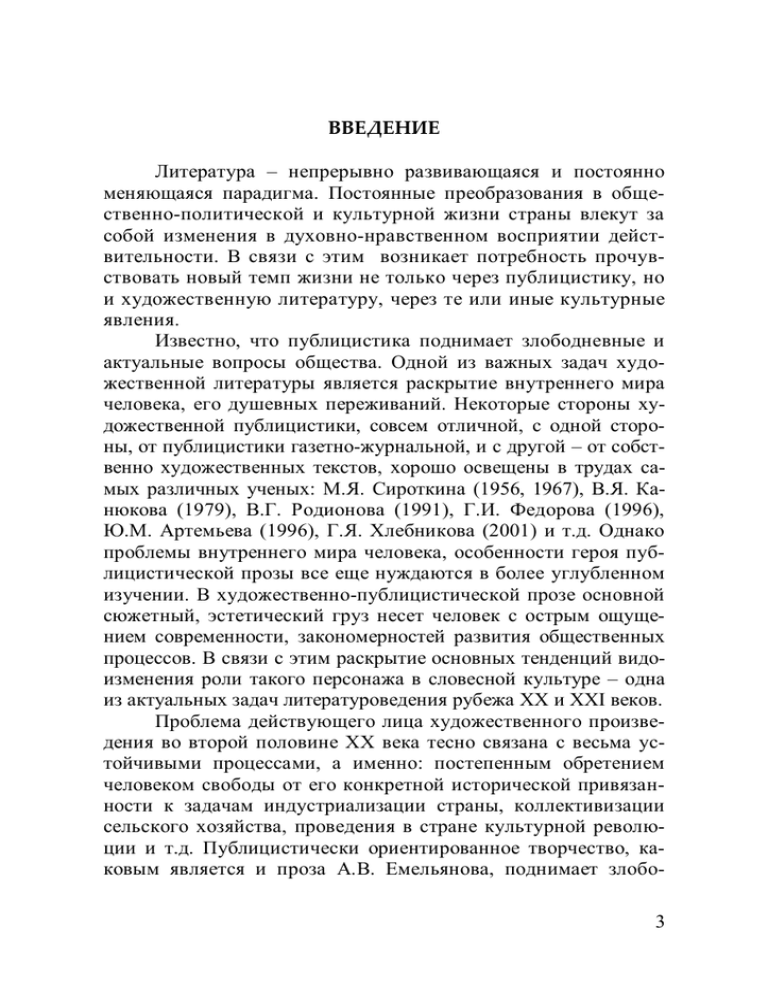
ВВЕДЕНИЕ Литература – непрерывно развивающаяся и постоянно меняющаяся парадигма. Постоянные преобразования в общественно-политической и культурной жизни страны влекут за собой изменения в духовно-нравственном восприятии действительности. В связи с этим возникает потребность прочувствовать новый темп жизни не только через публицистику, но и художественную литературу, через те или иные культурные явления. Известно, что публицистика поднимает злободневные и актуальные вопросы общества. Одной из важных задач художественной литературы является раскрытие внутреннего мира человека, его душевных переживаний. Некоторые стороны художественной публицистики, совсем отличной, с одной стороны, от публицистики газетно-журнальной, и с другой – от собственно художественных текстов, хорошо освещены в трудах самых различных ученых: М.Я. Сироткина (1956, 1967), В.Я. Канюкова (1979), В.Г. Родионова (1991), Г.И. Федорова (1996), Ю.М. Артемьева (1996), Г.Я. Хлебникова (2001) и т.д. Однако проблемы внутреннего мира человека, особенности героя публицистической прозы все еще нуждаются в более углубленном изучении. В художественно-публицистической прозе основной сюжетный, эстетический груз несет человек с острым ощущением современности, закономерностей развития общественных процессов. В связи с этим раскрытие основных тенденций видоизменения роли такого персонажа в словесной культуре – одна из актуальных задач литературоведения рубежа XX и XXI веков. Проблема действующего лица художественного произведения во второй половине XX века тесно связана с весьма устойчивыми процессами, а именно: постепенным обретением человеком свободы от его конкретной исторической привязанности к задачам индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, проведения в стране культурной революции и т.д. Публицистически ориентированное творчество, каковым является и проза А.В. Емельянова, поднимает злобо3 дневные вопросы современности, чутко реагирует на перемены в настроениях духовной жизни общества. В связи с этим в национальной литературе и, конечно, в творчестве А. Емельянова, который изучает общее через индивидуальное, на передний план выходят проблемы и интересы не целого коллектива и не коллективного человека (как это было недавно), а думы отдельного человека, индивида. А.В. Емельянов одним из первых остро почувствовал перемены в настроениях эпохи. В своих произведениях он создал образы руководителей села, района и области. Они не походили на образы лакированных представителей власти, в этих героях писатель сумел увидеть самые разнообразные чувства и психологические движения. Прозаик осознал, что глубинное изучение духовного мира отдельного человека поможет увидеть профессионально несостоятельных организаторов производства даже в среде партийных работников, что было, конечно, для 60-70-х годов XX века очень смело. Особенно зримо это проявилось в романе «Серебряный ветер» («К.м.л =ил»), в повестях «Не ради славы» («Чапшён пурёнмастпёр»), «Пастухи» («К.т\=сем») и т.д. Такой опыт, естественно, требует глубинного научного анализа, потому что свидетельствует о больших переменах в духовной жизни общества. Опыт А. Емельянова в этом отношении бесценен. Но, несмотря на это, творчество данного писателя до сих пор целостно не проанализировано, типология героев в прозе писателя, проблема художественного хронотопа прозы, своеобразие жанровой системы его публицистической прозы вообще мало изучены. Ряд исследований затрагивает лишь общие вопросы обсуждаемой темы. Среди них заслуживают особого внимания работы Ю.М. Артемьева, Г.И. Федорова, Г.Я. Хлебникова и др. Кроме того, следовало бы заметить, что изменилась не только общественная обстановка, изменилась (и коренным образом) содержательная сущность литературы. На современном этапе литературно-художественные процессы невозможно характеризовать с точки зрения последовательной, хронологической смены парадигм. Действительно, 1920-е годы, скажем, характеризовались многополярностью образных концепций, 1930-е показательны заметным ссужением концепций, креном словесности в 4 сторону идеологического однообразия, 1940-1960-е годы отмечены романтическим порывом и социально-художественным анализом жизни. События, последовавшие после так называемой перестройки, повлекли за собой многополярность точек зрения. Творческая деятельность А. Емельянова тяготеет к эстетической тенденции, но на нее воздействует и многоликая поэтика снов, мифов, анекдотов (условно-метафорическое направление). В силу всего этого деятельность писателя-публициста не может быть квалифицирована одномерно и однобоко. Современное чувашское литературоведение ищет новые пути осмысления литературного наследия нации в целом, новые методологические принципы понимания творчества того или иного писателя и отдельного литературного произведения. Малоизученность творчества А.В. Емельянова не позволяет расценивать его произведения глубинно, осмысливать его творчество с новых точек зрения. Необходимость такого исследования вне сомнения, как вне сомнения и значимость его творчества во всей чувашской литературе, представляющего живейший интерес. Данная книга является первым опытом изучения художественной публицистики с точки зрения жанрового своеобразия произведения и особенностей творческого мира отдельного писателя. В ней целостно рассматриваются крупные и малые жанры произведений А. Емельянова, вся художественно-публицистическая проза писателя в единстве ее содержания и формы. 5 Глава I ТИПОЛОГИЯ ГЕРОЕВ В ТВОРЧЕСТВЕ А.В. ЕМЕЛЬЯНОВА Действительность 1960-1970-х годов и пути к реальностям героя в публицистической прозе А. Емельянова Имя народного писателя Чувашской Республики Анатолия Емельянова (1932-2000) широко известно по всей России и за ее пределами. Его художественные поиски неоднократно подвергались серьезному анализу квалифицированных специалистов-критиков не только Чувашии, но и Москвы, других регионов страны. Причины этого кроятся, безусловно, в том, что он создал яркую галерею своеобразных героев. Это – Трофим Матвеевич Прыгунов и Павел Сергеевич Кадышев из «Разлива Цивиля» («+авал сарёлсан»), Семен Ильич Крыслов и его жена Ирина (Урине) из «Черных груздей» («Хура кёрё=»), Сетнер Осипович Ветлов и Алексей Петрович Великанов из «Засушливого года» («Шыв типн. =ул» или «+улталёкра вунви=. уйёх»), Модест Васильевич Мухтанкин из «Имени» (встречается и под названием «Перевертыш») («Ят»), Виктор Николаевич Гречнев из «Пастухов» («К.т\=сем»), Федот Иванович Михатайкин из повести «Не ради славы» («Чапшён пурёнмастпёр») и т.д. Интерес представляет то, что сами фамилии героев в произведениях Емельянова весьма характерны. Они говорят о наличии или присутствии в этих образах гражданской ответственности, причастности или непричастности их к народной судьбе. Великанов – человек большой (великой) души, легко ранимый и порядочный. Фамилию Мухтанкин можно было бы перевести как Хвастунов или Хвальбишин; и в самом деле этот перевертыш соответствует своей «фамильной» характеристике. Фамилия Гречнев и Ветлов тоже говорят сами за себя. Кроме того, такие фамилии, говоря словами Н.А. Николиной, «участ6 вуют в создании образов героев литературного произведения, развертывании его основных тем и мотивов, формировании художественного времени и пространства, передают не только содержательно-фактическую, но и подтекстовую информацию, способствуют раскрытию идейно-эстетического содержания текста, часто выявляя его скрытые смыслы» [30, с. 195-196]. Каждый из таких героев очень колоритен, ярок и внятен своим образным потенциалом. Они хорошо и органично представляют и проявляют свое время, имеют свое, только для них необходимое окружение и социальную среду. Причем это герои самые разнообразные. Герой «Пастухов» Виктор Николаевич Гречнев наделен пытливым умом, персонаж новеллы «Свирель» («Шёхлич») – рассказчик-герой Никита Иванович Хурашов – человек с тонкой лирической душой и т.д. Гречнев и Мухтанкин не просто очень яркие и образные собственные имена, они «указывают на социальный статус персонажа», «могут предопределять форму его поведения в тексте» [30, с. 196]. Действительно, Гречнев – это прямое указание на представителя сельского труда, рачительного селянина; Мухтанкин – это выражение прямой авторской оценки перевертыша и приспособленца, имя героя новеллы «Свирель» скульптора Хурашова – непосредственное и точное выражение его принадлежности к чувашской национальности. Или же вот отрывок из рассказа «Случай в лесном бараке»: «Бригадиром у нас был Тимофей Шумаков. За глаза мы звали его Тимань, Тырмалей и даже Тырбалдай, что означает не более не менее, как Дуралей» [58, с. 219]. Вряд ли можно сомневаться в том, что такая переделка имени Тимофей сильно утрирует публицистический замысел произведения и придает ему (имени) некоторый «театрально-игровой» характер, как бы «карнавальный» оттенок. Черты характера всех этих героев органично связаны с тем, что писатель внимательно и чутко следит за переменами в обществе. Вместе с тем и за теми переменами, которые происходят в душах персонажей по причине общественных изменений. Например, Сетнер Осипович Ветлов из «Засушливого года» – это председатель колхоза того времени, когда по стране прокатилась волна строительства крупных промышленных комплексов. Будучи человеком аналитичным, к таким кампанейским акциям он относится очень недоверчиво, 7 ибо знает, что цена им невелика. Знает потому, что следит за теми переменами, которые происходят в стране. Словом, этот человек, способный разгадать законы движения политики властей по отношению к деревне. Говоря словами Н.А. Николиной, это – «указание на социальный статус» Ветлова. И даже глубже: указание на «его национальную принадлежность» [30, с. 196]. Не случайно персонаж носит имя героя классической поэмы К. Иванова – Сетнер. В этом хорошо видна острая публицистичность писателя, открытое выражение того, почему и как он относится к своим героям. То есть прозаик сразу показывает, насколько тот или иной человек является в общественном отношении морально сильным и ответственным перед людьми. Моральные принципы таких героев (особенно в названных произведениях) вытекают из понимания актуальности общественных проблем, которые писатель ставит перед собой. Известно, что публицистика всегда поднимает злободневные и актуальные вопросы. Имена героев Емельянова, выразительные фамилии (о которых уже говорилось), прозвища (Генка-Граф из «Колокольчиков» («Шёнкёрав курёк.»); Куб-Степан (Кубкубатура) из «Черных груздей») и т.д. также несут определенную смысловую нагрузку. Так, прозвище Граф говорит о том, что Генка Воронцов свысока и цинично относится к женщинам. Автор относится к нему с юмором. Так же с юмором он относится и к Куб-Степану (Степану Степановичу Степанову), намекая, что герой, несмотря на то, что имеет прозвище математического характера, является плохим бухгалтером. Таким образом, определенная степень гражданственности, ее кровная связанность с развитием общества, на что верно указывают некоторые исследователи, во многом является одной из главных черт емельяновских героев. Все это побуждает, как отмечают исследователи, внимательно изучать природу героя в творчестве прозаика [40]. Герои Емельянова в силу публицистичности его произведений очень близки автору. Они являются выразителями и основным рупором его идей. Подобные персонажи в художественном отношении играют в произведениях особенную, своеобразную роль. В связи с этим данная проблема в творческих исканиях народного писателя Чувашской Республики А. Емель8 янова выходит на первый план. Указывают на своеобразие героев также и названия произведений известного публициста. Назвав свое произведение «Имя», прозаик нацеливает внимание читателя на то, что в главном герое для него важна проблема чести. Не менее характерно и название «Не ради славы», которое впрямую указывает на то, какой герой как понимает и воспринимает славу. Таковы не только повести, но и другие произведения А. Емельянова. Так, рассказ «Ненастье» («К.рхи =умёр») – это повествование о ненастье в душе тракториста Юры, не нашедшего взаимопонимания с родными людьми. «Свирель» – это новелла о тех пострелятах (слово «пострел» на чувашский язык переводится как «шёхлич», буквально – «свисток»), которые ныне превратились в серьезных, взрослых людей и т.д. Это, безусловно, еще одно подтверждение того, что в творчестве известного публициста проблема героя занимает одно из главных мест. Так, например, известный ученый Ю.М. Артемьев о герое повести «Колокольчики» Александре Васильевиче пишет: «Его отличает гражданская активность, он умеет управлять собственными эмоциями, принимает взвешенные решения. Богат внутренний мир героя, он достаточно начитан, любит искусство. <…> … Ищет и находит нужный тон в воспитательной работе с молодежью» [3, с. 213]. Это показывает, что такой герой является главной фигурой, держащей на себе весь стилевой, сюжетный и композиционный груз произведения. В связи с этим слова Н.А. Николиной, приведенные ранее, нельзя считать случайными. Они помогают понять, из чего создается публицистизм прозаика. Нужно сказать, что персонажи, подобные Гречневу, Александру Васильевичу, Великанову, четко и рельефно обозначают не только авторскую позицию Емельянова, но и регулируют художественно-публицистическое поведение героев, являются признаком их социального статуса. Говоря словами Ю.М. Артемьева, «в Емельянове мы видим писателя, близкого и созвучного основной тональности “деревенской прозы”» [3, с. 212]. Это означает, что писатель-публицист показывает жизнь изнутри отображаемой действительности 70-80-х годов XX века. Необходимо отметить еще одну черту, которая очень важна для понимания творчества Емельянова и особенно про9 блемы его героя. Сказанное до сих пор дает право считать, что в герое писатель часто видит сначала его социальный статус или социальное поведение. Затем, углубляясь, это поведение становится образным, художественным. Наряду с этим необходимо напомнить, что писатель имеет привычку давать своим героям сразу яркую моральную характеристику, которая становится признаком не только социальной природы человека, но и дает возможность его дальнейшего образного углубления. Например, превратив Тимофея в Тырбалдая (рассказ «Случай в лесном бараке»), прозаик прямо показывает, что это – человек, которому трудно наладить отношения с другими людьми, членами бригады. «Карнавальность» его поведения имеет не только комический, но и зловещий характер. Именно это и служит причиной стычки между Тиманем и бригадой. Он не только глупый, но и жестокий, деспотичный, именно из-за своих отрицательных качеств в конце рассказа Тимофей оказывается совсем отвергнутым членами бригады. Следует сказать и о другой черте. Яркая моральная характеристика героев углубляется так же, как и социальное поведение персонажа. Так создается публицистическое произведение, которое изучает нравы и обычаи людей, коллективов, того или иного общества. Рассмотрение произведений известного прозаика показывает, что при этом он очень огромное значение придает герою, персонажу. Что же и как происходило в промежутке между 19522000 годами (Емельянов, родившись в начале 1930-х годов, начал свою писательскую деятельность в 1952 году), какие художественные процессы происходили в эту эпоху, какие вехи прошел герой художественной прозы в этот период и почему? Вот что является главным в главе о герое прозы Анатолия Викторовича Емельянова, в главе о его неповторимой самобытности и образном своеобразии его художественных персонажей. Важно, что он пишет о герое с драматической гражданственностью души или же отсутствием таковой. Проблема героя в художественной публицистике в отличие от других отраслей литературы, скажем, лирики, приключения, научной фантастики и т.д., имеет свою особенную природу. В XX веке она тесно связана с весьма устойчивым худо10 жественным процессом – человек начинает обретать свободу от исторической конкретности, привязывается к задачам индустриализации страны и т.д. В связи со сказанным можно обратиться к интересному мнению исследователя А.Ф. Мышкиной: «Сегодня уже, наверное, никто не станет возражать против утверждения, что все в современном мире находится под знаком кризиса, не только социального и экономического, но также и культурного, более того, и духовного кризиса. В связи с этим в литературе начинают проявляться проблемы и интересы не коллектива, а думы отдельного человека. В такой литературе человек выступает уже как “малая вселенная”, “микрокосм”, в котором и значительно заложены “основная истина познания человека и основная истина, предполагаемая самой возможностью познания”» [27, с. 190]. Формулируя данное положение, А.Ф. Мышкина опирается на сочинение Н. Бердяева «Философия творчества, культуры и искусства» и исходит из того, что человек нового времени является точкой пресечения самых разных миров. Мысль эту, конечно, нельзя не одобрить, она позволяет в конкретном человеке увидеть разнообразные стороны героя как самостоятельного индивидуума и расценивать его как живого человека со всеми его достоинствами и недостатками. Действительно, герои, например, повести «Черные грузди» А. Емельянова одновременно вбирают в себя и особенности эпохи 70-х годов XX века (они в этом смысле изображаются через определенное социальное поведение), и отрицательную генную «инженерию» их предков, пристрастивших своих детей к алчности, жадности и циническому бездушию (в этом отношении они намного шире, чем просто социальный человек). Семен Крыслов, например, не только груб, жаден и скуп, этот человек и трудолюбив, и предприимчив, он же и деловой селянин. Словом, это человек с самыми разнообразными чертами характера. Привязанность Крыслова к действительности и условиям 1970-х годов – это влияние конкретной исторической эпохи. Но вместе с тем Семен показан, обрисован и через образы своих родителей, которые и приучили его к скупости и жадности. Писатель, создавая его образ, обращается к таким приемам, как развернутые аллегории груздей; клада, обнаруженного под фундаментом старой бани, и т.д. Эти аллегории прибли11 жаются к многозначным символам, они связывают героя с многовековыми традициями чувашского народа, его моральными принципами. По этой причине Крыслов выходит далеко за рамки конкретного исторического времени, он начинает приобретать черты «вневременного человека». Таким образом, в Семене противопоставляются свойства исторической конкретности и многовековые традиции национальной культуры. Попытка противопоставить свойства исторической конкретности многовековым традициям национальной культуры была предпринята еще О. де Бальзаком. «Открытие Бальзака, – пишет З.И. Кирнозе, – прежде всего открытие социального человека, изображенного в связях со своей средой». Но он «в свое время целиком не укладывается» [20, c. 147]. Причина этого в том, что великий романист «шел от публицистической констатации социального явления к созданию художественного типа» [20]. Так же происходит и у Емельянова (правда, с меньшей степенью таланта). Он обращается к местному колориту, точным и правдивым деталям, приметным наблюдениям и т.д. Совершенно очевидно, что Емельянов в этом отношении идет за Хв. Уяром и М. Ильбеком. Высказывание Кирнозе позволяет сделать следующий вывод: показывая своего героя, Емельянов и другие чувашские писатели-публицисты видят прежде всего стороны, которые связывают человека с социальной жизнью. На этой основе они начинают видеть и другие стороны жизни личности. Поступая таким образом, огромных успехов добились Хв. Уяр и М. Ильбек, их герои становятся персонажами не только публицистическими, но и художественно-философскими. Именно по этой причине эти прозаики и стали классиками чувашской литературы, их произведения достойно входят в сокровищницу национальной духовной культуры, ее живой истории. Герой Емельянова лишь отдаленно напоминает понастоящему «философского» персонажа, он при всей своей полноте так и остается героем публицистической прозы. Но в силу постепенного нарастания и усиления художественных приемов он во многом и отходит от голой социальности и открытого публицистизма в показе жизни. 12 Это люди не только аналитические, но и полнокровные герои с ярко выраженным активным подходом к жизни (в случае, если речь идет о положительных героях). Его отрицательные персонажи также активны, но в другом направлении. Нужно отметить, что понятия «отрицательный» и «положительный» для писателя – это понятия относительные, прозаик не имеет права показывать человека однобоко. Это свидетельствует о том, что точка «пресечения» временного с вневременным в 1970-е годы начинает придавать художественной публицистике некоторые философские черты. Герой начинает обретать качества аналитизма, свойства трезвого рассужденческого арсенала. Можно в таком же ключе проанализировать образ Виктора Гречнева из «Пастухов», он тоже многосторонен. Гречнев – человек аналитического склада ума, он способен давать трезвую оценку поступкам и мыслям руководителей района и области. Виктор хорошо разбирается в людях, изъянах стиля руководства народом в области сельского хозяйства, способен понять перегибы руководителей страны. Таким образом, этот герой живую реальную действительность оценивает, переживает и анализирует всей своей душой, с настороженной тревогой. Вернемся к образу Семена Крыслова. Этот образ имеет некий «карнавальный признак», и эта «карнавальность» имеет глубокие традиции [42]. Вот что, например, говорится в книге «Диалог, карнавал, хронотоп», посвященной анализу научной деятельности великого философа и литературоведа М.М. Бахтина: «Тема власти денег уже у Пушкина вливается в карнавальную традицию («Преисподняя» – подвал барона, вражда отца с сыном, «Сцены из рыцарских времен», «Пиковая дама»). Тот же мир в формах фамильярной речи и фамильярной мысли, фамильярного жеста, бытовой эксцентричности, случайных встреч и столкновений» [28, с. 59]. Такие черты легко можно обнаружить и в чувашской литературе, и не только у А. Емельянова. «Власть денег» связана с дьяволом у К. Иванова: «Раб дьявола» («Шуйттан чури»), с преисподней она связана у Шеркея в романе «Черный хлеб» («Хура =ёкёр») М. Ильбека. Шеркей находит отцовский (дьявольский) клад под полом старой бани. Под фундаментом ба13 ни обнаруживают такой же дьявольский клад и персонажи «Черных груздей» А. Емельянова [42]. Это – признак зловещего карнавала и некой «трагической» иронии. Семен постоянно как бы играет перед другими какую-то роль, хочет доказать себе и другим, что он совсем не тот человек, который равен Куб-Степану. Он играет роль грозного и властного мужа перед женой. Именно за это и наказывает его преисподняя. Особенно ярко карнавальность и театральность видны в Модесте из повести «Имя» [42]. Анализ образного строя этих героев, их художественного своеобразия позволяет сделать следующий вывод: с приходом в чувашскую литературу А. Емельянова связан процесс обретения совершенно нового героя. Это человек пытливого ума, рассудительный аналитик, личность, способная кропотливо «исследовать» живую действительность, умеющая связать сиюминутные черты эпохи с вечными истинами, выработанными предыдущими поколениями. Герои Хв. Уяра и М. Ильбека, например, не отличались (Шеркей, Кандюк, Илле и т.д.) таким аналитизмом. Но, конечно, не по причине неталантливости этих мастеров, а потому, что природа их героев – другая. Следует полагать, что А.Ф. Мышкина как исследовательница художественно-философской прозы в чувашской литературе хорошо уловила и почувствовала, что процессы, которые она анализирует, развивались на протяжении всего XX века. Однако только в 1960-1970-е годы появилась возможность полноценно оценить подлинный смысл таких художественных открытий. Герой-аналитик – это чаще всего положительный образ. Но в прозе Емельянова есть и другие персонажи, например «перевертыш» Модест Мухтанкин из одноименной повести, склочник и кляузник Казанков из повести «Не ради славы» и т.д. Но так или иначе даже такие герои не против порассуждать и проанализировать те или иные жизненные обстоятельства. По этой причине на страницах книг писателя появляются пустые резонеры, различные балагуры и т.д., очень охочие до монологов, рассуждений. И это не случайно, высказывания, напоминающие положения Н. Бердяева, встречаются и у других ученых. Они, как и А. Мышкина, осознают напряженность эпохи 1960-1970-х го14 дов, назревшие изломы эпохи, которые и вызвали необходимость появления именно таких героев. Подобные персонажи говорят «о гибели общественного коллектива – семьи» [20, с. 151], они типизируются через описание среды, через показ человека со своими характерными чертами. Именно так созданы не только герои Емельянова, но и Хв. Уяра, М. Иьбека. Два последних писателя эту традицию стали углублять вслед за А.П. Чеховым (Хв. Уяр) и Н.В. Гоголем (М. Ильбек). Близко к этому находится, например, позиция русского критика А.А. Лебедева, разбирающего характерные черты творчества В. Набокова. Теоретик пишет: «В этом смысле Набокову суждено, как видно … нарастать в глобальной актуальности. … Набокову оказался внутренне внятен драматизм особенного нынешнего поворота, излома времени, приближения его к какой-то красной черте, к “общей неустойчивости“» [25, с. 360]. Замечания эти правильны и справедливы, они вскрывают причину того, почему Емельянов вырабатывает новое и практически не встречающееся до него видение героя. К такому убеждению он приходит потому, что прежние идеологические рамки для показа нового героя очень узки и художественно малооправданны. Вот почему писатель решительно отходит от феномена привязанности человека к конкретному периоду эпохи социализма, принципов вульгарной социографии действительности. К тому же он стремится «проанализировать предрассудки против индивидуализма» [25, с. 356]. Как далее замечает А. Лебедев, в бытность мы «шли путем беспрерывной принудительной коллективизации всего и вся» [25, с. 356]. Конечно, обретение нового видения у Емельянова происходило не за один год и не за два. Но писатель настойчиво и целенаправленно отходил от прежних вульгарных позиций, проявивших себя во всей советской литературе. На этом фоне, безусловно, понятно, что произведения таких чувашских «производственных» публицистов, как А. Талвир (роман «Фундамент» («Ник.с»); повести «Ветер по Волге» («Атёл тёрёх =ил в.рет»); «Ты будешь инженером» («Эс. инженер пулатён») и др.), В. Алендей (роман «Пчелка золотая» («В.лле 15 хурч. – ылтён хурт»)), а также С. Аслан, В. Петров, В. Чебоксаров, И. Григорьев, К. Турхан и другие, были посвящены коллективному энтузиазму рабочих на заводе (А. Талвир, В. Чебоксаров, И. Григорьев), ударному коллективному труду в поле, на ферме (В. Алендей), коллективному созданию колхозов (К. Турхан, С. Аслан). Эти прозаики не смогли увидеть, что времена меняются, удельное значение отдельного человека заметно повышается. Они даже в 1970-1980-е годы в своих творческих поисках все так же продолжали восхвалять коллективный энтузиазм строителей социализма (В. Алендей, В. Чебоксаров, В. Петров, И. Лисаев и др.). Кроме того, главное место в их повестях и романах занимало изучение социалистической активности героев, занятых обсуждением производственной технологии, изображение коммунистической сознательности проблемами повышения производительности труда. Поиск нового героя, как уже говорилось, не был достижением только А. Емельянова. Так, например, связь героев со своей средой хорошо видна в повести Л. Агакова «Однажды весной…» («П.рре =уркунне…») (семейство Лявы Урдема, образы Махорки, Косоглазого и др.). Анализируя образ Илли («Тенета» («Таната») Хв. Уяра), исследователи отмечают, что «Илле Щеголь неспроста связан с преступным миром, он близок Шахруну, вместе с ним он убивает богатую женщину и выбивается в кулаки» [43, с. 97-99]. В его показе писатель часто обращается к описанию грязи, темных ночных сцен – Илле падает в грязную лужу, барахтается в грязной воде, в кадушке (он так моется), постоянно сквернословит и ругается [41, с. 89, 91]. Это герой бесцеремонный, властный и жестокий. Аналитизм ума, склонность к развертыванию своих идей ему не присуща, тем он и отличен от героев Емельянова. Возвращаясь к опыту О. де Бальзака и А. Чехова, необходимо сказать, что жизнь социального человека хорошо изучена ими. Таков, например, Ионыч из одноименной повести А. Чехова. Город С. – это особая сфера, его среда, это те условия, в которых Ионыч теряет свое человеческое достоинство. Такие черты среды наблюдаются и в прозе О. де Бальзака. В «Отце Горио», например, показаны каторжники, студенты, торговцы, чиновники и т.д., усиливающие социальные черты Горио. Сравни16 те бесталанную писательницу Веру Иосифовну, пустого балагура Ивана Туркина, несостоявшуюся пианистку Екатерину Туркину из повести Чехова «Ионыч». Это образы той же среды, это условие, в котором вырастает духовный урод Старцев (Ионыч). «Бальзак, недаром объявивший себя секретарем всего французского общества, – пишет А.В. Чичерин, – вводил разноголосицу в самый строй речи, говорил за все французское общество, включая говор улицы и аристократического салона, деревенского кабака…» [45, с. 13]. То же самое встречаем и у Хв. Уяра: его Илле постоянно говорит бранной речью разбойника, Ухтиван в своей речи ироничен и лиричен, Яриле осторожен и робок и т.д. Такие же средства, вслед за классиками, использует и А. Емельянов. В его «Имени» Ульяна властна и бесцеремонна, Модест хитер и скрытен, тракторист Валька открыт и непринужден. Чтобы разобраться в том, как обстоит дело с теми «мастерами» производственной прозы, о которых говорилось несколькими абзацами выше, надо сказать, что определенным и заслуженным отходом от голой идеологичности стали повесть А. Талвира «На Буинском тракте» («Пёва =ул. =инче»), романы В. Алендея «Пчелка золотая» и «Три сына, три невесты» («Ви=. ывёлпа ви=. х.р»). Повесть А. Талвира – это автобиографическое произведение; но, несмотря на это, автор сумел найти в судьбе главного героя – Сандра – социально-исторические мотивы (Сандр – это в чем-то и социальный человек, активно включенный в исторический процесс), обнаружить в Угике авантюрно-самобытного человека с горячим, вообщем-то добрым нравственным запасом души. А. Талвир показал в своей повести многообразие яркой жизни. В. Алендей в романе «Пчелка золотая» глубоко анализирует образ Улатти, бывшего фронтовика, который по возвращении с войны начал пить, изменять жене, забыл о детях. Роман повествует о трудном избавлении человека от своих недостатков, неуклонном обретении бывшим фронтовиком чувства ответственности перед народом, семьей, детьми. И самое главное – перед самим собой. Наряду с этим здесь есть и другие герои, например передовой бригадир Пракка, который не прочь и позавидовать другим и т.д. 17 В другом своем романе писатель повествует о тяжелой судьбе трех братьев, погибших на войне. Все эти произведения, таким образом, служат показателем того, что в литературу начинает приходить новый герой – живой человек. Правда, произведения В. Алендея написаны во второй половине XX века («Пчелка золотая» – 1964 год, «Три сына, три невесты» – 1988 год). А. Талвир же создал свою повесть еще в первой половине 50-х годов прошлого века. Это признак того, как Талвир стал отходить от привычных шаблонов вульгарной обрисовки героев очень рано. Опыт изучения социальной среды не всегда приводил к положительным результатам. Недостатки имелись и в произведениях писателей других народов. Острые конфликты между Азаматовым, «приехавшим в село по зову партии» и главным агрономом, консерватором показаны в дилогии А. Валеева «Майский дождь» и «Цветок шиповника». Противоречия между персонажами здесь вытекают из того, что у них «разное отношение к труду, к своим обязанностям перед обществом, перед народом» [16, с. 397]. В «Истории башкирской советской литературы» подчеркивается, что слабые конфликты хорошо видны в романе Д.Ф. Исламова «Щедрая земля», в котором «главной сюжетной линией являются борьба и деяния тружеников одного колхоза» [16, с. 399]. Подобные недостатки изучаются в трудах мордовских исследователей, в «Истории марийской литературы» [1; 17]. Схожие черты можно наблюдать и в русской прозе 19601970-х годов. Это устойчивые традиции показа социального производственного человека. Это – «Глеб Чумалов из «Цемента» Ф. Гладкова, Увадьев из «Соти» Л. Леонова – двадцатые годы, Басов из романа «Танкер “Дербент”» Ю. Крымова – тридцатые …» [35, с. 62]. Они – знаменитые образы, которые стояли в центре внимания писателей-производственников. Следует все же сказать, что проза Л. Леонова, естественно, не укладывается в тесные рамки только производственной проблематики, она намного шире и глубже. Следует отметить влияние русской литературы на чувашскую. Вышеназванные произведения дали мощный толчок для развития чувашской прозы. Она обрела новую действительность. Особенно хорошо это можно понять, проанализировав 18 откровенно слабые повести В. Алендея. Вот как, например, разбирает Г.И. Федоров его рассказ «Черное пятно». «Толчком к написанию рассказа «Черное пятно» послужил рассказ Уйпа Миши о суеверной деревенской старухе, которая, чтобы не сглазили дитя, вымазала ему личико сажей. Смысл рассказа-аллегории В. Алендея сводился к очень нехитрой идее: пятно с личика можно стереть, но как стереть пятно суеверия с души?» [40, с. 27]. На этом смысл рассказа завершается. Таким же образом писал В. Алендей многие свои повести («Хоть рябина и красна», «Звезда негасимая», «Шанкуй» и т.д.). К нехитрой аллегории часто писатель пририсовывал такую же упрощенную любовную историю («Желтый платок с золотистой бахромой» («Сар =\=елл. сарё тутёр»)), углублялся в дебри производственных проблем («Слышен крик журавля» («Тёрна сасси илт.нет»)) [40] и т.д. Вполне понятно, почему герои его были наделены ходульным нравственным максимализмом, в них слишком явно чувствовалось засилье идеологии, их озабоченность производственными проблемами и т.д. Такие же черты были присущи многим ранним повестям А. Талвира, К. Турхана, С. Аслана и многих других. Как отмечает Ип. Иванов, В. Ухли пишет повесть с очень показательным названием – «Ткут девушки шелка» («Х.рсем пур=ён т.рте==.») (о работницах хлопчатобумажного комбината), Л. Агаков – роман «Самое дорогое» («Чи хакли») (о продавщицах сельского магазина), Ю. Айдаш – повесть «При дневном свете» («Кёнтёр =утипе») (об артистах театра) и т.д. Поставленные проблемы здесь неглубоки, поэтому Айдаш, например, часто скатывается к голому описанию любовных сцен, Л. Агаков излишне настаивает на приключенческом характере сюжета, В. Ухли тщательно выписывает технологию работы на комбинате и т.д. [14, с. 106-110]. Вот почему Ип. Иванов, отмечая положительные стороны этих произведений, останавливается и на их недостатках. Все это свидетельство того, что до 1960-х годов чувашская проза занималась поисками положительного героя. Это человек, хорошо проявляющий себя на том или ином участке производства, выполняющий план, повышающий производи19 тельность труда в произодственно-технологических условиях, в условиях классовых столкновений слоев населения. Эти недостатки на ранних этапах творчества присутствовали и в творчестве А. Емельянова. Так, Марья, будучи женой председателя колхоза Трофима Прыгунова, с возвращением из армии Павла Кадышева влюбляется в него («Разлив Цивиля»). Причина этого не только в настоящей любви. Павел Кадышев – комсомолец, человек с передовыми мыслями, он противостоит консерватору Трофиму Прыгунову и тем самым сильно выигрывает в глазах Марьи. Сама же Марья, по воле автора, мало что делает для спасения любви к мужу. Просто по сюжетным целям она обязана влюбиться в более молодого человека, который вскоре становится «настоящим» руководителем колхоза. Ситуация эта в чувашской литературе не совсем нова. То же самое, например, происходит в повести (названной почемуто романом) «Ветер клонит травы» («Курёксене тайса =ил в.рет») В. Алендея. Домработница Васса живет с бухгалтером Тихоном. Но жизнь за четырьмя стенами ей надоедает, и она решает уйти от бесплодного (и в прямом, и в переносном смысле) мужа на ферму. Здесь она знакомится с другим мужчиной, интимно с ним сближается. Далее сюжет уже развивается шаблонно – выясняется, насколько Тихон лжив, ограничен, ленив, завистлив. Ему, как и емельяновскому Трофиму Прыгунову, далее предстоит остаться в одиночестве, быть нелюбимым людьми и получить «звание» ограниченного консерватора. Такие же герои встречаются, например, и в башкирской литературе. У героя романа «Я не сулю тебе рая» А. Бикчентаева «под влиянием коллектива (положительных персонажей – опытного инженера и партийного работника Искандера Амантаева, инженера Майи Саратовой и т.д.) появляется тяга к общественно полезному труду» [16, с. 403]. В повести З.А. Биишевой «Странный человек» типичность героя, каменщикастроителя Гадельши, вытекает из того, что он передовой труженик [16, с. 411] и т.д. Конфликты и здесь упрощены, сюжетные задачи и здесь разрешаются просто. Словом, налицо упрощенное, облегченное решение судьбы героя. Причина краха таких персонажей тоже известна – они равнодушны к женщинам, проблеме любви, семьи, а ино20 гда даже и бесплодны, то есть у них нет никакого будущего. С тем же явлением встречаемся в рассказе Емельянова «На высокой горе – семь берез» («+\л ту =инче =ич хурён»). Миля и Петя живут «животной» жизнью, не имеют мечты о будущем, потому что не занимаются общественно производительным трудом, оба погрязли в домашнем быту. Не удивительно, что и отношения между собой у них грубоваты – жена презирает мужа, склонного к выпивке, однако не прочь выпить и сама. Да к тому же такое отношение со стороны жены Петю мало или вовсе не беспокоит. Это его и не может беспокоить. Следовательно, герои втиснуты, вписаны в определенные догматические рамки. Перед гостем, когда-то бывшим другом, Левкой, Петя бахвалится тем, что телку после случки продаст, что свинья у него уже супоросная, тут же его любимица – корова. А там – летняя кухня, «самодельный самогонный аппарат», «домишко для летнего отдыха», «погреб, сам из камня выложил!» и т.д. Ни тени школьных забот, ни мысли о подготовке к урокам (ведь он учитель!), об общественной работе [58, с. 301-302]. Гость неспроста задается вопросом: «Счастливы они или несчастливы?» [58, с. 302]. Дело, наверное, в том, что такие отвлеченные вопросы Петю с Милей просто не посещают. И тем не менее – «грубые окрики – нежность в глазах…» [58, с. 302]. Человека в самом деле трудно понять. «Черный дуб» (Левка) среди «семи белых берез» (Миля и Петя) – это все-таки тоже поспешное и упрощенное решение проблематики произведения, потому что слишком явно здесь лирическое перемешано с оголенно публицистическим, с тем, что повествователь слишком быстро решил поставить необходимые точки. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что сюжетная конфликтная завязка, как это обычно водится у Емельянова, схвачена весьма удачно, но не нашла развития. Со временем Емельянов становится более внимательным к решению конфликта, его герои не так прямолинейны, как Левка, Миля и Петя. Если подумать, Левка мог оказаться слишком субъективным, критикуя «в себе» бывших друзей, поднимая себя высоко над ними, и поэтому видя в них только отрицательные стороны. Конечно, в мещанстве «стираются личности, но стертые люди сытее... с мещанством стирается 21 красота породы, но растет ее благосостояние…», – писал еще А.И. Герцен [Цит. по: 38, с. 71]. Так что с писателем в этом отношении можно полностью и не согласиться. Таким образом, можно сказать, что статус героя в публицистико-философской прозе во многом изменился. И это напрямую было связано с приближением тех обстоятельств в развитии истории, которые потом стали в жизни общества главными и определяющими. В 1960-1970-е годы на первое место вышли интересы и проблемы не коллектива, а думы отдельного человека. Действительность этих годов дала писателям возможность показа героя-аналитика. Причем аналитизм этот присущ и «положительным», и «отрицательным» героям. Такие герои не против и порассуждать, их монологи являются одним из главных приемов изображения характера героя. Емельянову, таким образом, стал внятен драматизм излома времени. Это стало истоком появления в творчестве прозаика нового героя. Образы руководителей села, района и области в его произведениях теперь совершенно не походят на образы прежних представителей власти. Прозаик глубоко осознал, что, изучая отдельного человека, можно увидеть плохих организаторов производства даже в среде партийных работников, которым по идеологическим меркам належало быть только передовыми и положительными. Так, почти что впервые в чувашской литературе руководитель как представитель власти предстал в полном своем естестве. Это, разумеется, полностью сказалось на типологическом своеобразии его героев, не только руководителей, но и простых людей. Стало возможным создание ряда типологических образов не только обыкновенных людей, но и людей из власти. Основные особенности действительности самобытного героя в прозе А. Емельянова и его типология В своих повестях и романах А. Емельянов считает важным говорить о свободе: свободе человека от власти и ее представителей, свободе поведения человека в обществе, семье, коллективе. Иногда это разговор о нравственных пороках че22 ловека и освобождении от них. Так, в повести «Черные грузди» писатель создал образ Семена Крыслова, тяготеющего к богатству, скупого и жадного. Читатель видит, что герой вообще потерял человеческое достоинство: он не любит жену, равнодушно относится к судьбе младшего сына (учит его красть колхозное добро), безразлично относится к тому, что Коля, освободившись из-под влияния отца, уходит из дома, он не находит общего языка не только с представителями сельской власти, но и сельчанами. Свобода как нравственная категория для Семена важна и существенна как освобождение из-под власти председателя колхоза Федора Каштанова, которого про себя он называет ханом, а колхоз – его вотчиной. В этом, конечно, нет правды, просто Крыслов негодует по той причине, что руководитель хозяйства мешает ему в стремлении к накопительству. В такой же мере он хочет быть свободным от политики руководителей страны в области сельского хозяйства, политики, которая и в самом деле ставит крестьянина в трудное положение. В этом, пожалуй, Крыслов несомненно прав – руководство страны тех лет было просто беспомощно перед проблемами сельского хозяйства. Несмотря на то, что герой-аналитик А. Емельянова показан в негативном свете, появление героя, думающего несколько иначе, чем прежде, это ново для литературы 1970-х годов. В те же годы в своей повести «Где ты, море?» Хв. Уяр противопоставил человека, обманутого европеизированной властью, человеку национально-самобытному. Не случайно сторонники этой власти (Н. Дедушкин, В. Канюков, В. Долгов) ополчились на писателя, его самого нарекли кулацким сынком, проповедующим неверие в советскую власть, в то, что советская власть якобы создает по отношению к простому человеку волчьи законы. Это говорит о том, что обретение героем свободы и возможности аналитической ее оценки пришло к герою через большие страдания. Семен Крыслов свободу принимает только в отношении себя; он не осознает того, что превратил жену в рабу, закабалив, довел ее до алкоголизма; стремление сына уйти от его влияния он принимает как безрассудство и глупость. Наряду с 23 этим писатель говорит о необходимости освобождения литературы от недостатков, привнесенных в нее производственной прозой, прямолинейными идеологическими установками власти. И это прежде всего нравственная проблематика. Нравственная крутость старика, его негодование по поводу поведения молодых фактически были злободневны только для 1960-х годов. Именно тогда А. Артемьев, писавший в основном романтические произведения, создал повесть «Цена хлеба» («+ёкёр хак.»), в которой вывел такого же старикамаксималиста. Современной молодежи сиюминутность настроений героев уже не совсем, наверное, и понятна. Поиски производственной прозы все же не прошли даром, они помогли нащупать основные черты нравственного мира человека, дали возможность осмыслить нравственные проблемы публицистико-философской прозы, ее героя. Характер героя стал убедительнее, ярче и глубже. Писатели во многом отошли от идеологического понимания положительных и отрицательных черт персонажа. В повестях, очерках, рассказах А. Талвира, В. Чебоксарова, И. Григорьева, В. Алендея, например, на первый план выходили образы положительных рабочих и крестьян, членов партии коммунистов, порой абсолютно безгрешных и исключительно правильных секретарей партийных организаций. Это означало, что писатели-производственники в своих произведениях большое внимание уделяли идеологическому конфликту, настойчиво отходили от правды жизни. Из этого следовало, что нравственная чистота должна вытекать из партийной принадлежности героя. Герои этих произведений, следовательно, превращались в идеологизированного человека. В. Чебоксаров, например, часто анализирует трудовые будни заводских кузнецов, детально рассказывает о технологии их труда, характере изготовления тех или иных деталей. Именно поэтому якобы его герои нравственны. А. Талвир в романе «Фундамент» («Ник.с») раскрывает характер своих героев в процессе строительства Вурнарского химкомбината и тоже полагает, что строительный энтузиазм и способен выявить нравственный мир героев. Герои этих произведений даже в семейном кругу говорят только о производственных проблемах, свысока относятся к быту. Сами же произведения получа24 ют явный налет очерковости, и, как следствие, на первый план выходят принципы эмпирического освещения жизни. Поэтому у таких положительных героев в жизни нет и не может быть реальных прототипов, они безжизненны. Так же обстоит дело в творчестве В. Алендея. Действующие лица его произведений – это часто активные (идеализированные комсомольцы и коммунисты) и утрированно отрицательные лодыри, невежи и т.д. По мнению теоретика Ип. Иванова, писатель нравственной природе героя уделяет очень много места и времени. Однако эта нравственность нередко не имеет под собой реальной прототипной основы. Коллизии измыслены вне параметров жизненной парадигмы. Главное место, по мнению Ип. Иванова, здесь занимает проблема достоинства человека, поиска писателем в человеке положительных качеств [14, с. 120]. Но такая нравственность, как правило, у писателя носит иллюстративный характер. Вот как, например, Ип. Иванов разбирает рассказ В. Алендея «Слово, которое не говорилось 30 лет». «Герасим – человек прямолинейный и крутой, он говорит правду в глаза, именно поэтому колхозного сторожа не любят шоферы. Он замечает все: и то, что кузов машины у одного шофера дырявый, и то, что у другого машина не мыта. В свое время, будучи на войне, он видел, как люди страдали во время блокады от голода. Фронт, таким образом, является основным условием показа нравственного максимализма Герасима. Вот почему он настороженно относится к Мируну, сыну Хелипа, который был на фронте однополчанином Герасима. Отсюда идет цепочка событий: Мирун поставил добротный дом, держит свинью, ездит на такси, собаку кормит колбасой, свинью – хлебом…» [14, с. 121-122]. А. Емельянов решительно отходит от шаблонного изображения сельчанина. В изображении героя он использует укрупненную, иносказательную аллегорию, объемные метафоры и символы. Даже в сравнении с Педером Хв. Уяра его Семен Крыслов – это другой человек. Педер, конечно, тоже циничен, он свысока относится к старшему брату, человеку мягкому и доброму, к другу-азиату как представителю народов второго сорта в сравнении, скажем, с европейцами и т.д. 25 Семен Крыслов показан на широко развернутых аллегорических образах денег, клада, черных груздей, бани, леса и т.д. Страсть героя к деньгам раскрывает генетические корни его скупости и жадности; из-за этой страсти он не жалеет ни себя, ни жену, ни детей. Ему, надо думать, не дано исцелиться от этого порока. Это человек черствый, жестокий и властный. При всей его предприимчивости и трудолюбии он ни на минуту не задумывается о своих пороках, в нем нет и намека на избавление от них. Между тем Педер Хв. Уяра в результате «экскурсии» в тайгу понимает, насколько он был ограничен и самолюбив. Плотники, которые разбирают старую баню Крыслова, находят под ее фундаментом клад, спрятанный еще его родителями. Следовательно, пороки Семена имеют очень глубокие корни, они выводят Крыслова за рамки эпохи социализма. Таким образом, в сравнении с Педером, это человек как бы внеисторический. То же подчеркивает образ груздей, разведенных в маленьком лесочке, посаженном его отцом. «Оживая» (как зложелание отца, как бы вставшего из могилы) из-под земли, они (эти грибы) становятся не только причиной и признаком, но всей плотью души Семена, то есть связывают его с преисподней, могилой (не только родителей, но и жены). В связи с этим идеологические мотивы противостояния Крыслова председателю колхоза Каштанову здесь носят как бы второстепенный характер. Сцены на базаре, где Семен весьма выгодно продает поросят, спора Крыслова с бухгалтером колхоза Куб-Степаном (человеком завистливым, гордым, ленивым и склочным) являются средством дополнительного усиления отрицательных черт персонажа. Вместе с тем в словах Крыслова, адресованных бухгалтеру, есть немало правды – он не без оснований укоряет Куб-Степана в равнодушии к делам колхоза; здесь кроется справедливая подоплека того, что и как он говорит о «политике партии» на сельском фронте. Следует отметить, что герои этих произведений аналитически воспринимают образ истории и власти, для них важна свобода. Но Крыслов еще с самого начала не верит власти, он перед ней самонадеян, Педер самонадеян перед людьми, благо26 даря своей европеизированной натуры. Педер спасается от власти и получает от нее некоторую свободу, пройдя через огромные страдания и потрясения. Поэтому он к себе относится иронически. Семен же – жесток, он не умеет смеяться над собой. Эти произведения во многом иносказательны: поход Педера в тайгу – это свидетельство того, насколько он заблудился в своих нравственных ориентирах. Лес здесь – это образ, связывающий героя с его заблуждениями, поиском пути выхода из тупика нравственности, символ освобождения от ложно понимаемой свободы. Общественные пороки, разобранные этими писателями, как правило, очень живучи. В поисках свободы герои обоих прозаиков блуждают как бы в темноте, перед обоими маячит смерть: у Семена умирает жена (в ее смерти виновен муж), у Педера – старший брат (и тоже по вине главного героя). Обоим хочется утвердиться (по законам театра, творимого перед самим собой) в глазах других в качестве лучшего, способного, талантливого. Только Семен в этом отношении отличается от Педера своей грубостью. Да и корни у него более крепкие в сравнении, скажем, с корнями Педера, живущего по причине отсутствия родителей то у одной, то у другой сестры. Но это не мешает ему быть в речи прямолинейным и тоже самонадеянным человеком. Неспроста одна из родных сестер критикует Педера именно за эту самонадеянность, говорит, что он видит в чужих глазах песчинку, а своего горба вовсе не замечает. Примечательно, что вся повесть Хв. Уяра написана в виде воспоминаний самого героя, который свое прошлое воспринимает иронически и стыдится его. Семену не дано прозреть, он так и остается завистливым, скупым и т.д. Словом, в структуре повествования «Черных груздей» искренний монолог Семена невозможен и немыслим. Илья Крыслов (основатель рода) был человеком прижимистым, рачительным, богатым. Еще прижимистее стал его сын, Семен Крыслов, к которому со временем даже отец стал относиться настороженно. Вот почему накопленные деньги старик оставил не сыну, а снохе. Деньги эти в ходе развития сюжета все же обретают большую порочную силу. Жена Семена, Урине, хранит их в тайне от мужа, иногда дает их сыну Коле. Как потом выясняется, это становится причиной 27 того, что Коля крадет колхозное зерно, то есть порок деда «оживает» во внуке. К счастью, внук сумел получить свободу от деда и его порочного «завещания». Порок этот овладевает и Уриной, снохой Ильи, – она пристрастилась к вину, стала безропотной и послушной рабой мужа. Философско-аллегорическая история денег на этом не заканчивается: плотники во время разборки старой бани находят клад, оставленный Ильей Крысловым; Семена избивают плотники – так и до него доходит порок отца; гибнет, поскользнувшись на черных груздях, разведенных Ильей, и Урине. Лейтмотивные образы, развивающиеся параллельно с характерами героев, таким образом, придают повести философско-публицистический характер, а проблема свободы от пороков становится главной целью для внутренней духовной работы героя. Лейтмотивные аллегории и метафоры, раскрывающие характер Семена, постепенно приобретают символическое значение; благодаря таким средствам герой произведений А. Емельянова перестает быть только «производственным» человеком; пороки его имеют, как указывалось, внеисторический (не относящийся к конкретному времени) характер. Хв. Уяр, как указывалось ранее, верит, что спасение от общественных пороков может быть в тяжком и тяжелом страдании, именно об этом и написана повесть «Где ты, море?» Герой его идет от пагубной самоуверенности к страданию, а к нему он не подготовлен. В связи с этим в художественную последовательность событий, которые прослеживает Хв. Уяр, можно вполне поверить, это – убедительно. По-другому обстоит дело, например, в рассказе В. Алендея, проанализированном Ип. Ивановым. Он, соглашаясь с писателем, полагает, что те страдания, которые герой претерпел 30 лет назад, дают старику право зло и сурово ругать и критиковать молодого человека. И только за то, что Мирун не отказался от домашних забот, что он растит свинью, держит собаку и имеет добротную хоромину. Вполне понятно, писатель разбирает надуманную ситуацию. Герой А. Емельянова вряд ли чувствует ответственность перед другими, даже будучи аналитическим, постоянно размышляющим героем. Его Семен Крыслов спорит с правитель28 ством, женой, сельчанами, руководителями колхоза, властью, сыном и т.д. Но это состояние спора и эта аналитичность ему нужны только для того, чтобы доказывать, что он безгрешно прав. Это герой, который вообще не умеет сомневаться в себе. В этом отношении он близок к Ульяне из повести «Имя», Михатайкину из повести «Не ради славы», Генке-Графу из повести «Мои счастливые дни» («Колокольчики») и т.д. Крыслов не сумел освободиться от нравственных пороков. Даже придя в сознание в больнице, он первым делом произносит слово «золото». Казалось, Крыслов как отпрыск Ильи обратил внимание на золотую коронку доктора, заботливо наклонившегося над ним. Его поразила (привлекла внимание) не просто золотая коронка, он одержим той же вечной страстью к богатству, деньгам. В этой страсти он неисправим: как и Модест из повести «Имя» (такой же символически и аллегорически насыщенный), деньги герой копит в тайне от жены и детей, те вообще не имеют представления о том, сколько он их накопил. Три емельяновских героя – это три типически сходных и однородных персонажа. Все они свидетельство того, что Емельянова глубоко волнует проблема жадности людей, поэтому он одну и ту же художественную ситуацию разбирает с разных сторон. Чем дальше Модест и Семен углубляются в свои пороки, тем ближе к гибели эти слабовольные и рабски покорные герои. Много сходного с Семеном и в Ульяне, в матери Модеста, и она, одна управляя хозяйством, никогда не советуется с мужем и сыном, она их просто «не видит» и не признает. Ирина (жена Семена) к кладу, найденному под баней, отнеслась совершенно равнодушно, почувствовала, что деньги мужа, его богатство ей уже порядком надоели. Освобождение Коли от пороков отца, конечно, вполне можно объяснить: Коля был сыном, «найденным» Ириной на стороне, отцом его был председатель колхоза, Федор Каштанов, человек честный и прямой. Отцовские чувства раскрывают Каштанова как человека мягкого, доброго, но вместе с тем и требовательного. За кражу зерна он освобождает сына от обязанностей водителя, хотя и не перестает заботиться о нем. Освобождение Коли следует расценивать и таким образом: Коля менее поврежден пороками отца и деда, в нем течет кровь другого человека. 29 То же самое происходит, например, и в повести «Имя». Страсть Модеста к деньгам, краже приводит к смерти его отца, он умирает, напившись технического спирта, который сын выкрал на заводе. Но гибнет Василий Мухтанкин не только «от руки сына». К смерти его приводит и дурной властолюбивый характер его жены, Ульяны. И снова на первый план выходит разобранная ранее ситуация. Василий Григорьевич так же пребывает в роли раба перед женой, как и Ирина перед мужем, он так же пьет, как и жена Семена. Примеры показывают, что писатель понятие свободы и несвободы героя очень тесно связывает со страстью к деньгам, богатству, с дурными, властолюбивыми чертами характера героев, течением исторических событий, общественными условиями. Пороки свойственны не только сильным и жестоким персонажам, слабоволие и покорность Ирины и Василия Григорьевича – это тоже порок. Таким образом, Емельянов не тянется в сторону показа односторонне отрицательных или положительных действующих лиц. Человек в его творчестве – это набор самых различных свойств. Вот почему в обеих разобранных повестях прозаик изучает одни и те же обстоятельства: пьянка, слабоволие, жестокость и грубость самонадеянных людей, взаимодействие героев с властью, историей, обществом и т.д. И это не случайно, к таким мыслям Емельянова приводят условия, сложившиеся после XX съезда КПСС, так называемая хрущевская оттепель. Писатель остро и раньше других чувствует, что в обыкновенном человеке (и даже порой и в руководителях) накопилось много такого, что заставляет его воспринимать исторический процесс по-другому. Как раз отсюда и идет напряжение в обществе, невозможность власти устоять перед напором свободного, аналитического человека, героя нового времени. В силу этого герой Емельянова, даже будучи «отрицательным», выходит за рамки идеологически сжатого времени, за пределы конкретной исторической эпохи, при помощи различных метафор, аллегорий, символов он поднимается над конкретными идеологическими, надоевшими обществу требованиями. 30 В раскрытии черт характера героев, естественно, важны не только развернутая аллегория и символы, но и своеобразный конфликт между героями, сталкивающимися в различных обстоятельствах. Семен Крыслов, например, противоположен не только жене. В отношениях с ней он своеволен, и поэтому ему свобода от жены не нужна. Ему дороже свобода от передового председателя колхоза, который не любит его хапужество и стяжательство. Семену Крыслову нужна также свобода от КубСтепана, бухгалтера колхоза, который не может согласиться с тем, что Крыслов богатеет. Но это свобода – свобода только для проявления самодовольства и скупости, в этой свободе нет моральной чистоты. В его характере преобладают черты, которые привели к распаду семьи, гибели жены, предстоящему одиночеству героя. Таким образом, власть для Емельянова – это не только представители руководства. «Руководитель как художественный образ, – пишут авторы пособия «Современная русская советская литература», – как объект художественного исследования практически не встречается в классической русской и зарубежной литературе» [35, с. 62]. Они подчеркивают, что это – данность советской литературы 1960-1980-х годов. Продиктовано это тем накопившимся напряжением в обществе, тем неприятием власти, которые в эти годы вышли на первое место. Неспроста В. Овечкин в своих «Районных буднях» противопоставил Борзова (первого секретаря РК) и Мартынова (второго секретаря) как два стиля руководства крестьянством. То же самое изучает и А. Емельянов: у него тоже есть руководители отсталых колхозов (Михатайкин из «Не ради славы», Прыгунов из «Разлива Цивиля») и передовые руководители (Ветлов из «Засушливого года», Бардасов из «Колокольчиков») и т.д. Но проблема власти – это и деспотизм в семье (например, Ульяна из «Имени», Семен из «Черных груздей»). То есть проблема свободы не случайно является для писателя главной проблемой. Она объясняет, откуда появляются и вырастают его аналитические герои. Не всегда этот аналитизм связан с тем, что персонажи получают определенный социально-исторический урок, не всегда это говорит о том, что герои способны освободиться от себя, власти над самими собой. Жестокий урок судьбы получает и Модест. Мать его остается одна, хотя, быть 31 может, ей и не приходит на ум задумываться над тем, почему и по чьей вине умер ее муж, по чьей вине сын стал вором, карьеристом (пишущим жалобы на других с целью повышения его в должности), человеком, не доверяющим ни друзьям, ни соседям, ни коллеге, ни жене. Впрочем, при всем том, что мать наставляет Модеста и вроде бы хочет, чтобы он был нравственно чист, она еще не прониклась этими убеждениями глубинно. Чувства эти в ней поверхностны. Кроме того, о многих чертах внутренней жизни сына Ульяна и не догадывается. Самонадеянность матери, ставшей, собственно, «кукарекающей курицей», увидена в повести глазами Модеста. Модест является все же человеком аналитического ума, хотя и крупным перевертышем. Это уже другая сторона героя-типа, сходного с Семеном. Модест тоже неоднороден, как и Семен. Словом, Емельянов выявил в современном ему обществе тип нового героя. Он также обнаружил художественные перипетии, способные «очертить» его социальную данность. Герой «Черных груздей» Куб-Степан хочет обрести свободу от Семена. Но он откровенный лодырь, лишь случайно оказавшийся на посту бухгалтера колхоза. Это факт Борзова и Мартынова (В. Овечкин). Неспроста ему трудно наладить нормальные отношения и с женой, женщиной откровенной и прямолинейной и в чем-то похожей на Ульяну. Трусость и робость Степана проявляются как раз в отношениях с женой Ульгой, которая, как и Ульяна, как и Семен Крыслов, привыкла к тому, чтобы ее желания и повеления исполнялись безропотно и без возражений. Вот почему гордый, казалось, Степан иногда попадает в очень унизительные положения. И это тоже феномен нового героя: в Семене, Ульяне, Ульге писатель находит качества, сродственные в чем-то определенным представителям власти. А это есть показатель чегото иного. Несмотря на то, что Емельянов, казалось, пристрастно относится именно к руководителям, к образам представителей власти, он, быть может, и осознает, что черты нравственной психологической неуровновешенности присущи председателям и других слоев населения. Тем самым писатель доказывает, что служители власти – никакая особая кагорта, это 32 обыкновенные люди, вписанные в общее социальночеловеческое бытие. Это было, конечно, смелым открытием, открытием, восходящим к умонастроениям 1980-1990-х годов. Именно эти десятилетия и подготовили благодатную почву для появления таких типов. Емельянов это очень хорошо предвосхитил. Впрочем, почему только Емельянов? Таким же типом является и Педер из «Где ты, море?» Хв. Уяра, близок к этому бухгалтер колхоза из повести В. Алендея «Ветер клонит травы» и т.д. А. Емельянов, таким образом, оказался в самой сердцевине художественного русла поисков прозы 1970-1980-х годов. Так, поссорившись с Семеном, Степан вынужден просить последнего продать ему теленка, поскольку он у Семена породистый. В ходе такого показа Куб-Степан вырастает как человек, который бравирует собой, желая освободиться из-под жесткого влияния жены. Это делает его и гордым, и слабым одновременно. То есть Емельянов в консерваторах видит не только их самонадеянность, но и трусость, нечистоплотность их души. Кроме того, в эти годы проблема свободы в отличие от того, как ее толковал М. Горький («Песня о соколе», «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»), обретает совершенно новые очертания. Таким образом, Крыслов показан в повести через столкновение с женой, Ириной (мягкой и добродушной женщиной); через столкновение с Федором Каштановым, человеком справедливым; через конфликт с пустым начетчиком и завистливым скандалистом Куб-Степаном. В ходе этого Семен проявляет себя с самых различных сторон: в сравнении со Степаном он во многом выигрывает, поскольку Крыслов – это человек трудолюбивый, предприимчивый, изобретательный. Но столкновение с властью, несмотря на то, что он аналитичен, остается для него неразрешимым. Сравнение его с Каштановым вскрывает в нем огромное недовольство не только председателем, но и тем, какие изменения вносит правительство страны в крестьянскую политику, т.е. герой способен приподняться над локально-точечными событиями. Сопоставление с женой помогает подчеркнуть жесткость, эгоизм, самовлюбленность и высокое самомнение Семена, раскрывает в нем самые различные стороны его характера. Это уже и стремление к пороку, свобо33 де от общественных условий и правил единого общежития, и уход от ответственности перед семьей, детьми, сельчанами. Словом, Семен, борясь с властью, и сам остается представителем деспотической власти в семье. Он неисправим. В основном в повести взаимодействуют два героя: один из них в сюжете участвует активно (Семен), другой – пассивно (Урине). Вместе с тем оба героя взаимосвязаны лейтмотивами денег, груздей, образа Ильи, которые в чем-то уменьшают участие героев в сюжете. Это зависит от того, что течение сюжета во многом координируется аллегорическими и символическими образами, о которых говорилось выше. Особенно хорошо это проявляется в повести «Имя» (1980-е годы). Главный герой Модест Мухтанкин тоже показан через художественное столкновение с другими характерами: с порядочным Валькой, болтуном, резонером и алкоголиком Перепелкиным, безвольным отцом, Василием Мухтанкиным, жесткой и своенравной матерью, Ульяной, женой Майей, бывшей любовницей Олей, старым учителем Кузьмой Яковлевичем и т.д. Все это – в основном эпизодические герои, но при этом в чем-то они раскрывают многогранный мир Модеста. В сравнении с Семенем Модест – человек более гибкий, хотя его тоже очень волнует проблема зависимости от жены, матери, руководства завода и т.д. Он чувствует порочные привычки матери, хорошо понимая ее советы «не марать имя», «не терять честь», но остается тем же, кем был. Он привозит в деревню дрова, доказывая тем самым, что он «перевертыш». Таким же двуличным он является и для руководства завода, именно поэтому он становится одним из руководителей цеха на заводе. Столкновения Модеста с другими героями, по сути, являются признаком той же гибкости, с которой он приспосабливается к жизни. Словом, это другой тип представителя власти. Модест так же трудолюбив, как и Семен, в достижении своих целей он так же не знает преград, но он, однако, более хитер и скрытен. Неспроста с чувашского на русский язык повесть переведена как «Перевертыш». В повести велика роль и лейтмотивных образов. Жена Модеста Майя называет свою мать тарантулом, пожирающим самца. В ходе развития сюжета видно, что именно таким таран34 тулом и является мать Модеста. Писатель вплотную заинтересовался типической ситуацией, в которой один член семьи тиранит другого. Важно упомянуть, конечно, и ленивость мужа Ульяны, его тягу к спиртному, то, что он в хозяйстве ничего не делает, а только шатается по деревне, распевая песни. Вина за беспутство своей жизни есть в самом отце Модеста. Приблизительно таков и Куб-Степан: в ведении домашнего хозяйства главное место принадлежит его жене. То есть тяга Модеста к свободе – это неосознанная попытка уйти изпод влияния матери, уйти подальше от неуравновешенности отношений между матерью и отцом. Старый учитель встречает героя, возвращающегося с корзиной грибов, набранных в сосняке, и замечает, что их трудно чистить. Это прямой аллегорический намек на нравственные изъяны, имеющиеся в Модесте, когда-то проводившего дни в сосняке с Олей. Речь, собственно, как и в случае с тарантулом, идет о том, что писатель, раскрывая жизненные позиции того или иного героя, хорошо понимает, какую ситуацию герой создает своими действиями. Ситуации, как отмечалось, всегда типичны. Это почти что чеховская манера письма; и он, раскрывая типические свойства своих героев, обращается к выписыванию показательной среды, которая окружает того или иного героя. Такие детали, такие ситуации заметно обогащают повесть, они создают своеобразную природу героев емельяновской прозы. Все они в социальном отношении резко очерчены, все они собирают в себе типические черты своей среды. Герой является неким цеховым человеком, персонажем, принадлежащим к тому или иному цеху – цеху руководителей, цеху прижимистых людей, цеху склочников, кляузников и т.д. Само собой разумеется, что неоклассическая, социальная традиционность прозы приводит Емельянова к тенденциям социально-исторического анализа героев. Понятно также, что при этом встает образ конкретной эпохи 1970-1980-х годов. Понятно и то, что при этом понятие свободы, о котором говорилось выше, следует рассматривать с такой же позиции. Например, как и в случае с Семеном Крысловым, ложное и неправильное понимание свободы наблюдается и здесь: Модест не только намеревается освободиться из-под влияния матери и 35 жены, втайне от жены он собирает деньги на машину, привозит в деревню краденый спирт... Он пытается освободиться от социальных норм общества, от нравственных его устоев. Потому, собственно, он становится перевертышем. Создается сложное сочетание самых различных черт характера героя-типа, своеобразное и оригинальное проявление его устремлений и желаний. Своеобразие это заключается, конечно, и в том, что создается особый тип взаимоотношений героя с повествователем, который, как правило, стилистически очень близок к своему главному герою. В Модесте и Семене он хорошо чувствует строй негативных рассуждений, тонко и едко обличает их. Близость эту не следует понимать как любовь к Модесту и Семену, просто речь здесь идет о том, что повествователь хорошо знает их среду, тонко чувствует характер их жизнебытия, понимает их отрицательные устремления. Иная ситуация рассматривается в произведении «Засушливый год». Повествователь здесь духовно близок к своему герою Сетнеру Ветлову. Неспроста и фамилия его Ветлов, что напоминает ветлу как символ чувашской культуры и истории. Ветлов, как и повествователь, умеет зорко предвидеть будущие перемены в обществе, может понять, что некоторые нестоящие изменения в социальной жизни носят временный характер. В повести «Имя» к своему герою писатель относится подругому. Понятие свободы для Модеста, как было видно из вышесказанного, является такой категорией, которая помогает ему стать (в зависимости от обстоятельств) и тем, и другим. Он хорошо чувствует, как относится к нему старый учитель Кузьма Яковлевич, но не смеет ему возражать. Он как бы и слышит, что мать советует ему не терять чести, не марать имени, но ведь именно она охотно принимает машину краденых дров и сразу решает отвезти их на пилораму и это сын ее тоже хорошо понимает. Ульяна – такой же хваткий хозяйственник, как и Семен. В этом отношении они оба представители одного «типического цеха». Модест и вслушивается в советы матери, но на деле поступает совсем по-другому. Перевертышем он является и в разговорах с бывшим начальником, которого сместили по его жалобе. В нем, при всей его близости к Крыслову, много и других 36 черт. Это не прямолинейный и жесткий Семен, а человек другого склада: он не только хитер, умен, но и завистлив, двуличен и скрытен. Он не прочь прикинуться и добрым, но в душе предпочитает оставаться совершенно другим. Особый тип взаимоотношений повествователя и героев мы видим и в повести «Черные грузди». Несмотря на то, что повествование и ведется от третьего лица, все же иногда явно заметно, что повествователь рассуждает почти как Семен или Урине. Взаимоотношения с ним можно хорошо проследить и в том, что является главным в тех или иных героях для самого писателя. В этом отношении одним из принципиальных приемов является обсуждаемая здесь категория свободы героя. Конечно, свобода неодинаково для различных типов героев. В данном случае речь идет о таких героях, как Семен Крыслов, Куб-Степан и др. Рассматривая типологию героев в плане двух этих персонажей, можно заметить, что родственником Крыслова, как указывалось ранее, в чем-то является и Модест Мухтанкин из повести «Имя», Куб-Степан стоит близко к образу Казанкова из повести «Мои счастливые дни», ибо последний – такой же кляузник и склочник. Все это показывает, что Емельянов разбирает типически однородных героев, но, оставляя содержательное ядро этих образов, в их поведении он каждый раз находит новые стороны, новую социальную среду. Следовательно, лейтмотивные аллегории и метафоры, столкновения героя (главного) с эпизодическими персонажами, понимание им свободы как свободы от каких-то явлений помогают разобраться в том, какие типы героев нужны Анатолию Емельянову. В этом отношении разобранные здесь стороны изображения героев являются очень важными и сугубо необходимыми. Они помогают понять то, что герой как литературный образ в творчестве чувашского писателя-публициста намного шире, чем просто образ человека. Он является не только персонажем, но и аллегорическим приемом выражения художественной позиции, и средством символико-аллегорического отображения показываемой жизни. О том, что герой впрямую указывает на типическую ситуацию, является ее выразителем, говорят следующие указанные стороны. 37 1. Изучая произведения писателя, легко можно выявить списки близких друг к другу персонажей. Например: Ульяна, Семен Крыслов, Модест Мухтанкин и некоторые другие – люди, любящие власть, богатство, бесцеремонные и грубые или хитрые; Федот Михатайкин («Не ради славы»), Трофим Прыгунов («Разлив Цивиля») и другие председатели колхозов привыкли к славе, потеряли честь, стали консерваторами; Сетнер Ветлов («Засушливый год»), Яков Бардасов («Мои счастливые дни») и другие – это передовые председатели колхозов, умеющие тонко разбираться в социальной жизни общества и т.д. 2. «Нарекая своих героев тем или другим именем», писатель зримо наделяет их типическими чертами. Об этом говорят фамилии Ветлов, Мухтанкин, Прыгунов, которые в чем-то сатиричны и выражают то, что отношение к ним выражено через иронию. Не меньшим юмором обладают прозвища Генка-Граф, Куб-Степан и т.д. В этом проявляетя то, что писатель стремится не индивидуализировать свои характеры, ему надо найти что-то характерное, то, что сразу открывает глаза на положение героя, которое он занимает в обществе. В зависимости от этого писатель в показе действующих лиц прибегает к тем или иным приемам. Поиски Емельянова отмечены тем, что в них очень часто по отношению к некоторым героям преобладающее место занимает прием рассуждения, вот почему повествование часто ведется от лица главного героя или же повествователя. Это тоже является одним из главных черт взаимосвязи автора и персонажа. Таковы, например, герои повестей «Мои счастливые дни» и «Пастухи». В первой из них героем-рассказчиком является парторг колхоза Александр Васильевич, в другой – студент Тимирязевской академии Виктор Николаевич. Но в этих произведениях главное место занимают не простые монологи или рассуждения. Принципиально важно заметить, что эти рассуждения внутренне полемичны. Монолог-повествование Александра Васильевича есть фактически внутренний (иногда и внешний) спор героя-рассказчика с другими персонажами. Так, с ГенкойГрафом он спорит о любви, роли женщины в семье, любви и обществе; Казанков вызывает у него полемическое отношение 38 к себе пустым начетничеством. Ему претит попытка Казанкова бахвалиться несуществующими заслугами, стремление обругать, раскритиковать всех и вся без имеющихся на то причин. Вот почему, посещая его, герой прежде всего видит осевшие, побуревшие стены его дома. То есть Казанков остер только на словах, в хозяйственных делах он мало смыслит и мало что делает. Вследствие этого хорошо проясняется суть отношения к Казанкову: это человек пустой, задиристый, «активист» с большим самомнением, вместе с тем и ленивый сельчанин, не способный управлять своим хозяйством. Он озабочен только тем, чтобы все признали его несуществующие таланты, его праведность и т.д. Такой расклад взаимоотношений героев показывает более углубленно и самого рассказчика. Александр Васильевич здесь обрисован как герой добрый и мягкий, умный организатор и честный человек. Он выше цинизма Генки-Графа, которому женщина или девушка видятся как временные утешители мужских желаний. Он хорошо понимает озабоченность умного председателя колхоза Якова Бардасова, у которого порой, при всем его энтузиазме, опускаются руки. Таким образом, это человек трезвого и аналитического ума, который хорошо разбирается в людях, в вопросах взаимоотношений власти и народа. Такие тенденции воплощения идей эпохи были показательны вообще для многих и даже очень крупных советских писателей. В свое время (1950-1970-е годы) было много шума по поводу рабочей темы в советской литературе и особенностей сельскохозяйственного, колхозного производства. Много говорили о таких произведениях, как, например, «Человек со стороны» И. Дворецкого, «И это называется будни» В. Попова, «И это все о нем» В. Липатова и т.д. Оказалось, что все эти романы и повести (даже самые лучшие из них) посвящены лишь изучению технологических вопросов производства, способов выполнения плана правдами и неправдами, анализу поведения человека (рабочего), превратившегося в робота, в придаток станков. Производственные вопросы выхолостили душу живого человека, герой превратился в продолжение машин. Тогда критикам казалось, что без своих Журбиных (роман В. Кочетова «Журбины») национальные литературы погибнут, что спа39 сение заключается именно в разработке рабочей темы и производственной проблематики. В такой прозе «писатели забывают о людях производства»; «есть все: авралы, липовое выполнение планов», «подробности производственного быта» [38, с. 16], но нет людей. И даже высокая «патетика, выспренность, выбор героев архисовременных профессий» [38, с. 19] не создают художественного эффекта. Герой такой прозы не любит «домашнюю работу», он решителен и властен [38, с. 22], за его пустой патетикой теряется человек, «работа описывается многословно» [38, с. 23], он жесток и самонадеян. Вера в то, что именно производство будет способствовать прогрессу, обманчива, такое мышление – банально. Вот почему такой герой вскоре перестал интересовать писателей, они поняли его бездуховность. Повторимся, напомнив, что подобные свойства человеческой натуры, что, безусловно, положительно, Емельянов видит не только в организаторах, участниках производственного процесса. Можно, казалось, Ульяну и Семена расценивать как сотворителей «домашнего производства», они этим живут и дышат. Отрицательный опыт как опыт, подлежащий изучению в представлении таких героев, лишен альтруистических начал. Но Казанков, Куб-Степан – это ведь и не альтруисты, и не устроители «домашнего производственного» механизма. Словом, названные коллизии выходят далеко за рамки производственной прозы. Разбирая русскую советскую прозу, Д. Тевекелян неспроста остановилась на этих сторонах. Недостатки эти присутствуют и в чувашских произведениях: отвыкла от домашних забот (хотя, конечно, и Тихон ею пренебрегал) Васса (В. Алендей «Ветер клонит травы»), чужим стал дом для Марьи (А. Емельянов «Разлив Цивиля»), вознесся над домашними заботами к лирико-романтическим устремлениям Левка (А. Емельянов «На высокой горе – семь берез»). А. Емельянов же не считает необходимым ограничиваться теми сторонами героя, которые активно обсуждаются критикой, в том числе и чувашской. Левка, конечно, не сухой рационалист, но его озабоченность только своими представлениями о жизни, хозяйственных 40 заботах тоже настораживает. Вот почему любовные коллизии, к которым прибегает В. Алендей при показе «производственных» героев, являются только пририсованными. А Левка? Любил ли он когда-либо Милю? Если любил, почему быстро забыл и даже как будто порадовался тому, что он не с ней? Где же тогда такой человек, которого можно расценивать как настоящего героя? Нет, наверное, Милей парень просто заинтересовался (в бытность), потому он теперь видит в ней только ее грубость, мещанство и пустоту ее души. В нем не осталось ни капли уважения к Миле, бывшей когда-то для него близкой. В свое время чувашская проза, по настоянию критиков, тоже потянулась в сторону производственной проблематики, критики мещанства. Строительству Вурнарского химкомбината, как указывалось, посвятил свой большой роман «Фундамент» А. Талвир, писали производственные повести В. Чебоксаров и И. Григорьев, создавал большое количество повестей и романов о земледельцах, работниках ферм В. Алендей и т.д. Но эти произведения не дали все же ни одного такого масштабного героя, как Шеркей М. Ильбека (роман «Черный хлеб»), Ухтиван Хв. Уяра (роман «Тенета»), Саламби А. Артемьева (повесть «Саламби» – «Салампи») и др. Производственная проблематика далеко уводила литературу от главных задач искусства, от показа человека. И это легко можно объяснить, ибо в них на главное место выходили вопросы трудового энтузиазма, высокой жертвенности героев во имя труда, уход героев от забот быта и личной жизни. И снова нелишне напомнить, что, работая в недрах прозы, Емельянов решительно и смело сломал ее рамки. Действительно, конфликты в «производственных произведениях» были очень упрощенными: как правило, сталкивались карьерист и начетчик, отрицательный директор завода и передовой главный инженер, консервативный начальник цеха и передовой рабочий (повести И. Григорьева), заведующий фермой, заведомый алкоголик и пьяница и передовая доярка (свинарка, птичница) («Ветер клонит травы» и другие повести В. Алендея), ленивый муж-руководитель и энтузиаст колхозного труда («Ветер клонит травы») и др. Конфликты таких произведений строились по шаблону, схематично, они были мертво41 рожденными и не могли служить задачам раскрытия характера человека. Понятно, что правда жизни здесь отсутствовала, главное место занимало упрощенное изображение жизни. Упрощенно решалась и художественная проблема «положительности» персонажей. Во многих произведениях отсутствовала художественность, главную роль играло идеологическое противопоставление героев. Названия произведений в этом смысле говорили сами за себя: «И это называется будни», «Алтунин принимает решение» (В. Попов), «Мы, нижеподписавшиеся» (А. Гельман), «Пчелка золотая», «Хоть рябина и красна» (В. Алендей), «Волны не сливаются» (И. Григорьев), «Фундамент» (А. Талвир) и т.д. «Положительным» человек мог оказаться, что было очень странно, лишь будучи комсомольцем или членом КПСС («Разлив Цивиля» А. Емельянова, повести В. Алендея) или находясь на одной платформе с ними. Не допускалось и мысли о том, что комсомольцы, и особенно коммунисты, руководители могли быть отрицательными. Емельянов же, как уже указывалось, вписал их в ряд с представителями обычных людей. Одни были утрированно негативны, другие ложно идеализировались, в силу чего иногда в произведении вообще не наличествовал художественный конфликт. Во всем этом чувствовалась отрицательная традиция поиска идеального человека, а не идеальных сторон и черт в человеке. О недостатках, отмеченных при анализе повестей А. Емельянова и В. Алендея, пишет А.Ф. Мышкина, разбирая одну из повестей В. Алендея: «И это не столько позиция героя, сколько самого В. Алендея. Но этого недостаточно для полноценного развития публицистической линии повести. Поэтому писатель на периферии основной идеи располагает необъемные размышления героя о <…> взаимоотношениях между мужем и женой, детьми и родителями, соседями и т.д.» [27, с. 96]. У В. Алендея любовные коллизии пририсованы автором, это не поступки героев, не логика их жизни, это то, чем хотел неоправданно наделить их автор. И именно автор, бесцеремонно вторгающийся в художественные недра повествования, разрушает его целостность. В чем-то это наблюдалось и в романе «Разлив Цивиля» А. Емельянова, но, к счастью, писатель сумел отойти от этого принципа 42 и стал внимательно изучать природу близости повествователя и героя, а это спасло его от недостатков и помогло обрести нового героя. Недостатки критики принадлежат не только по отношению к В. Алендею, но и к другим чувашским писателям. Они заметны в повести татарского писателя В. Нуруллина «С ношей гору не обходят». В ней, написанной в виде записей председателя колхоза, повествователь отходит на второй план [33, с. 193198]. Есть погрешности в этом направлении в оценке марийских прозаиков А. Юзыкайна (повесть «Отчужденные»), В. Юксерна (повесть «Воды текут, берега остаются»). Другими словами, опыт отображения публицистического героя, обретения его новизны приходит не просто. Есть основание предполагать, что это вина не только критиков, но и самих авторов, которые не выдерживали принцип адекватной дистанции между героем и автором: герой – это фактор внутренний, находящийся в сердцевине самого произведения; автор не находится вне создаваемой действительности. Настоящими людьми герои становились часто лишь тогда, когда занимали высокий пост, достигали определенной планки: например, в серии романов В. Попова («Алтунин принимает решение», «Изотопы для Алтунина», «Школа министров») показано, как Алтунин из простого рабочего добирается до поста министра и т.д. И это все по воле именно автора. Так было и в чувашской литературе. Консервативный председатель Трофим Прыгунов вынужден уйти с поста председателя колхоза. Его место занимает коммунист Павел Кадышев, он даже влюбляется в жену Прыгунова, и та уходит от мужа («Разлив Цивиля» А. Емельянова). Почти то же самое описывается в повести Л. Таллерова «Течет река» («Юхать юханшыв») – отсталый председатель Акшанов должен уступить свое место другому, более молодому и т.д. Создается своеобразная парадоксальная ситуация: оказывается, оставаться простым тружеником и быть честным человеком вообще нельзя. Легко можно объяснить, что в таких случаях герои, которые поднимаются до высокой планки, – это хорошие производственники, они и день, и ночь пропадают на заводе (на ферме, в поле), но они сухи и рассудочны, холодны и бездушны. Писа43 тели, очевидно, предполагали, что производственный конфликт только и может помочь по-настоящему разобраться в характерах людей. Однако такие герои обычно становились однобокими, нравственные их стороны учитывались недостаточно, они изображались очень неубедительно. Разбирая своеобразие эстетического поведения производственника, которого писатели показывают как участника трудового процесса через разработку рабочей темы, Д. Тевекелян в работе «День забот» (в первой главе – «В деянии начало бытия») приходит к выводу о том, что такая проблематика так и не поспособствовала рождению нового героя и подлинного характера. Безжизненные ситуации и конфликты, по ее мнению, так и остались пребывать на уровне очерка и очерковой стилистики [38]. Следует, конечно, возразить, что очеркистика тут не причем. По-нашему мнению, только с появлением активной нравственной проблематики и стали рождаться сильные человеческие натуры (в произведениях В. Распутина, В. Белова, Д. Гранина и др.). Производственная проблематика и ее продолжение были не единственным условием обретения новой реальности героя публицистической прозы. На этом пути определенной преградой было также и романтическое мироощущение. Оно было сильно развито в чувашской литературе примерно в 1945-1965-е годы. Романтические черты сильны и в прозе А. Артемьева, В. Игнатьева, однако во второй половине 60-х годов XX века писатели стали отходить от романтического мировидения [40]. Процесс этот происходил медленно. Романтиками были и Хв. Уяр (повесть «Где ты, море?»), и А. Емельянов (показательный пример – лирическая новелла «Свирель»), и М. Кибек (рассказ «Певица») и т.д. Но постепенно начался отход от романтического мировидения в сторону философской (Хв. Уяр, Ю. Скворцов) и публицистико-философской (А. Емельянов) прозы. В повести Хв. Уяра «Где ты, море?» обозначился крупный спор напыщенно-романтического Педера с трезвым реалистом Педером [43, с. 86-87]. В творчестве Емельянова зримо проявились черты спора лирико-романтического стиля с публицистикофилософским. 44 В повести Хв. Уяра чувашский мальчик Педер, начитавшись ложной политической трескотни, загорелся желанием принять участие в великой переделке общества. С этой целью он едет в Эвенкию, должно быть, полагая, что он поможет этому народу спастись от отсталости. С эвенкийским мальчиком Амиканом он говорит газетными фразами, книжным языком, свысока и самонадеянно. И лишь оказавшись в тайге, затерявшись в ней, он понимает, насколько и политически, и нравственно был ограничен. Теперь он уже не тот пустой резонер, поучающий «недалеких» азиатов. Повесть поэтому проникнута горькой и тяжкой иронией, она отличается заметным отходом нынешнего Педера от Педера прошлого. Пустой романтизм, стремящийся к демагогической болтовне, Хв. Уяра не интересует, он решительно отходит от него. Примерно то же самое можно наблюдать и у Емельянова. В лирико-романтической повести «Мои счастливые дни» писатель чувствует необходимость социального, публицистического анализа жизни, понимает, что жизнь не может быть показана однобоко, то есть только с одной стороны. Писатель тянется к многостильности своих произведений. Приближались 1970-е годы; это было уже другое время. Герой откровенно публицистической прозы (В. Алендей, К. Турхан и др.) стал обретать публицистико-философский вид, у него появились уже другие черты. Так проявились пути к новым реальностям героя публицистической прозы. Ведущее место в русской советской литературе в этом отношении заняли герои повестей В. Распутина «Пожар», В. Астафьева «Печальный детектив» и ряд других произведений. Герои таких произведений (Иван Петрович в «Пожаре», Сошнин в «Печальном детективе») обратились к вечным нравственным истинам, которые должны были противостоять тенденциям разрушения морали, семьи, общественных нравов. Обозначился крупный отход от идеологизированного показа людей, больше стало возможностей расценивать человека по-иному. Неудивительно, что различные ученые в национальной прозе послевоенных лет обратились к поискам нравственных вопросов. Это не случайно. В показе героя прозы возникла необходимость искать новые ориентиры и пути, то есть анализи45 ровать нравственный мир художественной литературы, определить тем самым, какие причины привели прозу к новым открытиям. Все это говорит о том, что с Д. Тевекелян в чем-то можно и не согласиться. Действительно, герои анализированных ею произведений были безжизненны, а конфликты скучны. Все же они (эти конфликты) позволили найти новый тип героя – делового человека. В литературах Урала и Поволжья это были мастера цеха, директора заводов, бригадиры и председатели колхозов, секретари сельских, цеховых парторганизаций, райкомов и обкомов и т.д. И, как показывает анализ, обыкновенные люди тоже. В художественном отношении это, конечно, несостоятельно: все эти руководители поступали всегда только правильно и положительно. Между тем в чувашской (собственно и в уралоповолжской) литературе А. Емельянов впервые предположил, что и деловой человек, и руководитель, несмотря на то, что они занимались производственными вопросами, имели друзей, семью, детей, повседневные заботы, решали вечные вопросы семьи, брака и т.д. Именно понимание этого и помогло Емельянову осмыслить новые задачи отображения героя публицистической прозы и заметно углубить особенности типологии героев. Анализируя героев повестей «Черные грузди», «Пастухи», «Имя», «Мои счастливые дни», можно прийти к выводу, что автор попытался рассматривать их с позиции адекватной нравственности, многомерности характера персонажей и их наклонностей. Положительной тенденцией в повести В. Алендея «Черемуховые холода» («+.м.рт сивви»), рассказе В. Садая «Одинокий куст» («П.ччен т.м»), лирической повести А. Емельянова «Мои счастливые дни» является тяга к тому, чтобы показать горести и радости человека, которые проявляются в том, как он понимает основы мироздания. Это совершенно новый подход к проблеме героя. Так, разбирая повесть В. Алендея, Ю.М. Артемьев главным в ней считает озабоченность героев проблемами семьи, дружбы и товарищества. Повесть, по его мнению, написана легким и живым языком; основные действующие лица в ней Ануш и Прокопий. Приветлива и красива Ануш, застенчив и не смел Прокопий. Работая шофером и неплохо зарабатывая, он 46 надеется на то, что можно будет содержать Ануш, даже если она и не будет работать. Дело, однако, принимает неожиданный поворот, жена его влюбляется в другого человека. Писатель, следовательно, будучи сторонником отображения героя в труде, считает, что человека портит безделье. В «Одиноком кусте» показаны прославленные в труде Маюк и Тарас. Живут они счастливо, но разноголосицу в семью вносит, как и у В. Алендея, третий герой, увлекший Маюк сладкими речами. Рассказ, как отмечает исследователь, написан очень проникновенно. В нем сквозным рефреном проходит образ одинокого куста бузины, посаженного Авенариусом. Надежды Маюк найти счастье без Тараса напрасны, ветер сдувает с бузины последний лист [5]. По мнению литературоведа, рассказ этот послужил поводом для того, чтобы в нем В. Алендей полемизировал с В. Садаем, рассматривая схожую ситуацию. Это была положительная тенденция, под влиянием братьев по перу В. Алендей в чем-то начинает отходить от голого социологического анализа жизни. В связи с этим не случайно любовь двух людей здесь связана с образами черемухи и бузины, понятием холода («черемуховые холода», облетающая бузина). Обязанность бережного сохранения чувства любви, таким образом, связана с большими затруднениями, которые герои понимают, проходя через страдания, через ощущение холода жизни. Это, конечно, поиск нового пути, новых способов исследования нравственного мира показываемых героев. Интересны наблюдения профессора Ю.М. Артемьева по поводу повести А. Емельянова «Мои счастливые дни» («Колокольчики»). В ней, по мнению ученого, нравственной проверке через сложные ситуации подвергаются сразу несколько героев, это председатель колхоза Яков Бардасов, электрик Генка-Граф (Воронцов), главный герой-рассказчик Александр Васильевич, его возлюбленная Надя и т.д. В ходе размышлений Ю.М. Артемьева выясняется, насколько однобоко изображаются чувашскими писателями их герои – они работают как роботы и возвращаются домой лишь поспать. Таковы в основном и Прокопий В. Алендея с Тарасом В. Садая. Следовательно, освободиться от принципов социологического, производственного анализа героев очень нелегко. 47 По-иному обстоит дело у Емельянова, характеры его героев неодносторонни, они показаны, как уже отмечалось, и в любви, и в семье, и на производстве, и в отношениях с людьми, то есть это люди, которые живут разносторонней, полнокровной жизнью. Наряду с решением производственных, хозяйственных вопросов они воспитывают детей, помнят об ответственности перед памятью предков, они вынуждены не только проанализировать себя, но и понять истоки своих неудач в любви, труде, отношениях с друзьями. Эти люди встают перед необходимостью свободы от рока, судьбы, власти, порока. В связи с этим они раскрываются с точки зрения того, как решаются эти проблемы. Логика рассуждений данной работы заставляет остановиться конкретней на том, что такое герой-тип. Вот что об этом пишет Е.П. Барышников: «Тип (… – образец, отпечаток) – образ человеческой индивидуальности, наиболее возможной, типичной для определенного общества» [7, с. 507]. Но типы, например созданные Хв. Уяром (Илле Щеголь как кулакживодер в «Тенетах») и М. Ильбеком (Кандюк как кулакживодер в «Черном хлебе»), – это не только какой-то производственник или человек, озабоченный только проблемами своего подворья или же заботами общественного производства. Оба эти героя полнокровно раскрывают свои души: оба безжалостны, хитры, пренебрегают многовековыми народными традициями, презирают любовь, ни во что не ставят чувство собственного достоинства другого человека и т.д. В их душах нет места заботе о семье и детях, чувству стыда перед односельчанами. Другими словами, писатели много внимания обращают моральной стороне души и навыков персонажей. Герой-тип может и должен жить полнокровной жизнью, а не быть только голой схемой «цехового человека». Именно этим и интересны герои-типы, вылепленные А. Емельяновым; они ищут смысл жизни в прямом и тесном соприкосновении с жизнью, людьми, властью, историей и т.д. Таким образом, А. Емельянов в своих произведениях предпринимает опыт освобождения от производственных проблем, отходит от шаблонного изображения сельчанина. В то время как другие писатели (А. Талвир, В. Алендей) большое 48 внимание уделяли идеологическому конфликту, герой емельяновских произведений во многих случаях перестает быть производственным человеком, он выходит за рамки идеологически сжатого времени и становится «надысторическим». Герой в творчестве А. Емельянова является аллегорическим приемом выражения художественной позиции. Кроме того, Емельянов впервые отметил, что руководитель, как и любой другой человек, имеет свою личную жизнь, именно это и помогло углубить особенности типологии героев. Средства создания типологии героев в произведениях А. Емельянова Рассмотрение типологии героев Емельянова и публицистических произведений в целом требует детального разбора того, какими поэтическими приемами и как создается действительность, в которой герой проявляет себя, и как он раскрывается. Важно и то, как увязывается публицистическая мысль с мыслью художественной, образной. При разговоре о типах героев Емельянова уместно будет взять высказывание А.Ф. Мышкиной: «Так, – пишет исследователь, – к примеру, основная эпическая тема повести чувашского писателя … Кузьма Овражный – это эрозия. И это не только эрозия земли, но и «эрозия» души. Именно через такое явление природы А. Емельянов показывает не столько разрушение сельскохозяйственных земель, сколько постепенное разложение морали и нравственности некоторых руководителей колхоза и района» [27, с. 197]. Рассмотренный пример свидетельствует о том, откуда вырастают иносказательные аллегории А. Емельянова. Они получают свою функцию в речи-монологе, в повествованиирассуждении рассказчика, каковым очень часто является главный герой-аналитик. Таков и Кузьма Овражный, который обыкновенное явление эрозии переосмысливает настолько глубоко, что оно становится символом распада нравственности общества. Таков образ повествователя в очерках «Возвращаясь из Москвы», «Болезнь». Все это нацелено на то, что герой большую роль играет именно в создании авторской позиции 49 писателя. Герой, оказывающий влияние на природу повествования, который становится лейтмотивным образом, аллегорически-иносказательным выражением идей автора, не всегда рассуждает и рассказывает. Есть в творчестве писателя героиавантюристы, которые спокойное течение жизни прерывают, плавное движение сюжета разрушают, а повествование убыстряют. Это такие герои, как Федот Михатайкин («Не ради славы»), Ларион Баранов («Черные грузди») и т.д. Михатайкин взволновал привычное течение жизни, приказав отрезать земельный участок одной из колхозниц. Это послужило тому, что в повести «Не ради славы» появилась цепочка динамичных авантюрных событий. Значительно оживил ход сюжета Ларион, до полусмерти избивший Семена Крыслова («Черные грузди»). Но так или иначе эти герои крепко связаны с проблемами нравственности. Социальные типы, показанные М. Ильбеком и Хв. Уяром, нарисованы почти что такими же чертами, к каким прибегает А. Емельянов. Это создание социально-типологических ситуаций, в которых герои проявляют себя очень полно, это обращение к тем или иным социально-психологическим деталям. Но у этих писателей есть и другие стороны, которых нет у Емельянова. Например, в показе Кандюка (М. Ильбек) и Шахруна (Хв. Уяр) эти прозаики используют традиции народной авантюрной прозы, рассказывающей о разбойниках, терроризирующих несколько деревень, о конокрадах. Это является обращением к древности национальной культуры чувашей. Такую же заинтересованность древними традициями народной прозы можно заметить в повести Л. Агакова «Однажды весной…». Здесь род Лявы (как и Шахрунов, Кандюков) обрисован через смену поколений разбойников и конокрадов. По мере приближения к XX веку род этот перестает быть чертой преданий и превращается в представителей живых людей, в социальный тип героя [43, с. 97-99; 184-185]. Из всего этого следует, что в создании типологии героев писатели пользовались самыми различными приемами. Эти приемы показывают эстетическое своеобразие каждого из подлинно талантливых прозаиков. Чтобы выявить, какими же чертами рисуются герои-типы Емельянова, какие типы героев им создаются, остановимся на 50 персонажах, которые очень близки к типам Хв. Уяра и М. Ильбека. Героев Емельянова можно подразделить на следующие типы: 1. Руководитель-самодур, самодур-родитель, самодур-муж, самодур-жена и т.д. К таковым можно отнести, конечно, Михатайкина из «Не ради славы», Ульяну из повести «Имя», Семена, жену Куб-Степана Ульгу из «Черных груздей». Все герои властны и эгоистичны, бесцеремонны и грубы. Они считают, что им не дано ошибаться, думают, что они всегда правы, и поэтому все в их окружении должны жить по тем нормам и правилам, которые являются правильными для них. Например, Ульяна ни во что не ставит мужа, называет его огородным пугалом. Цинизм этот в чем-то является причиной появления безвольности мужчины. Цинична Ульяна и по отношению к детям: именно она выгнала сына со снохой из дома. Вместе с тем этот герой не однобоко отрицательный. Как и Семен Крыслов, она много работает, одна тащит все хозяйство, везде успевает. С сыном она мирится по причине привоза дров. Теперь Ульяна как бы и теплеет душой, советует Модесту не терять чести. Типологически близка к ней жена Куб-Степана, которая, так же как и Ульяна, видит в муже явного недотепу. В процессе совместной жизни она полностью приручила мужа и превратила его в бессловесное существо, с ним она говорит резко и грубо, обращается с ним как с ребенком, ни во что не ставит его работу. Ей, как Семену и Ульяне, не приходит на ум, что семью надо оберегать и бороться за нее. Все эти герои заняты только собой. Если прежде писатели в подобных отрицательных героях видели только отрицательные черты характера, то Емельянов начинает анализировать сложные, многосторонние характеры героев. В Михатайкине (как и в Прыгунове) были в свое время положительные стороны, он был когда-то неплохим организатором колхозного производства. Но слава стала для него очень тяжелым грузом, она совершенно вскружила ему голову. Герой не мог освободиться от соблазна считать себя незаменимым, не мог получить свободу от лести. Если Ульяна самодур-родитель, то Михатайкин воплощает в себе самодура-руководителя, Крыслов – самодура-мужа и самодура-родителя. Такие герои приходят к моральному разобщению с близкими им людьми, с сельчанами. Главными чертами таких героев являются высокое самомнение, 51 безапелляционность размышлений, властолюбие, высокомерное отношение к жизни, доверие только своим «нравственным» правилам. Писатель изображает этих героев разными средствами. Куб-Степан завистлив по отношению к членам колхоза. Речь его переполнена яркими оборотами спора, ругани, едких замечаний. Он весь как один нервный клубок недовольства. Такие же едкие, отрывистые слова бросает и Ульяна, людям она привыкла давать уничтожающие характеристики. Полемична и речь Семена, но она более аргументированная, более ровная. Разумеется, речь не единственная примета типичности этих героев, все они исключительно напористы, сильны в достижении своих целей. Не успел сын привезти дрова, Ульяна решила отвезти их на пилораму. Только Куб-Степан успел поссориться с Семеном, как жена приказала ему прикупить у Крыслова породистого теленка. Герои не любят повторять свои повеления дважды, не умеют останавливаться перед задуманным. Активность у них очень наступательна и сильна. Показательно, что они почти всегда злопыхательны (Михатайкин). Они не привыкли прощать «обид», а вследствие этого часто их поступки вызывают в жизни авантюрные повороты сюжета. 2. Руководитель, показанный как положительный организатор коллективного хозяйства, как решительный и добротный хозяин. В разряд таких героев нужно отнести Якова Бардасова из «Моих счастливых дней», Сетнера Ветлова из «Засушливого года», Виктора Гречнева и Василия Явникова из «Пастухов» и т.д. Все они также напористы и исключительно активны, они остро чувствуют политическую обстановку в стране, являются предприимчивыми и крепкими председателями колхоза и т.д. Однако строй их речи – это расуждения, а не тупая и капризная ругань, как у первой группы героев. В показе их души писатель часто прибегает к посредству социального анализа действительности, очерковой пластике, рассуждениям на тему о том, какую политику проводит правительство по отношению к крестьянам, какую роль занимает человек в истории, обществе, в действительности конкретной исторической эпохи. Однако в них нетрудно заметить и щербинку – такие председатели полностью отдаются во власть производственных проблем, внимание их целиком и полностью сосредоточено на вопросах технологии управления коллективом, стиле руководства и т.д. 52 Несмотря на это, социальная прозорливость А. Емельянова очень часто проявляется в рассуждениях таких героев. Особенно хорошо это видно, например, в поведении Виктора Гречнева и Василия Явникова («Пастухи»), Сетнера Ветлова («Засушливый год»), Александра Васильевича («Мои счастливые дни») и т.д. Эти персонажи своими рассуждениями порой отодвигают на второй план и самого автора или же являются рупором, прямым выразителем его идей. Художественное предвидение и прогнозирование видно и в образном поведении первой группы героев, но прогнозы, сделанные на жизни такого человека, высказывает сам автор-повествователь. Это зависит от того, что типологическая ситуация, характеризующая самодуров, часто авантюрна, эта авантюрность выводит писателя к вечным образам дороги, ямы, леса и т.д. Положительные руководители как бы находятся в другой типологической ситуации, ситуации художественно-очеркового анализа социальной жизни. 3. Герой безвольный, легкоранимый, слабый и не способный отразить удары судьбы, исходящие от самодуров. Это Роза Полякова из «Не ради славы», Урине из «Черных груздей», Василий Мухтанкин из «Имени» и т.д. Давление, оказываемое на них самодурами, пригибает их к земле, унижает их достоинство, укрощает их волю и т.д. Действительно, умирает Урине, глубоко обижена Роза, находит смерть Василий Мухтанкин. Средства, которыми писатель их изображает, различны. Василий Григорьевич распевает песни, в которых говорится о печальной его судьбе («На чужие свадьбы Приглашали нас…»), о том, что он вроде еще и не сдается («Независимый Мухтанкин Пить еще не перестал»). Песни эти, услышанные его сыном, пропитаны горькой иронией и безысходностью. В показе Урине, например, найдены другие приемы. Это психологически напряженные внутренние переживания Урине, обращение к давно уже прошедшим дням, поиск смысла жизни в прошлой жизни, это тревога за сына Колю и т.д. Можно было бы вывести и другие типологические группы героев, они так же подтвердили бы то, что А. Емельянов вырабатывает совершенно оригинальные поэтические средства показа жизни и судьбы героев. Взять хотя бы героя его лирических новелл: Хурашова из «Свирели», Тоню из «Конопли», 53 Юрку из «Ненастья» и т.д. Повествование здесь лирично, оно стоит близко к речи рассказчика. Чаще всего герой вспоминает былые светлые, романтические времена, которые помогают ему заново осмыслить себя. Таков Никита Иванович Хурашов. Возвращаясь к далекому детству, он по-новому начинает оценивать свои чувства к Альдонне, скульптуру которой он вылепил и выставил в музее. Поэтика новеллы исповедальна, человек во внутреннем монологе открывает себя и вместе с этим основные принципы жизни человека, не растерявшего богатства души. В «Ненастье» также встречаем такую же стилистику. Юрка напряженно раздумывает над тем, почему они с тещей и женой не могут найти общий язык. Фактически это тоже монолог, но не открытый, а внутренний. Анализ произведений А. Емельянова позволяет прийти к следующим выводам: 1. Писатель, создавая типизированные образы героев, обращает большое внимание на нравственные особенности характера, духовное состояние души персонажа. Состояние это рельефно можно ощутить в том, как связаны между собой старшие члены семьи (Ульяна и Василий Григорьевич («Имя»), Урине и Семен Ильич («Черные грузди»)), взрослые и подрастающее поколение (Ульяна и Модест Васильевич («Имя»), Семен Ильич и Коля («Черные грузди»)), жители деревни, власть (Федор Каштанов, Семен Крыслов, Степан Степанов («Черные грузди»)) и т.д. 2. При раскрытии характеров писатель часто обращается к объемным аллегориям, показывающим ту или иную нравственность героев, общества, коллектива и т.д. Таковы повестиочерки «Кузьма Овражный», «Болезнь», «Старше хлеба нет», «По дороге из Москвы». В них автор очень близок к своим героям и тем проблемам, которые они поднимают и осмысливают. 3. Нравственные качества героя-типа в ходе развития сюжета очень тесно связаны со сквозными образами: объемными метафорами, развернутыми аллегориями, символами и т.д. Главный герой рассказа «На высокой горе – семь берез» Левка едет в гости к своим старым «друзьям». Основной лейтмотив рассказа – песня об одиноком дубе, случайно проросшем среди семи берез. Лейтмотив этот проходит по всему рассказу, он напоминает о том, что герой-рассказчик оказался чужим среди 54 своих «друзей», именно поэтому супруги и спели гостю песню об одиноком дубе. Песня эта в их устах прозвучала как издевка хозяев над гостем. Дорога к гостям не случайно сопровождается протяженным изображением осенней грязи. Но грязь эта – грязь быта супругов: «Из распахнутого настежь хлева вышла корова, чавкая по грязи»; «хозяин, моющий полы, пока жена бездельничает, не постеснялся гостю совать грязную руку» [58, с. 289, 290]. Образ-лейтмотив грязи также является сквозным – грязны отношения между супругами, отношения между гостем и хозяевами, устремления супругов (каждого по отдельности) и т.д. 4. Создавая типологический образ человека (руководителя, обывателя, близкого автору рассказчика), писатель умело создает характерные и емкие типические ситуации. Так, Модест из повести «Имя» привозит в деревню машину ворованных дров. Тем самым прозаик открывает то, что в Модесте давно уже укоренены зависть к другим, тяга к воровству, двурушничество, желание жить двойной жизнью. 5. Мысль о взаимосвязи героя-рассказчика и автора нельзя считать пустым утверждением. «Авторский герой» (герой, близкий к автору) очень активно проводит в произведении свою мысль, мысль индивидуума, отличную от размышлений коллектива энтузиастов. У такого коллектива в реальной жизни очень часто не было своего прототипа, поэтому писатели сплошь и рядом строили оголенно пустые, публицистические столкновения отдельных отрицательных героев с передовым как будто коллективом. Такой конфликт «успешно» завершался, когда индивидуум оказывался в полном подчинении коллективу. Ясно, конечно, что такие столкновения коллективистов и индивидуалистов в художественном отношении были слабыми, они превращали героя прозы в персонаж малохудожественной публицистики. 6. Лейтмотивы, сквозные образы, объемные и глубокие метафоры (такие, как, например, грузди, деньги («Черные грузди»), кукарекающая курица, тарантул, крапива и т.д. («Имя»)) не дают героям возможности замыкаться в рамках отдельной исторической эпохи, как было, например, у К. Турхана в романе «Деревня в ветлах» («Йёмраллё ял») или С. Аслана «Рука об руку» («Алла аллён»). Герои их полностью жили в эпоху создания колхозов и колхозной жизни, у них не было целей, 55 которые были бы выше целей коллективизации сельского хозяйства. Емельянов понимает, что герой публицистической прозы начинает принимать философские черты, он раздумывает о смысле жизни, ненависти и любви, грехе и праведности, которые никак нельзя поместить в узкие рамки конкретной исторической эпохи. Все это показывает, что публицистика в прозе Емельянова принимает по-настоящему художественные черты. 7. Создание типов героев и типологических ситуаций заставляет писателя пристально присматриваться и к социальной действительности. Не случайно Емельянов в повести «Не ради славы» выводит тип председателя-самодура Федота Михатайкина, в «Моих счастливых днях» рисует образ передового руководителя Якова Бардасова, в «Пастухах» размышляет о порочных привычках руководителей-пастухов и т.д. Все эти герои принадлежат отдельному времени, ибо являются героями публицистического повествования. Вместе с тем они и глубже, и полнее, чем просто данность конкретной эпохи, потому что их задевают и беспокоят вечные вопросы. Это уже признаки и черты по-настоящему художественной публицистики. Из таких черт, скорее всего, и вырастает типология героев емельяновской прозы. Типы его героев невозможно изучать без учета законов нравственности, без учета того, как эта нравственность разбирается писателем. Завершая первую главу монографии, следует сказать, что герой публицистической прозы Емельянова – это геройаналитик, продиктовавший новую поэтику прозы. В нем много черт не только сугубо человеческих, но и того, что превращает его в лейтмотивный образ. Писатель, показывая его постоянно, приходит к необходимости создания типологической среды, в силу этого герой его – это типологический персонаж. Типология героя в емельяновской прозе имеет свои законы, определенные группы. Герои какой-либо одной группы близки друг к другу, они имеют одно образное ядро, но каждый из них чем-то отличен от другого. В показе своих персонажей прозаик обращается к анализу социальной ситуации, вечным образам народной культуры, психологическим приемам, рельефным речевым характеристикам. Все это служит условием создания особого хронотопа прозы писателя. Именно об этом пойдет речь во второй главе монографии. 56 Глава II ПРОБЛЕМА ХРОНОТОПА ПРОЗЫ А.В. ЕМЕЛЬЯНОВА 60-70-е годы XX века как предпосылка нового хронотопа А. Емельянов, как отмечают многие критики и литературоведы Чувашской Республики (Ю.М. Артемьев, Г.Я. Хлебников), еще с первых своих произведений проявил себя как очень чуткий прозаик и публицист. Внимательно следя за тем, что и как происходит в общественной, экономической, духовной жизни страны, он намного раньше других предугадывал то, что произойдет в последующие десятилетия. Конечно, в чувашской литературе и литературах народов Урало-Поволжского региона в этом отношении он не единственный такой публицист или прозаик. В этом смысле он стоит в одном ряду с такими мастерами, как чувашские художники слова Хв. Уяр, Ю. Скворцов, русский прозаикочеркист В. Овечкин, башкирские прозаики М. Карим, Х. Гиляжев, Х. Мухтар, мастера татарской повествовательной литературы А. Гилязов, Г. Баширов, Ф. Хусни и др. Так, в повести «Помилование» М. Карим, например, намного раньше, чем другие писатели, уловил смысл нравственной ограниченности и бездушия представителей «службы особого назначения», так называемых особистов. Через эпизод расстрела молодого солдата, восемнадцатилетнего парня Любомира Зуха, якобы дезертировавшего из армии, он приходит к убеждению в том, насколько узок кругозор гэбиста, капитана Казарина, живущего заботами не фронта и войны, а занимающегося слежкой за солдатами и сидящего в общем-то в тепле и не ощущающего тягот войны. Не менее примечательны творческие поиски Х. Гиляжева, который в унисон с чувашским прозаиком-публицистом В. Алендеем развертывает художественно-публицистическую картину послевоенного башкирского села. Этим же интересны творческие откровения башкирского художника слова А. Хакимова (повесть «Байга»). 57 Подобный взгляд на проблему взаимоотношений народа с властью встречаем в романе Х. Гиляжева «Солдаты без погон». Здесь налицо «стремление вчерашних бойцов, осознавших на фронтах Великой Отечественной войны свою силу и место в истории, жить по-новому и попытка некоторых деятелей придерживаться старых, изживших себя догматических методов в руководстве коллективным хозяйством» [16, с. 413]. Х. Гиляжев, М. Карим, таким образом, изображают людей, находящихся на верхних уровнях общества, решающих задачи исторического развития общества шаблонно и узко, традиционно и догматически. Это показывает, что на повестку дня поставлен вопрос о взаимоотношениях истории и человека, и это происходит совсем по-новому. Действительно, в 1930-е годы писатели изображали передовых председателей колхоза, партийных организаторов, которые учили людей правильно осознавать свое место в истории. В основном это было связано с тем, какую роль играет тот или иной человек в создании и укреплении колхозов, в индустриализации всей страны и т.д. Однако люди, перенесшие трудности войны, осознали, что руководитель – это такая фигура, которая не может быть осмыслена однобоко. Вот почему в литературе все чаще и чаще стал встречаться руководительдогматик, человек ограниченный и отсталый. Появляется герой, который решительно пересматривает свои взаимоотношения с историей. Подобную ситуацию видим в повести Хв. Уяра «Где ты, море?». В ней известный прозаик весьма пристрастно разбирает то, насколько изуродовали душу чувашского мальчика Педера тяготение к европейским стандартам, увлечение передовыми европейскими тенденциями. Педер становится холодным эгоистом, на все смотрящим цинично и свысока, словно он имеет право поучать других. Спасается же он от этой пагубной болезни лишь через огромные страдания. Не случайно поэтому эта повесть в свое время вызвала большую критику со стороны литературоведа В.Я. Канюкова, исследователей В.А. Долгова и Н.С. Дедушкина. Близко к этому стоят повесть Ю. Скворцова «Березка Угах» («Уках хурён.») и повесть башкирского прозаика А. Хакимова «Свадьба». В первой из них повествуется о трагической судьбе 58 семнадцатилетней девушки, о ее смерти от тягот войны. Повесть была раскритикована писателями-догматиками Э. Юрьевым, В. Алендеем, А. Эсхелем и др. И здесь Ю. Скворцова ругали за то, что он не разглядел руководящей роли комсомола, показал Угахви одинокой героиней. Во второй повести говорится о трагизме жизненных поисков юных влюбленных Хайбуллы и Малики-Алтынсек [27, с. 131]. Другими словами, проза этих лет настойчиво обращалась к пересмотру содержания жанров, сюжетики и художественного их пространства. Показательно то, что пишут авторы «Истории башкирской советской литературы»: «Вопрос о том, какого героя ставить в центр своих произведений, ныне не является спорным для башкирских прозаиков. Партийные документы, съезды писателей и многочисленные дискуссии теоретического характера <…> внесли ясность в этот вопрос. Башкирские писатели работают над осуществлением задач создания живого героя дня» [16, с. 407]. Причем «“герой дня”, якобы определяющий образный хронотоп произведения, должен был стать человеком, обладающим “социалистическим отношением к труду”» [16, с. 408]. Это должен быть человек, который близко стоит к Павлу Власову, Чапаеву, Кожуху, Корчагину и т.д. [16, с. 407]. Наряду со сказанным здесь же авторы указывают и на недостатки, которые вытекают из такого подхода к показу жизни. Разбирая повесть З.А. Биишевой «Странный человек», они подчеркивают, что «автор вывел отрицательного персонажа лишь для того, чтобы ярче оттенить положительные качества Гадельши и Гульбике, живущих с ним бок о бок» [16, с. 411]. То есть отрицательный персонаж в таких произведениях является героем лишь второстепенным, слабо участвующим в создании образного строя повести. А. Емельянов всячески старается отойти от таких принципов отображения жизни. Диктуется это, конечно, пониманием реальных задач, поставленных новым временем. Наряду с этим писатель начинает создавать нового героя с иным, чем прежде, хронотопом. В этом аспекте прежде всего следует остановиться на таких сторонах произведений Емельянова, как особый род категории пространства и времени в его понимании. Проблема эта плотно соприкасается со следующими вопросами, тесно взаимосвязанными между собой: 59 1. Художественно-философский и философско-публицистический характер поисков писателя. Осознание этого обстоятельства позволяет понять своеобразие его прозы. В этом же смысле важно понять то, как и что он считает главным и основным в показанной им жизни. Стремление писателя к символическим образам. 2. Проблема взаимоотношений обыкновенного человека с руководителями, то есть проблема взаимоотношений человека и власти. Этот план стал фактором, полностью организующим творческие ориентиры писателя. По этой причине он также служит средством, помогающим раскрыть своеобразие категории пространства и времени в творчестве чувашского писателя. 3. Специфика взаимоотношений отдельного человека и истории, исторического процесса. Изучение данной проблемы будет выявлением того, на каких особенностях этого взаимодействия человек становится личностью. 4. Проблема производственной технологии и публицистическое изучение технологии производственного процесса. 5. Публицистико-философские взаимоотношения человека и природы, проблема эрозии и экологии души. Разберем это более подробно. Во второй половине XX века в чувашской художественной прозе А. Емельянов занимает одно из ведущих мест. «Сегодня, – отмечает А.Ф. Мышкина, анализирующая творческий опыт А. Емельянова, – уже можно утверждать, что наиболее ярким образцом художественного философско-публицистического мышления в послевоенной чувашской литературе стало его творчество» [27, с. 74]. При этом А.Мышкина учитывает, что писатель умеет соединять глубину социологического анализа с пластикой художественной формы [27]. Можно сделать следующий вывод: А. Емельянов, таким образом, с одной стороны, делает глубокий социологический анализ показываемой им жизни, с другой – стремится к пластическому строению художественной формы, художественного образа. Вместе с тем всего этого он достигает, как видно из сказанного ранее, из вдумчивого изучения места и роли послевоенного человека в истории и развитии общества. 60 Есть и другая сторона, которую нельзя забыть. Это – способность героев быть трезвыми и вдумчивыми аналитиками. Именно эти черты и определяют хронотоп прозы писателя. Разбирая вышеприведенные произведения А. Хакимова, Х. Гиляжева, М. Карима, Хв. Уяра, Ю. Скворцова, можно прийти к выводу, что образное время произведений движется по направлению к позитивным изменениям. Карим, например, очень остро поставил вопрос об особой, тормозящей роли в войне таких «фронтовиков», которые вообще не нюхали пороха. Именно они, особисты, во многом делали военное время трагическим. Ю. Скворцов тоже считал, что в спасении Угахви от трагической смерти комсомол и партия никакой роли не играли. Хв. Уяр глубоко задумался над тем, как взаимодействуют исторический процесс и отдельно взятый человек. Не случайно Педер («Где ты, море?») из Чувашии едет на Дальний Восток, блуждает по тайге. Это уже не то пространство, которое показывалось во многих произведениях писателей того времени. Это не только одна деревня, жизнь одного завода или одного из его цехов. Совсем новые пространство и время создает и М. Карим – его мысли об исторически отрицательной роли казариных очень убедительны. Примеры показывают, что художественное пространство новой действительности тесно связано с тем, что отныне человек не может быть прикованным к одной определенной местности: к цеху, заводу, селу, колхозу и т.д. Война заставила человека измерять расстояния в километрах, постоянно менять место своего пребывания, преодолевать огромные тяготы дороги, постоянно быть в движении. Это побудило писателей по-новому рассматривать и сюжетику, и хронотоп своих произведений. На первое место в таких повестях, романах и рассказах выходят образы пути, смерти, страданий, огромных расстояний и т.д. Прозе уже не хватает тесных рамок рабочего места, постоянного места жительства, ей необходимо обретение новых просторов и, конечно, нового художественного мира и хронотопа. Борьба с колхозной действительностью заставляет, например, постоянно менять место пребывания героя повести татарского писателя «Три аршина земли» А.М. Гилязова. Здесь конфликт, как и в других разобранных произведениях, завершается смертью же61 ны Мирвали – Шамсегеян. Вырвав жену из своих родных корней, Мирвали глубоко ранил ее душу. Не сознавая этого, он по ночам ходит поджигать колхозные строения, привыкает к выпивке и теряет человеческий облик. Как и Педер, он в конце повести понимает, к каким потерям пришел, но уже поздно, Шамсегеян, пожелавшая возвратиться на родину, умирает в дороге [47]. Неудивительно, что названия повестей А. Емельянова («Черные грузди», «Имя» и др.) носят глубоко символический характер, они влияют на характер пространства и времени в произведениях прозаика [43, с. 493]. Действительно, называя одну из своих повестей «Засушливый год» (буквально: «Год, когда высохли реки»), писатель аллегорически выражает мысль о том, что высыхают русла нравственности. Вот почему в прозе А. Гилязова, Ю. Скворцова, Хв. Уяра, А. Емельянова, М. Карима много внимания уделяется созданию пейзажа, образам природы (лесов, рек, дорог, полей и т.д.). Это уже не только узкое пространство рабочего места, это свидетельство того, насколько важным становится проблема морального облика героев и всей меняющейся жизни, времени, эпох и т.д. Все это означает, что художественная обрисовка жизни находит новые черты. Назвав свою повесть «Помилование», М. Карим выражает трагико-ироническое отношение к факту «прощения», «помилования» уже расстрелянного молодого парня. Сад любви Любомира Зуха и Марии-Терезы испоганен казаринами, но память о молодом солдате, дорогах, которые он проезжал на бронетранспортере, саде осталась в сознании людей как свет маленького фонарика, закопанного вместе с солдатом. Трагична судьба Угахви, но ее светлый образ остался в той березке, которая выросла на ее могиле. И название повести («Березка Угах») вылилось, как и у М. Карима, в символ природного естества. В этом отношении Ю. Скворцов близок к Хв. Уяру, который в повести «Где ты, море?» показал остродраматические перипетии Педера, прошедшего по «просторам» тайги в поисках моря (то есть надежды, веры, счастья). Это не значит, что новая действительность обязательно должна быть связана с трагедией и драмой изображенной жизни. Но трагедии и драмы все же остаются главными чертами прозы этих лет. Смерть как следствие нравственного падения 62 видна в повестях Емельянова «Черные грузди», «Имя», в его рассказе «Жизненные передряги» («Тик.с килмен .м.р») и т.д. Драматические и острые повороты сюжета встречаем в повестях «Не ради славы», «Засушливый год», новеллах «Свирель», «Узоры на листьях» («+ёка =ул=и =аврака»), «Ущербная луна» (встречается и под названием «Луна на ущербе») («Катёлнё уйёх») и т.д. Название «Черные грузди» Емельянова является не только знаком эгоистической пресыщенности героев, но и духовного обнищания таких людей, как Семен и Илья Крысловы. В повести «Не ради славы» следует обратить внимание на то, чем и как должна поддерживаться нравственно и морально чистая жизнь человека. Другими словами, уже названиями своих произведений, особенностями различного текста и особенно пейзажными картинами писатель направляет читателя не к отдельным заботам конкретного времени, он ищет в поступках и действиях людей, облике послевоенной эпохи, ее образном хронотопе что-то более глубокое, бытийное, то, что имеет отношение к философскому своеобразию целого века, его нравственному пространству и времени. Это свидетельство того, что художественная действительность прозы второй половины XX века все теснее связывается с тем, как герой-образ взаимодействует с природой. Карим, например, вдохновенно показывает, как персонажсмертник Зух органично связан с природой, любовь его к Марии-Терезе показана на фоне цветущего сада, на лоне природы. Педер Хв. Уяра свои ограниченные представления об историческом процессе понимает и объясняет себе, блуждая и теряясь в чащобах тайги. Цинический эгоизм героя Михатайкина (произведение А. Емельянова «Не ради славы») проявляется в том, что на лесную поляну он приезжает, чтобы предаваться веселью среди угодников и любовниц. Михатайкин не дотягивается, не поднимается до философского понимания природы. То же самое происходит и в повести «Имя», в новелле «Свирель» писателя. В первой из них Модест (главный герой) подспудно понимает ограниченность своих желаний, собирая грибы. Но свое неясное понимание он еще не способен превратить в положительный ориентир. Второй пример, как и у Мирвали, связан с тем, что Захар (пастух) ночами отправляется в 63 далекий путь, чтобы поджигать селения. У него нет «времени» наслаждаться природой, ночами он бродит в темени, днем отсыпается, а пасут его стадо пострелята. Трудно представить себе Угахви, которая будет сидеть дома – она всегда в поле, в лесу, у реки и т.д. Все это хорошо показывает, что в литературе послевоенных лет жизненное пространство персонажей очень изменилось. Главные причины такого явления – это взаимоотношения человека и власти, человека и истории, человека и конкретной эпохи, в основном показанные через общение героя с природой. По этой причине пейзаж в таких произведениях принимает философскопублицистический характер, детали его очень часто становятся символами («грузди» А. Емельянова, «березка» Ю. Скворцова, «сад» М. Карима, «полевые дороги» А. Гилязова, «тайга и море» Хв. Уяра и т.д.). Выше было отмечено, что одной из важных проблем в творческих поисках Емельянова является особый дух взаимоотношений отдельного человека с властью. В связи с этим можно обратиться к размышлениям известного литературоведа Ю. Барабаша. Ученый вступает в спор с В. Лакшиным, считающим, что народность литературы увеличивается параллельно с тем, как в ней появляется образ обыкновенного, простого человека. По мнению Ю. Барабаша, дело совсем не в том, что прозаики перестали создавать образы руководителей и стали изображать «руководимых» [6]. Конечно, какое-то противопоставление таких героев имеется и в чувашской повествовательной литературе. В. Алендей, например, создает образ обыкновенного человека совсем не случайно; он его так и называет – «ахаль =ын» («обыкновенный человек»). Одноименный рассказ «Ахаль =ын» («Обыкновенный человек») посвящен анализу гражданской позиции простого крестьянина. Соглашаясь с Ю. Барабашом, нужно сказать, что рассказ В. Алендея не стал шедевром, то есть отказ от показа руководителя еще не есть условие, достаточное для создания подлинно художественного произведения. А. Емельянов же наоборот настойчиво отображает типы руководителей. Такое столкновение мнений очень важно. Оно отражает фактическое положение, которое сложилось в стране к 1970-м годам. Неспроста Емельянов в фигурах таких руководителей, 64 как Трофим Прыгунов из «Разлива Цивиля», Федот Михатайкин из повести «Не ради славы», видит признаки поступательного вырождения представителей власти. Нравственный мир произведений писателя создается не столько типом того или иного социального человека, сколько их взаимоотношениями между собой. В силу этого можно сказать, что гражданственные герои В. Алендея – это герои, которые были широко известны литературе еще в 1950-1960-е годы. Время таких простых тружеников-активистов и энтузиастов безвозвратно ушло, пришло другое время, время руководителей-пастухов (повесть Емельянова «Пастухи»). Может показаться, что и в этой главе речь пойдет только о герое, как и в первой главе книги. Но это не так. Речь здесь идет о том, что в строении образной картины мира произведений А. Емельянова (и, конечно, Хв. Уяра, М. Ильбека, М. Карима и т.д.) огромную роль играют такие образы, как история, общественно-исторический процесс, картины пейзажа, которые, конечно, намного шире, чем просто пейзажные зарисовки. Это широкая картина панорамно нарисованной жизни. Сравнивая сказанное с тем, что выходит на первый план в произведениях А. Талвира, В. Алендея, можно сказать, что мир вымысла у них возникает очень часто именно как ложный, виртуальный, идеологический вымысел. Труд на ферме, ударная работа на заводе, говоря другими словами, производственная проблематика не способна создать целостных пространств и времени отображаемой жизни. В связи с этим в такой прозе часто и герои создают не совсем правдивую образную атмосферу. Другими словами, мы в такой литературе видим типическую и достоверную правду современной жизни, которая противоположна «выдохшейся правде», рассмотренной в ходе надуманных сюжетов. Вот почему узкое пространство цеха, колхоза и т.д. не способно показать человека через глубокий и национально-исторический хронотоп. Таким образом, проблема взаимоотношений народа и власти стала принимать совершенно другой характер. Мир произведений часто стал заполняться атмосферой цинизма руководителей, недоверия простых людей к власть предержащим. Можно сказать, что проблема экологии природы поэтому и стала связы65 ваться с экологией души, стиля руководства и вопросов морали. Емельянов это хорошо и глубоко осознал. В этом отношении показательны названия его произведений: «Не ради славы», «Имя», «Болезнь», «Засушливый год», «Здравствуй, поле мое» и т.д. Все это дает понять, что Емельянов как сильный и тонкий прозаик хорошо владеет искусством символико-аллегорического показа жизни, мастерством углубления в нравственно-философскую структуру создаваемых им образов. В связи с этим проблема названий его повестей и рассказов как проблема рамочного текста очень важна именно в плане изучения его хронотопа. То же самое происходило в это время и во всей советской прозе. Есть самые различные крупные руководители – А. Савельев («Вечный зов» А. Иванова) и т.д., есть «обыкновенные», «руководимые» персонажи – Г. Мелехов («Тихий Дон» М. Шолохова) и т.п. Дело в том, что и писатели, и критики в свое время были уверены: руководитель безгрешен, он не ошибается, он только поучает и ведет. Все это приводило к тому, что такие образы получались сухими, бледными, неправдоподобными. Проблема взаимоотношения власти решалась в таких произведениях очень упрощенно и поверхностно. Участие таких героев, образов цеха, колхоза в создании творческого мира писателя было очень неполным и ограниченным. Нужно, конечно, согласиться с Ю. Барабашом в том, что «существо концепции “руководителей” и “руководимых”, претендующей на объяснение процессов, происходящих в нашей литературе последних лет» [6, с. 144], совсем в другом, в правдивом показе жизни. В случае показа правильных руководителей дело сводилось к созданию образов, у которых в жизни не было настоящего прототипа. Напротив, в повести «Мои счастливые дни» А. Емельянов, показывая богатство души Александра Васильевича, неоднократно рисует лирические образы полей, лугов и т.д. Близко к этому стоит очерковый рассказ «Дочь девяти старух» («Тёхёр карчёк х.р.») (встречается и под названием «Девяти старушек дочь»). Здесь на первое место выходит проблема пьянства и алкоголизма. Но писатель к этой проблеме подходит через показ того, как герой-писатель едет на встречу с читателями. Жизнь в рассказе описывается глазами героя-писателя, перед читателями появляются деревни, застывшие в ожидании каких-то перемен, 66 ухабистые дороги, стаи гусей и т.д. Это является началом разговора об экологии души пьяниц, высиживающих перед медпунктом и выпрашивающих от медсестры спирта. Снова видим ту же обстановку: жизнь села и пьющих мужиков писатель видит как бы сверху, со стороны и рассуждает об этом как моралист и публицист. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что писатель не ограничивается только героями, образами природы и истории. В создании картины показываемой жизни он придает огромное значение и образу рассказчика, и образу повествователя. Так, в повести «Колокольчики» речь ведется от первого лица, от имени главного героя, Александра Васильевича, но в его речи можно услышать и голос повествователя. Повести «Имя», «Не ради славы», «Засушливый год» написаны от третьего лица, от имени повествователя. Но в «Имени» повествователь очень часто размышляет как Модест Мухтанкин, в «Засушливом годе» слышны голоса то Сетнера Ветлова, то Алексея Великанова, то проникновенная лиричность мыслей Юлии, безответно любящей Сетнера, и т.д. То же самое можно увидеть в «Трех аршинах земли» А.М. Гилязова. Попеременно повествователь слушает размышления то Мирвали, то Шамсегеян. В начале повести муж очень груб с женой, он вечно пропадает у так называемых друзей. Поэтому на первом месте оказываются переживания жены. Во второй части Мирвали, согласившийся все же везти жену в деревню, более активен. Шамсегеян безнадежно больна, она находится при смерти. Здесь уже нарастает тревога мужа, он постепенно приходит к трагедии; жена Мирвали умирает в дороге. В повести чувствуются переживания и жены, и мужа. Но мы видим и то, как все это понимает и переживает повествователь, нашедший для повести характерное название «Три аршина земли» (вспомним названия повестей А. Емельянова, Ю. Скворцова, М. Карима.) Таким образом, не только Мирвали судит сам себя, его осуждает и писатель. В таких произведениях, уже нет каких-то светлых сторон, главное место занимают алкоголики («Дочь девяти старух»), склочники и скандалисты (Казанков из «Колокольчиков»), «перевертыши» (Модест из «Имени»), стяжатели (Семен из «Черных груздей»), руководители-эгоисты (Михатайкин), власть в лице пастухов («Пастухи») и т.д. Все это разбирается писателем через 67 образ повествователя-публициста. В связи с этим можно сказать, что во многом хронотоп прозы Емельянова – это хронотоп и повествователя-публициста. Герой, как отмечалось еще в первой главе, тут занимает как бы второстепенное место. В прозе 1945-1965-х годов, например, герои занимали намного больше места, писатели показывали их характер, дела и поступки, раскрывали их мысли и желания, обращались часто к приему внутреннего монолога. Для них главной задачей являлись показ внутренней жизни персонажей, раскрытие их психологических переживаний (чувашский писатель А. Артемьев, башкир А. Бикчентаев и т.д.). Конечно, это во многом зависело и от того, что в послевоенные годы в художественной прозе и драме часто стали встречаться герои-энтузиасты, победителифронтовики («=.нтер\=. каччёсем» – А. Артемьев). Они рвались к ударному труду с фронтовой ретивостью. Постепенно такие герои (Саламби из одноименной повести А. Артемьева, Угахви из повести Ю. Скворцова «Березка Угах» и т.д.) стали встречаться реже и реже. Даже А. Артемьев, который целиком и полностью был готов изучать только энтузиазм фронтовиков, только романтико-психологический настрой их души, стал со временем рисовать образы зазнавшихся руководителей («Дорогой гость» («Хаклё хёна»)), карьеристов («Ахманеевы» («Ахманеевсем»)) и т.д. Не случайно и В. Алендей в романе «Пчелка золотая» заметил, что и «обыкновенный человек» может загордиться своим боевым прошлым и сойти с правильного пути (образ Улатти в романе «Пчелка золотая»). Правда, Алендей и тут не изменил себе: руководители, по его мнению, правильны и справедливы, они возвращают заблудившегося героя на праведный путь. То есть взаимоотношения обыкновенного человека-труженика и руководителей показывались традиционно и упрощенно. И всетаки очень важно сознавать, что героя исправляет труд. Писатель понимает, что художественное пространство души героя глубоко и тесно связано с ратным трудом на селе, с новыми переживаниями, вызванными воспоминаниями о фронтовых событиях. Обремененный трудными условиями в семье (у него больная жена, дети еще малолетки, тяжесть забот о семье ложится на него одного), Улатти значительно сужает рамки своей жизни – 68 увлекается безалаберной и ленивой женщиной, начинает пить, забывает о доме и т.д. И только работа в поле вместе с другими сельчанами помогает ему обрести новое понимание своего жизненного пространства. В конце романа он человек нового, просветленного, одухотворенного времени. Исцеление души героя показано В. Алендеем немного упрощенно, это связано с тем, что ему «помогают» парторг Алексеев, которого герой неоправданно и скороспешно хвалит; председатель колхоза, который его критикует и т.д. Так же во многом преувеличено значение ударного труда, в котором персонаж со временем проявляется как истинный и настоящий энтузиаст. Тем не менее важно, что значение нравственной переделки своих стремлений его герой очень хорошо понял. В этом отношении интересна статья В.Я. Канюкова «Дело всех писателей» («М.н пур писател.н .=.»). Здесь критик разбирает повесть А. Емельянова «Не ради славы». Он отмечает: «с приходом этого прозаика в литературу повеяло свежим ветром, в повесть и очерк пришли новые, абсолютно живые люди. Особенно это положительно потому, что живой облик приобрели партийные руководители» [18, с. 34]. Это дает повод полагать, что критик рад тому, что проблема взаимоотношений «руководителей» и «руководимых» (Ю. Барабаш), «человека и власти» (А. Мышкина) выходит на новую ступень. И в этом свете он совершенно справедлив, но в повести «Не ради славы», по мнению исследователя, имеются и серьезные недостатки. Они видны в том, что писатель председателя колхоза – Михатайкина (который как руководитель просто «обязан» быть положительным героем) – причислил к отрицательным героям («пархатёрсёрсем хушшинех сулса яч.») [18, с. 34]. Здесь можно увидеть принижение обыкновенного человека. Обыкновенный, «простой» герой легко может быть показан как персонаж и отрицательный, негативный. Все это зависело от того, что в период социализма представителей власти (особенно секретарей райкомов и обкомов КПСС) практически запрещалось рисовать «темными красками». Действительно, лишь они, эти герои, считались творцами жизни народа, участниками великих исторических событий. В этом смысле можно привести и другое мнение теоретика. Так, разбирая повесть Хв. Уяра «Где 69 ты, море?», В. Канюков делает иронический вывод: «Я субъект, я индивид, историю делаю я» (перевод подстрочный) [18, с. 29]. Критик считает, что такая мысль пришла к Хв. Уяру с Запада. Ошибка Хв. Уяра, как он полагает, в том, что он ищет субъективную, отличную от других смелость героя. С этим, конечно, очень трудно согласиться, ибо известный критик возвращается здесь к «пресловутой теории винтика» [6, с. 144]. Итак, в 70-е годы прошлого века проблема взаимоотношений народа и власти, проблема взаимоотношений конкретного человека, личности и истории, взаимоотношения человека с природой в ходе понимания сути исторического процесса выводят чувашскую литературу на новый уровень. В связи с этим совершенно меняется внутренний строй прозы. Аналитизм мысли повествователя и героя начинает тесно связываться с образами природы, а это приводит к тому, что рассказы и повести писателя начинают принимать лирический характер. Это свидетельствует о том, что в прозе А. Емельянова на первом месте находится не только публицистическое рассмотрение изображаемых героев, сцен и ситуаций. Прозаик очень часто использует приемы лиризации внутреннего пространства произведений, поэтому хронотоп его прозы создается и тем, как относятся друг к другу публицистика и лирика. Очень часто, как уже указывалось в первой главе, автор образы героев и моменты жизни изображает приемами объемных метафор, аллегорий, которые иногда тяготеют к символам. Это доказывает, что автор неравнодушно относится к проблеме пополнения произведений публицистикофилософским содержанием. Таким образом, публицистико-философский взгляд начинает взаимодействовать с лирическим и публицистическим стилями. Произведения, особенно повести, набирают многозначный смысл, они – многостильны. Пространство такой прозы очень трудно оценить односторонне, поскольку это привело бы к неточному и ограниченному пониманию хронотопа. Вот почему понятия «жизнь, общество, история, человек» прозаик тесно связывает с поэтикой времени, поэтикой художественного пространства, в этом проявляется его умение показать движение жизни, ее динамику. В этом отношении нельзя не отметить, что А. Емельянов стоит в одном ряду с Хв. Уяром, М. Ильбеком. В 70 сравнении с творческими поисками таких писателей, как В. Алендей, С. Аслан и др., его искания намного шире и глубже. Действительно, в разобранных примерах важно учитывать не столько самих героев, сколько дух времени, то, как тот или иной исторический период писатель понимает, как о нем повествует. Серьезного внимания заслуживает также показательное и особое место в структуре емельяновских произведений и других сторон категорий времени и пространства. Повторимся, у него нет желания привязать человека-героя к определенному периоду жизни, поэтому и появляются такие большие, объемные аллегории, как грузди, деньги («Черные грузди»), кукарекающие курицы («Имя»), слава («Не ради славы») и т.д. Такие образы выводят героев на долговечное пространство жизни. Так, Семен Крыслов, нанимая плотников разбирать баню, роет яму для себя и для своей семьи (в сюжете плотники раскапывают и очищают старый фундамент). Это фактически философский хронотоп жизни, о котором говорилось выше. Но дело тут не только в простом повторении уже сказанного однажды. Логика мыслей, которые здесь высказывались, приводит исследователей к необходимости остановиться и еще на одной черте изучаемого здесь хронотопа. В прозе Емельянова, очень часто в очерках, есть обращение к конкретной исторической эпохе (время), пейзажным деталям окрестностей поселков Вурнары, Калинино, города Чебоксары (узкое и локальное пространство). Есть такие явления и в повестях, особенно при показе догматических руководителей, рассмотрении нравов села, крестьянского быта и т.д. Но в повестях и рассказах писатель конкретные время и пространство за счет использования объемных метафор и аллегорий переводит на другой уровень. Именно из взаимодействия конкретных эпохи и местности с долговременными и символическими событиями и эпизодами и возникает динамическая, живая картина мира. Вполне понятно, что такой подход к своим творческим задачам позволяет писателю сосредоточиться не только на герое, но и тщательно изучить окружающую его среду. Так возникает еще одна черта хронотопа, которая тесно увязывается со всеми другими его свойствами. 71 В чувашской прозе очень широко распространен образ ямы. Это встречается в таких произведениях, как «Черный хлеб» М. Ильбека, «Поле жизни», «Узорчатые лапти» Д. Гордеева, «Человек с хутора» Хв. Агивера, «Березка Угах» Ю. Скворцова и т.д. [43]. В этих произведениях этот образ связан с приближением смерти и разрушением основ жизни, семьи, судьбы детей и т.д. И в самом деле, Шеркей, раскапывающий клад, является виной смерти жены и дочери. Хелимун, копающий яму в хлеву (как воспоминание о своем прошлом) ночью, утром умирает (Хв. Агивер). Ускоряет свою смерть Варлам, достающий деньги на пропитание копкой могил («Узорчатые лапти» Д. Гордеева), и т.д. Это приводит к вполне обоснованным выводам: А. Емельянов участвует в создании хронотопа всей чувашской литературы, в том числе и прозы. Литература, как видим, движется в сторону философизации публицистики и лирики. Емельянов вместе с писателями разрабатывает основы вневременного, внеисторического пространства и времени, он, наряду с другими, заметно углубляет публицистико-философские стороны своих произведений. Очень часто он обращается к одним и тем же образам – образ ямы встречается в рассказе «Жизненные передряги» и в повести «Черные грузди», имя и слава – в повестях «Имя», «Не ради славы» и т.д. Все это напоминает извечную народную мудрость чуваш: не рой яму другому, сам в нее попадешь; дорожи своим именем и именем родителей («ята ан яр», «ята ан =.рт» и т.д.). Крыслов же и к сыну, и к жене относится безответственно, как следствие этого его жена погибает. Так же не находит общего языка с женой герой рассказа «Жизненные передряги». Нет слаженности между отцом и матерью Модеста, между Модестом и женой и т.д., поэтому умирают Урине, отец Модеста, герой «Жизненных передряг» и т.д. Это является фактом возвращения с того света Ильи Крыслова, именно он (с женой) и спрятал деньги под баней, спрятал для того, чтобы это аукнулось на судьбе его детей и снохи: сноха умирает, младший сын уходит из дома, сам Семен Крыслов избит до полусмерти. Значит, это свидетельствует о том, что даже конкретное историческое время в 1970-х годах тесно связано с извечной мудростью народа. Разбирая взаимоотношения Семена Крыслова с исторической реально72 стью колхозной жизни, писатель не забывает о надысторическом времени, вневременном пространстве [42]. Говоря о том, что конкретная историческая эпоха является как бы ограниченной, очерченной разновидностью времени, мы не считаем, что это – застывшая категория. Она выходит и на новую высоту, особенно в ходе аналитического переосмысления роли истории и роли отдельного человека в развитии общества. Теория, которая утверждала, что человек – лишь винтик колеса истории, что человек не принимает никакого участия в движении общества, безнадежно устарела. Пересмотр такой точки зрения дал возможность понять живость и динамичность истории только через связь с ходом мысли героя-аналитика. В силу этого историческая действительность, социальная реальность (даже в конкретном проявлении) превращаются в очень большой фактор. Разбирая конкретную и «вневременную» историю средствами публицистики, лирики, аллегориями, герой, повествователь, рассказчик не только раскрывают себя, они создают образы окружающей их жизни. Именно поэтому возникает новое понимание и истории, и руководителей, и задач литературы и т.д. В.Я. Канюков, например, считает, что председатель колхоза (Михатайкин) является передовым человеком, он вывел колхоз на передовое место [18]. Но дело в том, что жизненное пространство руководителей в повестях Емельянова строится по-другому. Михатайкин при всех его способностях со временем превратился в деспота, развратника, слава вскружила ему голову и испортила его характер. Именно потому повесть так и названа – «Живем не ради славы» (буквальный перевод). Примечательно, что такой же председатель встречается и в «Разливе Цивиля». Это Трофим Прыгунов. Таким образом, подобный тип руководителя для писателя не является случайным. Следовательно, образное пространство типов руководителей, по мнению Емельянова, не может быть ограничено только положительными героями. Есть много руководителей, которые попросту «пастухи» (повесть «Пастухи»). Таким образом, проблема власти и народа в таких произведениях находит новые стороны. Создавая типические образы, Емельянов рисует и типические ситуации. Его слово принимает обобщенный характер. 73 Так, к проблеме истории и ее образу прибавляются проблема власти и ее образ. Все это говорит о том, что Емельянову важно понять законы аналитического, социального, публицистикофилософского анализа таких понятий и параллелей, как история и власть, человек и история, человек и власть, извечные народные традиции и человек, народные традиции и власть и т.д. Говоря о типах героев, нужно остановиться и на своеобразии их образного поведения и думать о том, как они, эти типы, создают новое пространство и время жанра произведения. При их создании важное место занимает нравственный мир произведения. Это то или иное отношение писателя и его повествователя к тому, какие пороки и достоинства имеются у героев. Система взглядов писателя в этом плане является открытой для выработки принципов веры в человеческую добродетель, чистоту душевных устремлений. Очень часто этот нравственный мир возникает вокруг одного героя (например, в «Имени»). Именно поэтому духовное пространство героя в названной повести и оставляет место для изменения героя. Сказанное дает повод для следующего заключения. Нравственный мир произведения, конечно, не может быть оцененным только со стороны рассказчика и повествователя, он тесно связан с позицией и самого писателя, автора. В «Имени» писатель высказывает свое отношение к «перевертышам» как к отрицательному явлению 1970-х годов. Следовательно, он говорит не только и не столько о Модесте. Он как чуткий публицист в 1970-х годах начинает видеть те явления, которые к концу века привели страну к огромным катастрофам. Вот почему Модест, несмотря на то, что является всего лишь героем, показывает и отражает исторические взгляды писателя, выражает публицистическую остроту его мыслей. «Путешествуя» из Чебоксар в Новочебоксарск, из Чебоксар в деревню, пребывая в лесу, Модест начинает потихоньку меняться, хотя и остается большим «перевертышем». Это все же показывает то, что «перевертыши» все больше и больше приспосабливаются к жизни. Пространство и время героя-типа включают в себя, естественно, и то, что и как предчувствует писатель на пространстве ближайших десятилетий. Так, в Семене Крыслове публицист, видимо, почувствовал дыхание грядущих событий рубежа ве74 ков. Однако он не изменил себе, не отошел от показа его отрицательных сторон. Таким образом, пространство этого типа не только сугубо крысловское пространство, но и фактор писательского предвидения будущего. «Композиция публицистического произведения, – пишет А.Ф. Мышкина, – в значительной мере создается ведущей ролью мысли творца» [27, с. 105]. Следовательно, в пространстве и времени героя присутствует и хронотоп художника. Ранее указывалось, что жизнь, показанная Емельяновым, динамична и подвижна. Динамична вместе с этим и авторская позиция. Семен Крыслов как герой более раннего произведения при всей его живости вряд ли способен измениться. Но со временем позиция автора к таким героям меняется. В Модесте писатель видит гибкого перевертыша. То есть писатель в своих героях видит какое-то изменение общественных явлений, жизни, нравов и обычаев социальной среды. Естественно, это является следующей чертой хронотопа емельяновских произведений, его творческих поисков. Необходимо сказать, что хронотоп художника, конечно, намного шире и глубже, чем хронотоп типологических героев и типологических ситуаций и т.д. Все это, как было видно из сказанного, проявляет себя и в особой природе самых разнообразных героев («руководящих» и «руководимых») и их взаимоотношений между собой. Например, взаимоотношения Розы Поляковой, у которой отрезают участок и пашут уже засеянный огород, и Федота Михатайкина как самодура («Не ради славы»); отношения парторга Александра Васильевича (человека отзывчивого и светлого) и Генки-Графа (человека с высоким самомнением). В связи с этим проблема художественного пространства публицистики требует детального анализа отношений между героями самой различной типологии. Вот почему первая глава книги посвящена типологии героев. Пространство конкретного исторического времени хорошо и органично увязывается с онтологическим пространством столетий. Связи народа и власти делают акцент на пространстве одной конкретной исторической эпохи. Отношения между отдельным человеком, личностью и историей на первое место выводят человека, призванного активно участвовать в историческом процессе. Вследствие этого писа75 тель обращается к символам народной культуры, образам природы и т.д. Таким образом, писатели понимают, что жизненное пространство героев, произведения – это пространство не только личности, но и историческая роль человека-творца в сотворении культуры веков. Повторимся, сказав, что разговор о героях-типах, о типологических ситуациях не есть возвращение к одной и той же высказанной мысли. Это было необходимо для характеристики нравственного мира произведений, анализа того, как автор свою активную публицистическую позицию соединяет с анализом хода истории, с разбором особенностей участия этого человека в развитии общества. Это видно и в сшибке Урине и Семена, Поляковой и Михатайкина и т.д. Взаимоотношения героев, героев и типологических ситуаций создают философский мир поисков писателя. Это проявляется в том, какие онтологические, вечные вопросы решает писатель в своих произведениях. Естественно, будучи публицистом, писатель нарисованную собой философскую картину мира тесно связывает с нравственной картиной. Можно согласиться с мыслью А.Ф. Мышкиной, что в понимании мира прозаиком преобладает нравственно-публицистическая сторона. Философская позиция автора не получает глубокого и подлинно философского выражения, но становление творческого мира публициста связано с постоянным движением творца к онтологическому, бытийному пониманию динамики создаваемой жизни. В этом и есть большая заслуга творческих поисков А. Емельянова. В этом аспекте важен фактор образных тропов – аллегорий, метафор, символов, сквозных стилевых средств и т.д. Эти детали создают философско-публицистический хронотоп прозы писателя, его образного сознания. Именно они помогают понять своеобразие жанров, авторской позиции прозаика. В этом случае необходимо не только обнаружить их присутствие, но и выяснить то, как они видоизменяются и развиваются. Возьмем образ той же ямы, который был рассмотрен на примере повести «Черные грузди» и рассказа «Жизненные передряги». Он, во-первых, является эхом беспутной жизни Ильи Крыслова. Причем к этой жизни имеет отношение и его жена. 76 Примерно с таким же образом встречаемся и в названном рассказе. В день, когда открывают памятник председателю колхоза, убитого 40 лет назад, Стьяпан решает залезть в подпол и посмотреть клад, припрятанный несколько десятилетий назад. Ненавистью к новой власти пропитал Стьяпана его отец, он же привлек его к убийству председателя. И вот наступает наказание: обваливаются брусья, и герой оказывается заживо похороненным. В повести возмездие (возмездие ли?) коснулось всех членов семьи, здесь поверженным оказался лишь один герой. Стремление «закопаться в землю», «достать» то, что было припрятано, как и в агиверовском «Человеке с хутора», является воспоминанием о преступном прошлом. Это говорит о том, что свои философские взгляды писатель обязательно увязывает с многовековыми нравственными традициями. Эта нравственная основа постепенно превращается в факт философского понимания жизни общества. Образы Ильи и отца Стьяпана в создании сюжета и композиции произведений «вживую» не участвуют, но именно они строят образный хронотоп произведений. Без этих образов было бы трудно разобраться в публицистико-философской природе главных героев. К прошлому возвращаются и писатель, и герой, герой при этом становится орудием, инструментом мышления художника-творца, он свидетельствует о системе его (писателя) взглядов. Илья и отец Стьяпана намного глубже, чем просто родители, они выражают в себе народную мысль о том, что наказание за содеянное преступление обязательно совершится, что человек ответственен перед временем. Произведение, осмысленное таким образом, является нравоучительным рассказом. Это свидетельствует о том, что публицистические произведения А. Емельянова являются поучительными и дидактичными. Из сказанного видно, что художественное пространство литературы 60-70-х годов XX века показало, что отныне человек не может быть прикованным к одной местности. Война заставила его постоянно быть в движении. Прозе этого времени стали узки рамки рабочего места, ей необходимо было обрести новый хронотоп. Словесная культура стала двигаться в сторону философизации, публицистики и лирики. Творчество А. Емельянова сыг77 рало большую роль в создании хронотопа всей чувашской литературы. Емельянов постепенно отходит от правила последовательного развития событий, организующих сюжет. Лейтмотивы и символы у него начинают играть в хронотопе главнейшую роль, они «действуют» на одном уровне с героями: создают особый сюжет, особую композицию, особое понимание времени и пространства. Главное в ходе такого движения мысли – лейтмотивные образы. Они дают образам героя значение типа, дают им характеристику через длинный отрезок времени, поэтому герои имеют не главное, а второстепенное значение. Творец даже героев (Илья, отец Стьяпана, Ульяна и др.) превращает в лейтмотивы и символы. Сказанное до сих пор дает право говорить о том, как А. Емельянов понимает жизненное пространство и время эпохи, истории, поэтику нравственности и человеческого бытия. Повторимся: емельяновский мир имеет несколько понятий хронотопа: один – это очерковый хронотоп, он больше связан с обрисовкой конкретно-исторического времени, отдельной эпохи; другой – намного шире, он спрятан в тайнах многовековой морали и философии. Один виден в том, как публицист решает те или иные технологические вопросы производства (Сетнер Ветлов из «Засушливого года», Яков Бардасов из «Колокольчиков», Василий Явников и Виктор Гречнев из «Пастухов», Трофим Прыгунов из «Разлива Цивиля» и т.д.), это часто герой очерков, очерковых рассказов. Другой хронотоп – это отображение вечных истин средствами протяженных лейтмотивов. Есть и третий тип – лирико-романтическое освещение жизни. Оно хорошо заметно в новеллах «Свирель», «Ущербный месяц», «Узоры на листьях», «Конопля» и т.д. Идейно-художественная структура хронотопа в прозе А. Емельянова Создавая особую картину мира, А. Емельянов обращается к поиску разных приемов и поэтизмов. Изучение производственной технологии и очерковое освещение жизни приводят его к внимательному изучению стилистики рассуждений и описаний. Так, к рассуждениям часто обращаются Сетнер Ветлов из «За78 сушливого года», Виктор Гречнев из «Пастухов» и т.д. Их рассуждения посвящены разбору положения в стране, экономической ситуации. Постепенно расширяющиеся (как метонимия) рассуждения видим в очерках «Болезнь», «Возвращаясь из Москвы» и др. Развитие образов, показанных через аллегории и символы, происходит как вырастание скрытой нравственной и философской характеристики, данной герою, типическими ситуациями и приемами национально-философского мышления, средствами народных традиций устной словесной культуры. Лирические новеллы писателя создают образ того или иного состояния души героев, мира, которые раскрываются через лирико-романтический пафос и возвышенно-психологические интонации. Однако порой и здесь главное место начинают занимать способы оценки героев, приемы характеристики тех или иных ситуаций через те или иные нравственнопублицистические притчи народа и т.д. Разумеется, нельзя утверждать, что разбираемый прозаик является творцом философской прозы. «Проблема поисков смысла жизни не в первую очередь теоретическая (философская) проблема. Понять, в чем состоит высший смысл бытия для человечества, – еще не означает обрести его в собственной жизни. Надо суметь приобщиться к делам, способным дать высший смысл нашей жизни в ее конкретном варианте. Чужой, в других условиях, опыт, чужие советы и рецепты, даже самые умные, в этом могут и не помочь» [31, с. 226-227]. Поэтому авторские время и пространство в произведениях публицистов очень близки времени и народно-бытийному и исторически-конкретному пространству. Положение, высказанное А. Нуйкиным, показывает, что хорошая художественная публицистика не сторонится вечных вопросов, не останавливается перед трудностью их анализа. Она эти вечные вопросы переводит в область нравоучения, дидактического наставления и тем усиливает публицистизм художественного высказывания, открытость и актуальность авторской позиции. Иногда у писателя в произведениях присутствуют все три вида хронотопа, они как бы спорят между собой. В «Засушливом годе» исследуются и проблемы рачительного ведения хозяйства в условиях «зрелого социализма», и проблемы нравст79 венности, показанной через психологические переживания Великанова, здесь же и лиризм Юлии, глубоко переживающей чувство неразделенной любви. Таким образом, время становится объектом изображения, «героем» произведения. Через это писатель дает свое понимание о многообразии форм времени, о формах его движения. Зависит это от того, что у Емельянова был большой жизненный опыт публициста и руководителя районного и областного масштаба, от умения находить точные эпитеты и метафоры, аллегории и лейтмотивы. Писатель обычно никогда не использует «чужой опыт», его произведения рождаются от хорошего знания жизни представителей власти, их взаимодействия с массами. Именно поэтому он понял, что пространство и время прозы нельзя ограничить решением производственно-технологических вопросов. Высший смысл жизни, ее хронотоп он понимает через философско-публицистический анализ изображаемой реальности. В зависимости от этого время то бежит быстро (время героя), то медленно (время автора). «Конкретный вариант», о котором говорит А. Нуйкин, для Емельянова – это конкретность собственного опыта, индивида, который в свое время очень сильно критиковался В. Канюковым. Такой опыт позволяет писателю хорошо показывать типологические ситуации, в которых действует герой-тип, становящийся потом героем-лейтмотивом. Для Емельянова со временем становится важно не столько останавливаться на характере героя, сколько изучить его взаимосвязь с хронотопом бытийной вечности, хронотопом истории, нравственным хронотопом национальной культуры. В связи с этим очень часто прозаик ставит цель изучения таких национальных образов мира, символов, как, например, имя, слава, яма, деньги, путь, река, грузди и т.д. Такие образы-символы, конечно, намного шире, чем жизненный хронотоп отдельного героя, они могут проявиться в жизни и судьбе многих и многих героев. Следовательно, подобные образы имеют, как было видно из рассуждений, сделанных выше, «сверхгеройное» значение. Именно такими поэтизмами писатель и создает хронотоп своих произведений. Такие образы присутствуют во многих произведениях писателей и поэтов (как, например, указанный образ ямы). Существует мнение, что мы здесь пребываем как 80 бы на почве реального «факта» или условно наивного его восприятия как реального – в силу длительной художественной традиции, придавшей сюжету характер имевшей место «истории», а герою – достоверность реального лица. Итак, на главное место в таких случаях выходят не только герой, не только ситуация, но и типический сюжет. Основной смысл образа, создающего сюжет, остается в таких случаях не изменяющимся, меняются лишь разные его стороны, некоторые его черты. Так происходит, например, с образом ямы: у М. Ильбека это говорит о том, что нравственно черствеет Шеркей, у А. Емельянова в обоих разобранных случаях этот образ связан со смертью. Хелимун Ф. Агивера, как и Стьяпан А. Емельянова, копает яму сознательно, оба героя так вспоминают свое негативное и преступное прошлое. Интересно поэтому проанализировать образ отца в этих произведениях: во всех названных случаях «отец» – это призыв «детей» к смерти, он выступает в этих произведениях как символ преступности, корни которой находятся очень глубоко, в историческом прошлом. К тому же, этот образ является также знаком преступной нравственности, характеристики таких героев, как Стьяпан, Хелимун, Семен Крыслов и т.д. Стоит детально остановиться и на том, как публицист подходит к проблеме производственной технологии, поскольку эта сторона, хотя писатель постепенно и начинает отходить от нее, тоже организует художественные особенности хронотопа произведений. Она очень часто становится фундаментом, основой для дальнейшего обогащения художественного смысла создаваемых образов. Идея трудовой жизни народа, как показывают поиски Емельянова, в прежние годы была воспринята и понята не совсем «правильно». С приходом А. Емельянова в чувашской литературе полностью обнаружилась «историческая исчерпанность» призводственно-технологического хронотопа, ибо «складывался он в условиях быстрого и жестокого пресечения любой попытки народа вмешаться в решение кардинальных вопросов его бытия» [31, с. 34-35]. Обретение нового идеала Емельянов связывает с особым пониманием роли личности и индивида, творящих историю. Все это хорошо оправдывает его поиски, которые вытекают из личного опыта самого писателя. 81 Жизненный опыт, таким образом, становится одним из важных моментов создания производственно-технологического хронотопа. В этом отношении нельзя не заметить, что в какой-то мере проза А. Емельянова автобиографична; он работал секретарем райкома ВЛКСМ, министром культуры ЧАССР, председателем правления СП ЧАССР и т.д. Проследим за тем, как решал Емельянов проблему производственной технологии в повести «Не ради славы», и постараемся выяснить, как он искал пути отхода от такой практики. Важно, конечно, уделить внимание и тому, какое место занимают производственные вопросы в деле создания особого мира повестей и рассказов. Казалось бы, настоящей производственной технологии в повести нет, ведь герои показаны вне колхозной производственной деятельности. Федот Михатайкин показан в кругу своих угодников и любовниц, в сценах попойки на лесной поляне. Роза Полякова изображена в заботах о больном ребенке, размышлениях о жизненных тяготах, через показ обиды на председателя. Однако художественный смысл повести возникает из того, как прозаик разбирает приемы и методы порочного стиля руководства колхозом. В основу произведения ложится именно эта проблема. Образное пространство повести возникает из взаимоотношений героев с разной психологией: самовлюбленного Федота Михатайкина и тяжело переживающей свои горести Розой Поляковой. Столкновение этих двух линий создает также и особое поэтическое время. Для того чтобы определить, что из себя представляет повесть того времени, нужно выявить задачи, стоящие перед 70ми годами XX века: 1) задача изживания порочного стиля руководства массами (Михатайкин); 2) преодоление пренебрежительного отношения к «простолюдинам», крестьянам (он же), разрешение конфликта, вытекающего из обыкновенных будней (спор между Розой Поляковой и Федотом Михатайкиным), и т.д. Спор же возник между ними на основе любовных домогательств председателя-героя. Спор между простой крестьянкой и председателем дан писателем в самом начале повести. Это заставляет читателя сразу же внимательно присмотреться к Михатайкину, который с первых же строк предстает как человек грубый, жестокий, самонадеянный и властный. Он совер82 шенно не видит, что женщина не может выйти на работу, потому что у нее больной ребенок. Желая отомстить молодой колхознице, Михатайкин своевольно (без решения правления) решает отрезать участок Поляковой. Так, возникает авантюрный хронотоп, который вызывает цепь остроконфликтных событий. Читателю понятно, что Михатайкин является тем героем, который этот хронотоп порождает. В конфликт с трактористом, решившим вспахать по приказу руководителя колхоза уже засаженный поляковский огород, вступает дед Унтри. Сцена эта похожа на вымышленный эпизод, поведение старика в чем-то и смешновато. Признаки конфликта, продиктованного условиями 1970-х годов, видим и в спорах Алексея Федоровича (бригадира) и Федота Ивановича. Первый из героев, если присмотреться повнимательнее, – это герой с правильной, коммунистической закваской. Поэтому критику председателя и его недостатков явные сторонники руководителя (председателя) воспринимают как стремление бригадира занять кресло председателя. В чем-то ложным является и этот конфликт, ибо образ бригадира создан как особый, уже готовый идеальный образ партийного руководителякоммуниста. Это фактически приходит в противоречие с такими героями Емельянова, как Сетнер Ветлов из «Засушливого года» или же Яков Бардасов из «Моих счастливых дней». В них писатель ищет не идеального человека, а идеальные черты в человеке, что, конечно, очень положительно. Как видим, повесть написана как очерк о современной действительности. В нем детально (при помощи авантюрного хронотопа) разобраны самые различные стороны типа негативного руководителя, стремящегося к славе и власти. Но писатель все же сумел выявить порочные стороны в Михатайкине как в руководителе: председатель любит послушание и лесть, угодничество и страх со стороны колхозников, власть и силу над тружениками и т.д. Именно поэтому критик В. Канюков посчитал, что это большая неудача Емельянова. Между тем повесть как раз и была признаком предстоящего обновления общества. Не с тем ли фактом встречаемся и в Борзове в «Районных буднях» В. Овечкина? Это как раз и есть тип отрицательных руководителей, представителей стиля порочного руководства. 83 Примечательно, что безнравственность поведения некоторых героев здесь показана через авантюрные события, через цепочку приключенческих эпизодов. К такому способу показа реальной жизни писатель прибегает и в повестях «Черные грузди», «Имя». В них так же, как и здесь, на первом месте оказывается нравственная проблематика. Это значительно уплотняет время, увеличивает его подвижность, делает динамичным развитие сюжета. Однако порой сюжет замедляется, ибо писатель прислушивается к размышлениям повествователя или же героев. Повествователь как главный уровень и признак пространства и времени изображает сложные взаимоотношения между людьми, запутанные ситуации, показывает, какие общественные отношения влияют на формирование человека. В ходе этого он обращается к приемам иносказания, критическим, острым ситуациям. В повестях прозаика несколько типов времени. Один тип – это время «бытовое», в нем живут Семен Крыслов и Федот Михатайкин. Но есть, кроме того, и время «историческое», в котором живут страна, общество, в нем проявляются те или иные социальные перемены. Два времени тесно соприкасаются и втягивают героев в другое пространство, более емкое и глубокое. В этом отношении А. Емельянов стоит в одном ряду с такими мастерами слова, как В. Овечкин, М. Карим, Хв. Уяр, М. Ильбек и многие другие. Эта черта приближает чувашского прозаика к такому крупному явлению русской литературы, как «деревенская проза», представленная именами В. Распутина, В. Белова, В. Астафьева и др. Во многом очерковой повестью являются и «Районные будни» В. Овечкина, «Печальный детектив» В. Астафьева. «… В них в едином сплаве мы видим публицистичность, художественность, документальность» [23, с. 79]. Говоря словами Л.И. Кричевской, на героев Емельянова ложится «испытание мерой непроходящих нравственных ценностей» [22]. Они вытекают, вероятно, из важности сопротивления грузу денег и богатства («Черные грузди»), сопротивления славе («Не ради славы»), отказа от высокого самомнения (Генка-Граф, Казанков из «Колокольчиков»), от сознания того, что огромную роль в истории играют и личность, и индивид («Пастухи») и, конечно, искушения нравственности, которые 84 очень опасны («Засушливый год»). Это само собой диктует необходимость контрастного противопоставления самых различных героев, стилей и идей. Разбирая особенности типаличности, нельзя забывать и о давних традициях чувашской прозы. Анализируя рассказы-очерки Игн. Иванова, можно выделить в его прозе следующие черты: 1) в названиях своих очерков писатель сразу обозначает проблему нравственности, то есть наталкивает читателя на проблематику произведений поэтикой рамочного текста. Далее эта проблематика методично уточняется через показ конкретного человека, действующего в конкретной деревне, живущего в конкретном времени, но выводы получаются намного шире; 2) иногда герои Иванова имеют «стереотипные» «обобщительные» черты: «атте» («отец»), «анне» («мать»), «пичче» («брат»), но затем идет процесс художественной их конкретизации [34, с. 9]. Сравнивая опыт двух писателей, можно прийти к убеждению, что это фактически та же черта, которая главенствовала в прозе А. Емельянова, для него тоже важны не сами герои, а типы. Причем такая конкретизация идет по пути обретения героями вечных нравственных истин. Эти типы порой намного шире (хотя и не глубже), чем просто герой. Важно указать, что в таких произведениях, конечно, и у Емельянова, личное тесно переплетается с общественным, именно поэтому нравственность и выходит на первое, главное место. Личное и общественное дополняют друг друга в самых различных нравственных ситуациях. Казалось бы, у Модеста Мухтанкина с виду в семье все благополучно, но муж живет тайными мечтами, о которых не рассказывает жене. Нравственный мир его узок, как и у Семена из «Черных груздей», Генки-Графа из «Колокольчиков» и т.д. Все это писатель вскрывает скупыми, выразительными деталями. Дом Крыслова – с виду полная чаша, Семен очень богат. Однако это благополучие лишь внешнее, оно нисколько не радует жену Семена, она постоянно находится в тревожном напряжении, ожидании чего-то страшного, кризисного. Напряженно чувствует себя и Семен, однако его напряжение склоня85 ется в сторону безнравственности, его беспокоит только проблема накопления, богатства. По этой причине художественные ситуации в таких произведениях, в сравнении, например, с повестями В. Алендея, В. Петрова, А. Талвира и других, проникнуты большим эмоциональным зарядом и сильными психологическими движениями. Именно в этом ключе и важно понимать проблему нравственного или же безнравственного напряжения героев. В силу этого своеобразно проявляется образная категория времени. Большое безнравственное напряжение не может длиться долго, оно прерывается авантюрными поворотами сюжета, критическими ситуациями. В связи с этим сказанное выше об авантюрном хронотопе очень важно. Он позволяет писателю строить композицию произведений на контрастных противопоставлениях героев, ситуаций и т.д. Важно понять, что время Ирины и время Семена – это два разных, противостоящих типа времени. Хронотоп же произведения вытекает из противопоставления двух этих типов в авантюрном и описательном, «рассужденческом» планах, в том, как ведет себя повествователь и почему. Таким образом, образы героев-типов и ситуации-типы в емельяновской прозе составляют основу его художественнопублицистического мира. Художественное пространство и временные параметры такой прозы чувашской литературой были выработаны уже давно. Основываясь на плодотворных положениях, можно прийти к выводу о том, что эстетическая картина мира емельяновской прозы развивается и углубляется в направлении художественно-публицистического и публицистико-философского обогащения поэтики образа, его содержания. Развернутые аллегории и символы здесь имеют надысторическое значение. Так, образы отцов: отец Семена («Черные грузди») А. Емельянова, отец Хелимуна («Человек с хутора») Хв. Агивера, отец Шеркея («Черный хлеб») М. Ильбека и другие – это не просто образы ушедших в тот мир людей. Те же типизированные образы людей, совершенно забывших свою великую миссию перед молодым поколением, перед детьми. «Стереотипность», «обобщительность» таких персонажей (В.Г. Родионов) конкретизируется в определенные эпохи через конкретную де86 ревню, ситуацию и т.д. Но вместе с тем нужно сказать, развивая продуктивные основы положений В.Г. Родионова, эта «стереотипность» и типизирует, «обобщает» (В.Г. Родионов), превращает персонажи в какие-то образы-блоки. Философ Э.Ю. Соловьев пишет об этом явлении так: «Существенно, далее, что люди прошедших эпох вовсе не капсулированы в своем времени: их высказывания и поступки почти всегда содержат в себе ответ не только на уникальное содержание конкретных социально-практических задач, но и на повторяющуюся структурность общественных ситуаций, … у них есть своя стихийная логика, свои типы альтернатив …» [37, с. 4]. Альтернативность стереотипных образов – есть условие развития художественно-публицистической прозы в сторону прозы публицистико-философской. В связи с этим феномен культурного и художественного пространства в таких произведениях приобретает очень большое значение. Его содержание включает в себя и прошлые эпохи, и условия культурного обобщения, и последующие эпохи и т.д. Это – культурно-философское, надысторическое время. Социальный хронотоп, таким образом, тесно связывается с хронотопом надысторическим. С подобным случаем часто встречаемся при рассмотрении отрицательной функции отца во всей чувашской литературе. Это не только герои А. Емельянова, Ф. Агивера и М. Ильбека, это также Мигедер из поэмы «Нарспи» классика чувашской литературы К. Иванова, это Ахтубай, отец несчастной Пинерби из драмы П. Осипова «Айдар» (Айтар») и т.д. Следовательно, проблема ответственности отцов приобретает в литературе новую роль, ибо они ломают судьбу своих детей. Но это также и понимание того, что человек в художественной словесности имеет свои определенные социально-философские функции «не только в пространстве, но и во времени», он способен «перемещаться в нем» [24, с. 3]. Обращаясь к теме перемещения человека во времени и пространстве нельзя забывать, что речь идет о хронотопе. Указание на произведения К. Иванова и П. Осипова говорит о том, что чувашская литература имеет своеобразно динамичное время. Это могут подтвердить разобранные в монографии традиционные образы ямы и отца. А. Емельянов своими произведениями орга87 нично входит в мир художественных, иносказательных символов всей чувашской литературы; человек его произведений, таким образом, перемещается в одном большом пространстве. Единство ямы и отца как образное иносказание, как видно из изложенного раньше, очень тесно связано именно с проблемой нравственности, иногда с явной публицистичностью творческих поисков. Нарастающая напряженность проявляет себя в контрастном противостоянии спокойной мудрости веков заботам отдельного, конкретного человека. Это придает повестям Емельянова особую эпическую широту. Сказанное до сих пор позволяет утверждать, что такие писатели, как Хв. Уяр, М. Ильбек, Ю. Скворцов, А. Гилязов, М. Карим, анализируя социальные события, добиваются бескомпромисной нравственной правды. Таков и Емельянов: он считает, что безнравственности Семена, как и его отца, нет оправдания; нет оправдания поступкам и деятельности Михатайкина, перевертыша Мухтанкина, Генки-Графа и т.д. То же самое изображает и М. Карим. Нравственное напряжение повествования в «Помиловании» строится на контрастном столкновении, с одной стороны, лейтенанта Байназарова и капитана Казарина – с другой. И здесь поступки Казарина порождают авантюрное развитие сюжета, сталкиваются два типа времени. Перемещение Байназарова во времени и пространстве – это суд над Казариным, суд безжалостный, ответственный и нравственный. Мир, созданный воспоминаниями Байназарова, – это мир высоконравственный, напряженно-драматический. Проблема социальной справедливости, ее анализ принимают в названной повести публицистико-философский характер. Вот почему в образе лейтенанта личное тесно связано с общественным. Обращаясь к словам татарского критика и прозаика Р. Кутуя, сказанным о творчестве своего соплеменника А. Гилязова, можно добавить, что для всех вышеназванных писателей-чувашей, как и для А. Гилязова, основным мотивом их творчества является человеческая судьба, «личностное испытание, философия души, соединенная с множественным миром человеческих судеб» [24]. Необходимо внести некоторое уточнение. У А. Гилязова (татарина) и Ю. Скворцова хронотоп произведений философ88 ский, здесь роль конкретно-исторического времени не очень важна. А. Емельянов в отличие от них – писатель немного другого склада, его произведения не всегда (во временном отношении) философичны, как произведения Скворцова. Но Емельянов настойчиво двигается в сторону философизации своих публицистических ситуаций. В сторону, в которой жили и работали такие классики чувашской литературы, как М. Федоров, К. Иванов, Ф. Павлов, М. Сеспель, Хв. Уяр, М. Ильбек, Ю. Скворцов; в сторону, в которой создавали свои произведения татарские художники слова Г. Баширов, А. Гилязов, А. Гаффар, башкирские мастера слова М. Карим, А. Хакимов и т.д. Профессор В.Г. Родионов, разбирая рассказы Игн. Иванова, верно подметил, что публицистика писателей-чуваш еще с ранних этапов движется в сторону соединения публицистики с художественной философией. Пути такого приближения нужно тщательно и внимательно изучать, они помогут понять своеобразие чувашской публицистики с художественным нравоучением. В этой публицистике, говоря словами Р. Кутуя, «присутствует национальный характер, психологический портрет национального достоинства» [24, с. 4]. Сближение публицистики и философии как художественных составляющих литературы вряд ли возможно без учета нравственных особенностей общества и человека. Необходимо отметить, что профессор Ю.М. Артемьев, к примеру, настойчиво обращал внимание прозаиков и критиков на нравственную проблематику. «Как известно, – пишет известный философ Э. Соловьев, – где-то с середины 1960-х годов наше общество впало именно в такое состояние: самонадеянное, экзальтативное и сомнамбулическое» [37, с. 5]. Именно это и позволяет понять, почему А. Емельянов в упомянутых образах Мухтанкина, Михатайкина, Казанкова, Прыгунова, Генки-Графа и других предвидел и узрел такую самонадеянность и самомнение эгоистов, карьеристов и т.д. Как и В. Овечкин в «Районных буднях», А. Емельянов подводит читателя к художественным выводам не прямолинейно, а исподволь. Указывая на контрастно противопоставленных героев (рутинера Борзова и передового руководителя Мартынова) в повести В. Овечкина, литературовед А.И. Кузь89 мин отмечает их особую роль в художественном пространстве и то, что по этой причине повесть является «многоохватной». Действительно, Борзов – это руководитель-иждивенец, показушник, он покровительствует нерадивым, отбивает у примерных председателей привычку хорошо трудиться. Из чувства показухи он даже женится на знатной трактористке. Вобщем, это полновесный тип «организатора-рутинера», охватывающий своим образным содержанием тысячи ему подобных. Кроме этого Овечкин «был убежден, что решение коренных вопросов сельского хозяйства зависит главным образом от того, каким будет руководитель» [23, с. 82]. Важно понимать и то, что злободневная, публицистическая «овечкинская» проза послужила одним из толчков к появлению нового направления в литературе, которое иногда называют «деревенской прозой» [23, с. 82]. Обращаясь к его опыту, Емельянов заложил в чувашской художественной публицистике новые традиции – традиции, соединяющие в себе и опыт публицистики, и опыт «деревенской прозы». Умение предвидеть и художественно выражать то, в какую сторону будет развиваться общество, хорошо разбираться в социальных законах общественного развития позволили ему кропотливо изучать нравственное состояние общества, чувствовать динамику его движения. Все это способствует тому, что самосознание отдельного человека-типа отражало в себе самосознание общества, стремящегося к нравственной чистоте, потому обществу и понадобился опыт народной культуры национальных традиций, философских, нравственных устоев многих поколений. Именно по этой причине и происходит процесс сближения социального опыта народа и истории с философскими устремлениями национальной культуры. Емельянов, как и другие его современники (Хв. Уяр, М. Ильбек, Л. Таллеров и др.), изучение современного состояния общества органично сочетает с обращением к прошлому, традиционным образам, памяти о прошлой культуре, он проповедует гражданскую ответственность памяти перед прошлым. Обобщая сказанное, можно утверждать, что пространство и время художественной прозы, особенности художественного мировидения Анатолия Емельянова проявляются в следующем: осознание человеком своего 90 места в жизни общества, в связях с властью и историей приближают его к образу целительной природы или же отталкивают от нее; Емельянов не создает однобоко отрицательные образы или же однобоко положительных героев, они у него многомерны, движутся в ту или иную сторону, становясь все более эгоистичными или же высветляясь через страдания души. В ходе такой работы души персонаж попадают в типологически альтернативные (в сравнении с прежним, ранним опытом литературы) ситуации, поэтому для писателя важно понимание и возможностей этих ситуаций, и нравственного напряжения героя. Именно в этом отношении необходимо внимательно относиться к явлению «стереотипности» (В.Г. Родионов) и нравственной основе духовности (Ю.М. Артемьев) действующих лиц таких произведений. Причем понятие «нравственный мир» относится не только к конкретному герою, это свойство всего произведения в целом, это – черты определенной авторской позиции. Действительно, основу поисков А. Емельянова составляет, говоря словами А.В. Чичерина, «судорожнонапряженное движение авторской речи» [45, с. 142]. Вследствие сказанного нужно понять, что и анализ технологических особенностей производства, и развернутые символы и аллегории, и типологически надысторические ситуации, и надысторические герои являются второстепенными моментами, инструментами мысли публицистического автора. Автор близок к своим персонажам, он размышляет примерно так же, как и они, но он и шире, ибо картина мира в его произведениях создается не только персонажами. «Литература, – пишет А.И. Кузьмин, – не может жить без изучения прошлого. Л. Толстой объяснял литературу как воспоминание. Создавая произведение, автор вспоминает об испытанных им чувствах, пережитых коллизиях, увиденных картинах. К своему опыту писатель подключает и опыт других людей» [23]. Не так ли происходит и в повести «Помилование» М. Карима? Главный герой повести – лейтенант Байназаров – это автобиографический герой. Но личные впечатления автора соединяются с историческим опытом, временем войны. Воспоминание, таким образом, получает совсем другие художественные функции. 91 Именно воспоминание, но уже героев, вместе с тем и повествователя, создает внутренний мир таких новелл А. Емельянова, как «Жизненные передряги», «Свирель». Воспоминание здесь возникает в тесной связи с происходящими событиями. Стьяпан, например, начинает вспоминать прошлое, видя то, как открывают на селе памятник одному из первых председателей колхоза, давно убитого кулаками. Его убийцами были Стьяпан и его отец. Воспоминание поэтому превращается в иносказательный образ погреба, куда лезет герой («Жизненные передряги»). Нравственный суд над персонажем делает повествователь. Прошлое – это события, которые уже давно произошли, но они возвращаются и становятся важными и нужными для современности. Следы воспоминания видны, конечно, и в самих иносказательных образах, таким, например, является свирель в одноименном рассказе. Образ свирели – это материальные свистки, которые лепили дети. Это и отношение Захара к этим детям. Это, к тому же, история любви главного героя, скульптора Никиты Ивановича Хурашова к Альдонне. Вместе с тем это целостное восприятие мира. Все это приводит к тому, что герой в этой ситуации становится как бы не главным действующим лицом. Во всем этом важен и образ свирели. Второстепенность героя для писателя просматривается и в том, что публицист начинает изучать типологические ситуации не только надысторические, но и создает свою типологию героев и их типологические ситуации. Таковы, например, Прыгунов, Михатайкин, Крыслов и другие персонажи и ситуации, в которых они себя проявляют. Но дело не в том, что здесь повторяется однажды уже сказанное. Дело в том, что, несмотря на «обобщенность», герои, подобные названным, остаются все же в рамках публицистических эпизодов как бы в схожих и однородных ситуациях. В связи с этим эти ситуации становятся признаком емельяновских типологических ситуаций. Вот что, например, пишет об этом Г.И. Федоров в своей монографии «Художественный мир чувашской прозы 19501990-х годов» (глава «Социальные типы героев и философия цехового, социального человека»): «Исходя из этих целей, писатель усиленно социализирует предмет мысли, наделяет героя 92 чертами социально-цеховой типологии, отмечает печатью определенного исторического времени» [42, с. 133]. Следовательно, в понимании времени в творчестве писателя наличествуют и надысторические, и социально-исторические свойства, и, конечно, личностные впечатления автора и героев, склоняющие писателя к иносказательному воспоминанию, традиционным образам народной культуры. Следует подчеркнуть, что воспоминания как прием, создающий внутренний мир произведений, встречаются во многих произведениях писателя, но в новеллах они полностью заполняют все пространство произведения, в повестях являются одной из главных сторон разностороннего хронотопа. Так, например, в «Черных груздях» вспоминает былое Урине, жена Семена. Предмет воспоминаний – деньги, переданные Ильей своей снохе (Урине), образ-символ – грузди, выращенные тем же Ильей. За счет воспоминаний эти деньги превращаются в огромный иносказательный образ и определяют художественное содержание произведения. Без воспоминаний не состоялось бы не только содержание иносказания, но и смысл произведения в целом. Именно воспоминание дает нравственноправдивую силу и придает им подлинно народный характер. Ранее в данной книге внимание было акцентировано тяге к философизму, показу жизни одной из сторон творческих поисков Емельянова, которая ведет его в сторону художественного изучения особенностей нравственности не только общества, но и нации. Однако, как указывалось, писатель остро почувствовал и дыхание самонадеянности в 1960-е годы. Надо сказать, что другим плодотворным условием формирования творческих принципов писателя можно считать положение, высказанное Г.И. Федоровым о социально-цеховой стороне действительности героев Емельянова. Следовательно, прозаик, несмотря на тяготение к символическому изображению жизни, все же в основе своей остается на почве художественной публицистики, изучает законы расслоения общества. Непонимание Ульяны забот своего сына, душевных переживаний мужа («Имя»), разрозненность душ Семена и Ирины («Черные грузди»), расхождение мнений между Михатайкиным и колхозниками («Не ради славы») – это и есть следы расслое93 ния общества. На главное место поэтому здесь выходит историческая эпоха, которая потеряла свою цельность и стройность. В связи с этим становятся важными проблемы нравственности, ее народных корней, ее национальных традиций. Это заметно не только в творчестве Емельянова, формы отсутствия взаимопонимания между людьми, особенности расслоения эпохи и общества изучают различными способами и Хв. Уяр, и М. Ильбек, и Ф. Агивер и т.д. Отсутствие взаимопонимания в семье, между родными сестрами исследует А. Гилязов («Три аршина земли», «В пятницу вечером»). Именно поэтому М. Карим в своей повести «Долгое-долгое детство» обращается к воспоминаниям о давних народных традициях, которые помогли делать общество нравственно здоровым. Такая публицистичность (хотя и в меньшей мере, поскольку эти писатели имеют другие художественные цели) есть и у Хв. Уяра, и М. Ильбека, и А. Гилязова, и М. Карима и т.д. Так, создавая своих кулаков-живодеров Илле Щеголя (Хв. Уяр), Шеркея (М. Ильбек), рисуя образ председателя-энтузиаста Джихантира (А. Гилязов, повесть «В пятницу вечером»), образ бездушного гэбиста Казарина (М. Карим), писатели так или иначе тоже приходят к созданию типа социального человека. Илле Щеголь и Шеркей – это герои, порожденные последними десятилетиями XIX века, они полностью «социализированы», хотя у них много такого, что выходит за рамки этой социализации. Такими же социализированными типами являются Джихангир, весь ушедший в дела колхозного производства, Казарин, собравший в себе черты гэбистов военного времени. Все это свидетельствует о том, что творчество Емельянова находится в русле общих поисков, к которым обратилась литература народов Урала и Поволжья. Это показывает также, что публицистическая и художественная деятельность чувашского прозаика смело может быть поставлена в ряд с деятельностью названных здесь писателей. Писатели смело соединили повседневный быт человека с высоким смыслом вечных истин, картины местной жизни с событиями, охватывающими всю страну, всю ее историю. Изучаемые коллизии из-за того, что их переживают или повествователь, или герой-аналитик, то идут совместно со временем 94 повествования, то значительно его опережают, то уходят в многовековые корни прошлого. Таким образом, литература выработала новый хронотоп, изучила возможности иного, чем прежде, изображения жизни. Жизнь, например, в произведениях А. Емельянова отображается то в авантюрно-приключенческом свете, то аналитически, через восприятие рассуждающего героя. Во всех его повестях изображенная действительность перед читателем формируется как смена разных типов времени, разных способов повествования, разных форм пространства. Так же обстоит дело и у М. Карима. В «Помиловании» читатель ощущает горечь трагического юмора, проникает в спокойно рассудительные области анализа жизни автобиографическим героем. В повести мысли М. Карима, высказанные о перекосах, ущербной нравственности военных лет, остро публицистичны. Таковы повести татарского прозаика А. Гилязова. Мирвали, например, трагически и поздно понимает, что без обращения к прошлому, без бережного к нему отношения невозможно жить. Он сознает, насколько было важно чувствовать большую ответственность перед семьей, близкими людьми, перед обществом и, конечно, перед самим собой. Мирвали чувствует, что такая нравственно ответственная напряженность тесно связана с пониманием того, что происходит в общественной жизни, социальной действительности конкретной исторической эпохи. Важно также осмыслить, насколько все это связано с вечными истинами человеческой судьбы («Три аршина земли»). В те годы, когда в литературе работал Емельянов, крупно проявили себя и такие русские писатели, как В. Астафьев и В. Распутин, которые в общем-то тоже обратились к социализированному анализу нравственной проблематики, тревоге по поводу утери эпохой тех истин вечности, которые были накоплены народом на протяжении столетий (повести «Пожар», «Прощание с Матерой» В. Распутина, «Печальный детектив» В. Астафьева). Именно они выразили наиболее полно то, что искало в эти годы общество. Писатели осознают необходимость «типологического подхода к сюжетам», «проблемным ситуациям». «Художественный человек» социализируется и даже политизируется. <…> Живо откликаясь на «предзнамено95 вательные» проявления перспектив, Емельянов целенаправленно ищет различные формы проявления типологизированности сознания, поведения, состояния нравов в дробящейся социальности общества…» [42, с. 141]. В его произведениях на первом плане оказываются не только нравственность, не только образы истории, власти, не только кровная, философская связь прошлого и настоящего, но и то, что общество и его нравственность активно дробятся, расслаиваются, ищут новые формы своего бытия, новые пути развития, новые нравственные цели и задачи. Расслоение общественных нравов на эгоистическое самомнение, на циников и чистых, страдающих, очищающихся людей диктует необходимость нравственного анализа действительности. Это дает возможность сказать, что хронотоп общества 1960-1970-х годов – это хронотоп дробления, но это дробление, эта прерывистость склоняют писателей, в том числе и Емельянова, искать пути возвращения вечных истин преемственности. Нельзя оставить без внимания и другую сторону творчества писателя. Многое из того, что здесь проанализировано, «выстроено» писателем по правилу «однажды случилось», то есть в плане публицистико-авантюрного показа жизни. Таков рассказ «Конопля», в которой по законам авантюры встречаются замужняя молодушка и ее прежний возлюбленный. Таков рассказ «На высокой горе – семь берез», в котором главный герой имел случай посетить бывших своих «друзей», причем посещение это обернулось для «путешественника» тем, что над ним откровенно посмеялись хозяева (муж и жена). Повесть «Черные грузди» начинается с весьма интересной детали. «С самого утра у тетушки Урине, которая как всегда занималась своим большим хозяйством, – замечает автор, – было какое-то предчувствие надвигающейся беды» [58, с. 4]. С этого момента «беды» нарастают все больше и больше – ее сына, Колю, заподозрили в краже колхозного зерна, муж сломал ребра, попав в аварию, потом его избили до полусмерти плотники, затем умирает сама Урине. То же самое происходит и в «Имени» – Модест привозит в деревню краденые дрова и технический спирт; это становится фундаментом дальнейших событий, показывающих историю перевертыша. Все это проис96 ходит как бы нагнетанием случайных событий, которых якобы могло и не быть. Такое начало не случайно, оно говорит о том, что духовная жизнь общества дошла до предельной степени напряжения. Вот повесть Ю. Скворцова «Березка Угах», в ней тоже повествование начинается с боли в руке, которую Угахви ощущает ночью, перед рассветом. Далее эта боль только нарастает. Вот начало повести А. Гилязова «В пятницу вечером»: «На заброшенной усадьбе стоял покосившийся домишко с заколоченными окнами, а от других, давно порушенных надворных построек, остались лишь какие-то кривые столбики да густо поросшие лебедой и крапивой неглубокие ямы» [47, с. 315]. Все это показывает, что общество стоит перед какими-то назревшими переменами. Дальше ждать чего-то гармоничного уже нельзя, необходимы какие-то крупные перемены, какие-то другие нравственные цели и ориентиры. Именно об этом и говорят самые сильные повести А. Емельянова, самые сильные его рассказы, очерки и новеллы. В них на главное место, как правило, выходит необходимость острой гражданской ответственности человека перед обществом, историей. Черты авантюрных поворотов сюжета полностью определяют композицию «Черных груздей», такие события лежат в основе всей повести. Семен как бы случайно нанимает плотников для постройки бани, случайно плотники находят клад, случайно Семен оказывается избитым плотниками. Это – линии, связанные с Семеном. Дух происшествий нужен и для показа Урине: случайно свекор оставляет ей деньги, случайно она, поскользнувшись в лесу, умирает. В какой-то мере авантюрная психология отца поражает и Колю – он крадет колхозное зерно. Коля, конечно, – человек для такого авантюрного сюжета посторонний, он поэтому и спасается. Но авантюрный порядок жизни настигает и Семена, и Урине, и плотников. Такая последовательность приключений, вероятно, возникла потому, что авантюрным поведением обладают лица, которые ломают и дробят эпоху и историю, судьбы людей и их нравственность. Это, другими словами, придает сюжету характер имевшей место «истории», а герою – достоверность реального лица, то есть как бы документальность. Однако при этом 97 важно заметить, что автор здесь непосредственно переходит от единичного к общечеловеческому, от «факта» к проблеме; основанием для обобщения при этом служит «реальный» (как в истории) характер факта. Так обнаруживается еще одна сторона хронотопа Емельянова, это – авантюрность «строения» жизни «отрицательных» героев и их поступков. Но эта авантюрность тоже в руках автора, его напряженной речи. Приключенческий характер социализированных сюжетов, ситуаций и героев не есть данность только «Черных груздей», он хорошо виден в повестях «Имя», «Разлив Цивиля», «Не ради славы» и т.д. Эта черта просматривается во всем творчестве писателя. Принцип «однажды случилось», «имела место такая история» есть и в лирических полотнах прозаика, а лирика в силу этого становится другой стороной емельяновского художественного пространства. Названные выше рассказы «На высокой горе – семь берез», «Конопля» фактически являются сплавом приключения и лирики. Лирика присутствует не только в этих произведениях, но и в рассказах «Свирель», «Узоры на листьях», в самых различных повестях и даже очерках. Это определяет характер поисков публициста наряду с другими стилями, а именно: очерково-публицистическим, авантюрно-приключенческим, публицистико-философским, нравоописательным и т.д. Это можно легко понять, лирика, как и публицистика, создает образ состояния того или иного мира, души, нравов общества; опирается больше на чувства, чем на движение разума. Это сначала может показаться странным, поскольку в прозе Емельянова очень много героев монологизирующих, рассказывающих, рассуждающих. Но все они рассказывают, рассуждают о том, что однажды было, и говорят о чувственном восприятии факта. В рассказе «Болезнь», например, начальной точкой сюжета является отравление желудка, которое произошло у героя. Это – состояние. Но состоянием является и то, что происходит с обществом, наукой, образованием, властью, культурой и т.д. Писатель, таким образом, обращается к готовым героям, готовым фактам, публицистическим ситуациям и т.д. [40, с. 133]. 98 Так, Генка-Граф в «Моих счастливых днях» – это готовый характер с высоким самомнением и циничным отношением к женщине. Его оппонент, Александр Васильевич, спорит с ним. В силу этого появляется еще одна черта стилевого хронотопа Емельянова – полемичность различных сторон показанной жизни, различных стилевых слоев произведений. Особенно это показательно для жанра повести, однако иногда полемичны и рассказы. «На высокой горе – семь берез», например, – это противостояние Мили, Пети с их гостем. В повестях это противостояние очень разветвленное. В повести «Имя» столкновение противоположных героев идет волнами: противостоят Ульяна и Василий Григорьевич (родители Модеста), родители жены Модеста; противоположны Модест и его жена; полемичны старый учитель и Модест и т.д. Такие противостояния проливают свет и на особенности жанрового пространства произведений. Такими же разветвленными являются полемические ситуации в повестях «Пастухи», «Засушливый год», «Колокольчики» и т.д. Следовательно, можно сказать, что разветвленная полемичность – это черта пространственного обустройства повестей. По-другому обстоит дело в рассказах. Здесь противостояние часто одномерно и однопланово. В «Ненастье», например, тракторист Юра противоположен прижимистым теще и жене, в рассказе «Случай в лесном бараке» происходит столкновение между Тиманем – деспотом, покушающимся на свободу колхозников, и Ванюшем, не согласившимся стать простым рабом в руках Тиманя, и т.д. Это, естественно, противостояние не только физического характера, но и полемическое столкновение разных стилевых слоев. Юрка из рассказа «Ненастье» – это, например, человек очень порывистый и нетерпеливый, горячий и стремительный. Он спорит с тещей не только открыто, но и в самом себе. Его теща – человек молчаливо самонадеянный, спокойно безапелляционный. Она спорит с зятем лишь в диалогах с ним, то есть в другом стилевом проявлении. Вышесказанное подтверждает, что полемизм имеет для А.В. Емельянова очень большое значение, он пронизывает все творчество прозаика-публициста. Полемическое пространство для Емельянова так же важно, как и приключе99 ние, социализированная типичность ситуации и героя – как и обращение к готовым сюжетам и характерам и т.д. Таким образом, анализируя сложные взаимоотношения между человеком и различными социально-типизированными ситуациями, писатель выявляет две стороны художественно отображенной реальности. Первая – это идеологическая основа показа жизни: взаимодействуют история, общество, власть и человек. В таком взаимодействии прозаик уясняет для себя сущность социально-исторического бытия человека. Вторая – данность более стилевая, поэтологическая. Все это говорит о том, что проблема нравственного творческого мира Емельянова очень многогранна. Многогранен в силу этого и жанр его произведений. Исследованию природы жанров писателя посвящена третья глава монографии. 100 Глава III СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ А.В. ЕМЕЛЬЯНОВА Художественные особенности очеркистики А. Емельянова в контексте развития литературы Проблема жанра в искусстве слова является одной из самых главных, любое произведение пишется в форме или романа, или поэмы, или драмы. Естественно, важно понимать и то, что публицистика, как и любая другая отрасль литературы, имеет свою систему жанров. Собственно, и зарождение чувашской литературы во многом связано с жанрами очерка, публицистических зарисовок, дидактического, нравоучительного рассказа, аллегорических притч и т.д. В чувашской очеркистике заметный след оставили такие мастера слова, как Сп. Михайлов, М. Федоров, Игн. Иванов, И. Тхти, И. Тукташ, С. Эльгер и др. Интенсивно разрабатывались самые различные жанры публицистики и в 20-30-е годы XX века. Опыт разных исследователей показывает, что очерк стал истоком многих жанров: рассказа (М.Я. Сироткин, Е.В. Владимиров, В.П. Никитин), повести (М.Я. Сироткин, В.Я. Канюков, Г.Я. Хлебников), романа (И.А. Зотов, Г.И. Федоров) и т.д. Дальнейшее углубление в поставленную проблему помогает выделить и другие стороны, которые позволила выработать публицистика. Так, повесть И. Тукташа «Бычий Лог» («Вёкёр =ырми») легко можно расценить как повесть-очерк. Повестью-очерком являются такие книги, как «Тимер» («Тим.р») М. Ильбека, Таэр («Тайёр») К. Петрова, «Летчики» («Летчиксем») В. Садая, многие повести В. Алендея, В. Чебоксарова, Л. Маяксема, И. Григорьева. Такие черты легко можно обнаружить при сравнении очерка с рассказом. Это хорошо видно на примере книг В. Алендея «До следующей встречи» («Тепре куриччен»), А. Емельянова «Бабье лето» 101 («Ват ёшши»), Н. Максимова «Подледное течение» («Пёр ай.н те шыв юхать») и т.д. Такой опыт для нас все же важен не только потому, что многие чувашские писатели начинали свое творчество именно с очерков (И. Тукташ, Л. Агаков, К. Петров и др.), а потому, что с них начал свое творчество и А. Емельянов. И. Тукташ и В. Алендей, Л. Маяксем и И. Григорьев в своих поисках в основном так и остались на уровне очерков. Емельянов сумел далеко уйти от голого очеркизма, от производственных проблем, он сделал шаг к показу внутреннего мира публицистического героя. Очерк в творчестве писателя получил новые грани и новое напряжение. Следует отметить, что к концу XX века чувашская литература в своем развитии накопила большой, разнообразный опыт, тогда как в других некоторых регионах, например в Мордовии, именно в 1930-е годы самым распространенным жанром стали в основном очерки [36, с. 9]. Как считает В.П. Никитин, в эти годы жанровые признаки отчетливо приобретают очерк, очерковый рассказ, они начинают преобладать в литературной практике. В них формируется поэтика контраста, которая определяет их жанровое содержание [29, с. 75]. С таким мнением трудно согласиться, очерк был главным жанром в чувашской литературе на век раньше. И все же с тем, что в 1930-е годы главенствовал прием контраста необходимо согласиться. Художники еще ранее обращались к зарисовкам, памфлетам, сатирическим рассказам, циклам очерков, собственно очеркам и т.д. Продолжалось это особенно сильно и в 1930-е годы. Особое развитие эти жанры получили в публицистической прозе 1940-х годов. Если в 1930-е годы чаще печатались очерки путешествий, очерки на производственную тему, то в 1940-е годы стали разрабатываться патриотические очерки, памфлеты и т.д. С изменением жизни, развитием литературы содержание жанра меняется, оно не стоит на месте. Но все же влияние разнообразных форм очерка на формирование жанровой системы чувашской литературы и особенно А. Емельянова трудно не заметить. Определений жанра (лирических, публицистических, психологических) произведений как эстетической категории много, их сотни, но до сих пор не найдено окончательное, верное и полное его понимание. Мы в настоящей работе не зани102 маемся всеобщей теорией словесных жанров, для изложения своего понимания этой категории обратимся к высказываниям Т.А. Касаткиной. «… Писатель, – считает исследовательница, размышляя о природе жанра, – гораздо более склонен прислушиваться к тому, что говорит язык, чем к тому, что говорит ученый-филолог» [19, с. 66]. При этом следует понять и следующую ее мысль: «Язык существует до высказываний о каком-либо предмете, человеке, факте, это как особенность церковного жанра, который существует “не как высказывание о действительности, но как высказывание в действительности”» [19, с. 78]. Такую точку зрения легко можно объяснить, потому что церковному жанру, например, нужно не изобретение каких-то картин, не отображение внутреннего мира героев, нужно обращение к прихожанам с целью воздействия на них. В связи с этим здесь на первое место выходит уместность, аргументированность, убедительность речи-слова. Подобный подход хорошо применим и к разговору о художественной публицистике, ибо она так же имеет своей целью обращение к какой-то определенной аудитории. И тут самым важным признаком публицистики являются острота проблемы, образность речи, актуальность поставленных проблем. Текст в данном случае является дидактическим наставлением, призывом к действию и т.д. В связи с этим в художественной публицистике главное место занимает само высказывание, а образ, изображение картин и даже герой играют в ней второстепенную роль. Следовательно, требовать от публициста раскрытия глубокой психологии героев, показа ярких изобразительных картин будет не совсем оправданно. В зарисовках, памфлетах и других подобных жанрах автор-очеркист не просто открыто выражает свою позицию, он говорит о том, что сам пережил, что сам увидел, то есть на первое место в таких случаях выходят не образы, а сами впечатления автора или рассказчика. В связи с этим жанры публицистики не только близки к жанрам, например, лирики, но и во многом отличны от них. Некоторые стороны художественной публицистики освещены в трудах чувашских ученых: М.Я. Сироткина (1956, 1967), В.Я. Канюкова (1979), В.Г. Родионова (1991), 103 Г.И. Федорова (1996), Ю.М. Артемьева (1996), Г.Я. Хлебникова (2001) и т.д. Опыт, накопленный такими исследователями, исключительно полезен. М. Сироткин, например, обратил внимание на бытописательские традиции Игн. Иванова, В. Родионов обратил внимание на то, что его произведения (особенно его знаменитые 14 очерков) построены по правилам цикла, Г. Федоров выявил, что каждый из рассказов этого цикла построен по трехчастной системе: паспорт, действие, мораль и т.д. Много плодотворных положений найдено и другими исследователями, все они свидетельствуют о том, из каких традиций питается художественная публицистика второй половины XX века. Так, в работах Г.Я. Хлебникова, Ю.М. Артемьева многосторонне выявлена повествовательная сторона новой публицистики, сделан упор на жанровых особенностях в произведениях А. Емельянова и его современников. В публицистических жанрах, если придерживаться мнения Т. Касаткиной, «автор связан со своим высказыванием ожиданием ответа» [19, с. 78-79]. Второстепенную роль здесь играет и герой, очень часто он озвучивает идеи очеркиста прямолинейно и открыто, через четко выраженную авторскую позицию. Безусловно, в художественной литературе нет чистой публицистики, которой занимаются газетчики и журналисты, в которой не было бы образного вымысла. Часто публицистические жанры (очерк, публицистическая повесть, очерк-книга и т.д.) близко стоят и к лирике, иногда публицистика открыто выражает пристрастие повествователя к сатире (очерки-фельетоны, памфлеты, сатирические рассказы и т.д.). В силу этого рассмотрение и анализ жанров публицистической прозы заметно усложняются. Исследователь должен понимать, какие стороны сближают, а какие разъединяют эти области литературы. Высказанная только что мысль дает право согласиться с мнением В.В. Кожинова о том, что жанры «разделяются» по их «тональности» (комический, трагический, элегический, сатирический, идиллический и т.п.). Вместе с тем Кожинов указывает еще и на то, что развитие литературы вносит в жанры много нового [21, с. 914]. Развитие жанра известный ученый прямо связывает с такими его свойствами, как «общий характер 104 тематики (например, роман бытовой, авантюрный, психологический, социально-утопический, исторический, детективный, научно-фантастический и т.д.); свойства образности (сатира гротескная, аллегорическая, бурлескная, фантастическая и т.д.)» [21, с. 915]. Положения ученого можно использовать и при характеристике публицистических произведений. Так, некоторые фельетоны-очерки, памфлеты чувашского сатирика И. Мучи открыто и явно гротескны, в них писатель художественно укрупняет те или иные отрицательные явления, черты характера героев до карикатурных размеров. Именно поэтому его сатира не только юмористична, она и едко обличает, уничтожающе критикует темные стороны жизни. Жанры такой сатиры прямо увязаны с тем, что автор активно не приемлет теневые черты реальной действительности. Для того чтобы показать это, И. Мучи изображает быт и нравы бюрократов, суеверных людей, неудавшихся руководителей, лодырей и т.д. Но быт бывает не только в сатирических произведениях, много бытовых сцен, например, в романах Хв. Уяра «Тенета» и М. Ильбека «Черный хлеб». Оба эти писателя изображают этнографический быт чувашского народа, быт и нравы сатирически изображенных Илли Щеголя (Хв. Уяр) и Кандюка (М. Ильбек). Все это говорит о том, что на становление жанров публицистики оказывают влияние не только прямое отрицательное отношение к теневым сторонам жизни, не только личные впечатления публицистов, но и особое отношение к бытовой стороне действительности. Отображение жизни народа средствами публицистико-этнографического описания обрядов (кражи земли и воды, обычаев жертвоприношений) в прозе двух этих писателей способствует созданию бытописательных сцен. Обличая Кандюка и Щеголя социально-публицистическими поэтизмами, прозаики создают образ, который становится социальным типом кулака, его публицистическим портретом. Вместе с тем велика роль особой иносказательности: сильны, например, аллегорические приемы в прозе А. Емельянова, особенно в его очерках «По дороге из Москвы», «Старше хлеба нет» и т.д. Все это говорит о том, что создание того или иного жанра регулируется такими сторонами поэтики, как стилевая тональность, характер тематики, особая природа образ105 ности. Именно этим можно объяснить появление в прозе А. Емельянова, например, таких жанров, как проблемный очерк («Болезнь» и др.), очерк-фельетон («Наглец»), очерк-портрет («Дочь девяти старух»), лирико-публицистическая повесть («Мои счастливые дни»), повесть-бытописание («Не ради славы»), философско-публицистическая повесть («Черные грузди», «Имя») и т.д. Нужно также отметить, что произведения А. Емельянова носят синкретическую окраску, то есть их трудно отнести только к одному жанру. Например, «Свирель» одни литераторы рассматривают как рассказ, а другие это произведение относят к жанру новеллы. Точку зрения, сформулированную В. Кожиновым и Г. Гачевым, полно и отчетливо выражает Ю. Борев: «Жанр – это тип художественного произведения, объединяющий большую группу литературных текстов и определяемых четырьмя жанрополагающими факторами: темой; углом зрения и отношением автора; эстетическими свойствами жизненного материала, лежащего в основе темы произведения; требованием устойчивой традиции и следованием ей» [Цит. по: 39, с. 101]. Все это дает ключ к анализу проблемы жанров в творчестве А. Емельянова и во всей чувашской публицистической прозе. Действительно, в произведениях, например, Игн. Иванова, И. Юркина на первое место выходят вопрос нравственности, тема, эстетические свойства материала. Эти писатели хотели сохранить старинные народные традиции чувашского народа (отношение, угол зрения). Для них важно было сохранить такие обычаи и нравы чувашей, как уважение к старшим, бережливость, нравственная и моральная чистота. Такие очерки-рассказы построены на приемах публицистической аллегории. Аллегория, которая встречается в баснях, оживляет неживые предметы, придает привычки людей животным и зверям. Игн. Иванов же пользуется приемом аллегорического отображения людей, поэтому исследователь называет главный поэтический прием писателя притчей [40, с. 151]. Такие же черты наличествуют и в прозе И. Юркина, И. Тхти. Есть и другие области публицистики, на которых стоит остановиться. Такие публицисты, как И. Тхти, поэты, как М. Федоров, например, приложили много усилий к философскому пони106 манию образа дороги в представлении чувашей, отмечали, что чуваши глубоко понимают значение их общения с другими народами и культурами. По мнению названных авторов (особенно И. Тхти), путь необходим как средство не только сохранения старинных традиций, но и как возможность дальнейшего роста национальной культуры, философии народа. Вот почему в своем очерке «Погода», в рассказе «Помидор» И. Тхти настойчиво говорит о том, что нужно выходить в мир, путешествовать, знакомиться с другими народами. В связи с этим эти очерки-рассказы можно расценивать и как философские произведения. Другой характер носит публицистика С. Эльгера. Он увлекался идеями гражданского переустройства жизни общества, вникал в суть того, как постепенно меняется психология крестьянина. Близко к нему в этом отношении стоит художественно-публицистическая проза А. Талвира (романы и повести о рабочих и о производственных проблемах на заводах и фабриках), В. Алендея (о заботах земледельцев и тружеников животноводческих ферм), которые тоже много взяли из очерка (общий характер тематики) и т.д. А. Емельянов объединяет все эти три подхода – и проблемы нравственности, и философское понимание жизни общества, и решение производственных проблем. Однако он, в отличие от других, много и внимательно изучает внутренний мир руководителей (колхозов, районов и т.д.) [40, с. 218]. Таким образом, общность темы у этих писателей хорошо улавливается – для чувашских публицистов это нравы и обычаи сородичей, вопросы гражданского обустройства мира, производственная сфера и т.д. Публицистический жанр концентрирует в себе такие черты, как общий характер тематики (публицистико-бытописательные сцены в прозе Хв. Уяра, М. Ильбека, А. Емельянова и др.; социально-авантюрные сцены в произведениях А. Емельянова, Хв. Уяра и др.), стилевая тональность (ирония в очерках И. Тхти, сатира в очерковых рассказах и фельетонах Л. Агакова, И. Мучи), угол зрения автора (нравоучительность притч Игн. Иванова, социально-аналитический подход к материалу у А. Емелянова), эстетические свойства жизненного материала (философско-публицистическая действительность в повестях 107 А. Емельянова) и т.д. Комплекс таких черт дает возможность охарактеризовать жанровое своеобразие прозы А. Емельянова с разных сторон. Игн. Иванов и И. Юркин для оценки изображенной жизни обращаются к народным притчам, присказкам, пословицам и поговоркам (повесть И. Юркина «Сыт человек, да глаза голодные»; рассказ Игн. Иванова «Как себя поведешь с людьми…»). Произведения эти, как замечает Е.В. Владимиров, ставят на главное место определенную заданность автора, «конкретные дидактические цели» [11, с. 21]. Стремление обращаться для выражения авторской позиции к анекдотам, шуткам, байкам и присказкам отчетливо проявляется в текстах букварей И.Я. Яковлева. Еще сильнее авторская позиция выражается в прозе И. Тхти, который о событиях своих рассказов, очерков повествует иронически (тональность, свойства образности). В прозе Д. Исаева авторская позиция предзадана социальнореволюционными и утопическими целями изображения жизни, поэтому писатель явно разделяет героев на положительных и отрицательных. Такая традиция хорошо видна в повестях и рассказах А. Талвира, В. Алендея, И. Григорьева и т.д. А. Емельянов в этом отношении сделал заметный шаг вперед, он, например, использует традиции М. Федорова, И. Яковлева, И. Юркина и прибегает для выражения своего отношения к героям к аллегориям, пословицам, объемным метафорам. Герой его напряженно мыслит, его трудно оценивать только как положительного или отрицательного человека. Очерковая природа жанров Емельянова зависит от того, с какой степенью аналитизма он разбирает жизненный материал, почему и как он начинает пользоваться приемами аллегории, притчи, развернутой метафоры, откуда у него появляется интерес к решению производственных проблем, показу образа руководителя и т.д. Используя такие стилевые средства, писатель со временем начинает создавать повести, в которых и притча начинает тянуться к символам. Таким образом, жанровая система произведений А. Емельянова во многом вырастает из того, что он хорошо и разносторонне начинает осваивать традиции ранних чувашских писателей, поэтику их очерков. 108 Образность, которая возникает во время обрисовки тех или иных картин, конечно, не является случайной. Рассмотренные выше традиции И. Юркина, Игн. Иванова, И. Яковлева побуждают писателей изучать народные тексты пословиц, поговорок, анекдотов, дидактических и нравоучительных притч и т.д. Это хорошо видно и в повестях А. Емельянова «Имя», «Засушливый год», «Черные грузди», в сборнике рассказов и очерков «Бабье лето». Очерки, например «Очаг», «Дубинка Химии», склоняют А. Емельянова применять приемы рассуждения, публицистического, прямого анализа изучаемых вопросов. Все сказанное, естественно, требует учета традиций различных писателей. Как отмечают различные исследователи (М.Я. Сироткин, Е.В. Владимиров, Ю.М. Артемьев, В.Г. Родионов), в основе развития публицистической прозы в чувашской литературе лежат традиции Игн. Иванова, И. Юркина, И. Тхти, С. Эльгера, А. Талвира и т.д. Эти традиции продуктивно развиваются такими писателями, как В. Алендей, А. Емельянов, Л. Таллеров, В. Петров, Н. Максимов и т.д. Все названные писатели произвольно или непроизвольно учитывают те моменты, о которых было сказано выше. Конечно, В. Кожинов и Ю. Борев в приведенной выше цитате не останавливаются специально на публицистике, здесь речь идет вообще о жанрах. Но дело в том, что художественная позиция в публицистике, к примеру, выражается более открыто, способы ее выражения иногда сразу заметны, особенно, если речь идет о какой-либо производственной проблеме, если в произведениях ставятся какие-нибудь социальные вопросы. Материал этот не всегда получает образное выражение, не всегда здесь используется и вымысел; писатели больше обращаются к документальному показу жизни. Речь в данной монографии идет не об особенностях жанра вообще. Речь идет о том, как публицистические жанры постепенно накапливают образную и художественную силу, как они создают образное содержание жанра. Проза И. Юркина, например, обращалась, как уже отмечалось, к аллегорическим образам и притчам. В повести «Богатство» особым образом выделен образ двурогих вил, которые означают древо жизни [42, с. 53]. Однако повести И. Юркина, по мнению Е.В. Владимирова, «являются сильно растянутыми рассказами» [11, с. 22]. 109 Данное высказывание позволяет предположить, что И. Юркин еще не совсем освоил жанр повести. Следовательно, то, о чем говорит Ю. Борев, имеет большое значение для понимания жанра. Но в прозе И. Юркина сильно чувствуется стремление к поиску подлинно образных средств народной речи. Такое же стремление видим и в цикле рассказов Игн. Иванова, зарисовках яковлевских букварей. Новая действительность 1920-1930-х годов увела писателей-публицистов от вышеназванных традиций, прозаики обратились к социальным столкновениям классов и различных групп людей. Отход от нравственных вопросов, образности народной речи обеднил литературу; авторская позиция стала выражаться слишком прямолинейно, материал был явно документальным (строительство заводов, создание колхозов), художественный вымысел постепенно стал вытесняться. И тем не менее 1930-е годы вызвали оживленный интерес писателей к жанру очерка, документам, фактам, переменам в обществе и истории. Так, возник и стал шириться интерес к социальному анализу жизни, который побудил писателей обратиться к народным обрядам, верованиям, быту (Хв. Уяр и М. Ильбек), этнографизм прозы приобретал художественно-публицистические черты. И это также имело большое значение. Татарский ученый Ф.М. Мусин, анализируя схожие явления, останавливается на особой роли обрядоверия в становлении повествовательной природы татарской прозы, отмечает большую заслугу в этом отношении писателей Н. Фатаха, М. Гафури, М. Галяу, Г. Ибрагимова [26]. Это другая жанрообразующая составляющая, которая, конечно, мало интересует А. Емельянова. Традиции 1930-1940-х годов в его прозе проявили себя приемами контрастного противопоставления героев, интересом к «социально-производственному» человеку, лиризмом мировидения и т.д. В этом проявляется особый дух его самобытности, в отличие, например, от Хв. Уяра и М. Ильбека. Согласившись с утверждением Ю.М. Артемьева о нравственной проблематике в прозе Емельянова, можно сказать, что корни этой нравственности – в традициях И.Я. Яковлева, М. Федорова, И.Н. Юркина, Игн. Иванова, И. Тхти и т.д. При этом жанровая природа прозы Емельянова (особенно очерков) 110 выросла и из тенденций социального анализа жизни, которые заметно углубились в 1930-е годы. Именно в это время стали появляться повести очеркового характера – «Бычий Лог» И. Тукташа, «Почему же, почему же?» («М.нш.н: м.нш.н?») Н. Патмана, «Крепит» П. Митты, «Мучар» М. Трубиной и т.д. В основном очерковым подходом к жизни отличаются творческие поиски К. Турхана, С. Фомина, Е. Еллиева и т.д. По мнению А.Ф. Мышкиной, «очерковый рассказ и становится одним из первых жанров чувашской художественной публицистики», «таким образом, происходит процесс постепенного накопления традиций и приемов, которые во многом способствовали становлению и развитию стиля в среднем жанре» [27, с. 40]. Интересно также мнение Р.М. Нуруллиной, пишущей об особенностях развития публицистической прозы в татарской литературе: «С одной стороны, создаются произведения, близкие по форме к рассказу. В них имеются элементы сюжета, в центре произведения – какое-то событие; аналитические рассуждения повествователя сведены до минимума. В такой манере пишет Г. Тулумбайский. С другой стороны, появляются очерки, в которых названное лицо сам как бы присутствует со своими рассуждениями и наблюдениями, свободно переходит от одной картины к другой. Так пишет Г. Ибрагимов» [32, с. 25]. Таким образом, литература не сразу нашла пути к обретению того или иного публицистического жанра. При всех своих теневых сторонах очерк стал для писателей школой мастерства. В послевоенное время эти явления также продолжали развиваться (проза А. Талвира, В. Алендея, И. Григорьева, В. Чебоксарова и др.). А. Талвир и И. Григорьев увлеченно работали в области рабочей темы, В. Алендей отображал будни сельчан, колхозную явь. Однако с началом войны обстановка коренным образом изменилась. Писатели стали создавать очерки-репортажи, говорить о своих личных впечатлениях от боев, очерк стал приобретать черты лиризма, романтики, он стал обращаться к фольклорной практике и поэтике. «Война, – говорится об этом феномене в «Истории марийской литературы», – обострила у советских людей чувство связи времен» [17, с. 264]. «Изменчивая, суровая обстановка грозного времени предопределила своеобразие, неповторимость твор111 чества прозаиков, которые, желая как можно быстрее откликнуться на текущие события, <…> обратились к таким мобильным, действенным жанрам, как публицистическая статья, очерк, очерковый рассказ, путевой дневник» [17, с. 259]. Короткие очерки-рассказы стали писать Л. Агаков, М. Ильбек, Хв. Уяр, К. Турхан и др. Вот почему А. Емельянов вместе со своими соратниками в послевоенной прозе, в своих романах, повестях и рассказах стал возвращаться к истинно народным средствам и поэтике: писатель часто использует такие приемы, как развернутые аллегории и метафоры, лирические интонации песен и стихов, психологические рисунки и т.д. Возвращение к национально-художественным традициям помогло А. Емельянову хорошо освоить приемы лирических жанров повести («Мои счастливые дни») и новеллы («Свирель», «Узоры на листьях», «По ту сторону метели»). Это вызвало две стороны творчества писателя: 1) социологизм и документальность очерков и ряда повестей; 2) большую иносказательность, лиризм и психологизм некоторых произведений. Таким образом, был сделан большой шаг вперед, в сравнении, например, с произведениями В. Алендея о сельском хозяйстве (они ему все меньше и меньше удавались) и А. Талвира о промышленном производстве и т.д. Итак, публицистический жанр в чувашской литературе поднимается на новый уровень, он движется в сторону публицистики, вобравшей в себя черты подлинной художественности. В связи с этим примечательно высказывание Е.В. Владимирова о том, что в основе произведений И. Юркина всегда «лежит одно событие, которое развертывается медленно, благодаря большой предыстории, многочисленным отступлениям и длинным диалогам. Сюжеты для своих произведений он, как и Игн. Иванов, брал из жизни» [11, с. 22]. Необходимо также отметить, что сюжеты непосредственно из жизни брали не только Игн. Иванов и И. Юркин, но и А. Талвир, И. Тукташ, В. Алендей, И. Григорьев и т.д. Действительно, строительство Вурнарского химкомбината (А. Талвир) – это не вымышленный сюжет. Не является вымыслом и создание колхозов (повести И. Тукташа «Бычий Лог» и М. Трубиной «Мучар»), нет фабульного вымысла в ряде очерков А. Емельянова, в романе Н. Максимо112 ва «Напряжение» («Тапё»). В их основе лежит часто одно событие, один главный факт. Одно событие лежит и в основе романа Ч. Айтматова «Буранный полустанок» (похороны достаточно старого человека). Постоянно возвращаются к пережитому герои многих произведений А. Емельянова. Следовательно, недостаток И. Юркина в том, что материал его повестей еще не приобрел подлинно эстетические черты. Он копировал сюжеты с действительности, был одержим стремлением прокомментировать жизненные случаи, а не факт своего изображения. К тому же, произведения его отмечены пристрастным отношением рассказчика к предмету публицистического анализа. То есть жизнь произведений И. Юркина присутствовала в действительности еще задолго до его комментариев; отношение автора здесь выражается не к отображенному, а к тому, что уже давно состоялось. В повести «Сыт человек, а глаза голодные» главный герой – Петр Петрович. Он жаден и корыстолюбив. Герой не может согласиться на брак дочери с бедняком Кузьмой. Е.В. Владимиров пишет: «Морально осуждая деспотизм, произвол и ослепляющую человека страсть к наживе, писатель исходит из народного понимания, что зло не может быть ненаказуемо. Писатель зовет читателя “к исправлению нравов”» [11, с. 23]. Таким образом, замечание Ю. Борева весьма принципиально, особенно при оценке публицистических жанров. Оно помогает внимательно присмотреться к тому, какие жанры и как формируются в чувашской публицистике, что собой представляет система малых, средних жанров А. Емельянова в контексте развития чувашской литературы и литератур народов Урала и Поволжья. Это побуждает исследователя разобраться в том, какие стороны малых, средних и крупных произведений показательны для исследуемого писателя, каковы и где их источники. Наряду с этим следует разобраться и в том, в русле каких традиций российских литераторов находятся творческие поиски Емельянова. В упомянутых выше произведениях чувашские писатели не всегда и не во всем обращались к героическим жанрам, как, например, Л. Агаков во фронтовых очерках. Ранняя чувашская проза больше интересовалась бытом народа и 113 создавала жанровые основы бытописи, бытописательных рассказов и повестей, очерка нравов. В свое время бытовые повести и рассказы, очерки нравов считались плохой литературой, второсортной продукцией. Изучая возможности бытописи, Д. Тевекелян напоминает об Э. Золя, представившем «“безжалостно” натуралистичное описание быта шахтеров», о Горьком, показавшем «бессмысленное однообразие окуровского ежедневья», о Стендале, рассказывавшем об откровенной аморальности Жюльена Сореля в «достижении цели» и т.д. [38, с. 195]. Примеры эти весьма показательны, они говорят о том, что художественно апробированная бытопись вполне имеет право на существование. Действительно, великая шумиха вокруг Чешковых, делового человека читателю быстро надоела, расчетливость и сухая деловитость такого человека скоро оказались пустым увлечением, ложным идеалом, далеким и от художественной литературы. Стало ясно, что показ жизни «изнутри, с подробнейшими описаниями уклада, нравственных принципов» более необходим, чем сухие герои, совершенно оторванные от быта люди [38, с. 197]. Так, герои В. Алендея спят и видят, как увеличить надои молока, производительность труда, поэтому некоторые любовные сцены, которые автор хочет нарисовать, или же дружеские отношения между работниками животноводческих комплексов и ферм получаются слабыми и неубедительными. В связи с этим большое значение стала приобретать бытопись, писатели через «ежедневье» понимали законы вечности, отходили от ложно понятых целей искусства. Разумеется, 1960-1970-е годы были особым временем. Исследователь башкирского романа А.Х. Вахитов отмечает: «В 1960-1970-е годы “был накоплен опыт в развитии историкореволюционного романа, жанров очерка, рассказа, повести”, “расширяются возможности жанра глубже проникать в жизнь”, а это воздействует и на жанровую суть романа, в котором “очень сильна публицистическая струя”. Однако порой все это приводит авторов к прямолинейному построению сюжета на манер очерка» [10, с. 157]. Недостатки книг В. Чебоксарова, И. Григорьева, В. Алендея, как видно из цитаты, встречаются и в других литературах. В этом есть все же и положительные моменты. 114 А. Вахитов пишет, например, о том, что очерк и очерковость очень активно помогали становлению и развитию башкирского романа. Такие черты находим и в удмуртской, и в марийской литературе. На ранних этапах в этих литературах сначала появлялись очерки, но они постепенно стали превращаться в рассказы и повести. Так происходило, например, с повестью-очерком И. Тукташа «Бычий Лог». На такие процессы указывает в своем труде «Чувашская литература (1945-1985-е годы)» Г.И. Федоров, делающий акцент на очерках военной поры в творчестве Л. Агакова и М. Ильбека [43, с. 163-206; 229-267]. Это показывает, что очерк имел огромное значение в создании системы жанров чувашской прозы, и особенно очерк бытовой, который показывал повседневные будни людей труда. Анализ истории чувашской художественной публицистики позволяет выделить и такие жанры, как биографический повесть-очерк («Тимер» М. Ильбека о жизни чувашского поэта Бараева), повесть-очерк («Бычий Лог» И. Тукташа), книгаочерк («Очаг», «По дороге из Москвы», «Старше хлеба нет» А. Емельянова) и т.д. Особым своеобразием отличается цикл рассказов Игн. Иванова, состоящий из 14 очерков, многословно-плеонастические повести И.Н. Юркина, открыто профанированные (это, естественно, глубоко оправданный художественный прием), монтажно построенные рассказы и очерки И. Тхти и т.д. Все это накладывает отпечаток на развитие прозы дальнейших десятилетий. Действительно, произведения Игн. Иванова относятся к началу XX века, И. Тукташа – к 1930-м годам прошлого столетия, М. Ильбек создал свое произведение после Великой Отечественной войны, А. Емельянов – в 1970-1980-е годы. Циклом рассказов можно назвать «Книгу дорог» («+ул к.неки») Хв. Уяра, в ней собраны различные впечатления и зарисовки, сформировавшиеся во время путешествий писателя по странам Западной Европы. Близкой по общности тематики являются записки М. Шумилова-Уйпа «На Западе» («Кай енче»). По жанровому своеобразию они весьма близки к циклу рассказов Игн. Иванова. Повесть «Тимер» в чем-то схожа с повестью-очерком К. Петрова «Таэр», книги эти по жанру являются биографическими очерками. Можно найти черты, сближающие его очерки с циклом произведений в названных 115 ранее очерках А. Емельянова (сборник «Бабье лето») – они близки по тематике, поэтическим средствам и т.д. Все они описывают нравы чувашских деревень, освещают социальнополитическую обстановку в республике, поднимают вопросы падения уровня культуры и нравственности, проблемы производственной сферы. Во всех этих произведениях много комментирующих рассуждений, портретных характеристик, данных неосновным героям, публицистических или лирических отступлений, критических оценок тех или других сторон жизни общества. Названные черты нельзя расценивать как явления, относящиеся только к чувашской литературе или же только к началу XX века. Критик Н. Иванова, например, анализируя рассказ В. Астафьева «Медвежья кровь», находит в нем черты рассказа-эссе, рассказа-раздумья: «Фабульные связи в таком рассказе резко ослаблены» и прежде всего эмоционально-логическими причинами [15, с. 110]. «“Жанровая форма” такого рассказа не закреплена и подвижна, в любом месте к ней могут “прилепиться” “и коротенькая притча”, и вставная эпиграмма» [15, с. 11]. Это нравоучительное произведение, которое не столько изображает, сколько размышляет, оно близко к очерку. В нем «повествователь интересен своей ”личной жизнью в истории”» [15, с. 115], своим пребыванием в мире. Таким образом, природа публицистического жанра весьма своеобразна, она включает в себя, как это часто бывает у А. Емельянова, и элементы эссе, и лирические откровения, и публицистические отступления, и следы очеркового изображения мира, и художественный вымысел, и притчи, и документальные эпизоды, и многие другие стороны. Порой повествование уходит в сторону комментирования вымышленных событий, тех или иных поворотов сюжета, то есть очень часто это жанр свободный и подвижный. Нередко сюжетным центром оказывается повествователь, говорящий от своего «Я». В связи с этим проблема жанра здесь очень сложна и своеобразна. Но так или иначе, А. Емельянов мало привязан к традиционным жанровым трафаретам (такова, к слову сказать, поэзия Я. Ухсая, который сочетает в одном феномене явления прозаической и стихотворной речи, элементы сказок, стихотворных рассказов и повестей. Его жанр так же текуч, как и жанр А. Емельянова). 116 В художественных и нехудожественных очерках не случайно и обращение к сатире и другим комическим проявлениям жизни. Сатирико-публицистический анализ реальной действительности показателен не только для И. Мучи, одного из крупных представителей чувашской юмористики. Прослеживание комического в современной жизни можно наблюдать и в прозе А. Емельянова (сатирические очерки «Наглец», «Дорогие гости»). В них писатель специально укрупняет отрицательные черты некоторых героев. Вот, например, произведение «Дорогие гости». …Степан Алексеевич Купташкин просыпается раньше жены. Жена его – ленива, всю работу по дому выполняет муж, жена же в это время часами говорит по телефону. Супруги обсуждают список гостей, которых надо пригласить на день рождения «хозяина дома». Первым упоминается Яхтанов, режиссер театра. Жена (артистка) думает, что он поручает ей ведущие роли, благодаря ее таланту, муж полагает, что она бесталанна, но вслух этого не произносит; неспроста жена супруга называет «кошечкой», он же ее – «ласточкой». Идет, таким образом, двойная игра. Муж совсем не любит и не ценит жену, но внешне «показывает» насколько ему она дорога, внутри его – другая жизнь. Есть и другая сторона: супруга Купташкина принимает жену Яхтанова совсем неблагожелательно. Она якобы набралась былиц-небылиц, поэтому ее надо расценивать как «чучело огородное». Сам же Яхтанов (несмотря на то, что он режиссер) – бездарный лапоть. Такое преувеличение черт характеров героев следует одно за другим: актер Ястребов – алкаш – в честь Купташкина опрокинул стопку (гротеск), вторая его половина – не выше обыкновенного пастуха; критик Задиркин – бездарный перестраховщик и т.д. С каждым предполагаемым гостем гротеск нарастает, происходит усиление сатиричности произведения по жанровым законам фельетонов. Самая высокая точка фельетона – это мнение супругов о том, что в театре кроме них нет ни одного стоящего артиста. Конечно, так же они жеманничают и играют, когда к ним приходят гости [48, с. 342-349]. Рассказ-очерк этот близок фельетону Л. Агакова «Дорогой зять» («Хаклё к.р\»). Здесь действия отображаются и расцениваются через то, как воспринимает свою беду Конон 117 Иванович Петрушкин. Встретив одного из своих знакомых, он решается излить ему свою душу. Жена его (и здесь рассказано о взаимоотношениях супругов) из Дарьи превратилась в Дору; желая сохранить статную фигуру, она ограничилась рождением одного ребенка. Конон Иванович жалуется знакомому о том, что с женой он весь уже извелся: в ее устах он всего лишь мужик и поэтому свою дочку ничему научить не способен, тем более что от него всегда пахнет или керосином, или рыбой. Муж такие издевательства жены спокойно выдерживает. Со временем «хозяин дома» продает свой дом в деревне, но все деньги забирает Дора – «глава семьи», муж примирился и с этим. Вот его дочь Элла (превратившаяся в нее из Елены) принесла домой аттестат с круглыми тройками. Когда же отец попытался ее устыдить, на него набросилась ее мать: «Дам вот по губам» («парап ак п.рре тута урлё»). И я, говорит рассказчик, «побыстрее улизнул» («хёвёртрах тухса шёвёнтём»). Вся цепочка эпизодов сопровождается следующими комментариями: «Не стал возражать» («шарламарём»); «я стал отступать» («эп. каялла чакма тытёнтём»); «видимо готовят приданое» («приданёй хат.рле==. пулмалла») и т.д. [46, с. 5-22]. Рассмотренные фельетоны показывают, что они очень близки и по тематике, и по поэтике. В произведении Л. Агакова, как и у Емельянова, события, которые нарастают по градации, показывают, как герои их саморазоблачаются. Интересно в этом смысле обратиться к размышлениям А.Ф. Мышкиной, которая, разбирая жанровые изменения в послевоенной прозе, пишет, что они происходят «по линии постепенной ресемантизации самых различных социальных понятий, общественных явлений, исторических событий, культурных процессов и т.д. Создается, таким образом, особая логика жанра, сформулированного в чувашской прозе на вскрытии эстетической перспективы обличительной, смеховой, добродушно-подтрунивающей поэтики. В ее основу, как правило, кладется художественная действительность рассказчика, повествователя» [27, с. 51]. Именно такие моменты становятся структурообразующими в произведениях А. Емельянова: в «Колокольчиках» показан Казанков, вылепленный обличительными средствами; добродушие повествователя встречаем по 118 отношению к генералу в «Серебряном ветре»; смеховая пластика является основой образа Куб-Степана в «Черных груздях» и т.д. В Генке-Графе порицается книжность его знаний, в Казанкове – якобы имеющиеся заслуги и т.д. Схожие черты находим и в прозе Л. Таллерова, для которой характерны большая ироничность (ранние годы) и открытый полемизм («Шеремет», «Внук Архипа – Архип», «Лошадиный хребет»). Вышесказанное позволяет утверждать, что публицистические жанры бывают очень разнообразны и по тематике, и по поэтике. В них тесно увязываются различные черты как художественных, так и нехудожественных очерков, повестей, романов. Главной чертой такой литературы являются стремление публицистов (имеется в виду прежде всего художественная публицистика) к поиску социальных и нравственных идеалов, высокая степень эмоционального отношения к изображенным картинам, потому что с творчеством публициста «несовместимы робость и трафаретность мысли, иллюстративность и несамостоятельность взгляда» [12, с. 73]. Рассмотренные выше произведения показывают, что «жанры публицистики включают самые различные стороны литературного творчества, они проникают ”и в высокое искусство”, врываясь в художественную ткань прямыми лирическими и философскими размышлениями о мире и человеке» [12, с. 74]. Вместе с тем на первое место здесь выходят и острота высказанного слова, интонация ораторской, аргументированной речи, открытое выражение авторской позиции, органическая связь картин вымышленной и невымышленной жизни. Особенно хорошо это можно наблюдать на примере многих произведений А. Емельянова, в частности его очерков-повестей, очерков-фельетонов, очерков-рассказов, очерков-зарисовок и т.д. Жанровое многообразие художественной публицистики А. Емельянова Проблема типологии жанров в процессе изучения творчества А. Емельянова занимает одно из ведущих мест. Ее решение дает четкое представление о поэтико-стилевой природе поисков писателя, помогает разобраться в особенностях твор119 ческого мира художника. А. Емельянов является автором очерков, повестей, новелл и рассказов. В лирических новеллах прозаик прибегает к приему развернутых метафор и цепочки развертываемых метонимий (новелла «Свирель»). Такова и его повесть «Колокольчики», построенная на разветвляющейся поэтике образа колокольчиков. Очерки его нередко социологичны и открыто публицистичны. Повести в основном написаны на взаимодействии лирико-психологической выразительности и публицистико-социологического аналитизма. Таким образом, вырисовывается несколько главных сторон, организующих внутреннее художественное пространство жанров прозы писателя: жанры лирические, публицистические, смешанные. Кладя в основу своего анализа жанровой специфики емельяновской прозы такую классификацию, мы ставим цель рассмотреть эти разновидности и выявить их образное своеобразие. Сказанное выше помогает конкретизировать развертываемую концепцию: у Емельянова имеются и сатирические жанры, и жанр книги-очерка, повести-очерка, зарисовок и т.п. По нашему мнению, у писателя преобладает поэтика рассуждения. Исследование показывает, что писатель не боится и приема описаний (портретов героев, интерьера помещений, пейзажных зарисовок). Все это по-своему влияет и на своеобразие жанров прозы известного чувашского прозаика. Возвращаясь к тому, что было сказано о первоначале слова и речи в религиозных текстах, снова остановившись на том, что это свойственно и публицистике, можно прийти к выводу о том, что такое слово не может быть чисто публицистическим; здесь, вероятно, учитываются близость жанра к “изначальной словесности”, “степень его близости к лирике, эпосу”. Действительно, прозаик свои произведения в разные годы оценивал по-разному. «Черные грузди» и «Засушливый год», например, он издавал как повести, но при их переиздании пришел к убеждению, что это романы. С подобным фактом встречаемся и в переизданном варианте очерка «Старше хлеба нет». Писатель признается в том, что у него было намерение переделать очерк (поскольку он очень объемный) в документальную повесть [48, с. 122]. При чтении этого произведения читателя и в самом деле охватывает желание назвать данное повествование 120 повестью. Видимо, его можно назвать и очерком-книгой. Жанр этот проявил свои качества в книгах, например, Ю. Смуула «Ледовая книга», А. Битова «Уроки Армении»и т.д. Такими же смешанными чертами обладают и очерки Емельянова «Очаг», «Болезнь» и некоторые другие. Причины этого можно объяснить тем, что писатель в своих текстах часто обращается к самым различным стилевым проявлениям. Так, лирическую повесть «Мои счастливые дни» профессор Е.В. Владимиров, указывая на стилевую ее полноту, оценивает как большую удачу писателя и относит ее к лучшим произведениям всей советской литературы. Ведущее место здесь занимает исповедальная поэтика, герой говорит о времени, о себе; много места занимает нравственная проблематика. «Повесть, – размышляет Е.В. Владимиров, – не имеет сюжета в обычном понимании» [11, с. 197]. Это исповедь, похожая на дневник; герой полемичен сам с собой, с окружающими его людьми. Это и Генка-Граф, человек нетерпеливый, начитанный, но размышляющий слишком эмоционально, имеющий привычку давать оценку жизни скоропалительно. О женщинах он говорит с недоверием и цинично, рассуждает книжно, хотя и аналитически. Лирическая миссия главного героя Александра Васильевича сталкивается в споре с позицией Генки. Полемичны и столкновения героя с резонером Казанковым. Последний показан гротескно, сатирически: это кляузник, жалобщик, вечный ворчун, который напридумал себе заслуги, которых у него никогда не было. Это председатель колхоза Бардасов – человек порядочный, хозяйственный и нравственно чистый. Средства, которыми он показан, носят публицистический характер. Таким образом, в произведении есть следы лирического, авантюрного, публицистического освещения жизни, однако, поскольку все события и сцены связаны с главным героем, основное место занимает лиризм стиля. Немалую роль играет и публицистическое изображение, произведения Емельянова говорят о смелом вторжении «писателя в жизнь, особое внимание в них уделено социально-этическим проблемам» [11, с. 199]. Особый дух смешанного жанра присутствует и в рассказах А. Емельянова. Иногда они включают в себя черты новеллы и очерка, зарисовки и фельетона и т.д. Ю.М. Артемьев от121 мечает: «Рассказы «Дочь девяти старух», «Бабье лето» говорят о том, что писатель хорошо знает жизненный материал, в них хорошо видна публицистическая острота поставленных вопросов, как бы срисованность фотографически точных сцен с натуры» [2, с. 67]. Рассказ-очерк «Дочь девяти старух» написан через видение писателя, едущего на встречу с читателями. В книгу «Бабье лето» (1990) он включен как очерк. Причин для этого, действительно, достаточно. По дороге в Базарное село путники заезжают в одну деревню и у фельдшерского пункта встречаются с Петром Капустиным – заядлым алкоголиком и пьяницей. Это становится началом разговора о пьянстве на селе и вообще в стране. Проблема эта захватывает и «Дочь девяти старух» Галю, которая рьяно борется с проявлениями пьянства, выступает перед деревенскими жителями речью о вреде алкоголизма. События захватывают и рыжеволосого водителя Валентина, который со временем становится возлюбленным и мужем Галины. Водитель бросил пить лишь четыре года назад, до этого он сильно увлекался этим порочным делом. Особая роль отведена и товарищу повествователя, который учился вместе с ним на высших литературных курсах и который умер от нескончаемых попоек. Очерковость разбираемого текста видится и в том, что писатель постоянно обращается к документальным реалиям, событиям, людям, имеющим эмпирическое содержание. Малый жанр художника отмечен вниманием к тем или иным определенным фактам, событиям, включающим в себя какие-либо интриги, дающие возможность острых сюжетных поворотов. Порой он строится на какой-нибудь частной детали. Рассказ «Наглец» в стилевом отношении многопланов. Начало произведения дает документальные описания окрестностей Вурнар и Калинина, районных центров Чувашии. Это – документированно очерковое повествование, не допускающее вымысла. Вслед за этим вступает в права гротескное укрупнение поступков наглеца-пенсионера, которое приближает очерк к фельетону. Усевшись на двух местах, толстый пенсионер всех отсылает на задние места, покрикивает на входящих в салон, ругает и поучает пассажиров, оскорбляет милиционера, обзывает молодого мужчину и т.д. Вся эта вереница градаци122 онного гротеска создает образ неуклюжего, нахального человека: щеки его, как щеки бобра, набравшего зерна, выглядит же он как хомяк. Произведение, по сути, является фельетоном (жанром публицистическим), несмотря на то, что писатель и называет его очерком. И на это есть основание, неспроста в него включены описания реальных населенных пунктов. Таким же образом построен рассказ-фельетон «Дорогие гости». Супруги Купташкины затевают вечер-именины главы семьи. Просыпаясь раньше своей супруги, мужчина внешне не хочет мешать ее сну, но вспоминает о ней с неблагодарностью: жена его не убирается в доме, не варит, не стирает, все это делает муж. Причем при каждом обращении друг к другу у них внутри накапливается недоверие. Такая же игра выходит на первый план при обсуждении списка гостей. Многоплановость рассказа заключается в том, что каждый из героев ведет свою линию в двойном измерении – в себе (внутри) и внешне. Получается, что рассказ-очерк (или очеркфельетон) вбирает в себя четыре линии. И далее, не сознавая свою ограниченность, герои навешивают порочные ярлыки и на своих знакомых, а это – уже другая, пятая, линия. Вместе с тем есть и шестая линия – «супруги», играя как бы в обратный, теневой театр, разоблачают самих себя. В рассказе-очерке «Бабье лето» писатель рисует образ Степана Петровича Кугарова, старого, одинокого человека, живущего заботами брошенного матерью внука, непослушного, но мягкого, сердечного Меркурия. Примечательно, что фамилия старика-пенсионера Кугаров соответствует, на первый взгляд, внутреннему духу пенсионера. Она напоминает чувашское выражение «хыт кукар» (скупец, старый скряга). Основания для этого, казалось, есть: дед не дает внуку денег. И всетаки, скрепя сердцем, он решается купить внуку телевизор, взяв деньги из своих сбережений, а деньги старик копил на обучение мальчика. Таким образом, Кугаров приобретает и обратный смысл: пенсионер оказывается человеком мягким и сердечным. По этой причине присутствие очерковых черт (в начале) со временем сходит на нет, рассказ пронзительно психологичен. 123 Ситуация чем-то напоминает роман башкирского прозаика А. Хакимова «Млечный путь». Старый егерь Мансур живет в «доме в горах» почти один, лишь изредка его навещает жена Нурания. Одиночество его скрашивается маленькой девочкой, внучкой Наилей. Родители ее не нашли между собой общего языка и совершенно забросили свою девочку, которая живет теперь в лесу вместе с дедом [61]. То же самое происходит и в рассказе (произведение больше относится к рассказу, чем к очерку) А. Емельянова «Бабье лето». Дочь старика, Марье, коекак окончив восемь классов, уехала в город, а там от кого-то родила мальчика. Мальчик живет с дедом, а мать его вышла замуж и стала жить в городе. Все это передано через воспоминание деда, как бы скряги, но больше бережливого. Степан Петрович, как и Мансур, вспоминает о прошлом. Оба похоронили жен. У Кугарова жена померла, когда он находился на службе, Мансур часто ходит к бывшей жене на могилу и видит, что полынь, выдернутая в прошлом году, в этом году опять вытянулась. «Горькая усмешка застыла на губах Мансура. Он с удивлением думал об упорстве полынного стебелька» [61, с. 19]. Это, конечно, – горький вкус потерь, жизненных трудностей. Вот и Степан Петрович с горечью вспоминает о том, что его жена оказалась в порочной связи с сельским выскочкой и проходимцем-активистом Василием Дыркиным. Схожесть в решении общих проблем видна и в том, что оба старика обращаются в мыслях к своим сыновьям: Мансур с болью в душе вспоминает об Анваре, не сумевшем наладить нормальные отношения со своей женой, Кугаров страдает от того, что его сын, Володя, погиб в Афганистане. Кугарова затягивает целый клубок потрясений: в его памяти еще живы события, связанные с Дыркиным, – тот отправил нескольких своих односельчан в лагеря, разрушил его семью, захотел уничтожить отца Степана… Все это выходит за рамки простого очерка. Об этом же говорит тот факт, что подобные сцены обсуждаются в литературах и других народов Урала и Поволжья, и при этом совсем не в очерковых произведениях. Например, в сборнике рассказов «Надежда» марийского писателя В. Косоротова (1980) «отчетливо вырисовывается определенная авторская концепция 124 личности. Во всех рассказах и новеллах ощущается твердая авторская позиция, его пристрастие к жизни современного села», к социальной психологии крестьянина [17, с. 336]. Все это подтверждает, что в 1960-1980-е годы такой подход к отображению жизни был присущ для многих литератур. Острота нравственных вопросов хорошо видна в анализируемом рассказе-очерке «Бабье лето» А. Емельянова: она зримо проявляется в трудной жизни Степана Кугарова, имеющего прекрасных соседей, замечательного внука. Именно это является основой для лирической аллегории «бабье лето» – соседи, внук, несмотря на все тяготы, становятся последним теплом жизни, которое старый человек осознает через новое переживание трудных жизненных путей. В произведении имеются документальные факты, упоминание реально существовавших людей и событий, но в то же время в рассказе много лирико-психологических картин. Поэтому писателю надо было усилить вымышленные эпизоды, сделать упор на социальных драмах жизни крестьянства. Следование автора за внутренними переживаниями героя все же дало хорошие результаты. Обратимся к жанрам крупной формы. Сам писатель называет романами четыре своих произведения – «Разлив Цивиля» («Здравствуй, поле мое!»), «Год – тринадцать месяцев» («Засушливый год»), «Черные грузди» и «Серебряный ветер». Исследователь творчества А. Емельянова профессор Ю. Артемьев на одно из первых мест ставит проблему жанров прозы писателя. Анализируя его роман «Серебряный ветер», ученый замечает, что Емельянов значительно углубил и расширил поиски чувашской повествовательной литературы в области жанровой структуры произведений. «Серебряный ветер» – это полотно, скроенное из отдельных повестей и новелл, написанных в разное время. Это особое мировидение человека аналитического склада, привыкшего оценивать различные общественные явления трезвым взглядом. Но он также и рупор авторских идей. Герой наделен активной гражданской позицией, это деловой человек, привыкший к деятельному решению производственных вопросов, он руководит районным отделением сельхозтехники, 125 достает для хозяйственного объединения моторы, старается совершенствовать методы работы с коллективом и т.д. Такая черта, по мнению Ю. Артемьева, свидетельствует о том, как постепенно хиреет душа руководителя: даже о любви, об отношениях мужчин и женщин он привык рассуждать как аналитик. С Любой, с которой у него завязываются близкие отношения, он говорит свысока [2, с. 17-19]. Анализ показывает, что в нем, в этом герое, есть что-то близкое к ГенкеГрафу из «Моих счастливых дней». Необходимо также сказать и о том, что это герой, который любит делать поспешные выводы о людях, событиях. И такой человек у Емельянова встречается не только в романах, но и в очерках, повестях, рассказах. В рассказе-очерке «Генерал» прозаик создает образ перволичного повествователя. Вызванный в область Андрей Скворцов едет на машине, которую ведет шофер, почему-то прозванный Генералом. Геройповествователь сразу же обращает внимание на нелюдимость Генерала, на холодность выражения его лица. Это является для него поводом, чтобы смотреть на него несколько свысока и настороженно [48, с. 358-377]. С подобным повествователем встречаемся и в рассказе-очерке «Дочь девяти старух». Писателю, едущему на встречу с писателями в деревню Быковку, кажется подозрительным, что у водителя рыжие волосы. Мотив рыжих волос проходит по всему рассказу, повествователь судит о нем как о соблазнителе девушек, ненадежном человеке, ловеласе и т.д. Примечательно, правда, что в ходе повествования герой, подобный Скворцову, приходит к другому мнению о персонаже. Вернемся все же к «Серебряному ветру». Ю.М. Артемьев не делает остановку только на одной стороне характера Скворцова. Он видит различные его черты и наклонности: «Герой свыкся с тем, что он умный руководитель, поверил в свое умение разбираться в людях, утвердился во мнении, что может объективно анализировать свои поступки» [48, с. 358-377]. Такое разнообразие черт проявляется в особом движении сюжета, который развивается, разветвляясь, по линии производственных проблем (через Славку Пригова персонаж достает необходимую технику; он давно уловил, что председатель кол126 хоза Куштанов наловчился обильно угощать тех, кто помогает ему в работе); завязываются близкие отношения Любы с Андреем и т.д. Такие перипетии придают произведению некую многоголосность, несмотря на то, что Андрей является единым центром произведения. Действительно, производственные проблемы требуют публицистического отображения жизненных реалий, социологического их рассмотрения; любовно-интимные отношения требуют лирических красок и т.д. И все же Ю. Артемьев указывает и на недостатки романа. Делая Скворцова сквозным героем, помещая его в производственные обстоятельства, прозаик идет по накатанной уже дороге; многие его повести имеют такую же поэтическую подкладку. Скраивая произведение из отдельных повестей и рассказов, писатель не сумел скрыть швы-скрепы. Жанр романа остался в этом случае на полпути, он не получил законченного художественного выражения. Эта накатанность выражается в том, что в 1950-1960-е годы целая когорта писателей обратилась к воплощению современной им действительности. «За последние годы, – пишет В. Павлов, – «председательский корпус» … достойно пополнился председателем колхоза «Уныш» Булатом Валиевым из повести татарского прозаика В. Нуруллина «С ношей гору не обходят», Сетнером Ветловым, главным героем повести «Год – тринадцать месяцев» чуваша А. Емельянова, председателем колхоза «Берек» татарином Талипом Бикмуллиным из романов М. Хабибуллина «Водовороты» …. «Председательский хлеб трудный», – эти слова Булата Валиева могли бы повторить и его собратья по хлопотной и бессонной должности. Затеял первым поставить Талип Бикмуллин комплекс для крупного рогатого скота, и сам на свой страх и риск начал строительство. Задумал Сетнер Ветлов сделать все, чтобы жизнь в Шигалях наладилась, пошла по широкому руслу, сделал это, но нет, появились иные заботы: “Чем лучше живут люди в деревне, тем труднее с ними”» [33, с. 194]. Все названные герои – это энтузиасты и хозяева с сильной волей, нравственно стойкие люди. Методы хозяйствования, пути решения производственных проблем, принципы работы с 127 коллективом – вот что занимает их умы, аналитический настрой их размышлений. Это фактически плодотворное эхо, отозвавшееся в повести В. Овечкина «Районные будни» и производственных произведениях других писателей. В этом отношении А. Емельянов в чувашской прозе оказался новатором. Однако, «повторяя» общий дух тогдашней ветви советской литературы, озабоченной проблемами делового человека, он повторяет «проторенность» своей тропы – из книги в книгу переходят однотипные председатели колхозов: рутинеры и плохие руководители (Михатайкин из «Не ради славы», Прыгунов из «Разлива Цивиля»), рачительные мастера своего дела (Ветлов из «Засушливого года», Бардасов из « Колокольчиков») и т.д., которые, несмотря на свою типологическую полноту, имеют и некоторые погрешности. В силу этого одинаковы обстоятельства, в которых они действуют, схожими являются жанровые составляющие произведений. Одной из таких составляющих, разумеется, становится социологический анализ действительности. Задача такого анализа связана напрямую с типом руководителя (или рачительного, или рутинера, или самовлюбленного человека, или деспота и т.д.). По этой причине здесь много места отводится как бы документальной публицистичности, а порой и автобиографическим чертам. Не случайно В. Павлов замечает: «читая прозу А. Емельянова, можно сделать вывод: все испробовано автором на себе, его биография – зоотехника, секретаря райкома, работника обкома партии – легко легла на страницы его книг. От того-то герои его романов и повестей имеют одну определяющую черту – они очень жизненны, словно выписаны с натуры, вплоть до языковых характеристик» [33, с. 197]. Придерживаясь мнения Ю.М. Артемьева, можно сделать следующие выводы. Герой произведения «Наглец» является основой сатирикопублицистического содержания жанра. Генка-Граф из «Колокольчиков» в чем-то схож с Андреем Скворцовым из «Серебряного ветра». Оба они считают себя умными и не умеют в чем-либо сомневаться, поэтому являются героями, с которыми кто-то должен спорить и полемизировать. Это персонажи, заквашенные на полемизме своих натур. Вот почему Александру Васильевичу постоянно приходится спорить с Генкой. 128 Таким образом, содержание жанров емельяновской прозы создается контрастными героями. Это напоминает очеркистику 20-30-х годов XX века. Принцип контрастности в чувашской критике впервые обсужден М.Я. Сироткиным и В.П. Никитиным, они называют его структурообразующим приемом. Емельянов этот прием заметно углубил, делая упор на внутренней полемичности разных героев и героя в самом себе. И это не случайно – послевоенное время осталось в творчестве писателей на уровне 1940-1950-х годов, когда создавались лирические новеллы Д. Кибека, Л. Агакова, А. Артемьева, когда герой полностью заполнял пространство жанра. Такими произведениями являются не только новеллы «Не гнись, орешник» А. Артемьева, «Песня девушки» Л. Агакова, но и «Свирель» А. Емельянова, в которой главную роль играет рассказчик как автор большого внутреннего монолога. «Серебряный ветер» – очень объемное произведение, поэтому Скворцову трудно заполнить романное пространство одному. Емельянов здесь применил законы своих малых жанров, лирических новелл. Лучше, как нам кажется, пишутся его повести, когда «спорят» два героя – Великанов и Ветлов («Засушливый год»), Прыгунов и Кадышев («Разлив Цивиля»), Семен Крыслов и его жена, Урине («Черные грузди») и т.д. В процессе такого показа жизни Емельянов делает упор на раскрытии внутренних черт образов героев-энтузиастов. Это, конечно, большой шаг вперед. В повестях и рассказах В. Алендея, например, всегда делается акцент на голом, публицистическом решении производственных вопросов. Его многочисленные повести о быте и тяготах колхозных ферм полностью насыщены проблемами постройки крупных комплексов, повышения производительности труда, увеличения надоев молока и т.д. Емельянов избегает этих недостатков. Его Сетнер – это не только рачительный хозяин, но и хитрый руководитель. Если Талип Бикмуллин озабочен вопросами постройки комплекса, то Сетнер ездит по соседним областям посмотреть, что из этих комплексов выйдет, то есть он не торопится быть опрометчиво передовым, а умеет заглядывать вперед. Жизнь показала правоту Сетнера, постройка комплексов не оправдала себя, она принесла большие убытки. Примечательно, что Сетнер 129 Осипович – человек смелый, он открыто признается секретарю райкома в том, что не доверяет авантюре с комплексами: а куда же деть пять старых коровников? Они ведь кирпичные, с полной механизацией. Таким образом, перед читателем появляется герой не только рачительный и «хитрый», но и самостоятельный. Все это подводит к мысли о том, что Ветлов более пригоден как герой для создания жанровой модели очерка. В Андрее Скворцове необходимо видеть представителя определенной психологии личности. В нем «писатель претворяет свое понимание социальных нравов», типов, относящихся «к определенному цеху» – к когорте руководителей (председатели колхозов – Бардасов из «Колокольчиков», Прыгунов из «Развиля Цивиля», Михатайкин из «Не ради славы», Ветлов из «Засушливого года»; … руководители районного звена – Пуков из «Пастухов», Скворцов из «Серебряного ветра» и т.д.) [42, с. 128-129]. Сопоставив все с замечаниями Ю. Артемьева, можно, действительно, засомневаться в правомерности определения «Серебряного ветра» как романа. Во-первых, все эти герои-типы обладают такими же примерно чертами, каковые имеет Скворцов, они в этом отношении очень близки друг к другу. Во-вторых, как отмечает Ю.М. Артемьев, повествование в романе ведется от первого лица, поэтому здесь велик процент субъективного мировоззрения [2, с. 18]. В-третьих, тип такого героя (Бардасов и Александр Васильевич из «Колокольчиков») в одном случае почему-то является средоточием лирической повести, в другом – романа (Прыгунов из «Разлива Цивиля», Скворцов из «Серебряного ветра»), в третьем – лирикопублицистической или же публицистико-психологической повести («Черные грузди», «Засушливый год» и др.). Вероятно, поэтому профессор Ю.М. Артемьев совершенно прав, считая, что А. Емельянову стоило бы сойти с накатанной колеи и подняться на новый художественный уровень. Разумеется, изображая такого человека, выделяя в нем черты социального типа, писатель вынужден заниматься проблемами аналитического рассмотрения экономических, политических и нравственных вопросов. Тот же Сетнер вроде бы не участвует в сюжетной жизни повести, он появляется на ее страницах лишь по возвращении из очередной командировки. 130 Однако его роль в организации жанровой структуры велика. Именно его присутствием объясняется необходимость разговора о быте и нравах современного села, присутствие целой вереницы героев – секретаря райкома Путовкина, бухгалтера колхоза Юлии и т.д. Именно он высказывает определенные, выверенные прогнозы о развитии общества. «Емельянов, – отмечает В. Павлов, – предугадывает в жизни многое, что позднее открывают и о чем пишут вслед за ним писатели-публицисты. Скажем, недавно Иван Васильев выступил в центральной печати против излишнего распространения всевозможных контор, впрямую не связанных с конечным результатом труда земледельцев, но, тем не менее, имеющих свое касательство к сельской жизни. И что же?... Да еще раньше об этом сказал чувашский прозаик устами своего героя Сетнера Осиповича Ветлова» [33, с. 199]. Такое публицистическое заострение проблемы вокруг одного из героев иногда вызывает растянутость сюжета, рыхлость жанра. Приметы этого, например, видим в повестях, «Пастухи», «Имя», «Не ради славы» и т.д. Однако именно такая сторона творческих поисков писателя является одним из элементов жанровой модели его повестей, она представляет смешанный тип построения жанровой структуры произведений средней формы, а порой и романа. Это не означает, что прозаик в новеллах размышляет как лирик, а в повестях и романах (романы, кстати, Емельянову менее удаются, или, вернее сказать, не удаются вовсе, …) как публицист. В его крупной форме полемизируют две линии: лирикопсихологическая и публицистико-аналитическая [42, с. 129]. Сходную мысль можно найти и у В. Павлова. Интересно его мнение о повести «Год – тринадцать месяцев»: «Собственно повествование Анатолия Емельянова здесь разбивается на две части. В первой действует Ветлов, а вторая почти целиком посвящена Великанову» [33, с. 199]. Эта линия оживляется психологическими переживаниями Великанова, разошедшегося с женой и потерявшего сына. В силу этого в настрое его переживаний сильно проявляются впечатления от встречи с родным краем, первой любовью. Так происходит очищение героя, он набирается мужества и терпения перед новыми трудностями. 131 Следовательно, та разрозненность отдельных повестей и рассказов, на которой останавливается Ю.М. Артемьев, присутствует в какой-то мере и здесь. Однако прозаик находит и некие скрепы: в деревню на отдых Великанова приглашает его друг, Ветлов. Ветлов к тому же с его помощью хочет открыть на селе цех завода. Тем не менее скреп этот не дает плотной цельности. Самостоятельность их не совсем сохраняется, поэтому эти линии и полемизируют, спорят между собой. Так, возникает особого рода конфликт, проливающий свет на проблему творческого мира чувашского писателя. Только ли для Емельянова характерен спор лирико-психологических и публицистических сторон? Видимо, нет. В. Павлов находит подобные черты и у В. Нуруллина. Его повесть «Уныш» – это записки председателя колхоза, то есть как бы «эпистолярная форма»: повествование ведется свободно, автор записок, при всем их лиризме, «отвлекается на публицистические размышления, так сказать по поводу» [33, с. 195]. Все это говорит о том, что и роман «Серебряный ветер» строится по таким же правилам. Главы (повести и рассказы) о Скворцове, секретаре райкома, председателях колхоза здесь публицистичны и аналитичны, но новеллы «По эту сторону метели», «На высокой горе – семь берез» – глубоко лиричны, в них главное место занимает развернутая метафора-сравнение. Другими словами, в творчестве писателя спорят очерк, очерковое видение жизни и лирико-новеллистический подход к реальной действительности. В связи с этим замечание В. Павлова о том, что «Год – тринадцать месяцев» состоит из двух «рассказов», нельзя считать случайным. Важно при этом помнить, что иногда и рассказы сами по себе тоже являются смешанным жанром, потому что в них соединяются очерк и рассказ. Такой способ соединения разных плоскостей видим и в повести «Черные грузди». Одна из линий принадлежит Семену Крыслову. Да, Семен много работает, умеет копить деньги, он хорошо понимает законы предприимчивости, но в заботах о деньгах он никого не видит кроме себя. Вторую линию писатель связывает с его женой, Урине (Ириной). Это – образ женщины внутренне богатой, трудолюбивой, но безропотной. Если плоскость Семена развита на раз132 думьях о прибыли, деньгах, базарах, богатстве, то плоскость Урине вся психологична. Она живет в своем мире, заботы мужа ей уже давно надоели и обеднили ее душу. Внешне в этом противостоянии победителем, конечно, выходит Семен, а внутренне победа остается за Ириной, несмотря на то, что она гибнет под тяжестью жизненных трудностей. Семен Крыслов, как видно из повести, полемичен и в самом себе, так устроен его склад ума. Вызванный в правление колхоза, он готовится поспорить с председателем: ему чудится, что тот специально подставляет ногу, а сам между тем уже давно превратил колхоз в свою вотчину. Он также готов поспорить и с бухгалтером колхоза КубСтепаном, человеком ленивым и самодовольным. Логике его рассуждений и спора с Куб-Степаном нельзя не довериться: тот и в самом деле оторвался от жизни, стал консерватором. Но это не значит, что Крыслов – положительный персонаж. Трезвый рассудок и убедительная логика в самом герое «спорят» с явлением жестокого и бездушного отношения к жене и младшему сыну, отсутствием всякого интереса к тому, как и чем живет его наследник. В сравнении с повестью «Год – тринадцать месяцев» здесь иной поворот. Сетнер Осипович (при всей многогранности своего характера) был человеком «положительным». В Крыслове же есть черты и позитивные, и негативные. Это заметное расширение природы полемического героя. В связи с этим необходимо сказать, что фигура Крыслова, расцененная критиком М. Ставским как лицо, выполняющее Продовольственную программу, спущенную сверху, расценена совсем неправильно, ибо Емельянов не писал иллюстративную повесть, пристегнутую к очередной политической авантюре. Это художественное произведение, его публицистическую заостренность нельзя принимать прямолинейно. Да, рачительность, умение к копейке прибавить копейку в Семене нужно приветствовать, но как можно приветствовать то, что жену он превратил в домашнюю рабу, отлучил от сельчан, родных, закрыл в четырех стенах? И то, что М. Ставский делает упор только на Продовольственной программе, конечно, неверно. На Урине лежит нравственная цельность создаваемой жизни. Она проявляется в развернутой метафоре-аллегории, 133 тяготеющей к символу. Это черные грузди. В этом образе появляется философский смысл, связанный с деньгами, богатством, которые разрушают семью [43, с. 494]. На судьбе Урине отразилась вековая вера чувашей в то, что зло наносит вред и тем, кто его «разбудил». Разбужено же оно было Семеном, Урине «породнилась» со злом, взяв деньги старика. Это обстоятельство говорит о том, что нельзя однобоко понимать и образ погибшей женщины. Повесть «Черные грузди», таким образом, стала ярким произведением. Она развивает в себе традиции философского осмысления жизни. Не случайно поэтому сила богатства и золота задевает и Семена. Это закономерно, Семен все еще поклоняется богатству, а не желанию обогатить народ и сдать государству тонну мяса. Таким образом, жанрообразующая миссия героев в емельяновской прозе имеет несколько своеобразных черт. В «Серебряном ветре» – это один ключевой герой, он обеспечивает центростремительное развитие сюжета. В «Засушливом годе» – это два героя, их спор, полемическое противостояние публицистики и психологизма. В «Черных груздях» полемичны и сами герои, каждый по отдельности. Жанрообразующая роль героя в чувашском литературоведении, можно сказать, изучена основательно. В связи с особенностями прозы Емельянова эта мысль впервые прозвучала в исследованиях Ю.М. Артемьева. Как показал анализ, к типу смешанного жанра можно уверенно причислять повести с двумя ведущими героями. «Серебряный ветер» в этом отношении меньше показателен. Одно из самых первых произведений писателя – роман «Разлив Цивиля» («Здравствуй, поле мое») – также поднимает вопросы управления хозяйством и закладывает первые следы той дороги, которая со временем станет для писателя накатанной. Проблема, как указывалось выше, была не нова для того времени, однако проза эта привлекла читателя дотошностью взгляда писателя на современную жизнь. Прозаик, как отмечает профессор Г.Я. Хлебников, хорошо заметил признаки нравственной болезни руководителей: председатель колхоза Трофим Прыгунов вначале был хорошим хозяином и, видимо, неплохим организатором (его колхоз считается в районе передо134 вым). Он смел, на собраниях может и покритиковать нерадивых руководителей, однако в поисках славы, имени передовика он покупает мясо на базаре, сдает государству и так выполняет план; достает дефицитные товары (шифер, белила, хмель), угощая начальство коньяком и пугая критикой. Со временем он и вовсе превращается в человека, идущего по скользкому пути [44, с. 183-184]. При всей традиционности и одномерности такой герой, переходя из произведения в произведение, обнаруживает новые и новые черты. И это показывает, что пристальное внимание Емельянова к таким героям является для него очень важным фактором. Действительно, Акшанов из повести Л. Таллерова «Течет река» (такой же председатель) во многом напоминает Прыгунова, он поэтому не является новым открытием. В повести «Не ради славы» прозаик показывает уже несколько углубленного героя, председателя колхоза Михатайкина. Однако обстоятельства, в которых он показан, во многом сходны: и Прыгунов, и Михатайкин не находят взаимопонимания с женами, с честными тружениками села. Но Михатайкин «сильнее» по циничным качествам: он бросает на произвол судьбы больную жену, открыто оказывает внимание любовнице, пьянствует с угодными ему людьми. В свое время критика неодобрительно отзывалась о Емельянове, посмевшем зачислить руководителя хозяйства (Михатайкина) в число отрицательных героев, однако именно такую тягу Г.Я. Хлебников называет большим достижением чувашской литературы [44, с. 190]. Конечно, заниматься художественным изучением того, как выращивать в колхозах капусту, махорку, коноплю, как заниматься культивированием отдельной специализации выгоднее в очерках, но именно в этих перипетиях и выявляется внутренняя сущность человека-руководителя, человека-хозяина. Вероятно, именно заострение внимания на этих проблемах и привело Емельянова к тому, чтобы понять, как пагубно жить мечтой лишь о богатстве. Именно поэтому Урине из «Черных груздей» начинает пить, теряет всякую веру в жизнь и день ото дня все больше разочаровывается. Писатель, ставящий такие проблемы, считает Г.Я. Хлебников, должен обладать гражданским мужеством, иметь смелость, чтобы решительно порвать с принципами лакировки изображаемой реальности. 135 В разговоре о преодолении «теории» бесконфликтности «и связанных с нею недостатках (иллюстративность, схематизм, узкотемье и др.)» профессор Е.В. Владимиров роман А. Емельянова «Разлив Цивиля» ставит в один ряд с такими произведениями, как «Шургельцы» В. Ухли, «Ахманеевы» А. Артемьева, «Пчелка золотая» В. Алендея, «Солнечный дождь» А. Эсхеля и т.д. Общим для них, по мнению исследователя, является стремление писателей познать характер, нравственный облик человекасозидателя [11, с. 181]. Жанровые поиски А. Емельянова происходили в сфере социально-философского анализа жизни общества. Особенно это заметно в таких повестях, как «Черные грузди», «Засушливый год», «Имя». В них писатель заметно углубил жанр повести поэтикой развернутых метафор, насыщенных аллегорий, постоянных и сквозных мотивов. Этим, наверное, писатель заметно оторвал повести от влияния героя. Повесть «Имя» построена так же, как и другие, на антитезах и спорах. Ульяна, мать главного героя Модеста Мухтанкина, чем-то близка Семену Крыслову и пенсионеру из «Наглеца». Говорит она резко, к людям относится отрицательно и несправедливо, но она же и хозяйственная женщина. Отец Модеста – пустой человек, алкоголик, бездарь и лентяй, поэтому в деревне об Ульяне и говорят: «У Мухтанкиных на подворье курица кукарекает». Этим кукареканьем мать портит жизнь сыну, спивается и гибнет ее муж. Повесть ставит проблемы философского взаимодействия категорий чести и совести, жизни и смерти, любви и ненависти, а эти проблемы трудно уложить в психологическое содержание одного героя. «В прозе конца 50-х – начала 60-х годов, – пишет русский литературовед Л.Ф. Ершов, – сосуществовали две ветви: одна – по преимуществу лирическая и другая – социально-аналитическая» [13, с. 15]. «В ходе исторической эволюции качественно меняется само наполнение понятия социальность», – продолжает он [13, с. 21]. Проза А. Емельянова дает ключ к пониманию этих изменений. В основе его жанровых поисков находится социальнонравственная проблематика жизни. Рассматривая художественные особенности прозы И. Тхти, А. Мышкина отмечает, что «В чувашской литературе, как и в литературе других народов Поволжья и Приуралья, намечалось 136 не только стремление писателей полнее охватывать существенные явления современности, но и тяга к художественнофилософскому осмыслению жизни» [27, с. 25]. Примечательно, что такая тенденция проявилась еще в 1920-1930-е годы. Тхти как мастер аллегорической прозы в этом смысле стоит особняком, ибо в это время в литературах многих народов начался отход от национальной художественной поэтики. Таким образом, литература стала развиваться по пути голого социологизма, который потом в произведениях А. Талвира, В Алендея, Н. Максимова вышел на первое место. И в этом смысле освоение А. Емельяновым поэтики философской прозы было возвращением к национально-художественной поэтике, оно стало актом заметного обогащения содержания публицистических жанров, фактом отхода от голого социологического анализа воплощаемой действительности. Это было значительным шагом вперед, особенно в сравнении, например, с повестями В. Алендея, в которых однобоко утрируются проблематика произведений, социальный конфликт, анализируются семейный и бригадный подряд и другие подобные явления. 137 ЗАКЛЮЧЕНИЕ С целью определения значимости творчества А. Емельянова в контексте чувашской литературы в целом и осмысления его произведений с новых точек зрения мы выполнили ряд задач и пришли к определенным выводам. Перечислим некоторые из них. Художественное изучение действительности 1960-1970-х годов дало возможность обнаружить пути для поиска нового героя, герояаналитика, который имеет не только социальный статус, но и философско-публицистическую природу. Осознание этого родилось из документированно-очеркового изучения жизни, понимания того, что стал нужен человек, по-новому изучающий жизнь, человек, переставший быть винтиком истории. Поиски производственной прозы не прошли даром, они помогли нащупать основные черты нравственного мира личности, дали возможность осмыслить нравственные проблемы публицистико-философской прозы, ее героя. Характер героя стал убедительнее, ярче и глубже. Он во многом отошел от исключительно идеологического понимания положительных и отрицательных черт персонажа. Писатели-производственники (А. Талвир, В. Чебоксаров, И. Григорьев, В. Алендей и др.) в своих произведениях основное внимание уделяли идеологическому конфликту. Из этого следовало, что нравственная чистота должна вытекать из партийной принадлежности героя. Герои этих произведений, следовательно, превращались в идеологизированного человека. А. Емельянов решительно отходит от шаблонного изображения сельчанина. Он использует укрупненную, иносказательную аллегорию, объемные метафоры и символы. Благодаря лейтмотивным аллегориям и метафорам, раскрывающим характер персонажа, герой емельяновских произведений перестает быть только «производственным» человеком. Кроме того, герой как литературный образ в творчестве чувашского писателя-публициста намного шире, чем просто образ человека. Он является не только персонажем, но и аллегорическим приемом выражения авторской позиции, рупором его идей и средством символико-аллегорического отображения показываемой жизни. А. Емельянов вырабатывает новое видение героя. К такому убеждению он приходит потому, что прежние идеологические рамки для показа нового героя очень узки и художественно мало138 оправданны. Именно поэтому писатель решительно отходит от феномена привязанности человека к конкретному периоду. Большая заслуга Емельянова заключается в том, что он впервые догадался, что и деловой человек, и руководитель, несмотря на то, что занимались производственными вопросами, имели друзей, семью, детей, решали бытовые вопросы и т.д. Кроме того, он одним из первых осознал, что партийные работники, председатели колхозов и т.д. не всегда положительные герои, среди них есть и плохие организаторы производства, которые, не учитывая мнение простого сельского труженика и зная, что разваливается хозяйство, работают лишь для того, чтобы их похвалили руководители районов или республики. Именно понимание этого помогло А. Емельянову осмыслить новые задачи отображения героя публицистической прозы и заметно уточнить особенности типологии ее героев. Типология героя в емельяновской прозе имеет свои законы, определенные группы. Герои одной группы близки друг к другу, они имеют одно образное ядро, но каждый из них чем-то отличен от другого. В показе своих персонажей прозаик обращается к анализу социальной ситуации, вечным образам народной культуры, психологическим приемам, рельефным речевым характеристикам. Все это служит условием создания особого хронотопа прозы писателя. А. Емельянов еще с первых своих произведений проявил себя как очень чуткий прозаик и публицист. Внимательно следя за тем, что и как происходит в общественной, экономической, духовной жизни страны, он намного раньше других предугадывал то, что произойдет в последующие десятилетия. С одной стороны, он делает глубокий социологический анализ показываемой им жизни, с другой – стремится к пластическому строению художественной формы, художественного образа. Вместе с тем всего этого он достигает вдумчивым изучением места и роли послевоенного человека в истории и развитии общества. Следующий важный момент – способность героев быть трезвыми и вдумчивыми аналитиками. Именно эти черты определяют хронотоп прозы А. Емельянова. Важно отметить, что названия произведений А. Емельянова носят глубоко символический характер, они влияют на характер пространства и времени в произведениях прозаика. Уже 139 своими названиями произведений («Засушливый год» – писатель аллегорически выражает мысль о том, что высыхают русла нравственности, «Черные грузди» – является знаком духовного обнищания людей и т.д.), особенностями различного текста и пейзажными картинами писатель направляет читателя не к отдельным заботам конкретного времени, он ищет в облике послевоенной эпохи, ее образном хронотопе что-то бытийное, что имеет отношение к нравственному пространству и времени. Прозаик очень часто использует приемы лиризации внутреннего пространства произведений, поэтому хронотоп его прозы создается тем, как относятся друг к другу публицистика и лирика. Публицистико-философский взгляд начинает взаимодействовать с лирическим и публицистическим стилями. Произведения становятся многостильными. Кроме того, необходимо отметить, что Емельянов вместе с другими писателями разрабатывает основы внеисторического пространства и времени, заметно углубляет публицистико-философские стороны своих произведений. Таким образом, следует отметить, что творчество А. Емельянова сыграло большую роль в создании хронотопа всей чувашской литературы. Одна из важных проблем в творчестве А. Емельянова – взаимоотношение отдельного человека с властью. Он настойчиво отображает типы руководителей. Нравственный мир произведений писателя создается не столько типом того или иного социального человека, сколько их взаимоотношениями между собой. А. Емельянов своими произведениями показывает, что время простых тружеников-активистов и энтузиастов безвозвратно ушло, пришло другое время, время руководителей-пастухов. Емельяновский мир имеет несколько понятий хронотопа: один – это очерковый хронотоп, он больше связан с обрисовкой конкретно-исторического времени, отдельной эпохи, другой спрятан в тайнах многовековой морали и философии. Первый проявляется в том, как публицист решает те или иные технологические вопросы производства, это часто герой очерков, очерковых рассказов. Другой хронотоп – это отображение вечных истин средствами протяженных лейтмотивов. Третий тип – лирико-романтическое освещение жизни. Этот тип особенно заметен в произведениях «Свирель», «Ущербный месяц», «Узоры на листьях», «Конопля» и т.д. Еще одна сторона хронотопа Емельянова – это авантюрность 140 «строения» жизни «отрицательных» героев и их поступков. Но эта авантюрность тоже в руках автора, в его напряженной речи. А. Емельянов значительно углубил и расширил поиски чувашской повествовательной литературы в области жанровой структуры произведений. Например, его «Серебряный ветер» – это полотно, скроенное из отдельных повестей и новелл, написанных в разное время. Так писатель приходит к обретению не традиционного, а текучего жанра. Многие чувашские писатели начинали свое творчество с очерков (И. Тукташ, Л. Агаков, К. Петров и др.), именно с них начал свою писательскую деятельность и А. Емельянов. И. Тукташ и В. Алендей, Л. Маяксем и И. Григорьев в своих поисках в основном так и остались как бы на уровне очерков. А. Емельянов сумел далеко уйти от голого очеркизма, от производственных проблем, он сделал шаг к показу внутреннего мира публицистического героя, то есть очерк в творчестве писателя получил новые высоты и новое напряжение. Очерковая природа жанров Емельянова зависит от того, с какой степенью аналитизма он разбирает жизненный материал, почему и как он начинает пользоваться приемами аллегории, притчи, развернутой метафоры, откуда у него появляется интерес к решению производственных проблем, показу образа руководителя и т.д. Используя такие стилевые средства, писатель со временем начинает создавать повести, в которых притча начинает тянуться к символам. Таким образом, жанровая система произведений А. Емельянова во многом вырастает из того, что он хорошо и разносторонне начинает осваивать традиции ранних чувашских писателей, поэтику их очерков. Проблема типологии жанров в процессе изучения творчества А. Емельянова занимает одно из ведущих мест. Ее решение помогает разобраться в особенностях творческого мира художника. А. Емельянов является автором очерков, повестей, новелл и рассказов. В лирических новеллах прозаик прибегает к приему развернутых метафор и цепочки развертываемых метонимий (новелла «Свирель»). Такова и его повесть «Колокольчики», построенная на разветвляющейся поэтике образа колокольчиков. Очерки его нередко социологичны и открыто публицистичны. Повести в основном написаны на взаимодействии лирико-психологической выразительности и публицистико-социологического аналитизма. Содержание жанров 141 емельяновской прозы создается контрастными героями. Это напоминает очеркистику 20-30-х годов XX века. Следует отметить, что Емельянов заметно углубил структурообразующий прием, делая упор на внутренней полемичности разных героев и героя в самом себе. В процессе показа жизни прозаик делает упор на раскрытии внутренних черт образов героев-энтузиастов. Это, конечно, большой шаг вперед. В повестях и рассказах В. Алендея, например, всегда делается акцент на голом, публицистическом решении производственных вопросов (его многочисленные повести о быте и тяготах колхозных ферм полностью насыщены проблемами постройки крупных комплексов, повышения производительности труда, увеличения надоев молока и т.д.). В прозе же А. Емельянова на передний план выходят приемы контрастного противопоставления героев, интерес к «социально-производственному» человеку, лиризм мировидения и т.д. В этом проявляется особый дух его самобытности. Необходимо сказать и о перспективе дальнейшего изучения поставленной проблемы. Опыт А. Емельянова наводит на необходимость изучения роли отдельного героя в создании жанрового содержания романа, требует серьезного изучения вопроса о том, через какие особенности чувашская художественная публицистика приобретает единство с философским мировидением. Важно также рассмотреть вопрос о роли нравственных принципов в деле обновления мира чувашской прозы. 142 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ I. Литературно-критические издания и статьи 1. Алешкина, С.А. Художественный мир писателя и творческий мир писателя / С.А. Алешкина // Аспект. 1989. Исследования по мордовской литературе. – Саранск: Морд. кн. изд-во, 1989. – 192 с. 2. Артемьев, Ю.М. Ир.к шухёшсем / Ю.М. Артемьев. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1991. – 208 с. 3. Артемьев, Ю.М. Страсть к полемике / Ю.М. Артемьев. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2003. – 240 с. 4. Артемьев, Ю.М. Ытарайми пурнё= т.с.сем. Статьясемпе т.рленч.ксем / Ю.М. Артемьев. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1988. – 128 с. 5. Артемьев, Ю.М. Этем тив.=.. Критикёлла статьясен пуххи / Ю.М. Артемьев. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1980. – 112 с. 6. Барабаш, Ю.Я. Вопросы поэтики и эстетики / Ю.Я. Барабаш. – М.: Современник, 1983. – 416 с. 7. Барышников, Е.М. Тип / Е.М. Барышников // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1972. – 1008 с. 8. Белая, Г.А. Литература в зеркале критики: Современные проблемы / Г.А. Белая. – М.: Сов. писатель, 1986. – 368 с. 9. Белая, Г.А. Художественный мир современной прозы / Г.А. Белая. – М.: Наука, 1983. – 192 с. 10. Вахитов, А.Х. Башкирский советский роман / А.Х. Вахитов. – М.: Наука, 1978. – 160 с. 11. Владимиров, Е.В. В русле времени / Е.В. Владимиров. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1979. – 232 с. 12. Дедков, И.А. Публицистика / И.А. Дедков // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1971. – 1040 с. 13. Ершов, Л.Ф. Основные тенденции развития современной русской прозы / Л.Ф. Ершов // Жанрово-стилевые поиски советской литературы 70-х годов. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 196 с. 14. Иванов, Ип. И. Кашни к.некен хёй.н шёпи / Ип. И? Иванов. – Шупашкар% Чёваш к.н? изд-ви: 1980. – 152 с. 143 15. Иванова, Н.Б. Точка зрения: О прозе последних лет / Н.Б. Иванова. – М.: Сов. писатель, 1988. – 424 с. 16. История башкирской советской литературы. – М.: Наука, 1977. – 588 с. 17. История марийской литературы. – Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1989. – 432 с. 18. Канюков, В.Я. М.н пур писател.н .=. / В.Я. Канюков // Тёван литература утём.сем: Критикёлла статьясем. – Шупашкар% Чёваш к.н? изд-ви: 1974. – 288 с. 19. Касаткина, Т.А. Структура категории жанра / Т.А. Касаткина // Контекст. Литературно-теоретические исследования. 2003. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 350 с. 20. Кирнозе, З.И. Страницы французской классики / З.И. Кирнозе. – М.: Просвещение, 1992. – 224 с. 21. Кожинов, В.В. Жанр литературный / В.В. Кожинов // Краткая литературная энциклопедия. Т.2. – М.: Сов. энцикл., 1964. – 1056 с. 22. Кричевская, Л.И. Литературный портрет / Л.И. Кричевская. – М.: Аспект-Пресс, 1994. – 186 с. 23. Кузьмин, А.И. Повесть как жанр литературы / А.И. Кузьмин. – М.: Знание, 1984. – 112 с. 24. Кутуй, Р. Что за зеркалом? / Р. Кутуй // Аяз Гилязов. При свете зарниц: Повести. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1986. – 544 с. 25. Лебедев, А.А. Вчерашние уроки на завтра. Литературная полемика / А.А. Лебедев. – М.: Сов. писатель, 1991. – 368 с. 26. Мусин, Ф.М. По координатам жизни: Размышления о современной татарской прозе / Ф.М. Мусин. – М.: Современник, 1976. – 206 с. 27. Мышкина, А.Ф. Чувашская художественно-философская и художественно-публицистическая проза второй половины XX века / А.Ф. Мышкина. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2005. – 276 с. 28. Научный журнал: Диалог, карнавал, хронотоп. 2(7). – Витебск: Изд-во Витеб. гос. ун-та, 1994. – 150 с. 29. Никитин, В.П. Чувашский рассказ (1921-1941) / В.П. Никитин. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1990. – 175 с. 30. Николина, Н.А. Филологический анализ текста / Н.А. Николина. – М.: Академа, 2003. – 256 с. 144 31. Нуйкин, А.А. На том стою… Нравственные ориентиры в сегодняшней литературе / А.А. Нуйкин. – М.: Сов. писатель, 1991. – 352 с. 32. Нуруллина, Р.М. Татарский советский очерк 20-х годов / Р.М. Нуруллина // Мастерство очеркиста. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 120 с. 33. Павлов, В. На страже жизни: Проблема положительного героя в советской многонациональной литературе / В. Павлов // Критика и время: Лит.-критич. сб. – Л.: Лениздат, 1984. – 336 с. 34. Родионов, В.Г. Игнатий Иванов: Пултарулёх портреч.: =ырнисем / В.Г. Родионов. – Шупашкар: Чёваш патш? ун-ч.н изд-ви, 2001. – 80 с. 35. Современная русская советская литература: В 2 ч. Ч. I. – М.: Просвещение, 1986. – 256 с. 36. Соколова, В.Е. Мордовская публицистика на современном этапе / В.Е. Соколова. – Саранск: Изд-во Морд. гос. ун-та, 1990. – 48 с. 37. Соловьев, Э.Ю. Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры / Э.Ю. Соловьев. – М.: Изд-во полит. лит., 1991. – 432 с. 38. Тевекелян, Д.В. День забот. Размышления о городской прозе 60-70-х годов / Д.В. Тевекелян. – М.: Сов. писатель, 1982. – 304 с. 39. Теория литературы: В 4 т. Т. 3: Роды и жанры: Основные проблемы в историческом освещении / Отв. ред. Л.И. Сазонова. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. – 592 с. 40. Федоров, Г.И. Сёнарлё сёмах шырав. / Г.И. Федоров. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1996. – 224 с. 41. Федоров, Г.И. Художественный мир Федора Уяра: Проблемы типологии, поэтики и художественной семантики / Г.И. Федоров. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1991. – 176 с. 42. Федоров, Г.И. Художественный мир чувашской прозы 1950-1990-х годов / Г.И. Федоров. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ин-та гуманит. наук, 1996. – 304 с. 43. Федоров, Г.И. Чёваш литератури (1945-1985 =улсем) / Г.И. Федоров. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 2004. – 516 с. 44. Хлебников, Г.Я. Меслетпе ёсталёх% Статьясен пуххи / Г.Я. Хлебников. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1984. – 254 с. 45. Чичерин, А.В. Ритм образа. Стилистические проблемы / А.В. Чичерин. – М.: Сов. писатель, 1980. – 336 с. 145 II. Художественные тексты 46. Агаков, Л.Я. Хаклё к.р\ / Л.Я. Агаков. – Шупашкар: Чёваш к.н? изд-ви, 1962. – 216 с. 47. Гилязов, А.М. При свете зарниц: Повести / А.М. Гилязов. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1986. – 544 с. 48. Емельянов, А.В. Год – тринадцать месяцев: Повести и рассказы / А.В. Емельянов. – М.: Современник, 1980. – 480 с. 49. Емельянов, А.В. Запоздалый суд: Повести и рассказы / А.В. Емельянов. – М.: Современник, 1976. – 432 с. 50. Емельянов, А.В. Здравствуй, поле мое: Роман / А.В. Емельянов. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 312 с. 51. Емельянов, А.В. Канё=сёр =уркунне / А?В? Емельянов? – Ш?% Чёваш гос? изд-ви: 1960? – 128 с? 52. Емельянов, А.В. Кузьма Овражный: Очерки / А.В. Емельянов. – М.: Сов. Россия, 1987. – 93 с. 53. Емельянов, А.В. Не ради славы: Повести / А.В. Емельянов. – М.: Сов. Россия, 1978. – 448 с. 54. Емельянов, А.В. Перевертыш: Повести и рассказы / А.В. Емельянов. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1996. – 399 с. 55. Емельянов, А.В. Серебряный ветер: Роман / А.В. Емельянов. – М.: Современник, 1987. – 429 с. 56. Емельянов, А.В. +авал сарёлсан / А.В. Емельянов? – Ш?% Чёвашиздат: 1966? – 285 с? 57. Емельянов, А.В. Узоры на листьях: Повести и рассказы / А.В. Емельянов. – М.: Сов. писатель, 1979. – 382 с. 58. Емельянов, А.В. Черные грузди: Повести и рассказы / А.В. Емельянов. – М.: Сов. писатель, 1984. – 304 с. 59. Емельянов, А.В. Шёнкёрав курёк.: Пов.=сем. Калавсем / А.В. Емельянов. – Шупашкар, 1987. – 416 с. 60. Емельянов, А.В. Ят: Роман, пов.=сем, калав / А.В. Емельянов. – Шупашкар, 1992. – 480 с. 61. Хакимов, А.Х. Млечный путь / А.Х. Хакимов. – М.: Современник, 1990. – 336 с. 146