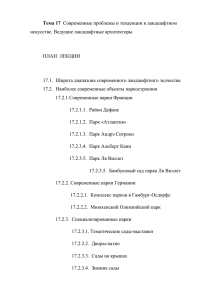Александр КУТЫРКИН. Три эссе о родном городе
advertisement

Александр КУТЫРКИН ТРИ ЭССЕ О РОДНОМ ГОРОДЕ ПРОЗА ВОКЗАЛ «Земля товарная» и «далеко до рая» Шептал в висок мне кто-то, напевая: «И больше нам не стыть в её огне». Елена Шварц 136 Обычай спать по ночам связан с некой фразой, мелким камнем выложенной где-то на далекой отмели нашего ума. Младенец не знает времени сна par excellence и не считает зазорным отвести темное время суток плачу. Летучая мышь, полетевшая нам навстречу на окраине французского городка, едва ли догадывалась, что мы говорим по-русски, но между нею и одиноким фонарем была условленность о мере наших завтрашних дней. Ну, а те, кто плетут заговоры и устанавливают сроки, спать не ложатся и стараются сохранять внимание. Если же говорить о городе, то ночью он становится гением звука. Город в пору современности, когда уже не гудят городские стены. Что-то, видимо, нужно делать со своей безучастностью к рокоту бытия — и город создает эссенции слышимого. Кто знает, так ли далека серьезность алхимика от художнической совести? В городе, ставшем моим много раньше, чем я выговорил слово «мой», несколько вокзалов. Один из них — первый. Из какого-то озорства (или по особой филологической склонности — столько ведь писателей!) он именует себя в женском роде: первая… «Я — Пенза первая». Положим… Те или иные места города вообще-то любят выделяться. Тут не только каприз, вполне извинительный. Еще менее уместны здесь какие-либо ракурсы соблазнения или завоевания. Скорее, в простодушной тяге выделиться в жизни улиц, площадей, вокзалов сказывается род необходимости, который мы — еще простодушней и наивней — именуем «городским планированием». Итак, ночью город не говорил, не пел-напевал, но и не просто так думал вслух — он пробовал звуковые регистры. В часы ночного чтения я слышал, как на асфальт ложатся шаги: конечно, если только теплая пора позволяла открыть балкон. Высокое дерево едва не дотягивалось до перил своими ветвями, а шум листьев говорил о том, что на Земле еще не угас ветер. Книгу можно закрыть. Можно ли вот так уйти? В воздух города, взявшего паузу в своих непрестанных самоукорениях и черновых правках, вступают голоса вокзалов. Они вам расскажут невероятную историю о том, как в протяжность, как в обновленный дом, входит протяженность. Потому-то словно отстраненностью небожителей увековечены сообщения о том, как по «четвертому пути» пройдет «товарный состав» — не задерживаясь и не взяв на борт никого из земнорожденных. К моему столу и к раскрытой книге на нем голоса входили двойным и чередующимся ходом: постояв сперва на аварийном балконе, либо же — на крыльях ночной бабочки-невидимки, залетевшей в форточку. Так с ближней — первой — сходилась Пенза какая-то иная, лежащая в заповедной экспедиционной дали. Геометрия дома и развороты его окон позволяли им быть в моей комнате: тенью — днем и отдельными фразами с огневого голоса — при луне. Первая была — как еще одна (и самая большая!) комната, контрастом введенная к покою нашего дома на время тревог и перемен. Здесь провожали тех, кто уезжал в Москву. Кто не знает: Москва есть как ось земного устроения, как игла, проникшая до глубин душевных вод. Но Пенза иная… То была станция, куда, из сна и раскрыв дверь, можно выйти на перрон — к стоящему поезду с темными стеклами и молчащим вагоном. Однажды новогодней ночью я дошел до нее — четвертой. Конечно, кто-то просто взял меня за руку и велел проводить. С железнодорожным служащим я завел нетвердую речь, ни к чему не ведущую. Меж тем как звезде светилось ясно, и уходящему хмелю вслед глядел холод. Город ночью спит — в согласии с нами и не строя из себя богемного шалопая. Даже если он просто говорит нам: «Я сплю», — постараемся поверить. Ну, а его вокзалы будут без устали роднить один сон с другим: как друг друга усиливающие линзы счастья раздвижной подзорной трубы. КАФЕ Во дворе, где я вырос, был маленький садик. Не знаю, вправе ли я так назвать небольшой участок между двумя двухэтажными зданиями. Двор был большим, и его окружали дома различной высоты. Все-таки я скажу: «сад», ведь тут были не только кусты и дорожка, ведущая к ограде, но и необычное для наших мест плодовое дерево — финик. Конечно, финики никогда не успевали созреть, а ограда, хотя и имела решетчатую дверь, не позволяла выйти на небольшую улочку. Наверное, дверь следовало утром отпирать и запирать на ночь, но это — из области затонувшего социального предания. 137 Разумеется, в ограде были расширения и рукотворные пустоты, достаточные, чтобы самый полный мальчик мог одолевать преграду, не взлетая над ней. И если ты — разведчик, то ведь, в конце концов, разведанным и установленным должен быть последний маршрут: из хрустальной сферы, в которую заключены наши души, прочь — к мирному блеску созвездий. По этой улочке много лет спустя, бывало, шел навестить меня мой друг. Осенним вечером до него донеслись голоса: когда листья вспыхивали в фонарном свете, голоса звучали не громче, но яснее. Через дорогу он увидел раскрытую дверь. В кафе горел красный свет, и — лишь фасад невысокого старого дома загородил тополь — показались спины новых посетителей. «Контрабандисты… или курьеры его светлости…» Но ведь и жизнь идет своим чередом, путаясь в симпатиях к корпускулам и волнам. Когда в городском саду наступает ночь, на карусели катаются эльфы. Через короткий срок мой друг был вынужден спросить свою память: «Шутишь?» Ничто на другой стороне все той же улочки не говорило о кафе, ярком свете, смеющихся голосах. Череда невзрачных окон, дома, стоящие встык, ветхие арки. Контрабандисты, неудачливые маклеры, искатели голубого снега — все, все, друг друга касаясь локтями, проникли в наш садик, не забыв оставить автографы на вечнозеленых листьях финиковой пальмы. ПАРКИ — МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕМНОТОЙ В ночную пору удаленные друг от друга парки ведут разговор. Они обмениваются «длинными» репликами — во всю длину разделяющих их улиц. Едва ли многие из числа старожилов Пензы смогут легко перечислить все городские парки и скверы. Этому не стоит удивляться, ведь на облике города так заметно сказывается «душа дерев». «Зеленый город» — первое, что обычно отмечают те, кому довелось здесь побывать. Однако парки — это не только древесная кора, ветви, зелень и цветы. И даже не только тень, прохлада и всегда подвижный аромат воздуха. Городской парк — это место, где так понятной становится условность грани, разделяющей восприятие и настроение. Парк — это тот странный «край души», где на диво легко быть вдвоем. Одинокая прогулка здесь всегда оказывается свиданием, поскольку рядом с вами «неслышными шагами» идет кто-то незримый. Кто он? Ваша иная возрастная ипостась? Ребенок или старик — кто бы ни был, несомненно одно: так вы разломили надвое свое одиночество. Для того чтобы просто идти, вам приходится говорить, вести беседу — с собой. Вернее сказать, с тем своим странным обликом, что даже в мысли неотделим от высоко стоящего облака. Вы приходите в парк к самому рассвету? — вы знаете, как город выпадает из гнезда сновидений. Останавливаетесь здесь в полдень? — меридиан города ложится у ваших ног как мелким камнем выложенная тропа. 138 И все-таки парк — это ночное сердце. Погруженный в безмолвие, словно бы схваченный темным обручем безлюдья, ночной парк все знает о человеке. Эта странная смесь тьмы и света не есть ли иероглиф души, из своего дня оборачивающейся ко всегда узнаваемой ночи? В душе парка есть что-то лишь едва видное, некая тень, как на лице человека, не способного и на миг отвлечься от тревожного, ранящего воспоминания. Ночной парк полон голосами истекшего дня. Вы помните тот детский час, ту странную вспышку смятенного сознания, когда после долгой болезни вдруг «терялся» голос? Поверх мучительного недоумения и неловкости неслась догадка о небывалой возможности говорить неслышно. Может быть, эта вновь освещенная догадка примирит нас с мыслью о неслышимом голосе ночного парка. В этом голосе свой вечный путь проходит глубокая память. Не потому ли присутствие парка рядом с вами становится столь ощутимым? Если, замерев ненадолго, закинуть голову — звезды видны лучше, потому что и речь парка становится ясней. Эта речь вторит нашим воспоминаниям. И город, всегда помнящий о своем древнем предназначении быть собранием людей, разделивших одну судьбу, постигается как полустанок — в неотвратимом людском движении от земли к огням неба. Здесь — глубокая ночь человека сходится с ночным отдыхом города. Покажется странным, но в этой живой и всеобъемлющей ночи, в этом ничем не нарушаемом уединении, далеко скрытой мелодией звучит людская солидарность. В разновеликости и многоцветности стремлений, в многообразии упований мы сходимся в одном и главном — своем стоянии на единой Земле. К этому смысловому истоку обращено наше заботливое сердце, здесь видит ум начало пути к познанию. Город хотел бы быть символом людского бытия, когда окликание другого не отстоит от совместной вовлеченности в дело. Работа в поле, в лесу, в открытом море — к этим родовым трудам человека не привит диалог. Человек предстает здесь перед великими реальностями, и шум ли ветра, приходящего из беспредельности, движение ли морской стихии либо же отдаленный голос церковного колокола — все это идет «мировой волной», поверх называния другого — и стоящего рядом — по имени. Иначе — жизнь города. Жить в городе — значит исходно быть рядом с другим и говорить с ним. Бедные афиняне не смогли усвоить этот простейший урок, преподанный им Сократом. Им грезилась какая-то «слитная» жизнь, где реален — один лишь род. Но уже архитектура города, вся стилистика городского бытия делают эту грезу вздорной. Факельные шествия национал-социализма умножили этот вздор, совсем не случайно отлив свою истерику в вавилонское нагромождение убийств. Мы знаем, что социальные смыслы рождаются в городе. Здесь сложилась форма социального времени, соразмерная горячему беспокойству человека о его будущем. Горожанин нередко кажется суетливым — и как часто он именно таков! Но отстраним видимость и житейскую случайность: городского жителя неизменно трогает сознание того, что его бытие — «на грани». Оно воистину лежит, если вспомнить выражение Жана-Поля Сартра, в «поле скудости». Дефицит времени — не следует тут ссылаться на промахи в социальной организации или пенять на 139 личную несобранность. Настоящее «истекает», поскольку включено в режим работы машины «городского обмена». А будущее — это гость, навещающий каждое утро и спозаранку своим стуком в дверь поднимающий всех в доме. Потому-то горожанину приходится ежедневно говорить «да» своему городу: «Да, я принимаю тебя, я готов принять участие в восстановлении ресурса социального времени». Как важно — и как трудно! — угадать тот момент, когда неспособность сказать это «да», как ширящаяся с невиданной скоростью эпидемия, поражает жителей города! Социальная анемия — не самый пугающий исход этого массового недуга. Обитателю села, в самом деле, «вольготней», ведь первичные слова бытийного согласия за него произносит ландшафт. Вечное «да» небес и земли, беззвучная и короткая речь полузасохшего пруда, свернувшееся в кольцо время проселка — всему этому учатся разом, в мгновенном постижении одного детского утра. И всем этим невольно делятся с другими, если только «социальная машина» не запускает в оборот нелепый «дележ» коварства и горькой корысти. Но даже и тогда — мир раскидывается пологом над округой села. Ведь время мира — не преходит. Ну а город, повторим, — это вновь и вновь возобновляемое решение. Позывные рациональности и ясный взор моральной ответственности требуют от человека столь же ясного «да» всей людской солидарности. Которая, признаемся, потому и дар бесценный, что ежесекундно зависает над бездной. И от того же так часто бьется сердце города. Когда же человек засыпает… Наступает ночь, ночь, когда-то названная Гегелем «ночью-хранительницей»1. Городские парки, словно гости-великаны, пришедшие из неведомой лесной дали, видят город в странной вспышке света, которая стоит за спиной темноты. И они говорят — так, словно по сторонам улицы несутся ракеты. Никого не ранящие, ведь их заряд — это сговор об условиях хорошо и чисто накрытого стола, искреннего рукопожатия и речи: произносимой не «в уголку», но выносимой во двор, на площадь, на порой сильный ветер городской жизни. Найдите день и час, чтобы совершить пешую прогулку — из парка Лермонтова к парку Белинского. Вы можете выбрать разные маршруты. Однако если не спешить и дать своему чувству шанс прислушаться к говору самих улиц, а уму — возможность в него вникнуть, то вы постигнете покой как двугранную золотую монету: безмятежность и эмоциональная приподнятость отдыха, пронизанного веселым светом и будто бы окутанного тканью шопеновского вальса, невольно уступит место мелодии сдержанной и строгой. Не была ли она в долгом обучении в гимназии, где наставники — площади и выступившие в камне архитектурные образы? Образы города, не упускающие из светлой памяти свое имя. 1 «Ночь-хранительница. Этот образ принадлежит духу, его просто самости… Эта ночь — внутреннее природы… Эта ночь видна, если заглянуть человеку в глаза — в глубь ночи, которая становится страшной; навстречу тебе нависает мировая ночь». Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет в 2-х томах. Т. 1, М. «Мысль», 1970, С. 289 140