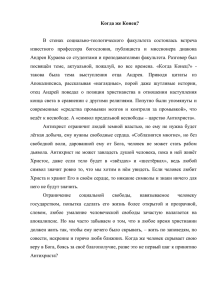Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
advertisement
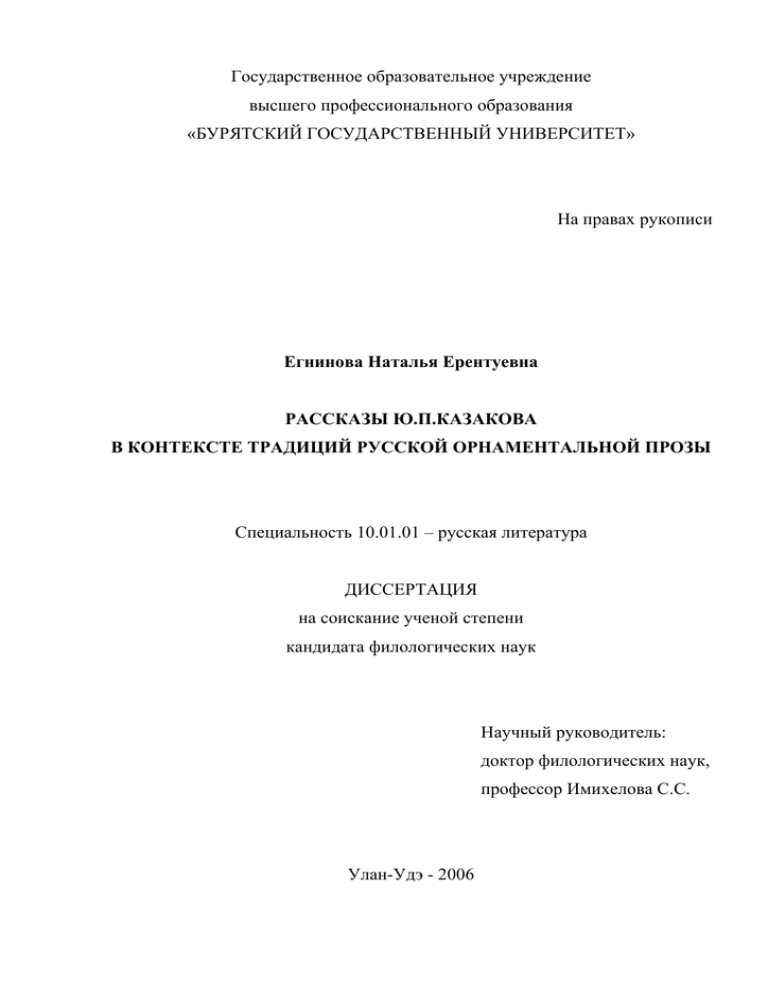
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» На правах рукописи Егнинова Наталья Ерентуевна РАССКАЗЫ Ю.П.КАЗАКОВА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ Специальность 10.01.01 – русская литература ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Имихелова С.С. Улан-Удэ - 2006 Оглавление Введение……………………………………………………………………….…3 Глава I. Орнаментальная проза в литературном процессе ХХ века……12 1.1. Орнаментальная проза первой трети ХХ века: теория и история……….12 1.2. Творчество Ю. Казакова и лирическая проза 1950-1960-х годов……………………………………………………………….31 Глава II. Традиции орнаментальной прозы в рассказах Ю. Казакова ……………………………………………………………………40 2.1. Орнаментальные приемы в прозе И. Бунина и Ю. Казакова…………….40 2.2. Орнаментальные традиции лейтмотивного типа повествования в рассказах Ю. Казакова ………………….……….……………………….…...52 Глава III. Поэтическое начало в жанре рассказа Ю. Казакова .……..….81 3.1. Типы рассказов в творчестве писателя………………………………….…81 3.2. Рассказы-«события» в прозе Казакова…….………...…………………….88 3.3. Рассказы-«переживания» в творчестве писателя ………………………...98 Глава IV. Орнаментальные тенденции в стиле Ю. Казакова и специфика художественного сознания писателя…....…………….……112 4.1. Система поэтической языковой образности рассказов Казакова….. .…112 4.2. Особенности орнаментальной композиции рассказов Казакова ………127 4.3. Экзистенциальные доминанты в художественном сознании Ю. Казакова ……………...…………………………….…………………….…135 Заключение ……...…………………………………………………………….144 Примечания ……...……………………………………………………………149 Список использованной литературы …...…………………………………158 2 Введение «Каждый талантливый писатель единственен в своем роде, потому что пишет лишь себя, лишь о мире, который окружает его небывалую, отличную от всех личность» (1,с.272). Это определение таланта, принадлежащее Юрию Павловичу Казакову (1927-1982), более чем справедливо, в первую очередь, по отношению к нему. Творческая уникальность художника позволила его произведениям стать одной из ярких страниц русской литературы ХХ века. Ю.Казаков - писатель необычайно лиричный, открывающий, как на исповеди, самые сокровенные тайники своей души. Его произведения – литература для думающего читателя с развитым эстетическим вкусом. О сложности личности и творчества Ю. Казакова свидетельствуют противоречивые отзывы современников. С одной стороны, это восхищенные высказывания, с другой - ярлыки «декадента», «эпигона» (2, с.102; с.55). Вяч. Вс. Иванов, выделяя Ю. Казакова среди писателей, «политически расходящихся с официальной литературой» в эпоху хрущевской оттепели, подчеркивал в его произведениях «технику письма, сходную с классиками», «хороший язык» (3, с.479). Многие писатели признавали несомненный талант Казакова, но при этом отмечали отсутствие в его произведениях столь необходимой в те годы социальной остроты. «Даровито, но самобытно ли…», - такими словами сдержанно оценили прозу Казакова современники. Так, А. Солженицын высказался о писателе следующим образом: «И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от правды» (4, с.11). Однако в понятие правды названные прозаики вкладывают разные смыслы. А. Солженицын – художник острого публицистического пафоса, Казаков, напротив, – художник с душой поэтического склада, «поэтому сильная сторона его творчества – эстетическая» (5, с.339). Всю свою жизнь Ю. Казаков писал, как отмечает другой исследователь И.Штокман, о «всечеловеческом» человеке, о тех его чувствах, остром контакте с жизнью, отклике на нее, что были и будут всегда» (6, с.77). Степень изученности творчества Ю.П. Казакова в отечественном литературоведении. Одно из наиболее фундаментальных монографических исследований о Казакове – работа И. Кузьмичева (1986), который создавал ее при поддержке самого писателя, а также его жены и друзей. И. Кузьмичев, рассматривая прозу Казакова, ставит перед собой цель – «набросать в первом приближении, литературный портрет, не посягая на всесторонний анализ казаковской прозы». «Всесторонний анализ прозы», тем не менее, присутствует – исследователь достаточно подробно останавливается почти на всех произведениях автора, рассматривая их как прямое продолжение традиций классического реализма ХIХ века, что выражается в преданности жанру классического русского рассказа, безупречно отточенном языке, высоком духовном содержании произведений. Однако для И. Кузьмичева вопрос специфики эстетической системы прозаика, ее неоднозначности остается открытым: «Проза Казакова, при ее художественном совершенстве, требует кропотливого филологического рассмотрения» (7, с.6-8). Сегодня раздаются голоса, которые отмечают сложность, художественной эстетики названного писателя. Так, И. Кукулин не включает творчество Казакова в определенное литературное русло, считает, что он «стоит особняком от прозы соцреализма», отмечает экзистенциональное содержание его произведений (8, с.210). Автор одной из глубоких, обстоятельных работ о Казакове Н.Г.Махинина находит следы романтизма при разработке важных для писателя образов дороги, детства. Используя аксиологический подход и опираясь на опубликованные дневники и ряд известных рассказов автора (например, «Тедди», «Арктур – гончий пес», «Свечечка» и др.), она определяет основные романтические образы-символы, проводит сравнительный анализ его рассказов «Свечечка», «Во сне ты громко плакал» с трилогией Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Подводя 4 итоги, Н.Г. Махинина намечает следующие перспективы изучения его творчества: «Ждет своего решения… вопрос специфики творческого метода Ю. Казакова» (9, с.41, 185). В ряду ярких и полновесных последних работ о Казакове, несомненно, находится исследование А.М. Панфилова, в котором автор очерчивает «духовную одиссею» художника. Условно разделив творческую судьбу художника на три периода: "соревновательный", "мастерский" и "итоговый", исследователь также видит итог духовных поисков писателя в движении к христианскому миропониманию. Такой взгляд на творчество Казакова позволяет понять, почему он «замолчал» в последний период жизни: «Следует, скорее, говорить не о последнем молчании Юрия Казакова, а о последней тишине полного понимания, которое, по существу, религиозно – в христианском, у Казакова, духе» (10, с.192). Художник, по мнению ученого, в последний период творчества «ищет уже не свое место в литературе, – он – с помощью литературы – ищет свое место в мире, ищет оправдания жизни в высшем смысле». Однако Панфилов отмечает, что и «на закате своей жизни Казаков двоится… Творческие прозрения не принимаются художником за последнюю истину; напряженное религиозное устремление тут же ослабевает, как только писателя оставляет художественное вдохновение. В минуту вдохновения мир кажется одним, в минуту тоски… совсем другим» (10, с.189). Стремление к идеалу гармоничного, по-детски цельного мировосприятия, иными словами, поиск внутренней гармонии и свободы, и вместе с тем осознание писателем невозможности полного достижения этого идеала для А.М. Панфилова – это признаки «внутренних катастроф писателя, сигнал о его внутренней незавершенности» (10, с.124). Однако Ю. Казаков, на наш взгляд, воспринимал невозможность достижения полного идеала скорее не как «катастрофу», а как неизменное условие «живой жизни»: он старался отразить на страницах своих произведений настоящую действительность (и свой внутренний мир как часть этой действительности) во всех ее противоречиях – именно в этом, по 5 мнению художника, и заключается особое мужество писателя: «У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь должна быть лучше» (1, с.85). Неустанное стремление к оптимистическому восприятию мира, несмотря на жизненные сложности, противоречивые чувства и мысли, - яркая черта мироощущения писателя. Пожалуй, наиболее точной, на наш взгляд, в оценке прозы писателя является позиция Е. Галимовой, которая отмечает, что «повышенное внимание в отдельному моменту жизни», «психологизм… импрессионистичность его мировосприятия, тяга к анализу подвижных, переходных, текучих состояний» являются неотъемлемой составляющей творчества Юрия Казакова» (11, с.21). Е. Галимова рассматривает содержательную сторону произведений писателя, подробно останавливается на основных образах, темах и идеях, импрессионистически поданных в его произведениях. Подводя итог своей работе, автор монографии так же, как большинство исследователей, отмечает, что одной из малоизученных и актуальных проблем по-прежнему остается «подробный филологический анализ творчества писателя» (11, с.98). Таким образом, наследие Казакова многогранно и далеко не полностью изучено. Мнение большинства ученых, исследовавших создания прозаика, убеждает нас в том, что художественная система Казакова требует тщательного анализа ее разнородных составляющих. По-настоящему одаренный писатель всегда доказывает своим опытом невозможность узкой теоретической классификации. Ю. Казаков как один из ярких прозаиков прошлого столетия, на наш взгляд, в творчестве во многом следовал не только художественным традициям классического реализма ХIХ века, но и традициям писателей первой трети ХХ века, среди которых особое место занимает традиция орнаментальной прозы. 6 Актуальность исследования. Орнаментальная проза как яркое литературное явление первой трети ХХ века, согласно закону непрерывности литературного процесса, не могла не оставить свой след в литературе последующих периодов. Ю.П. Казаков – один из немногих писателей«шестидесятников», который обратился к традиции орнаментального повествования. В своём творчестве он возрождал в определённой степени эту линию литературы, надолго позабытую литературой в советский период. Рассмотрение художественного мастерства Ю. Казакова в русле традиций русской орнаментальной прозы является весьма плодотворным, так как позволяет раскрыть важные грани прозы писателя, глубже осмыслить специфику художественного сознания автора, что определяет актуальность данного исследования. В работе орнаментальная проза рассматривается как художественностилистическая разновидность словесного искусства, совмещающая в себе характерные черты прозы и поэзии. Для ее обозначения в исследовательской литературе используются различные термины: «поэтическая» или «чисто эстетическая» (В.М. Жирмунский), «поэтизированная» (Ю.Н. Тынянов), «неклассическая» (Н.А. Кожевникова), «лирическая», «ритмизованная» проза и др. Однако вслед за Л.А. Новиковым в работе отдается предпочтение термину «орнаментальная проза», так как глубокое внедрение в повествование поэтических приемов, их прорастание оправдывает понятие «орнаментализм»: непременным для орнамента является повтор тех или иных образных мотивов, стилизованных деталей образного целого (12, с. 29). Орнаментальные тенденции, по мнению ученых, проявляются в разные периоды истории литературы: их можно обнаружить уже в древнерусской литературе в стиле «плетения словес» (Д.С. Лихачев, 13, с. 286), литературе ХIХ века (в творчестве А.С. Пушкина, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского (В.Шмид, 14, с.280)), но в большей степени в литературе ХХ века. В связи с этим в современной науке (М.М. Голубков, Ю.И. Левин, Е.Б. Скороспелова) как самостоятельное художественное явление выделяется орнаментальный 7 стиль, «художественным принципом которого является организация прозаического текста по законам поэтической речи» (15, с. 230), что выражается в языковом и композиционном оформлении, сюжетостроении, жанровой специфике, образной структуре произведений в целом. Весьма продуктивным в творческой манере Казакова, на наш взгляд, оказалось также присутствие элементов импрессионистической эстетики. Импрессионизм как эстетика, обладающая «переходным характером» (Л.В.Усенко, 16, с. 151), обогащает реалистически вещественный мир рассказов Казакова. В качестве подтверждения данного положения, оправдывающего подобное рассмотрение прозы писателя, можно привести следующее его высказывание: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно… мазок – и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни» (1, с.311). Техника мазка, умение затронуть только «нужные струны», придать необычайный лиризм «малому» жанру, в частности, роднит писателя с произведениями К.Г. Паустовского, авторов лирической прозы 1960-х годов О. Берггольц, В. Солоухина, В.Катаева и других современников писателя. Отдельный аспект рассмотрения творчества писателя в данной работе – художественные параллели с произведениями И.А. Бунина. Творчество И.А.Бунина также оценивалось весьма неоднозначно в науке о литературе 1 . При этом литературное родство обоих писателей отмечалось многими исследователями. В данной работе мы искали новые «точки соприкосновения» в стиле и художественном мышлении авторов: писателей сближает активное использование поэтических элементов в прозе, обращение к опыту импрессионизма и орнаментальному стилю. 1 Ф. Степун, В. Вейдле находят у Бунина зачатки модернистского письма. Западное литературоведение решительно относит Бунина к числу модернистов (Т. Марулло, Р. Поджолли, В. Вудворт и др.). Э. Полоцкая (17, с. 412), Э. Денисова (18, с. 22) прослеживали взаимопроникновение поэзии и прозы в раннем творчестве писателя. А.А. Волков, И.П. Ватенков видят в творчестве Бунина «реалистический метод… но преломленный через субъективное восприятие индивидуума» (16, с..216). О наличии в творчестве Бунина орнаментальных тенденций из современных исследователей говорит только Е. Скороспелова (19, с. 77). 8 Таким образом, подробный анализ особенностей стиля Казакова представляет в данной работе главный научный интерес и определяет цель диссертации – исследуя орнаментальные тенденции в стиле Казакова, выявить смысловые доминанты текста, раскрывающие существенные особенности мироощущения и художественной эстетики прозаика, его место в литературном процессе ХХ века. Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть специфику феномена «орнаментальной прозы», его становление, развитие в творчестве писателей ХХ века; 2) определить литературные связи произведений Ю. Казакова с орнаментальными стилевыми традициями первой половины ХХ века (прежде всего, с прозой И.А. Бунина, А. Белого, А.П. Платонова и др.); 3) установить причины предпочтения Ю. Казаковым жанра рассказа на протяжении всего творчества; 4) выявить, какими художественными средствами, заимствованными из поэзии (на языковом и композиционном уровнях), выражаются в стиле рассказов писателя особенности художественного мышления Ю. Казакова; 5) рассмотреть комплекс наиболее важных для творчества писателя лейтмотивов, позволяющий определить основные доминанты художественного и личностного «пространства» автора и образующий художественный метатекст (авторский и общелитературный). Научная новизна настоящей работы заключается в том, что впервые творчество Казакова рассматривается в контексте традиций русской орнаментальной прозы, и это дало возможность выявить специфику воздействия поэтической формы словесного выражения на прозаический текст Казакова, определить, как орнаментальность обнаруживает определенные качества индивидуального мировосприятия прозаика. В таком преломлении творчество Казакова еще специального исследования. 9 не становилось предметом Хотя орнаментальные тенденции присутствуют уже в древнерусской литературе, литературе ХIХ века, как более масштабное и последовательное художественное явление они проявились в литературе первой трети ХХ века, именно в это время как обозначение данного явления возникает само понятие – «орнаментальная проза». В связи с этим диссертантом в творчестве Казакова прослеживаются, прежде всего, художественные традиции писателей поэтического склада первой трети ХХ века, что позволяет определить объект исследования - творчество Ю. Казакова, рассмотренное в контексте литературного процесса ХХ столетия; и предмет исследования – традиции орнаментальной прозы в рассказах писателя. Методологическая и теоретическая база исследования – труды В.М. Жирмунского, А.Ф. Лосева, Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского, Ю. Лотмана, Д.С. Лихачева, Б. Томашевского, Н.К. Гея, Б.М. Гаспарова, М. Гиршмана, Л.Я. Гинзбург, В.В. Кожинова, М.Б. Храпченко, А.В. Михайлова, Ю.Б. Орлицкого и др.. Использовались теоретические исследования в области теории стиля, орнаментальной стилистики, импрессионизма в прозе ХХ столетия В.А. Келдыша, Л.К. Долгополова, Н.К. Гея, Л.А. Колобаевой, Н.В. Драгомирецкой, Г.А. Белой, Т. Сильман, В. Шмида, Л.В. Усенко, Л.Г. Андреева, Л.Е. Корсаковой, В.Г. Захаровой, Е.А. Скороспеловой, М.М. Голубкова, Л.А. Новикова, Н.А. Кожевниковой, Л.А. Иезуитовой, Ю.И. Левина, В.С. Измайлова составил целостный и др. Методологическую основу исследования подход, который базируется на сравнительно- историческом и лингвостилистическом способах изучения художественных текстов. Практическое значение диссертации заключается в том, что ее результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях творчества Ю. Казакова и литературы ХХ века в целом, а также при построении обновляемых в настоящее время курсов истории русской литературы XX века в вузовском и школьном преподавании. 10 Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на международной конференции «Россия – Азия: становление и развитие национального самосознания» (Улан-Удэ, 2005), ежегодных научно- практических конференциях преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ (Улан-Удэ, 2002-2005). Содержание работы отражено в шести публикациях (тезисах научных докладов и статьях). Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, примечаний и 11 списка литературы. Глава I Орнаментальная проза в литературном процессе ХХ века 1.1. Орнаментальная проза первой трети ХХ века: теория и история Развитие литературы характеризуется активным взаимовлиянием, взаимопроникновением родов и жанров, прозы и поэзии, хотя противопоставление поэзии и прозы никогда, в сущности, не являлось абсолютным. Совершенно справедливым является утверждение Б.В.Томашевского: стих и проза «не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные факты… Закономерно говорить о более или менее прозаических, более или менее стихотворных явлениях» (1, с.87). Две основные формы художественной речи в разные периоды развития литературы то намеренно противопоставляются, то предельно сближаются, образуя различные переходные явления. «Своеобразной гибридной формой художественной речи, совмещающей в себе характерные черты прозы и поэзии, является поэтическая проза, называемая чаще всего орнаментальной» (2, с.25). В середине ХХ века, в период главенства соцреализма, явление, обозначаемое термином «орнаментальный» (в том числе «лирический»), крайне негативно воспринималось литературной средой тех лет. Известен, например, нелестный отзыв о нем К.Г. Паустовского: «Писатель, познавший совершенство архитектурных форм, конечно, не допустит в своей прозе… разжижающих прозу украшений – так называемого орнаментального стиля» (2, с.30). Как можно убедиться, в вину орнаментальной прозе ставилось бессодержательное внешнее украшательство. «Хорошая» литература и «литературность» были для критики советского периода понятиями не 12 пересекающимися. «Никого не смущало, что винить писателя в литературности так же курьезно, как хорошего слесаря в слесарности, – такова была политика. Всякий поиск новых форм пресекался в зародыше, традиции же позволялись не всякие» (3, с.14). Вполне закономерно, что при таком взгляде на литературу орнаментальная проза, представляющая собой, в сущности, «гипертрофию литературности» (4, с.77), считалась посредственной и «антисоветской» (5, с.120). Такая же участь постигла в свое время «новые» литературоведческие изыскания формалистской школы. Между тем именно ученые-формалисты оценили значимость литературного феномена «орнаментальной прозы» и подвергли его филологической рефлексии. В частности, В.Б. Шкловский в книге «Матерьял и стиль в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"» обратил внимание на знаменитую толстовскую деталь в описании внешности французского солдата – «дырочку на подбородке», запечатлевшуюся в памяти Николая Ростова. В связи с этим в работе «Теория прозы» он сформировал собственную теорию «протекающего слова» (6, с. 224). В современном литературоведении оно названо «лейтмотивным», или «ключевым», словом. В другой статье «Орнаментальная проза. Андрей Белый» В.Б. Шкловский пророчески писал, что в творчестве А. Белого «новая форма уже целиком эстетически осмысленная. Она войдет в новую русскую прозу» (6, с. 225). В настоящее время орнаментальная проза вновь вызывает интерес у литературоведов. Большинство ученых сходится во мнении, что это «явление гораздо более фундаментальное, нежели словесная обработка текста» (4, с. 79). Теоретиком и практиком орнаментальной прозы был Ю.Н. Тынянов. Вместе с В.Б. Шкловским и Б.М. Эйхенбаумом он являлся членом ОПОЯЗА, который в центр ставил увлеченность словом как таковым. В книге «Проблема стихотворного языка» ученый формулирует важнейшие теоретические законы, предлагая тем самым научную разгадку тайны 13 поэтического слова, а также, в сущности, давая филологическое обоснование орнаментальной прозе (7, с. 230). Согласно закону «динамического взаимодействия материальных элементов художественного произведения» и закону «единства и тесноты стихового ряда» стих рассматривается ученым «как система сложного взаимодействия, а не соединения». Из этого следует: для того «чтобы понять произведение, надо искать в нем динамический конфликт, художественный нерв», так как «в каждом стиховом слове помимо основного становятся ощутимыми второстепенные лексические значения, а сюжет стихотворного произведения подчиняется ритму» (7, с. 14). Важным становится обращенность слов к другим словам в тексте, их взаимодействие по аналогии или по контрасту. Исследователи выявили различные причины обращения писателей к орнаментальности. Д.С. Лихачев писал, что в русской литературе проявление орнаментальной прозы присутствует уже во времена Древней Руси – это так называемый стиль «плетения словес». Причиной орнаментального отношения к слову как к некой реальности, считает ученый, является стремление создать некоторый «сверхсмысл», именно это роднит орнаментальную прозу с поэзией (8, с.286). Литература ХХ столетия, по мнению Е.Б. Скороспеловой, заменила классический принцип реалистической типизации, социальную конкретику на принцип универсализации, изменила координаты постижения мира, в результате возникла новая эстетическая система, в которой произошло смещение центра тяжести на ощущение стиля, сближение прозы с поэзией. Орнаментализм рассматривается ею как одно из проявлений данного принципа: «Стремление к художественной универсализации опиралось на такие явления, как неомифологизм, орнаментализм, фантастика, деформация действительности» (9, с. 42,51-52). В. Шмид считает, что поэтическая структура, воздействующая на повествовательный текст и изображаемый им мир, отображает строй мифического мышления. Мифопоэтика придает конкретным и локальным 14 образам универсальность и всеобщность. Исходя из этого, согласно исследователю, «орнаментальная проза – не поддающийся исторической фиксации результат воздействия поэтических начал на нарративнопрозаический текст», и «в принципе, можно найти отпечатки поэтической обработки нарративных текстов во все периоды истории литературы». Так, по мнению В. Шмида, черты орнаментальности присутствуют уже у А.С.Пушкина, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского, но только в определенной степени. К примеру, «у Чехова еще нельзя обнаружить непоследовательности истории, ослабленности действия, аперспективизма и апсихологизма, характеризующих бессюжетную орнаментику первой трети ХХ века» (4, с. 287). Полемизируя с В. Шмидом, исследователь творчества Е.И. Замятина В.Н. Евсеев утверждает, что не все можно объяснить «мифологизированием». Причину обращения писателей к поэтическим принципам в прозе он видит в художественном аспекте: поэтическая проза позволяет шире отразить мир в более лаконичной форме: «Орнаментальность построена на регулярном ритмическом чередовании определенных элементов. Ритмика, повтор образа вызывают у читателя обширный круг ассоциаций. Символ должен вырасти в тексте, поэтому в повторах, закрепляющих его устойчивость и продуцирующих внимание читателей, он проходит “инкубационный” период» (10, с.321). М.М. Голубков также рассматривает данную проблему с эстетической стороны. Орнаментализм, по мнению исследователя, – это стиль, выражающий модернистскую, в частности, импрессионистическую эстетику: «Творческие задачи, которые ставили перед собой художники, работавшие в рамках модернистской эстетики, определяли и стилевую организацию произведения, для которых наиболее характерной формой выражения стала орнаментальная проза» (11, с. 230). Ярким примером орнаментальной импрессионистической прозы, считает исследователь, являются создания прозаиков 1920-х годов: А. Белого, Б.А. Пильняка, О.Э. Мандельштама и др., 15 на примере творчества которых ученый демонстрирует, как усложнившиеся творческие задачи создателей определяли более сложную стилевую организацию их произведений. Русская орнаментальная проза и по сей день, по мнению ученых, исследована недостаточно. «Филологическое изучение этой прозы должно в полной мере раскрыть ее изобразительное богатство и нераскрытые возможности, в том числе и то, что часто не обнаруживается «невооруженным» глазом и ухом, попросту пропускается при чтении; оно должно вместе с тем воспитывать у читателя вкус к эстетическому восприятию художественной прозы как произведению словесного искусства» (2, с.36-37). Нет четкой границы в оппозиции «орнаментальная – неорнаментальная проза», литературные орнаментальности. произведения Достаточно отличаются сложно установить разной степенью границы данного художественного явления: орнаментальное, поэтическое отношение к слову свойственно многим действительно талантливым писателям поэтического склада. Однако отдельные черты, заимствованные из лирики, еще не делают «классическую» прозу «орнаментальной». Поэтические приемы в орнаментальной прозе – это не просто частный прием, а основной конструктивный принцип организации текста. Именно структурная связь с поэзией позволила осознать орнаментальную прозу как явление качественно отличное от классической реалистической прозы. Также не нужно путать орнаментальную прозу с метризованной прозой, верлибром, свободным стихом и другими явлениями в литературе, более близкими к поэзии. Несмотря на тяготение к поэтическому тексту, «тип художественного слова в орнаментальной прозе остается прозаическим» (12, с. 11). В классической литературе ХIХ века «предтечей» орнаментальной изобразительности является «сказ» Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, а также некоторые сказовые произведения Ф.М. Достоевского А.П. Чехова, А.М.Ремизова и т.д. Среди произведений литературы 20-30-х годов прошлого 16 столетия определенно называют орнаментальными создания Б.А. Пильняка, С.А. Клычкова, А. Веселого, Е.И. Замятина, И.Э. Бабеля. В орнаментальном «ключе» написаны произведения А.П. Платонова, Б.А. Лавренева, Вс. Иванова, М.А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова. Отдельно принято выделять сказовую прозу (рассказы и повести Л.М. Леонова, рассказы М.М. Зощенко, Л.Н. Сейфуллиной), а также «прозу поэтов» О.Э. Мандельштама и Б. Л. Пастернака и более позднюю – О. Берггольц, Е. А. Евтушенко, А.А.Вознесенского и других писателей. Основоположником и наиболее ярким представителем орнаментальной прозы в начале ХХ века считается А. Белый. Одна из обстоятельных работ, раскрывающих творчество писателя в данном аспекте, – монография Л.А. Новикова «Стилистика орнаментальной прозы А. Белого» (1990), где автор подробно представляет теоретическое осмысление литературного процесса самим писателем и предлагает лингвостилистический анализ прозы А. Белого. Исследователь показывает, как в его произведениях предельно выражены такие орнаментальные черты, как ритм, звукопись, лейтмотивность, монтаж, фигурная проза, средства «суперобразности», сложный синтаксис и др. Таким образом А. Белый достигает главной своей цели – преодолеть собственное «косноязычие», найти «свой язык» в эпоху кризиса культуры и слова (2, с.26). К самым ярким писателям, отдавшим дань орнаментальной прозе, на наш взгляд, следует отнести И.А. Бунина. Анализируя поэтику уже ранних философских миниатюр Бунина, можно убедиться в присутствии в них орнаментальности 2 . Творчество писателя ознаменовано поисками пути к самому себе. В этом смысле подлинно бунинским, «лирико-бытийным» (термин Л.А. Иезуитовой) является рассказ «Поздней ночью» (1899). Лирическая стихия пронизывает произведение. «Мне хочется понять и выразить что-то происходящее во мне», – пишет Бунин о своих 2 Литературный критик Ф. Степун, современник и друг писателя, считал, что в прозе Бунин был еще более поэт, чем в стихах. Сам писатель говорил о себе следующее: «Я поэт, и больше поэт, чем писатель, я главным образом поэт» (14, с.8). 17 произведениях (13, с.221). Выражение творческого «я» осуществляется в рассказе, по нашему мнению, за счет приемов орнаментализма. По структуре рассказ традиционен для творчества писателя: это лирические размышления героя. Повествование ведется от первого лица. Подобная повествовательная манера присутствует, например, в миниатюрах «В августе» (1901), «Костер» (1902-1932), «Надежда» (1902-1932) и др. Образы героев лишены резких контуров: нет внешнего портрета героев, нет имен (для указания используются местоимения «она», «я»). Сознательно создается установка на воспоминание как на основной текстообразующий принцип; происходит ослабление роли сюжета. На первый взгляд, в рассказе «Поздней ночью» статичная картина: герои в комнате в ночном Париже. Однако это только внешне: в повествовании варьируются описания природных образов и описания переживаний, выраженных в основном через сквозные мотивы сна, детства, тишины, вины. «Нет никакой отдельной от нас природы, – считает Бунин, – каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (13, с.125). Л.А. Иезуитова отмечает: «Бунин художник “закрытый”, не желающий распахивать окно в свой мир посредством собственных подсказок. Как правило, он передает потаенное внутреннее через искусно воссозданное “внешнее” – через атрибуты вещного природного мира – атрибуты, которые способны сами по себе служить носителями бытийного философского начала» (14, с.108), выступая в произведении как образы-лейтмотивы, пронизывая рассказ, эти атрибуты образуют орнаментальный каркас и являются показателем движения при внешнем отсутствии сюжета. В первом абзаце миниатюры «Поздней ночью» основным является лейтмотив сна, часто встречающийся у Бунина. Густота повтора – характерная особенность образной насыщенности орнаментальной прозы, ее экспрессии. Это могут быть повторы разных типов: повтор самого слова, однокоренных слов («сон», «сновидение», «заснул»), слов одного семантического поля («ночной», «открыв глаза», «очнувшись»), повторы с 18 помощью перифраза (сон / «час отдыха от всей лжи и суеты дня») и развернутого сравнения («медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни»). Лейтмотив сна создает ощущение «пограничного состояния», в котором находится герой, – состояния некоей неопределенности, зыбкости происходящего. Об этом же говорят следующие сигналы в тексте: альтернативный вопрос, с которого начинается повествование («Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение?»); анафора во 2 и 3-м предложениях с глаголом «казалось»; глагол «померещилось»; цветовая гамма в первой части рассказа (белесый, бледно-голубой, бледносеребристый, дымчатый). Единственный «абсолют» для героя в этой неопределенности – месяц, что подтверждается и на синтаксическом уровне использованием конструкции со значением неизменности: в середине рассказа: «Только бледный сияющий месяц, слегка наклоненный, катится и в то же время остается недвижимым среди дымчатых бегущих облаков, одиноко бодрствуя над городом»; в последнем предложении рассказа: «И только бледный грустный месяц видел наше счастье». Лейтмотивы протянуты через все повествование, «настроены», как струны гитары, на переживания героев, и прикосновение к ним рождает новый звук-смысл, сливаясь в одну прекрасную мелодию. Образ месяца является центральным лейтмотивом: он так же сложен и подвижен, как переживания и мысли героя, и на протяжении повествования наполняется разными смыслами. Это не просто природный образ – это самостоятельный персонаж: он «успокаивает» героя «в светлом царстве ночи», грустит вместе с героем о «неудавшейся молодости». Он же помогает читателю представить, что чувствует героиня: их переживания созвучны. Здесь автор использует прием «интерференции», основанный на необычной сочетаемости слов: месяц «одиноко бодрствует над городом» / 19 герои «как будто одни во всем городе в комнате на пятом этаже»; месяц «бледный и сияющий, слегка наклоненный; светлый, но немного на ущербе и поэтому печальный»/ героиня, «бледная и прекрасная, усталая от всего». Более того, образ месяца обращает мысли рассказчика к давно забытым ночам его детства, навевает светлые воспоминания: «Там (в доме детства) месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо». Образ героини для него также связан с чистыми детскими воспоминаниями: в начале рассказа она «вся в белом, похожая на девочку», а в конце «по щекам ее катятся слезы, а брови подняты и дрожат, как у ребенка». Эта сквозная деталь выполняет связующую функцию, соединяя в единый поток переживаний разные планы прошлого в сознании героя. Месячный свет пронизывает ночной сумрак комнаты, также образ героини «освещает сумрак» душевных переживаний рассказчика. Чувства героя к ней абсолютны, вечны; не случайно героиня «вся в белом». Белый цвет, как известно, включает весь спектр, это цвет света, неизменности. Образ героини появляется в рассказе не сразу, предваряется подробным описанием комнаты, и это не случайно: лучи месяца, освещая темную комнату, делают видимой для рассказчика ту, которую он любил. Возникает параллель «глубокая, полная легкого сумрака комната / внутренний мир рассказчика»; о возможности проведения данной параллели говорит еще одна деталь во второй половине рассказа: месяц заметно опускается к крышам и уже глубоко заглядывает в комнату именно тогда, когда герои наконец-то, справившись с грузом прошлого, обращаются друг к другу. Орнаментальная проза отличается от других разновидностей художественной прозы в том числе и тем, что она предназначается для чтения не только глазами, но и вслух: при соединении зрительных и слуховых ощущений и семантики языковых единиц разных уровней происходит желаемый авторами эффект синхронного эстетического восприятия читателем текста произведения. Бунин всегда пытался придать 20 «общее звучание» произведению, чего, на наш взгляд, он достигал и за счет фонетического оформления. Звуковой состав лексических единиц, по нашим наблюдениям, воспроизводит звук тишины: в рассказе преобладают фрикативные звуки и особенно звук "с", графически напоминающий месяц «на ущербе». Этот звуковой эффект достигается за счет многократного повторения ключевых слов «месяц», «свет», «сон», «сумрак», «Россия», «счастье», «радость», «грустный» и пр. Бунин говорил, что нужно уметь слушать тишину: звуки тишины – это звуки природы, они успокаивают, заставляют прислушаться к себе. Сложность переживаний героев передается также через хронотоп. Для рассказа характерна многослойность повествования: происходит постоянная смена ракурсов изображения, создается так называемый орнамент, монтаж прозы. На уровне хронотопа монтаж создается за счет переходов от детализации отдельных образов (например, подробное описание комнаты в ночном Париже в начале рассказа) к космическому расширению пространства: описание «родной кровли» в «холмистой и скудной степи» сменяется описанием «всей России, ее хмурых стран сосен, болот и перелесков бесконечных полей и равнин золотисто-пустынной шири Балтийского моря, сотен верст железных дорог», видимых герою с высоты птичьего полета и вновь возвращающих его к родному «старому, серому помещичьему дому, ветхому и кроткому при месячном свете». Задержка в линейном развитии действия и переход в другой план повествования, а потом снова, как в кинематографе, возвращение к первоначальному плану, является характерной особенностью орнаментальной прозы. Важный мотив в рассказе «Поздней ночью» – мотив вины. В первой половине рассказа внутренняя жизнь героини скрыта от рассказчика. Он «избегает глядеть на нее», так как испытывает вину за прошлое. Во второй половине рассказа он просит прощения, а в ответ слышит: Но разве ты виноват? Разве не я во всем виновата? В этот момент герои понимают, что виновны оба, и только в том, что оба страдали вдали друг от друга. 21 Изменение мыслей и настроения героев в финале находит отражение и в изменении синтаксиса: если в первой половине рассказа «сумрачное» созерцательное состояние героя передается через альтернативные конструкции («Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц»), страдательные конструкции («Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным давно плывет над землей»), инверсию («Долго спал я…» «Казалось мне…»), то во второй половине рассказа просветленное одухотворенное состояние героев передано через прямой порядок слов и однородные предикативные части сложного предложения («Мы опять любили друг друга, как могут любить только те, которые вместе страдали, вместе заблуждались, но зато вместе встречали и редкие мгновения правды»), многоточие в последнем предложении («И только бледный грустный месяц видел наше счастье…»). Последняя сцена носит просветленный характер и утверждает полное единство истинной любви, прошедшей все жизненные испытания. Ситуация любви в рассказе провоцирует философские переживания, которые проступают постепенно, достигая апогея в финале. Герои прикасаются к тайне жизни – ее расцвету и увяданию, значимости и бессмысленности земного существования. Они испытывают «редкое мгновение правды» - познают «заповедь радости», для которой все «должны жить на земле», оттого им так «больно и сладко, радостно и горько» на сердце. Чувство радости этого духовного открытия – это то, что дорого и свято Бунину. Философская «сверхтема» его творчества заключается в следующих словах писателя: «Прав внутренний голос, который, не умолкая, говорит нам, что жизнь дана для жизни и что нужно только одно – непрестанно облагораживать и возвышать это ”искусство для искусства”…» (13, с. 117). Бунин, таким образом, в своих прозаических произведениях обращался к поэтическим принципам, чтобы вопреки происходящему утвердить гармонию, духовность и изначальную самоценность жизни. 22 К орнаментальному стилю можно отнести прозу А.П. Платонова. Исследователь Ю. Левин в статье «От синтаксиса к смыслу («Котлован» А. Платонова)» отмечает, что присущие писателю нарушения языковых норм, яркие тропы и фигуры, многозначность слова, часто используемый прием остранения и пр. заимствованы писателем из поэзии (15, с.412-413). Благодаря такому построению своих произведений по законам лирики «фабульное, психологическое, метафорическое могут объединяться до неразличимости» (9, с.79), текст заметно сгущается, пропадает необходимость в пространных авторских отступлениях, разговорах и размышлениях персонажей, используемых в традиционной прозе для выражения метафизической сущности произведения. Орнаментальный стиль у Платонова «работает» на экспрессионистическую эстетику (11, с.182), позволяет придать описываемому экзистенциальный смысл (9, с.79). Основной признак орнаментальной прозы – «особый поэтический язык», для словесной организации которого характерны повтор и возникающие на его основе лейтмотивы. повествовании: «при Они выполняют достаточно различные разработанном сюжете функции в лейтмотивы существуют как бы параллельно», а в том случае, когда сюжет ослаблен, «лейтмотивность построения заменяет сюжет, компенсирует его отсутствие» (9, с. 57). Лейтмотивом может стать любой элемент текста – слово, фраза, деталь, черта портрета, характера персонажа, отдельный эпизод и т.д., которая повторяется в тексте каждый раз в новом варианте, становится «протекающим». В тексте лейтмотивы могут быть представлены как изолированно, так и в виде комплекса. К примеру, исследователи как особенность орнаментальной стилистики выделяют в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» комплекс лейтмотивов: «жара, духота – туча – тьма – холод, гроза». Нравственный закон, по Булгакову, вечный закон Вселенной, его нарушение вызывает дисгармонию в мире Природы. Зло, совершаемое людьми, как бы постепенно накаляет 23 атмосферу (мотив жары в произведении), и туча, накопление некоей критической массы зла, разрешается в конечном итоге взрывом – грозой. Поэтому гроза – это процесс своеобразной нейтрализации зла. Под дождь попадают те персонажи в романе, которые нуждаются в очищении, которым дана возможность начать жизнь с чистого листа. Таким образом, через реконструируемый за счет комплекса лейтмотивов булгаковский метатекст можно выйти к авторской позиции: «Добро – закон Вселенной, Зло – нарушающая его сила, с трудом побеждаемая Добром и вечно рассчитывающая на реванш… исход этой борьбы оказывается зависимым от свободного морального выбора каждого человека» Иллюстрацией (16, с. 89). отдельного художественно значимого для всего произведения лейтмотива может послужить отдельный образ, например, образ свечи в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». Свеча у писателя – главный символ-лейтмотив и способ соединения разных частей. Она возникает несколько раз в самые важные моменты и несет разную смысловую нагрузку. Этот образ, с одной стороны, восходит к христианской традиции, согласно которой зажженная свеча в поминальном обряде обозначает пусть кратковременное, но возвращение, воскрешение души умершего человека. Подобное смысловое наполнение образа, возникающее в произведении, раскрывает оптимистическую позицию автора, герой которого возрождается для жизни, несмотря на ужасы происходящего вокруг. С другой стороны, свеча символизирует самопожертвование: ведь она, сгорая дотла, освещает пространство, темное место, одерживает победу над тьмой. В конечном итоге образ свечи напрямую ассоциируется с главным героем, олицетворяет доктора Живаго, его дар слова – вспомним слова Лары, обращенные к герою: «А ты все горишь и теплешься, свечечка моя яркая» (17, с.115). Лейтмотивы, таким образом, в большинстве случаев символичны: потенциально содержат в себе множество смыслов. Другой пример отдельного лейтмотива, выражающего авторскую интенцию, - мотив «непрозрачности» 24 в орнаментальном романе В.В.Набокова «Приглашение на казнь»: «С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому, в состоянии покоя, производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов…» В мире, где живет Цинциннат, прозрачны все, кроме него. Все драмы главного героя происходят от его непрозрачности. Здесь благодаря лейтмотиву, основанному на метафоре, автору удается избежать пространных утомляющих читателя описаний внутреннего мира своего героя (как это делается в реализме). При этом, будучи охарактеризован всего одной чертой – непрозрачностью – «Цинциннат не менее сложен, чем герои реалистической литературы», потому как «метафора модернистского романа, в принципе неисчерпаема, несводима к однозначному, эмблематическому толкованию» (11, с.208). Орнаментальное повествование таким образом усложняется, текст становится семантически более насыщенным, он уже не рассчитан на пассивное восприятие, а требует сотворчества со стороны читателя. Степень доверия к нему в поэтической прозе повышена: возникшая недосказанность, неоднозначность орнаментального текста предполагает «ответную реакцию» – возникновение собственных ассоциаций и размышлений у читателя. В качестве лейтмотива писатели-орнаменталисты избирают не просто конкретный образ, как в классической литературе, а художественную деталь, основанную на необычном тропе. Вследствие этого, в произведении часто происходит смещение ракурсов. Наиболее убедительным примером могут служить портретные характеристики героев в романе Е.И. Замятина «Мы», где описание персонажей строится на основе математических терминов, совершенно не соотносимых в обычном понимании с человеческими характеристиками. Портретная деталь здесь «выполнена штрихом», она повторяется и варьируется: круглый «розовый» рот, «сине-хрустальные» 25 глаза О-90; толстые «негрские губы» и «лакированные» глаза – R-13; «необычайно белые и острые» зубы, улыбка-«укус» и «насмешливый треугольник» бровей I-330 и пр. Портрет отдельного героя не дается как нейтральное описание. Как считает В.Н. Евсеев, в зависимости от ситуации такие детали по-разному подсвечивают облик и глубоко обнажают внутренний мир героев, дают ему меткую нравственно-психологическую оценку. Замятин здесь обращается к приему «реализованной метафоры», возникающему на основе лейтмотивов, в том числе и повторяющихся портретных деталей. Часть заменяет целое, метафорически или метонимически включается в интегрирующий образ, появляются «знакисигналы, становящиеся своеобразной меткой героев» (10, с.91). Стилевой принцип Замятина, как мы смогли убедиться, – изображение внутреннего через внешнее, «показ», а не «рассказ». Тот же принцип считает главным в своих произведениях И.Э. Бабель: «Никаких рассуждений – тщательный выбор слов… очень просто, фактическое изложение без лишних описаний … не объясняйте! Пожалуйста, не надо никаких объяснений покажите, там читатель сам разберется» (Из планов и набросков к «Конармии»). Авторы работ о Бабеле не раз писали о той особой смысловой нагрузке, которая отличает стиль его прозы, рассматривая ее как «орнаментальную». Глубокий анализ рассказа писателя «Переход через Збруч» предлагает В. Шмид. Исследователь демонстрирует, как Бабелю удается без непосредственного обращения к внутреннему миру героя показать, что на самом деле он переживает и думает. В орнаментальном тексте слово подобно стихам теряет свою отдельность, замкнутость – оно активно обращено к другим словам текста. Ряд эквивалентностей – скрытых внутри рассказа ассоциаций, связанных с мотивом отрубленной головы, – создает «второй сюжет» в рассказе «Переход через Збруч» – постепенное осознание героем военной реальности, ее смертоносной сути. В тексте то и дело возникают «завуалированные образы смерти», перекликающиеся между собой. Сначала это только «штандарты заката», веющие «над головами 26 солдат», и «оранжевое солнце», которое «катится по небу, как отрубленная голова»: через подобное восприятие природы герой, по мнению исследователя, пытается вытеснить в подсознание увиденные им ужасы. Герой-интеллигент Лютов не желает верить в происходящее на войне, и даже реальные признаки насилия в квартире евреев в результате погрома белополяков он принимает за обычный беспорядок. При описании этой квартиры возникает ряд эквивалентностей-сигналов, который заставляет героя постепенно прозревать: это «черепки» еврейской «сокровенной посуды», предназначенной для пасхи, «распоротая перина», якобы спящий пожилой человек, у которого «закрыта одеялом голова». Герой засыпает рядом с этим стариком, и ему снится сон, как «пули пробивают голову комбрига». В финале рассказа неожиданно появляется беременная женщина. Она будит героя и снимает «одеяло с заснувшего человека», лежащего рядом с Лютовым: этот человек на самом деле оказывается мертвым. Герой замолкает в конце рассказа, дает возможность высказаться женщине: погибший оказывается ее отцом, которого на ее глазах убили поляки. Таким образом, война, смерть в конце рассказа обнажается для героя полностью. Однако «всем разбитым и падающим шарам» в рассказе противостоит, по мнению В. Шмида, «единственный шар, уничтожения не обозначающий» – круглый живот беременной женщины. Смерть и жизнь неизменно идут рядом даже на войне (4, с.311-328). Повтор на всех уровнях текста как основной орнаментальный принцип определяет присутствие лейтмотивной структуры и особого ритма. Речевая повторность является одной из основных категорий орнаментального стиля. Различные виды орнаментальное и комплексы поле повторов повышенной способны образности, синтезировать заставляют читателя адекватно отреагировать на скрытую авторскую мотивацию в выборе слова, подсказывают движение авторской мысли и являются причиной усиления экспрессии. Повторы слов в границах одного предложения – характерная черта стиля Б.А. Пильняка, полагавшего, 27 что от многократного сознательного повторения слова его значение обязательно сфокусируется, прояснится при восприятии. Вот пример такого повтора: «Ветры иной раз дуют до свиста, но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и просвистываться серьезному человеку» («Грего-Тримунтан», 1927). Прием повтора в орнаментальной прозе организует «динамическую композицию» (термин Л.А. Новикова), где внешние события как бы отсутствуют или редуцированы, а динамика возникает благодаря движению мысли, от воспоминания к воспоминанию: «Мысли, чувства, настроения кружатся в водовороте… Кажется, что мы стоим в центре круга, а по кругу с грохотом и звоном мчится пестрая карусель. Лица, фигуры, костюмы проносятся мимо, исчезают - и появляются снова в другом освещении» (2, С.113). Поэтичность прозаического произведения выражается также в наличии большего по сравнению с неорнаментальной прозой количества других поэтических тропов: различных видов метафор, метонимий, алогизмов, гротеска, антитез, сравнений, сложных эпитетов, приема дейксиса и т. д., а также звукописи. Как в поэтическом тексте происходит взаимодействие слов по аналогии и по контрасту. Над нарративной основой образуется поэтическая сеть, актуализирующая новые смыслы. Таким образом, в орнаментальной прозе слово становится многозначным. Помимо особого словоупотребления орнаментальную прозу начала ХХ века отличает особое построение – монтаж. К примеру, произведения Б.А. Пильняка, по определению В.Б. Шкловского, – это «сожительство нескольких новелл. Можно разобрать два романа и склеить из них третий… Для Пильняка, - отмечает ученый, - основной интерес построения вещей состоит в фактической значимости отдельных кусков и способе их склеивания» (6, с.260, 261), то есть монтаж – принцип «ножниц». Такой тип организации повествования присутствует в романе «Голый год». Данный роман лишен сюжета, строится по принципу рифмовки образов. Повтор 28 фразы в монтажном тексте является средством для сведения нескольких сюжетных линий (18, с. 110). Как отмечает М. Голубков, весь роман пронизывают центральные образы-символы: метель, символизирующая общее неприкаянное состояние мира; солдатские пуговицы, которые по принципу метафорического взаимодействия с другими образами обращаются то в глаза, то вообще закрывают собой лицо персонажа; кожаные куртки – образ, созданный по принципу метонимии (11, с. 201). Здесь налицо аналогия с портретными характеристиками в романе Замятина «Мы». Так, одним из центральных в «Голом годе» становится образ большевика-«кожаной куртки»: «Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности – отбор. В кожаных куртках – не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили – и баста». В ритмически построенной фразе-формуле явственно просматривается и сказовый стиль. Принцип «осколочной» композиции декларируется и О.Э. Мандельштамом, причем подробно обосновывается необязательность и случайность композиционных лоскутность и мозаичность, сочленений обусловленная фрагментов только текста, лишь его прихотью воспринимающего сознания. Мировоззрение художника-импрессиониста, по мнению героя-повествователя «Египетской марки», основывается на принципиальном неразличении жизни и литературы, на их свободном перетекании друг в друга. Герой Мандельштама размышляет: «Страшно подумать, что наша жизнь – это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнционного бреда… Между тем, во всем решительно мне чудится задаток любимого прозаического бреда». Монтажное построение характеризуется отсутствием сюжета, многослойностью, нелинейностью повествования, что, с одной стороны, 29 отражает сложную картину действительности, взломанной социальными катаклизмами. Как считает М.М. Голубков, мир предстал перед художниками-орнаменталистами алогичным, разорванным, не сложившимся в общую картину; такое видение мира определило поэтику их романов, стилистику, ориентированность на принципы орнаментальной прозы (11, с.215). Как мы смогли убедиться, процесс сближения поэзии и прозы, особенно отчетливо выразившийся в первые десятилетия ХХ века, в первую очередь, в орнаментальной тенденции, являлся яркой приметой творчества практически всех наиболее одаренных писателей этого периода. Возникновение его вполне закономерно: таким образом независимые художники стремились найти новые формы выражения творческого «я», свободные от каких-либо сковывающих правил. 1.2. Творчество Ю. Казакова и лирическая проза 1950-1960-х годов Л.А. Новиков, определяя основные черты орнаментальной прозы, отмечает при этом, что она, «обладая в различных ее проявлениях известными существенно общими характерными чертами, представляет вместе с тем у каждого писателя явление специфическое» (2, с.39). Справедливость этого тезиса можно увидеть на примере творчества Ю. Казакова, которое пришлось, пожалуй, на самый благоприятный для талантливого человека период советской истории – 50-60-е годы ХХ века. Основными духовными доминантами данного времени были ощущение впервые обретенной свободы и утверждение оптимистического взгляда на жизнь. Казаков относился к поколению писателей, на чью долю выпала тяжелая пора военного лихолетья и послевоенных трудностей. Это обстоятельство привнесло в литературу особое ощущение жизни как 30 дарованной свыше благодати. Ставший возможным, благодаря изменившимся социально-политическим условиям в стране, «глоток свободы после десятилетий заточения пьянил, рождал надежды» (19, с. 9). Писателям, пережившим страшные годы войны, хотелось кардинальных изменений, хотелось прожить, прочувствовать каждый миг мирной, спокойной жизни и передать это в слове, оживить не только жизнь, но и само слово. Неудивительно, что развитие литературы этого времени отличается динамизмом, атмосферой художественного поиска, носит переходный характер. «Тот, кто застал появление в 1958 году романа Э.-М. Ремарка “Три товарища”, публикацию в конце 1962-го “Одного дня Ивана Денисовича”, а на переломе 1966-1967 годов – “Мастера и Маргариты”, знают, что такое взрыв общественной атмосферы, как от одного литературного происшествия прозревает все общество и уже не может мыслить по-старому, долго пребывая под впечатлением прочитанного», – так описывает литературную ситуацию тех лет М. Холмогоров (20, с.9). Общее состояние культурной среды во многом напоминало 20-е годы ХХ столетия, о которых В. Шкловский писал: «Сейчас старое искусство умерло, новое еще не родилось: и вещи умерли, мы потеряли ощущение мира… Только создание новых форм искусства может возвратить человеку переживание мира, воскресить вещи и убить пессимизм» (6, с. 255-256). Желание написать «по-новому» о «новой жизни» было вполне закономерным у талантливых писателей-«шестидесятников». Об этом настроении писал Ю.Казаков, прекрасно чувствуя свое время: «Наша литература стоит на перепутье, стоит перед качественно новым шагом. Нам надо жизнь осмысливать глубже, чем до сих пор» (20, с.3). Начало творческого пути писателя приходится на время расцвета жанра рассказа в отечественной литературе. В жанре традиционного русского рассказа работали Ю.М. Нагибин, К.Г. Паустовский, А.Г. Битов, В.И. Белов, В.А. Солоухин, С. Антонов, В.Ф. Тендряков и др. Однако Казаков писал только рассказы (за исключением цикла очерков «Северный 31 дневник», многие из которых он сам называл рассказами). «Видимо по причине сильного, страстного темперамента, обладая чутким слухом и обостренно осязая вещную плоть мира, Казаков неспроста усмотрел свой писательский удел именно в психологическом рассказе. Трагический лирик по натуре, он интуитивно оценил его поэтические ресурсы и возможности отточенной формы» (21, с. 782). Для Ю. Казакова рассказ, обеспечивающий высокий уровень литературного мастерства, был средством спасения от несвободной литературы. Повесть – более «легкий» прозаический жанр: она легко вмещает и неотобранные диалоги героев, и авторские декларации – в рассказе им «некуда» вместиться, в нем жесткие границы. Ю. Казаков едва ли не один оставался верен рассказу в течение всего творчества, то есть избрал жанр, ставший с середины 1930-х «копилкой мастерства». Исследователи (И. Крамов, например) считают, что в последующем рассказы Казакова предопределили появление «малой» прозы других заметных писателей, в частности В.М. Шукшина, который также осознавал, что писание рассказов – «вдвойне непосильный труд» в «непосильном» деле литературы, и, тем не менее, отдавал форме, гибкой и предпочтение именно этой многообразной: «В рассказе не должно быть лишних слов, особое значение приобретает деталь, нужно жесткое самоограничение, способность через частность выразить целое… требуется немалое композиционное искусство, чтобы выстроить маленькое художественное произведение» (22, с.94). Ситуация, когда писатель намеренно загоняет себя в жесткие рамки, мобилизует его, и если талант и уровень литературного мастерства позволяет «сказать в малом о большом…», автор, по мнению Шукшина, испытывает «ни с чем не сравнимую радость», он окрыляется чувством обретенной свободы самовыражения, преодоления материала. Рассказы Казакова и Шукшина сходны также в основной своей содержательной направленности: оба писателя заняты «главным образом душой русского человека в глубоком смысле». «Меня больше всего 32 интересует “история души”, - пишет В. Шукшин, - и ради ее выявления я сознательно и много опускаю из внешней жизни того человека, чья душа меня волнует» (22, с.211). Герои Шукшина, во многом типичные для своей эпохи, все же воспринимаются как чудики, «юродивые», постоянно находящиеся в поиске смысла жизни, герои Казакова также странники и чудаки «с растревоженной душой». О тех и других можно сказать, что они испытывают особую тоску и тревогу – «это какая-то смутная, невыразимая тревога, некое тягостное состояние души» (23, с. 345). От рассказов обоих писателей остается удивительное ощущение того, что они следуют классической традиции русской литературы, которая «занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие» (24, с.278). Яркая особенность прозы Казакова – умение писать о том, что всегда остается актуальным для человека любой эпохи, – не раз ставилась ему в вину критиками советской литературы. Ю. Казаков был «немодным» писателем, никогда не приспосабливался к господствующим вкусам и требованиям. Скептический отзыв А. Твардовского о раннем сборнике Казакова привел И. Кузьмичев: «Вообще по молодости опять же, автор думает, что, чем более освобожден его рассказ от жизненных временных примет, тем он “художественнее”. Особо показателен в этом смысле рассказ “Дым”, где есть “отец”, “сын”, “отец отца” в их отношении к природе, цветам и запахам, в их ощущениях биологического (возрастного) счастья юности и горести старости, но нет ни намека на практически-жизненную принадлежность их, кто кто – неизвестно. А ведь это так важно, что “дед”, например, был мужиком, а “отец” генералом или бухгалтером, а сын учится и кем-то собирается быть. Другая цена была бы всем этим росным травам, запахам земли и воды, даже мыслям о юности, счастье, старости и смерти» (25, с.88). Позднее, в прозе Казакова 1950-1970-х годов критики отметили «вневременной», то есть «антисовременный и антиидеологический отбор 33 деталей», который имеет следующий художественный смысл: «демонстративно продолжая стилистическую линию малой прозы начала ХХ века (Чехова и Бунина), Казаков словно бы создавал параллельную, виртуальную историю русской литературы, свободной от вмешательства советской власти. На этой “отвоеванной территории” становилась возможной радикальная, то есть не советская, постановка экзистенциальных проблем...» (27, с.211). При этом не один Казаков был «уличен» в «отсутствии жизненных временных примет» в произведениях: многие талантливые писатели, обходя цензуру того времени, «отвоевывали» творческое пространство, обращаясь к «вечным» темам. Однако это не всегда спасало, а напротив, вызывало неприятие. Так, Ю. Трифонову принадлежал подобный горький опыт: «Рассказы не будут напечатаны в знаменитом журнале по той причине, что – вечные темы» (28, с.595). Важное событие периода «оттепели» – возобновление интереса к лирической прозе как явлению, связанному «с переломами и оживлением в общественной исторической жизни, с активным пересмотром идеологических представлений, с основанием в искусстве новых тем, идей, материала» (29, с. 69). В конце 1950-х и в 1960-е годы преобладающее развитие получают очерковая и лирическая формы (Ю. Казаков, В.А. Солоухин, С. Антонов, О.Ф. Берггольц и др.), так называемая «молодежная» проза (В.П. Аксенов, А. Гладилин и др.), становится популярным жанр лирической миниатюры (Ю.В. Бондарев, Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.А. Солоухин, Р. Гамзатов, и др.), одновременно происходит «воскрешение» поэзии (Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Б.А. Ахмадулина, Б.Ш. Окуджава, А. Кушнер, поздние стихи Б.Л. Пастернака). Орнаментальная проза первой трети ХХ века и лирическая проза 19501960-х годов – явления родственные. Оба понятия весьма неоднозначно оцениваются учеными, границы данных явлений невозможно очертить полностью. Однако все же следует сказать об определенном различии. 34 Понятие «лирическая проза» активно стало использоваться в литературоведении 1950-1960-х годов, когда смелые эксперименты над художественным словом не приветствовались. На наш взгляд, основную черту лирической прозы можно определить как «лиризм», являющийся, прежде всего, содержательной характеристикой данного явления. Авторы лирической прозы, художественному не слову, применяя кардинальные стремились эксперименты возможными, к «разрешенными» художественными средствами, обращением к «вечным темам» создать новое направление в литературном процессе эпохи. Лиризм касается, в первую очередь, жанра, тематики, системы персонажей, образа автора, то есть содержательной сущности произведения. Еще В.Г. Белинский определил лиризм как национальную черту русской литературы, выявил особенности русского лиризма: «Для нас внешняя природа, без отношений к идее всеобщей жизни, не имеет никакого смысла, никакого значения, мы не столько наслаждаемся ею, сколько стремимся постигнуть ее… Отсюда проистекает эта тоска, эта грусть и, вместе с ними, эта мыслительность, которыми проникнут наш лиризм…» (30, с.68). Действительно, обогащая объективное повествование средствами поэтического языка, которым дано соединять несоединимое, сводить воедино временное и вечное, высокое и низкое, придавать особую тональность произведению, авторы лирической прозы 1960-х годов изменяли масштаб описания, выходя на бытийный уровень. Орнаментальный стиль в целом и орнаментальную прозу как явление первой трети ХХ века точнее всего характеризует, на наш взгляд, понятие «лиризация», так как данный стиль возник благодаря радикальным экспериментам писателей-модернистов, сознательному привнесению в текст поэтических элементов. Его филологическое изучение и теоретическое обоснование является заслугой формального литературоведения. Иными словами, для писателей данного стиля свойственно непосредственного приема в тексте к содержанию». 35 движение «от Однако достичь лиризма без сознательного привнесения поэтических компонентов в прозаический текст невозможно. Лирическая проза 1960-х годов в созданиях наиболее ярких писателей возрождает линию литературы начала ХХ века, тяготеющую к орнаментальности как стилевой доминанте. Исследователями немало написано о стилистическом мастерстве О.Берггольц, В. Солоухина, В. Катаева. В их книгах – «Дневные звезды», «Капля росы», «Трава забвения» – орнаментализм также можно рассматривать как стилевую характеристику лирической прозы, где ярко выраженная экспрессия стиля в большей или меньшей мере становится неотъемлемым качеством творчества данных авторов (31, с. 59). И хотя такой избирательный языковой орнамент в лирической прозе сопровождает лишь определенные части текста, при этом он является не просто частным приемом, а выполняет конструктивно важные для всего произведения функции: изображение с позиции воспринимающего сознания, выражение различных лейтмотивов, обнажение точек зрения персонажей, создание многозначного подтекста, усиление суггестивной функции слова, автобиографизм и др. Появление плеяды лирических писателей в 1950-1960-е годы, в силу их «аполитичности», демонстративной индивидуальности, вызвало неодобрительное отношение и критику со стороны литературной среды того времени, так как «лирическая проза – и в этом ее главное отличие от эпической – не поддается так называемому “идейному” анализу, а соответственно и контролю» (20, с.11). В статье-ответе на подобную критику «Не довольно ли?» Ю. Казаков выступил в защиту лиризма в прозе. Он писал, что приход такого свободного, ломающего установившиеся каноны жанра вполне закономерен в литературно-общественной ситуации конца 1950-х – начала 1960-х годов. Казаков перечисляет достоинства, присущие лирической прозе: «чувствительность, глубокая, вместе с тем целомудренная ностальгия по быстротекущему времени, музыкальность, свидетельствующая о глубоком мастерстве, чудесное преображение обыденного, обостренное 36 внимание к природе, тончайшее чувство меры и подтекста, дар холодного наблюдения и умение показать внутренний мир человека»; «доброта, совестливость, сердечность, нежность»; «правдивость, талантливость». Все эти качества не могут быть сброшены со счетов, так как, по мнению Казакова, характеризуют в целом «уровень нового писателя», создающего широкие «поэтические картины жизни нашего общества» (24, с. 125). «Поэтическую» прозу необходимо не только читать, но и слушать. Ее авторы – прозаики с душой музыкального склада. К ним с полным правом следует отнести Ю. Казакова, считавшего, что «писатель должен обладать гармоничным внутренним слухом». Согласно его представлениям о «хорошей литературе», «у хорошего писателя всегда ощущается что-то еще помимо того, о чем он пишет. Это как в звуке: есть основной тон, и есть обертоны, и чем больше обертонов, тем насыщеннее, богаче звук. Так что серьезность мыслей, которые вызывает рассказ, – главное в определении таланта. Затем следует умение расположить слова так, чтобы они составили максимально гармоничную фразу» (24, с.31). Можно сказать, что поэзия органично, в завуалированной форме присутствует в прозе Казакова и близких ему по духу авторов лирической прозы. По свидетельству близких, в молодости Казаков писал «любовные стихотворения в прозе и не чуждался стихов» (25, с. 55). В одном из интервью Казаков так рассказывает о студенческих годах: «Вспоминаю свою молодость и бесконечные наши разговоры в Доме литераторов. Говорили, спорили, а как мало осталось в памяти! Основное, что осталось: как читали стихи. Я получал от этого не только душевное, но и слуховое наслаждение. Прекрасные голоса читающих, богатство оттенков и тембров – от шепота до гула» (24, с.317). Как обобщения известно, являются поиски «сверхсмысла», прерогативой поэзии. некого А.Г. универсального Битов в заметке, посвященной памяти Казакова, дает интересное замечание о том, что в его произведениях присутствует скорее не подтекст, а «надтекст» - «нечто 37 возвышающее текст, из него никак не вычитаемое и невычитываемое, но каким-то непонятным волнением с ним скрепленное: будто след, невидимая память о вдохновении писавшего… высокое авторское чувство, каждый раз воскресающее в душе читающего» (25, с.133). Поэзия неизменно присутствует в произведениях Казакова, его чуткий музыкальный слух оттачивает каждую фразу, а поэтические элементы служат формированию атмосферы свободы, естественности в его рассказах. Процесс создания произведения у Казакова также сродни написанию стихов: подчиняется особому тонкому душевному настрою, который не может длиться долго. Это особое редкое вдохновение писателя, когда «он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и слово было Бог!», оно дается ему в награду за мужество «писать правду», которую, скорее всего, не «примут сразу и безоговорочно» (24, с. 223). М. Холмогоров, оправдывая долгое молчание Казакова в 1970-1980-е годы, приходит к выводу: «Его истерзала страсть писать словами не теми, которые нашел автор, а теми, что нашли автора» (20, с. 19). Исследователь считает, что именно в позднем творчестве писатель утолил эту свою страсть, что последние его рассказы «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал», написанные по наитию, в состоянии очарованности миром, совершенны и не поддаются анализу, не могут быть осмыслены полностью. Таким образом, можно сказать, что эпоха 1960-х годов – это период «поиска новых дорог» не только в социальной жизни, но и в литературе. Эстетические воззрения Ю. Казакова также формировались как поиск содержания и форм нового искусства, что выражалось, в первую очередь, в сближении двух художественных стихий – прозы и поэзии. Отсюда обращение писателя к лирической прозе, предпочтение «вечных тем», экзистенциального содержания, верность лаконичному жанру рассказа, близкому по своей смысловой концентрации и языковой отточенности к стихам. 38 Поэтическое начало, орнаментальный стиль в лирической прозе 60-х годов в рассказах Ю. Казакова передает дух творческой свободы, позволяет произведениям «раскрываться во времени», каждый раз по-новому представать перед последующими поколениями читателей, так как чем более свободна литература по своему внутреннему наполнению, тем более востребованной она является. В этом видится продолжение лучших традиций русской классической прозы, создававшей творения большого эпического содержания и богатой 39 поэтической формы. Глава II Традиции орнаментальной прозы в рассказах Ю. Казакова 2.1. Орнаментальные приемы в прозе И. Бунина и Ю. Казакова В период «оттепели» начинается процесс возвращения к читателю творчества И.А. Бунина, М.И. Цветаевой, М.А. Булгакова, О.Э. Мандельштама, А.П. Платонова и других «запрещенных» в предшествующий период поэтов и прозаиков. Для многих талантливых писателей- «шестидесятников» оказываются востребованными классические традиции А.П. Чехова и И.А. Бунина, завоевания прозы первой трети ХХ века. В 1960 году критика отмечала такую особенность «молодой прозы», как «уровень литературной культуры. Речь идет не о талантливости (само собой разумеется, молодые прозаики одарены не в одинаковой степени), а об общем высоком уровне литературной культуры… Читая их книги, мы ясно видим, что это пишется после Чехова и Горького, Л. Толстого и Бунина, крупных современных советских и западных художников» (1, с.251). Однако умелое использование богатой традиции под силу не каждому автору. В. Катаев вспоминал, к примеру, что возвращение И.А. Бунина советскому читателю «срезало на корню» многих даровитых начинающих писателей, испытав «эстетический шок», они не смогли «выбраться из-под Бунина» (2, с.315). Одним из редких писателей, кто смог это сделать, был Ю. Казаков. У него, считает М.О. Чудакова, получилось, «мастерски выдерживая интонацию Бунина и Чехова, с настоящей виртуозностью» удерживаться «в пределах этого отобранного, очищенного за более чем вековое развитие, нормативного, отточенного и дошедшего как бы до края своего в этой отточенности языка русской литературы, как он сложился к началу этого века и полнее всего при этом выразился в прозе двух этих писателей» (1, с.272). 40 В предыдущем разделе говорилось о том, что орнаментальная проза развивалась в ХХ веке в соответствии с неким законом непрерывности литературного процесса. Как заметил М. Холмогоров, выявлявший близость художественной манеры Казакова к творчеству И. Бунина, «на полуслове ни жанр, ни традиция пресечься не могут… Революция и последовавшая за ней сталинская реакция оборвали многие русские песни на полуслове. Литература, когда приходит в себя от ударов истории, возвращается назад, к оборвавшейся насильно традиции, к недоговоренному слову, к недопетой песне… Цель раннего Казакова была допеть песнь Бунина» (2, с.10). Однако в статье «Заметки о языке современной прозы» М.О. Чудакова отмечает, что подобная книжно-возвышенная речь шла вразрез с основной тенденцией, отличающей изменения в сфере слова тех лет – тенденцией сближения литературной, книжной речи с бытовым, обиходно-разговорным языком. В такой прозе фразы стали заметно короче, лексика приблизилась к разговорной, что облегчало ее восприятие рядовым массовым читателем. В связи с этим Казакова часто обвиняли в «литературности». Для него в отличие от многих советских писателей эстетическая функция языка играла не последнюю роль при создании произведения. Более того, «облегченность» большинства произведений второй половины ХХ века в определенной степени настораживает: слишком уж легко читатель понимает автора: «В этой легкости взаимопонимания, – справедливо пишет М.О. Чудакова о литературной ситуации 1960-70-х годов, – которая устанавливается часто на любой странице современной повести, есть нечто опасное для литературы» (1, с. 274). Бунин – писатель интимный, поэтому он поражает лишь немногих, избранных. Поразил он и Ю. Казакова, который писал, что наиболее «резко, внезапно, неестественно сильно» по нему «ударил» И.А. Бунин: «Да, когда на меня обрушился Бунин, я испугался. И было чего испугаться! Он и то, о чем я бессонными литинститутскими ночами столько думал, волшебно 41 совпало. Вот вам истоки этого влияния» (3, с. 315).Стиль Бунина в его представлении совершенен. Для Ю. Казакова традиции русской литературы – это не традиции описательных приемов или психологического анализа. Это родственное мироощущение, это общность вдохновенных устремлений к внутренней гармонии, творческому совершенству. Таким единством всякий раз и продиктована та или иная форма. Одна из наиболее ярких объединяющих художественные манеры Бунина и Казакова тенденций, на наш взгляд, – присутствие в них орнаментальных приемов, принадлежность их творчества к поэтической прозе в самом широком смысле этого слова. Писатели одинаково стремились передать в произведениях первозданную красоту мира, уделяя внимание мельчайшим деталям и оттенкам, возможно, не столь существенным, но производящим сильное впечатление: виды природы у них пленерны, импрессионистичны – они фиксируют не только зрительные, но и вкусовые, слуховые, осязательные впечатления. Об этом говорят сходные художественные приемы в их произведениях: «Помню раннее, свежее тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести» («Антоновские яблоки», 1900); «Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревням и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки» («Двое в декабре», 1962). Данные тематически не соотносимые фрагменты построены по одному принципу – они представляют собой ассоциативный ряд, связанный с определенным событием в сознании героев. Кроме того, здесь четко прослеживается ритм, созданный за счет однотипных синтаксических конструкций – анафорических предложений, однородных членов. Ритм позволяет соединить ассоциативные образы в одну яркую «картинку». 42 Для художественного оформления импрессионистических «картин» писатели обращаются к орнаментальному стилю, который позволяет добиться наибольшей силы выражения за счет использования различных поэтических тропов: сравнений, часто очень неожиданных, алогичных – Бунин: «Окна чернеют, как слепые глаза» («Поздней ночью», 1899); «…чувствую холод и свежий запах январской метели, сильный, как запах разрезанного арбуза» («Сосны», 1901); Казаков: «Вот красные мокрые медузы, похожие на окровавленную печенку»; «Вода темна, будто крепкий чай» («Никишкины тайны», 1957); сравнений, выраженных творительным падежом, предполагающих, по мнению Н.А. Кожевниковой (6, с.219), более тесные смысловые отношения между членами сравнения – Бунин: «Вспыхнуло живым глазком электричество» («Туман», 1901); Казаков: «кровяными каплями вспыхивала земляника» («Во сне ты горько плакал…», 1977); «озеро поднималось над городом свинцовой стеной» («Адам и Ева», 1962). Для творчества писателей характерна также разработка эпитета сложных и утонченных оттенков, свободного от привычных и логических признаков вещи. Бунин: «Старуха с лошадиным лицом и совиными глазами», «лицо конфетное» («Без роду-племени»,1897); Казаков: «смуглое солнце» («Ни стуку, ни грюку…», 1960), «низ неба… шоколадно просвечивал» («Ночлег», 1963). Также характерно использование в границах одного образа конструкций с однородными словами. Бунин: «она была бледна прекрасной бледностью любящей» («Кавказ», 1937); Казаков: Агеев был «бледен той особенной бледностью, которую вызывает только любовь, только страсть и гибель» («Пропасть», 1968-1969). Подобные тропы создают динамизм описания, внутренний ритм, усиливают художественный эффект. Согласно законам восприятия привычные действия становятся автоматическими, такое «замыленное» восприятие предмета не свойственно поэтической прозе данных писателей: чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, авторы обращаются к приему остранения. Метафоры, олицетворения вызывают больший или меньший эффект остранения за счет 43 смещения связи между словом и реалией. Бунин: «Ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму… мгновенно вырвал свет из лампы («Без родуплемени»); Казаков: «Выйдет солнце и запустит свои золотые ржаные пальцы глубоко в воду» («Голубое и зеленое», 1956); «Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда больше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море… Тесно стоит деревня!» («Никишкины тайны»). Человек и природа, по глубокому убеждению писателей, – неразрывное целое. Бунин и Казаков, обращаясь к внешнему миру, согревают его своим теплом, очеловечивают его. Одушевляя предметы, авторы делают их тем самым составляющей своего внутреннего опыта, частью себя самого. Подобное пантеистическое восприятие природы характерно для импрессионистической эстетики. Писатели часто не исправляют зрительные и другие впечатления на основании опыта, иначе может потеряться подлинность впечатления, а значит и истина. Иными словами, художники фиксируют не собственно предметы внешнего мира, а то, как они отражаются в восприятии в данный момент, запечатлевается мгновенный оттенок индивидуального восприятия. Бунин: "Пристань отошла, стала отдаляться. Уходил и сиявший под солнцем город, набережная, парки…" ("Тишина", 1901); Казаков: "Подходили черные телефонные столбы…"("Ни стуку, ни грюку…"). Специфика восприятия организует законы художественного мира, иногда повествователи сами признают несоответствие собственных впечатлений реальности. Бунин: "Простонала "сирена"…, может быть, и не существующая, а созданная напряженным слухом, которому всегда чудится что-нибудь в таинственной безбрежности тумана…" ("Туман"); Казаков: "слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы" ("Ни стуку, ни грюку…"). Ощущения часто откладываются в памяти тела, создается состояние "как сейчас чувствую", сознание воспроизводит еще не забытые впечатления прошлого. Бунин: "А когда ляжешь в постель ... замелькают перед глазами призраки огнисто44 пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки…" ("Антоновские яблоки"); Казаков: "она зажмурилась – и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое – все цвета, на которые нагляделась она за день" ("Двое в декабре"). Как видим, предмет изображения в импрессионистической прозе писателей - не столько реальность, сколько воспринимающее эту реальность сознание. Такая субъективно окрашенная проза, описывающая восприятие мгновений прошлого так правдиво, словно эти мгновения происходят в настоящем, приближает нас к поэзии, представляющей собой, согласно Шкловскому, "воспоминание образов" (7, с.10). Еще одна важная черта, роднящая импрессионистическую прозу писателей с поэзией, – безымянность лирических героев. В произведениях Бунина и Казакова местоимения выполняют не типичную анафорическую функцию, а выступают в качестве самостоятельного обозначения личности, и мы часто не знаем имен героев. В рассказах Бунина ("Поздней ночью", "Туман" и др.) и Казакова ("Двое в декабре", «Осень в дубовых лесах» и др.) обозначение персонажей личным местоимением в первом и третьем лице позволяет уйти от индивидуального случая и обобщить жизненный материал. Превращение каждого частного случая индивидуального переживания в парадигму переживания для любого человека, создание «абстрактного облика говорящего» (8, с.303), является характерной особенностью лирики. Нехарактерная для прозы форма личного местоимения во втором лице в рассказе Казакова "Во сне ты горько плакал…", заданная уже в названии, выполняет функцию обращения повествователя к сыну: "Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня? Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?". Такая необычная форма повествования создает большую задушевность и напоминает лирическое послание. Ее можно также рассматривать как воззвание к Божественному высшему разуму, олицетворением которого на 45 Земле являются дети. Не случайно лирический герой рассказа называет сына «ангелом». Для орнаментальных произведений, близких к импрессионистической эстетике, характерен отказ от сюжетного действия, взамен которого передается особое состояние человека и природы. В прозе Бунина и Казакова можно встретить много подобных произведений. И. Кузьмичев отмечает: «Мозаика сокровенных, едва уловимых переживаний – как в лирическом стихотворении – способна заменять в рассказах Казакова сюжетную интригу» (9, с. 115). К примеру, рассказы «Зависть» (1968-1969), «Осень в дубовых лесах» Казакова, «Туман», «Тишина», «Антоновские яблоки» Бунина импрессионистически фрагментарны. В них не сюжетно-временная последовательность служит основой построения образа, а превращение внешнего мира в поток ощущений, определяет логику повествования: «Впечатления личности, ее психологическое состояние, вызванное тем или иным ощущением, воспоминанием, деталями, подмена объективного, позитивистского, причинно-следственного восприятия мира впечатлением, основанном на некоем подсознательном механизме припоминания, и составляет суть прозы импрессионистов» (10, с.178). Однако ощущение разорванности повествования преодолевается за счет того, что повествование пронизано идеей постепенного овладения героем новыми мыслями и чувствами. В итоге жизнь предстает на страницах произведений писателей такой, как ее описал герой романа Бунина «Жизнь Арсеньева»: «Жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей…, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями…, есть непрестанное, ни на единый миг нас не останавливающее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, чтото главное, чего уже никак нельзя уловить и выразить…» Желание постичь тайны мира свойственно героям Бунина и Казакова. Но додумать мысль до конца о тайне мира никогда не удается, потому они и 46 остаются «вечными темами». Ощущение изначальной непознаваемости тайн жизни и одновременно желание познать их также является существенным качеством, пронизывающим прозу писателей. «Засыпая, все лежат молча, думая о тайне жизни, о том, что ««мысль изреченная есть ложь» и о том, что никак нельзя выговорить свое счастливое состояние, передать другому» («Плачу и рыдаю…»). Однако попытки осуществить это – в каждом произведении Казакова. В прозе обоих писателей присутствует «мотив безмолвия перед тайной мироздания». Бунин: «Нет, настоящего никогда не напишешь. Не выразишь!» (11, с.15). Поэзия темна, в словах невыразима: Как взволновал меня вот этот дикий скот, Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад, Пастушечий костер и горький запах дыма! Осознание непознаваемости тайн жизни рождает в эмоциональном мире героев писателей сложно переплетающиеся чувства: радость и грусть, восхищение и отчаяние, тоску и желание радоваться жизни. Насыщенная поэтическая ткань повествования отражает крайнюю подвижность и сложность душевного мира героев. Антиномичность, кажущаяся нестабильность восприятия характерна для обоих писателей, и в этом им близки модернисты. Она подчеркивает значимость субъективного восприятия и увеличивает силу экспрессии. Но в отличие от модернистов она направлена не на мир высших сущностей, а на чувственно воспринимаемый мир. Так, например, у Бунина: «Нет, мучительно для меня жить на свете! Все мучает меня своей прелестью!»; «какая-то сладкая и горькая грусть»; «сладостно-отчаянные звуки» полонеза Огинского («Суходол», 1912); и у Казакова: «со сладким ужасом говорит она» («Голубое и зеленое»); «со сладкой тоской думал о ней» «почти больной от счастья» («На охоте», 1956); «больно и сладко манили, звали к себе бесконечные дороги» («Старики», 1958). 47 Антиномичным является и отношение писателей к искусству, что также обусловлено обостренным видением мира. Мир творчества у Бунина все же уступает прелести реальной жизни, не способен полностью вобрать ее красоту: «То глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом, и о чем никогда не пишут как следует в книгах…» (11, с. 30) Часто творчество даже мешает персонажам Бунина почувствовать прелесть реальной жизни. Так, в рассказе «Ида» (1925), герой, будучи целиком погруженный в «чепуху, называемую творчеством», оказывается не в состоянии распознать живое чувство. Казаков, признавая значительное место литературы в жизни человека, однако также вовсе не склонен возводить в абсолют реальность искусства. В очерке «О мужестве писателя» (1966) он пишет: «Он (писатель – Ц.Н.) вдруг видит, что, скажем, весна прошла, что пронеслось над ним огромное время с того момента, когда в начале апреля, ночью, на западе собрались черные тучи, и из этой черноты неутомимо, ровно и мощно задул теплый ветер, и снег стал ноздреть. Прошел ледоход, прошла тяга, отгремели ручьи, отдымила первая зелень, и колос налился и пожелтел – целый век прошел. А он прозевал, не видал этого. Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми людьми, а он только работал, только клал перед собой все новые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени ему никто не вернет, оно прошло для него навсегда» (3, с.681). Смертельно больному герою рассказа Казакова «Смерть, где жало твое?» – бывшему историку, кандидату и доценту, попадается в руки «рассказ о какой-нибудь девчонке», и в этот момент, отвечая себе на вопрос: «Что же такое жизнь? И в чем ее главное проявление?», «вдруг с похолодевшим лицом» он понимает, что «жизнь народов и вообще все на свете ничего не стоят по сравнению с одним только взглядом, одним вздохом этой девчонки. И что если и стоит жить на свете и что-то делать, чему-то служить, то только этой девчонке с таким неистово сияющим взглядом». И сразу невольно вспоминается Оля Мещерская – героиня знаменитого 48 «Легкого дыхания» Бунина. Возможно, именно во время чтения этого рассказа посетили героя Казакова подобные мысли. Таким образом, для обоих писателей характерны модернистская антиномичность, неоднозначность авторской оценки, но благодаря поэтическому началу противоречивые чувства, мысли героев не разрушают органичную картину мира, присутствующую в произведениях писателей (как происходит в модернизме). Поэтические образы, считает Д.С. Мережковский, «согласуют, соединяют самые различные, противоположные явления чувственного мира, потому и действуют на душу, потому и побуждают в ней знакомый отклик, что напоминают о каком-то действительном, первоначальном единстве, согласии, гармонии мира…» (12, с.257). Бунин и Казаков, признавая противоречивость жизни, тем не менее, утверждают оптимистическое отношение к жизни, принимая ее во всех сложных и неоднозначных проявлениях: «Жизнь невыразимо прекрасна и увлекательна. Только надо понять, что дорого и нужно в ней!» («Казацким ходом», 1898); «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!» («Антоновские яблоки», 1900). Знаменитые «Темные аллеи» Бунин считал «лучшим», что он написал в течение жизни, потому что именно этот сборник явился для него подтверждением той великой, Божественной силы искусства, которая способна противостоять самым тяжким потрясениям современности. «”Декамерон” был написан во время чумы. ”Темные аллеи” в годы Гитлера и Сталина», - такова надпись, сделанная Буниным в 1950 году (13, с.35). Писатели стремились запечатлеть состояние счастья, гармонии, любви в жизни своих героев, другое дело, что такое состояние, по их глубокому убеждению не может длиться долго. Подлинным материалом искусства у Бунина и Казакова является не будущее (как часто у символистов), а прошлое, преображенное силой памяти. С. Федякин справедливо считает, что сходство Бунина и Казакова в родственном видении мира: «Главное, чем они действительно схожи, – это не 49 столько способность изображения, сколько особенность их сознания, которое наиболее точно можно было бы определить, как ностальгическое сознание… главной же особенностью ностальгического сознания становится взгляд на настоящее как на прошлое. Непосредственно ощущая, как бытие превращается в небытие, как постоянно теряются мгновенья, – это сознание рождает понимание того, что каждый момент жизни единственен в своем роде и преходящ, как преходяще всякое ощущение». Ностальгическое сознание «настойчиво возвращает это прошлое, чтобы наглядеться на него, как на близкого человека перед последним расставанием….Такое ощущение – детище нашего времени. ХХ век стал усиленно порождать в людях ностальгию по прошлому, потому что мир полон социальных и экологических катаклизмов, потому что он меняется настолько быстро…» (14, с. 94-95). Исследователь, на наш взгляд, уловил принципиальное сходство мироощущения писателей, выразившееся в их художественной эстетике. В произведениях писателей, как мы смеем предположить, заключен также взгляд не только «на настоящее как на прошлое», но и на прошлое как на настоящее. А. Твардовский в свое время заметил, что Бунин – «великий знаток ”механизма” человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающие им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям…» (15, с. 103). К тому же стремился и Казаков. Можно предположить, что ностальгическое сознание является, в сущности, основой импрессионистической эстетики с ее особой концепцией времени, исповедующей ценность отдельных мгновений человеческой жизни. Однако сложное мироощущение писателей определялось не только трагическим осознанием преходящести каждого мгновения. Думается, что они верили, что через творчество воспоминания 50 прошлого наполняются энергией настоящего, и таким образом преодолевается пространство и время. В автобиографическом рассказе «Ночь» Бунин пишет: «Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества!». Благодаря творчеству Бунину и Казакову удается сделать вечным каждое мгновенье на земле. Через творчество происходит преодоление пространства и времени, а, значит, духовное освобождение. Казаков: «К счастью для нас, живых, смерть не уносит с собой всего человека. Остаются его дела – дома, которые он построил, или книги, которые он написал…» (3, с. 257). Бунин: Будущим поэтам, для меня безвестным. Бог оставит тайну – память обо мне: Стану их мечтами, стану бестелесным, Смерти недоступным, - призраком чудесным В этом парке алом, в этой тишине. Таким образом, писатели диалектически стремились разрешить проблему бренности бытия. В творчестве такой взгляд соответствует импрессионистической эстетике, основной целью которой является запечатлеть впечатление, то есть остановить время. Возрождение традиции интереса к «вечным темам», к экзистенциальному содержанию в эпоху советской литературы является, в первую очередь, заслугой Ю. Казакова. 51 2.2. Орнаментальные традиции лейтмотивного типа повествования в рассказах Ю. Казакова В рассказах Ю. Казакова можно обнаружить различные сближения в образной ткани повествования с художниками, близкими ему по творческому темпераменту. Это прежде всего общие лейтмотивные комплексы, часто противопоставленные друг другу. Так, например, образу дома в произведениях И. Бунина и Ю. Казакова противостоит мотив странствий. А образ Петербурга объединяет рассказы Ю. Казакова и прозу А. Белого. Рассмотрим образ Петербурга в рассказе Ю. Казакова «Пропасть» и в романе А. Белого «Петербург». Данные писатели мало соотносимы творчески. В созданиях А. Белого модернистские новации нашли наиболее яркое и последовательное воплощение. Если у него, как отмечал Н. Бердяев, «сами образы людей декристаллизуются и распыляются, теряются твердые грани, отделяющие одного человека от другого и от предметов окружающего мира» (16, с.111), изображаются в духе кубизма, то у Казакова мир реалистически вещественен. Если в творчестве Белого импрессионистическая эстетика призвана, по большому счету, отобразить хаос, разрушение мира, то большинство произведений Казакова утверждает созидательное начало, стремление к гармонии. Однако присутствие поэтического начала в прозе обоих авторов позволяет выявить типологические схождения даже в столь удаленных художественных системах. В частности, можно уловить определенное сходство в создании образа Петербурга. Рассказ Казакова «Пропасть» – один из немногих, где присутствует последовательно выдержанная поэтика деструкции, связанная с образом Петербурга. Казаков продолжает литературную традицию и создает этот образ, «сгущая» ощущение его затаенной гибельной энергии» (17, с. 93). Сходство намечается уже при общем восприятии города, несмотря на то, что он показан в произведениях в разное время года: у Казакова «странен, 52 таинственен становится в конце мая Ленинград!»; у Белого «дни стояли туманные, странные: проходил ядовитый октябрь». Далее в рассказе Казакова идет подробное описание Ленинграда во время белых ночей: «настораживаются сфинксы, – все глохнет, затаивается. Настает ночь. Погружаются в тень каналы, смутны тогда силуэты зданий, пронзительны прямые линии проспектов. И только ползают, шипят по площадям тупые поливные машины, прыскают мертвой водой, и засыпает город очарованным сном. Все изменяется! Все делается огромным, пустынным, призрачным. Небо светоносно, заря перемещается, зловещ пепельный силуэт тяжелых бастионов Петропавловки, мертвенно-бледен Зимний, пуста, громадна Дворцовая площадь, темен Исаакий… Как бред, как забытье тянется эта ночь. Любви, стихов, молчания требует она». Все в образе города предвещает нечто страшное. В романе А. Белого описание города также предрекает тревожные перемены, передающиеся через усиленное ощущение зыбкости: «Над Невою бежало огромное и багровое солнце: и петербургские здания словно затаяли, обращаясь в мельчайшие, аметистово-дымные кружева; а от стекол прорезался златопламенный отблеск; и от шпицев высоких рубинился отблеск; и уступы, и выступы – убежали в горящую пламенность: кариатиды, карнизы кирпичных балконов. Кровавился рыже-красный дворец; его строил Растрелли» (17, с. 145). Если проследить, как представлен образ города в романе, то можно прийти к выводу: образ Петербурга выражает концепцию разрыва и трагической дисгармонии между природным бытием человека, вселенной и механической схемой городских «Учреждений». В рассказе Казакова намечается следующий сюжет: молодой человек знакомится с девушкой и первая их ночная прогулка по Ленинграду производит на обоих неизгладимо прекрасное впечатление. Однако атмосфера нагнетается уже с момента первого свидания за счет повторов слов «мертвый», «гибель» и пр. Героиня переживает огромное волнение, в такие минуты обычно обостряется интуиция: «Вы знаете, я боюсь… Я боюсь, 53 у меня никогда больше не повторится такая ночь! Я так счастлива, что почти больна, и чувствую, что должна расплатиться за это… Это – как перед пропастью!» Затем герой внезапно вынужден уехать в командировку, и, хотя он может предупредить об этом девушку, он этого не делает, предвкушая свое будущее неожиданное возвращение. Однако все происходит совсем иначе. Когда Агеев после приезда идет встретиться с героиней, снова возникает образ Ленинграда: «Какой это был странный переулок! И странно еще было то, что Агеев раньше никогда не бывал здесь… Прохожих не было. Почти ужасная прямая линия панели переходила в смутно-сизую даль перспективы. Это безлюдье, эта полутемнота, предвещавшая долгую стеклянную застылость ночи, эти окна наверху, блестевшие мертво и плоско». Ср. восприятие города у Белого: «Петербургская улица осенью проницает весь организм: леденит костный мозг и щекочет дрогнувший позвоночник… Петербургская улица в жилах течет лихорадкой…» (17, С.96). Оба писателя отличались общим взглядом на литературу как на искусство родственное музыке. Отсюда господство стихии музыки, отсюда усиленная разработка произведениях. звукового строя речи, ритм, размер в их Однако у Казакова создание выверенного стихотворного размера не является самоцелью. В изображении города используются сходные орнаментальные приемы: многочисленные повторы, антропоморфные метафоры (у Казакова: «страшный провал» поднятого Дворцового моста, похожего на застывшего актера, «воздевшего руки в немом трагическом жесте»), инверсии. У Белого присутствует также прием «обратимости» тропа: сравнение, появившееся в начале главы «Петербург уходит в ночь» («петербургские здания словно затаяли, обращаясь в мельчайшие, аметистово-дымные преобразовавшись Петербургом). в метафору Возникающая кружева») появляется («Кружево обернулось «метафора-загадка» вызывает остранения, также усиливающий ощущение «странности» города. 54 в конце, утренним эффект Мистицизм – отличительная черта прозы А. Белого. Например, у него теряют строгие очертания, превращаясь в кружева, не только здания, но и люди: «Петербургские улицы обладали одним несомненнейшим свойством: превращали в тени прохожих». У Казакова атмосфера мистики нагнетается за счет появления странного образа пьяного, преследовавшего героя, как тень: Агеев «по-прежнему слышал, как задыхается пьяный, чувствовал спиной его упорный взгляд. Все это начинало походить на дурной сон, на кошмар… Что ему нужно? Почему он так упорно преследует его?». Однако описания у Казакова в целом менее расплывчаты, более реалистичны, в отличие от романа Белого. Рассказ Казакова имеет трагический финал. Метафорическое выражение героя: «Я погиб!» (в значении ‘гибнуть от любви’) в начале рассказа, предчувствия самой героини реализуются буквально – героиня умирает, так и не дождавшись любимого из поездки. Вслед за А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским, А. Белым образ «странного» Петербурга в рассказе «Пропасть» наделяется отрицательными коннотациями и является хронотопом для сюжета со смертельной развязкой. Наибольшее количество лейтмотивных пересечений рассказов Казакова нами обнаружено с творчеством И.А. Бунина. По свидетельству друзей, сложную противоречивую личность Бунина Казаков понимал лучше, чем кто-либо другой. В свое время он намеревался написать книгу о русском писателе, но, к сожалению, так и не создал, возможно, потому что многое для него все же осталось странным и неразгаданным. В рассказе Ю. Казакова «Вилла Бельведер» (1968-1969), посвященном любимому писателю, в частности, повествователь задается вопросами, почему Бунин никогда не имел своего дома и почему никогда не говорил, жалеет ли он о том, что у него нет собственного крова, детей. Три раза в тексте возникает слово «странно», выявляя волнующие автора противоречия в судьбе русского классика: «Странно все-таки, что Бунин, которого критики не называли иначе как барином, помещиком, - никогда не имел своего угла»; «Странно 55 еще, что вторую половину жизни провел он оседло…»; «Странно, что никто не знает» в Париже, где находится вилла Бельведер – последнее пристанище нобелевского лауреата. Пытаясь разобраться в первой странности, Казаков отмечает, что Бунин имел возможность купить дом, так как «получал высокие гонорары». Значит, не в деньгах дело. Значит, «бездомность» русского писателя во многом определяется особенностями его мироощущения. Действительно, Бунин относил себя к особой категории людей, одержимых дорогой. Самым счастливым человеком он считал «вечного странника» Агасфера, «который счастлив тем, что все видел, все знает и будет знать» (11, с.499). Бунину также были близки изречения восточного философа Саади, которые он цитирует в цикле «Тень птицы» (1931): «Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души своей»; «Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома» (11, с.501). С детства его влекло все странное, отмеченное тайной: большую роль в этом сыграл воспитатель – «престранный человек», «скиталец», который научил Бунина «читать по «Одиссее» Гомера», «вызвал… горячую любовь» в мальчике «своими бесконечными рассказами» о путешествиях (4, с.6). В автобиографии писатель с теплотой рассказывает о домочадцах (родителях, воспитателе), и лишь одна деталь связана непосредственно с домом: «…помню, действовало на меня… предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад, на запад…» (4, с.6). Использование не характерного для данного предложения предлога ”за” также, на наш взгляд, говорит о возникшей еще в детстве страсти Бунина к дороге, к неизведанному миру вне дома. Путешествия действовали очень благотворно на творчество Бунина. Странствия позволяют через буквальное перемещение во времени, познание мира, а, следовательно, духовное обогащение освободиться от пространственно-временных ограничений: «Печаль пространства и времени, 56 формы преследует меня всю жизнь, сознательно и бессознательно, то и дело преодолеваю их… Я непрестанно жажду приобретать чужое и претворять его в себе. Но зачем? Затем, чтобы на этом пути губить себя, свое «я», свое пространство, - или затем, чтобы, напротив, утвердить себя, обогатившись и усилившись чужим?» (11, с.132). Как видим, у писателя противоречивое отношение к жизни-странствию, потому что, с другой стороны, это является причиной неизбежной утраты семейного очага, отечества, того, что образует человеческую индивидуальность. Рассказ Казакова ”Вилла Бельведер” написан в виде путевых размышлений. Тяга, смутное влечение к дороге было присуще и Казакову: “Для писателя нет ничего лучше, - пишет он. – Масса новых впечатлений, глядишь на все жадно, запоминаешь ярко, характеры встречаешь такие, что хоть сейчас в рассказ” (3, с.99). Извечное стремление «на край света», идея ухода в поисках лучшей доли – исконное свойство национального русского характера – берет свое начало от бесконечных просторов русской природы, от духовной широты личности, нежелания «легкой жизни». Таково большинство героев Казакова («Странник», «По дороге», «Легкая жизнь» и др.). Импрессионистическое мироощущение Казакова, стремящееся уловить мир в движении, поймать яркие мгновения, увидеть что-то в своей жизни впервые «остраненным» взволнованным взглядом, увлекает писателя в дорогу: «В дорогу, в дорогу! Я хочу говорить о дороге. Отчего так прекрасно все дорожное, временное, мимолетное? Почему особенно важны дорожные встречи? Или хруст колес, топот копыт, звук мотора, ветер, веющий в лицо, все плывущее мимо назад, мелькающее, поворачивающееся?..» Дорога, являя все новое, неизведанное, позволяет ощутить себя ребенком, осознать, что ты, действительно живешь на этом свете, почувствовать себя свободным. Однако у обоих писателей присутствует сожаление по утраченному отчему дому, отнятому революцией у Бунина и Великой Отечественной войной у Казакова. Так, в рассказе “Темные аллеи” (1943) образ уютного дома, где происходит радостная встреча героев, противопоставляется образу 57 дороги, который ассоциируется с бесприютностью, одиночеством. А в рассказе “Дурочка” (1943) бесконечное пространство дороги становится знаком отверженности героев, безысходности человеческого существования. С ощущением “бездомности” у Бунина связано повторяющееся на протяжении всего творчества сравнение себя с птицами и их перелетами: У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, Когда я уходил с отцовского двора, Сказать прости родному дому! У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом С своей уж ветхою котомкой. (1922) Дом – это часть индивидуального мира человека. Хотя Бунин любил путешествия, писать он старался в спокойной обстановке, в простой, но удобной комнате. Именно такой была обстановка в доме А. П. Чехова в Ялте, с семьей которого он очень сблизился. Домочадцы, родственники Чехова, окружили его заботой, в такой мирной обстановке он еще никогда не жил. И для Казакова, и для Бунина образ дома – это нечто живое: он может «радоваться» и «плакать от горя» («Свечечка»), он помнит всех живших в нем людей, наполнен их духом. Дом с большой буквы – это место, где жили люди, достойные восхищения. Поэтому герои рассказа Казакова «Проклятый Север» при посещении дома-музея А.П. Чехова в Ялте испытывают неловкость, «будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас». У рассказчика также вызывает негодование шепот других посетителей музея: «А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь». Для героев, «очень нежно» любящих Чехова, эти реплики кажутся «гнусными и жалкими». Перенявший от отца неизменную бодрость духа, Бунин усмиряет боль утраты отчего дома, находя всему философское объяснение. В очерке 58 “На Донце” – жанре, позволяющем свободно выразить свое отношение к описываемому, – герой “видел молчаливое небо и тосковал невыразимой тоскою, чуял невнятный голос природы, говорящий нам, что не на Земле наша родина”(11, c.301). Подобная философская позиция, по определению автора «Виллы Бельведер», – философия “минутного гостя” на Земле. Говоря о вилле в Граасе – “первом доме, где Бунин прожил многие годы подряд”, – рассказчик, за которым легко угадывается сам Казаков, отмечает: “И этот дом был, в сущности, чужой ему дом… и в этом доме был он минутный гость, странник, присевший на минуту перед дальней дорогой”. Эта философская позиция близка писателю: себя в рассказе он также называет “мгновенным гостем”. С помощью орнаментального приема композиционной рифмовки (“минутный гость” ∼ “мгновенный гость”) автор определяет значительность личности Бунина в истории культуры, весомость его вклада в русскую литературу по сравнению со своим, пока еще не “определенным судом истории” творчеством. Дело в том, что лексемы “минутный”, “мгновенный” семантически различны. Минута – объективно обозначенный отрезок времени, относящийся к прошедшему, а мгновение – в обыденном восприятии – нечто меньшее по сравнению с минутой, более субъективное, еще не имеющее четкого временного определения в настоящем. В рассказе “Вилла Бельведер”, называя русского классика “вечным бродягой”, “странником”, повествователь тут же высказывает противоречивую, на первый взгляд, мысль: “Только вот дороги у него (Бунина. – Ц. Н.) как раз и не было”. При более детальном анализе противоречие снимается, потому что под словом “дорога” подразумевается конкретная цель, к которой каждый обычный человек идет всю жизнь – иметь родовое гнездо, детей, внуков. К этому стремился и Казаков: дом был куплен им в Абрамцеве. Здесь происходит действие двух его последних рассказов “Свечечка”, “Во сне ты горько плакал”, где главные герои – сам писатель и его маленький сын. Размышляя о личности Бунина, Казаков 59 пишет: “Трудно понять человека, дожившего почти до старости и нажившего два чемодана рукописей и любимых вещей”. В поисках никому неизвестной в Граасе виллы русского писателя лирический герой Казакова попадает в богадельню с “милыми благообразными” и “страшными, лет за девяносто” старушками. У героя возникают невольные ассоциации с детским садом: “И вдруг я отчетливо вспомнил детский сад… также пахло манной кашкой, компотом, клеенкой и стираным бельем…” Для писателя очень важно, чтобы у человека был свой дом, по крайней мере, в детстве (“Свечечка”) и в старости (”Старый дом”). У Бунина, по мнению автора, не было такого, пусть даже “эфемерного”, “утешения”. Ведь в старости хочется не “радости” – бурных впечатлений, перемены мест, а “покоя”. Возможно, поэтому Бунин провел вторую половину жизни оседло. Хотя сам писатель в этот период жизни писал, что отсутствие возможности путешествовать как раньше – «одно из самых больших лишений» для него на чужбине (11, с.301). Рассказ «Вилла Бельведер» завершается мыслью: «Все проходит» – молодость, слава, деньги. И даже дом, семья, дети – это лишь “эфемерное утешение”. Мысль о бренности всего сущего находится как бы над всеми остальными размышлениями. Все мы гости на этой земле, по мнению Казакова, мы уйдем, и нас рано или поздно забудут. Эта мысль разрешает третью странность в судьбе Бунина: почему никто в Граасе, где жил русский нобелевский лауреат многие годы, не знает о его последнем пристанище. Рассказ “Вилла Бельведер” не закончен. Возможно, для Казакова осталась до конца не разгаданной и эта грань личности великого русского классика, возможно также, что он хотел сказать что-то еще о Бунине… Большинство творений Бунина и Казакова построено по принципу ассоциаций, которые приобретают большую ясность благодаря лейтмотивам. Помимо структурообразующей функции лейтмотивы выступают как некий художественный код, выявляющий авторскую позицию, и шире, авторское мироощущение. Таким лейтмотивным комплексом является образ дома. В целом, образ полноценного дома у рассматриваемых авторов включает 60 следующие лейтмотивы: 1) предметные (раскрывающиеся окна, зеркало, свет, огонь в очаге, определенные комнаты, например, детская); 2) ролевые (Ребенок, Хозяин и т.п.); 3) событийные (мотив утраты дома, мотив обретения дома и др.); 4) расположение дома, то, что его окружает (например, сад). Один из наиболее значимых атрибутов – окно, которое должно быть растворяющимся, так как окна, “глаза дома”, распахнуты миру, навстречу дневному свету. Образ открытого окна оказывается знаменательным в рассказе Бунина “У истока дней” (1906). Когда смертельно заболела девочка Надя, “в детской завесили окна темными шторами” . А по прошествии времени, после того как горе утихло, главный герой – маленький мальчик – сидит “у раскрытого окна, выходящего в темный и свежий сад”. Но сидит он уже в классной комнате, а не в детской и смотрит “на меркнущий нежноалый закат, по которому громоздятся синие тучки, похожие на саркофаги”. Это необычное сравнение, характерное для орнаментального стиля, говорит о взрослении героя, который впервые столкнулся со смертью и осознал, что все в этом мире отмечено печатью смерти 3 . Тот же лейтмотив растворяющихся окон мы обнаруживаем в рассказе Казакова “Во сне ты горько плакал” (1977). Здесь он также связан с темой смерти: с самоубийством друга рассказчика. Герой-рассказчик мысленно пытается представить картину того страшного дня, хочет найти причины, побудившие его друга – такого жизнерадостного, энергичного человека – к столь роковому шагу, и задается вопросами: “Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью?” Герой предполагает, что этот взгляд в окно дома на заснеженную округу мог спасти друга: “Ведь первый снег так умиротворяющ”. В момент самоубийства в представлении рассказчика окна в доме друга были закрыты: 3 Ср., например, с рассказом И. Бабеля «Переход через Збруч»: «Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова». Здесь, по наблюдению В. Шмида, так же, как у Бунина, герой «вытесняет в подсознание увиденные им ужасы, перенося их на природу» (18, с.320). 61 “Что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу?” Напротив, при описании счастливых мгновений жизни в повествовании возникает образ растворенных окон. Вспоминая о друге, рассказчик говорит: “Каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая деятельная. Как ни придешь к нему – и, если летом зайдешь со стороны веранды, – поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине…” Месторасположение дома друга также весьма показательно: “в тупике улочки я увидел его дачу”. Оно созвучно настроению, часто посещавшему погибшего героя – “приступам тоски”, безысходности. Примечательно также, что рассказчик (в отличие от своего дома, находящегося неподалеку) называет дом погибшего “дачей” – неким временным пристанищем. В произведениях Бунина очень важно, чтобы окна любимой комнаты выходили в сад и чтобы комната была наполнена солнцем, так как сад – это гармоничное соединение творческой энергии человека и природы. Именно такое расположение детской комнаты мы видим в рассказах “Цифры” (1906), “У истока дней”. В этих произведениях детская – центр дома. Ребенок, по словам героя рассказа “Цифры”, “не дает покоя всему дому”, но когда происходит ссора между малышом и дядей, последнему хочется покинуть дом. Интересно также, что в этот момент – момент после ссоры – в детской “темно”. Ребенок – “свет” в доме, его действия – от Бога, считает автор, и дом становится ненужным, пустым и мрачным без детского смеха. В рассказе Казакова “Свечечка” прослеживается та же мысль. Само название говорит за себя: поглядеть, как горит свеча, и погасить ее – это счастье для малыша. “Све-е-ечечка го-ли-и-ит!” – радостно восклицает он во время этого «ритуала», отец же думает о сыне: “Да ты сам как свечечка”. Он понимает, что лучистые глаза ребенка, его сияющее счастливое лицо развеют любую тоску. 62 Еще один не менее важный атрибут дома у Бунина – зеркало. Лейтмотив зеркала – основной в рассказе “У истока дней” – символизирует познание человеком мира и одновременно его изначальную непознаваемость. Это символ “неведомого и непонятного, сопутствующего… от истока дней … до грядущей могилы”. С того момента, когда герой впервые обращает внимание на зеркало, он помнит себя, свое прошлое. В этот момент, как отмечает герой, “я разделился на воспринимающего и сознающего… и все окружающее приобрело свой собственный лик, полный непонятного”. В детстве герой еще очарован тем “чудесным, новым, что… открылось ему”, однако с годами приходит осознание, что мечта о познании тайны скорее не “сладостна”, а “печальна”, потому что невозможно постичь жизнь и смерть, и от “попыток… разгадать жизнь останется один след: царапина на стекле, намазанном ртутью”. Хотя взрослое сознание смиряется, укрощается неизменными законами бытия, ощущение тайны остается: «…не стала ли таинственная ртуть ее более таинственной после этого?», возникает ностальгия по детству, в котором ребенок не отделяет себя от мира, у него нет нужды проникнуть в тайны мира, потому что он сам – этот мир и ему радостно просто быть собой. Об особом детском знании говорит и Казаков в рассказе “Во сне ты горько плакал”. «Правда детского восприятия окружающего мира как высшая мудрость, доступная человеку, была тем нравственным и поэтическим идеалом, что брезжил перед… Казаковым» (17, с.110). Человек рождается гармоничным и совершенным, но в процессе взросления утрачивает эти качества. Ребенок счастлив изначально: у него нет ощущения разрушительного бега времени, он не знает горя и одиночества, не испытывает негативно действующих на душу эмоций, мыслей. Ребенок подобен ангелу, он выше и лучше взрослого. “Ты мудрее меня, – мысленно обращается лирический герой к сыну. – Ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл”. Детство – “самое ослепительное счастливое время начала жизни”, когда все видишь, чувствуешь особенно остро. Именно 63 поэтому в детстве, по мнению Казакова, у ребенка обязательно должен быть дом. Бунин, осознавая невозможность возвращения на родину, смирился со своей судьбой. Воспоминания о родине, об отчем доме превращались в реальность, отражаясь на страницах его произведений, прошлое становилось настоящим и «расцветало» благодаря любви и памяти, утверждая жизнь человеческую, подобно необычному цветку: «Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет… В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого – и вот опять, опять дивно прозябает мой заветный злак» («Роза Иерихона»). Если у Бунина возвращение домой происходит в акте творчества, в мысленном преодолении пространства и времени благодаря силе памяти, то у Казакова в позднем творчестве оно реализуется буквально. В рассказе «Старый дом» герой – композитор, «счастливейший и талантливейший из смертных», приблизившись к концу своего жизненного пути, «когда усталое сердце его загорелось ровным огнем самой великой и самой нежной любви к родине, к далеким годам детства, к бесконечным печальным равнинам», начинает строить себе дом. Автор подробно описывает строительство дома: «Гол, уныл и дик был холм на берегу реки, когда начали возить туда белый, сахаристый камень и оранжевый, звонко-каленый кирпич, желтые сосновые и палевые дубовые и кедровые бревна, гибкие доски, распространявшие запах скипидара и лаванды, легкую красную, с радужно-шоколадным отливом черепицу, пахнущую почему-то тонкой сухой пылью аравийских пустынь». Это обилие импрессионистически ярких насыщенных оттенков, красок, запахов прямым образом создает то, что сказано в старой книге, цитируемой в рассказе: «Выстрой себе жилище и потрудись весь остаток жизни своей над украшением земли. Так создается красота мира!». Для Казакова важно, что человек оставляет после себя на этом свете. Герой 64 рассказа, приносивший своей музыкой радость людям и ставший в конце жизни хозяином построенного им дома, в представлении автора доживает свой век, чувствуя в душе гармонию с окружающим миром. “Мне кажется, – размышляет исследователь творчества писателя И. Штокман, – что Казаков настойчиво из рассказа в рассказ был занят поисками земли обетованной для души человеческой, поисками надежного и верного прибежища. Он очень хотел найти ту ситуацию, ту внутреннюю атмосферу, в которой их чувству дышалось бы широко и вольно” (19, с.137). Семейный очаг как один из обязательных атрибутов “земли обетованной” необходим в старости, когда человек стремится к покою. И если в последних произведениях Бунина (“Жизнь Арсеньева”, 1927-1939 и др.) все-таки звучит мотив утраченного дома, тоски по Родине, и это объясняется биографией, мироощущением писателя, то в произведениях Казакова, напротив, преобладает мотив обретения дома (“Старый дом”, “Свечечка” и др.), в котором все проникнуто духом любви, искренности, творчества, ведь человеческий кров не только укрывает от холода или дождя, он привносит в душу человека ощущение гармоничности бытия. Ю. Казаков, сознательно следуя русской литературной традиции, оставался верен в течение всего творчества жанру рассказа. Размышляя о русской литературе, А. Твардовский отмечал, что бесспорная, непреходящая заслуга И. Бунина, прежде всего, в развитии им и доведении до высокого совершенства «чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции», возникает как которая бы из «избегает строгой непосредственно оконтуренности наблюденного сюжетом, художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки» (15, с.195). Возникнув на основе непосредственных впечатлений реальности, рассказ Бунина в своей концовке стремится сомкнуться с той же реальностью, откуда вышел, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного их продолжения, «додумывания» 65 затронутых идей, вопросов. Такая жанровая форма рассчитана на вдумчивого читателя, она требует определенных душевных затрат, в результате которых человек может качественно изменить свои взгляды на мир. К традиции бунинского жанра рассказа ближе всего рассказы«переживания» Казакова (см. о них в главе III). Сравним, на первый взгляд, совершенно далекие друг от друга рассказы «Антоновские яблоки» Бунина и «Двое в декабре» Казакова. Соотнести названные произведения позволяет важный интертекстуальный образ, присутствующий в рассказе Казакова, – образ антоновских яблок. Несмотря на то, что повествование в рассказе Казакова ведется от 3-го лица, он, как Бунин в «Антоновских яблоках», частично использует ассоциативно-лейтмотивный принцип развертывания повествования. Это мотив «цвета» у Бунина, мотив «неразрывной связи прошлого и будущего» у Казакова, мотив «запаха» и др. Художественно важны пространственновременные отношения в рассказах. Бунин в основу хронотопа закладывает ощущение реального природного времени – цикличного, непрерывно и закономерно изменяющегося. В «Антоновских яблоках» – это осень. Преобладающий цвет осени – желтый, золотой – выступает здесь как лейтмотив: это яблоки («Если же год урожайный, на гумнах возвышается целый золотой город <яблок>…»); сад («Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад»); одежда героев («Понева…, обложенная на подоле широким, золотым позументом»); реплика Арсения Семеновича («Ну, однако, нечего терять золотое время!»). Время осени, воссозданное на страницах рассказа, выражает отношение автора – грустное осознание постепенного ухода в прошлое «золотого века» России. Однако этот процесс так же закономерен и неподвластен воле отдельного человека, как изменения в природе, он лишь вызывает «сладкую тоску» о прошлом и стремление прожить, прочувствовать каждое мгновение в настоящем. Отличительная черта поэзии – присутствие в ней ритма, однако его можно увидеть и в прозаических произведениях: художественное время у Бунина соответствует 66 реальным природным циклам не случайно – цикличность уже сама по себе предполагает ритм. Внутренний ритм, выраженный в особой композиции, мы видим в рассказе Казакова «Двое в декабре»: весь рассказ разделен на два временных отрезка «когда-то» и «теперь». «Когда-то» герои были одиноки, встретившись, долго привыкали друг к другу, была «тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия…», а «теперь» их двое, они действительно вместе и это другое – «покойное, доверчивое и нежное чувство». По принципу композиционной рифмовки подано также пространство в рассказе Казакова, его можно обозначить как «в городе» / «за городом». Такой же контраст присутствует в рассказе «Осень в дубовых лесах». Пространственные координаты напрямую связаны с состоянием героев: «город» у них ассоциируется с суетой, уходом от себя самого, «город» - это скопление человеческих проблем и несчастий. «За городом» герои проживают самые счастливые моменты в своей жизни, чувствуют свое единение с природой, снова начинают мечтать («…сегодня почему-то опять захотелось помечтать»), задумываются о смысле жизни, осознают прожитые этапы, желая изменить что-то в лучшую сторону в отношениях с близким человеком («Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным – дом, жена, семья и тому подобное - время это миновало, уже тридцать…»). Но как только герои возвращаются в город, они оба вдруг чувствуют, «что их поездки как бы и не было, не было двух дней вместе», и они прощаются, «как всегда прощались, с торопливой улыбкой». Таким образом, время и пространство в рассказе Казакова намеренно противопоставлены, поданы по принципу зеркальной композиции, характерной для поэтического типа организации повествования. Ритм рассказу также задает и малоупотребительный архаизмлейтмотив «покойно», выражающий особенное состояние внутренней гармонии (не случайно в рассказе подчеркивается «не радостен он был, нет, а просто покоен…»). Данное слово семантически более насыщено в отличие от 67 часто употребляемого в обычной речи слова «спокойно». В тексте можно выстроить целый синонимический ряд к слову «покойно»: «здорово», «прекрасно», «приятно» и наиболее часто встречающееся «хорошо». Данный синонимический ряд скрепляет ассоциативные образы в рассказе, как бы «рифмует» их, что позволяет глубже понять произведение и, в частности, раскрыть поэтику названия. Ассоциации в тексте возникают вокруг двух ключевых фраз: «зима хороша», «двоим хорошо»: «приятно слышать скрип свежего снега», «хорошо взбираться и съезжать по снегу», «на работе все хорошо»; и «с ней у него все хорошо», у героев «покойное, доверчивое, нежное чувство», «она лучше всех» и т.п. Данный ассоциативный ряд дополняется и художественно усиливается за счет приема градации: «И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греться возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та, которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не было ее…» Перед нами «кадр» счастливого момента в жизни героя. Использование конструкции «наречие степени + инфинитив» создает ощущение временного смещения: им двоим настолько приятно вместе, что время в этот счастливый декабрьский день будто останавливается. Через данный лейтмотив выражается импрессионистическая философия времени – бесконечности его отдельного мгновения и одновременно мимолетности. С другой стороны, благодаря лейтмотиву мир рассказа передается как бы через «воспринимающее сознание» героев. Таким образом мы выходим к поэтике названия рассказа: название «Двое в декабре» выступает как определение концепта «счастье», точнее как отдельный счастливый «кадр». Изображение «картинок», характеризующих состояние «как хорошо жить на свете» (цитата из анализируемого текста Бунина), в «Антоновских яблоках» также производится с помощью лейтмотива «хорошо». У Бунина 68 присутствуют идентичные с грамматической и семантической точек зрения фрагменты: «…так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге». Слово «хорошо» (и его синонимы) является ключевым в обоих произведениях: оно семантически «расширяется», за счет ассоциаций, поданных по принципу кинематографичности таким образом, что внутренние, эмоциональносмысловые связи между персонажами, событиями, деталями оказываются более важными, чем их внешние причинно-следственные «сцепления» (хотя событийность наличествует в рассказе Казакова). Иными словами, у обоих писателей присутствуют элементы монтажной композиции, где пропорция между «изображением» (сюжетом) и «выражением» смещена в сторону «выражения» по аналогии с поэтическими произведениями (20, с. 345). Вернемся к весьма важной художественной детали – образу антоновских яблок. О том, что эта деталь – не случайное совпадение, а сознательная реминисценция, говорит буквальное текстовое сходство: для обоих писателей важен в изображении запах яблок. Образ антоновских яблок, на наш взгляд, в первую очередь, выступает как атрибут концепта «счастье», и это его бытийное, философское значение. Счастье для героев Бунина и Казакова – чувствовать самую плоть жизни, различные же запахи как наиболее мощный аспект восприятия часто ассоциируются с определенными яркими моментами в прошлом. У каждого человека свои «запахи счастья», но благодаря Бунину образ антоновских яблок стал своеобразным культурным кодом, универсальным ассоциативным образом благополучия, удовольствия от простых радостей жизни: «Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно». Таким же содержанием наполнен образсимвол в рассказе Казакова, где он появляется только один раз: в тот момент, когда герои наконец-то оказались вдвоем за городом на желанном отдыхе, первое, что они почувствовали, войдя в свою комнату – это крепкий запах антоновских яблок: «…везде там, по подоконникам, под кроватью и в шкафу, 69 лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли». Антоновские яблоки ассоциируются с осенним покоем в природе, богатым урожаем, ту стадию в любви, которую переживают в рассказе герои, также можно сравнить с этим временем года: нет уже былой яркости переживаний, новизны, но любовь не прошла, а как бы «созрела», и пришло осознание того, что что-то должно быть дальше: семья, дети, общий очаг… Такое цитирование классических текстов, «подключенность к общекультурным источникам» также характеризует орнаментальный стиль (10, с. 234). Образ яблок, их запаха, а также других запахов, ассоциирующихся с домом, возникает и в других рассказах Казакова, наполняясь несколькими смыслами, являющимися метатекстуальными для его творчества. В произведении «Вон бежит собака!» он также является лейтмотивом счастья: «Механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь он был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг. Оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом по реке, где ждало его недолгое горячечное счастье рыбака». Образ крепко пахнущих яблок возникает в момент предвкушения героем близкого счастья, так же, как в рассказе «Двое в декабре». В такие минуты человек испытывает наиболее трепетное волнение, как будто с ним должно произойти чудо. Как известно, во время предвкушения чего-то приятного мы испытываем больше эмоций, чем в момент исполнения ожидаемого. В этом маленьком фрагменте три раза повторяется слово «счастье», причем по принципу кольцевой композиции (в начале и в конце фрагмента), а также при помощи приема стыка (в конце предложения и в начале следующего в форме инверсии: «…он был счастлив. А счастлив он был…»). Эти орнаментальные приемы позволяют наиболее ярко передать испытываемые героем волнения. 70 Образ яблони, возникающий в другом рассказе «Странник» (1956), ассоциируется со счастьем спокойствием: сознательно обретения обрекший родного себя дома, душевным на странничество герой, остановившись на ночлег в очередном незнакомом доме, сидя в ожидании ужина, вдруг «замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде… И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки были одинаковые». На время утихает в душе героя непонятная тоска, каждый раз влекущая его в дорогу, возникает желание жить обычной «оседлой» жизнью. И когда странник все же отправляется дальше в путь, «слабая тоска по чему-то незнакомому…» покалывает его сердце. Возможно, это тоска по неосуществленному счастью обретения домашнего очага. Запахам у Казакова (как и у его предшественника) всегда отведено значительное место в произведениях. Запах яблок, образ яблони относится к атрибутам «жилья». В рассказе «Запах хлеба» (1961) другие запахи детства, отчего дома (хлеба, одежды матери, кустов у ее могилки) - это единственное, что на мгновение трогает черствую душу героини, пробуждает забытую любовь к матери. Мотив запаха является своеобразной авторской ремаркой: «запахи жилья» в отражающих нашу современность рассказах Казакова позволяют человеку хоть на какое-то мгновение стать человеком, пробуждают в душе самое сокровенное, позволяют ощутить этот мир и себя в нем. Персонажи обоих рассматриваемых рассказов размышляют о жизни, вспоминают о прошлом. Они понимают, что находятся на пороге перемен (у Бунина «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб…»; у Казакова героиня «чувствовала только, что пора первой любви прошла …»), героям «смертельно жалко» уходящего, и они стремятся прожить каждую минуту, как в последний раз. Однако нужно отметить, что перемены, 71 ожидаемые ими, разного порядка. У Бунина в рассказе – это предчувствие коренных социальных изменений, которые, нарушая старинную счастливую жизнь, являются все же закономерными, не зависящими от воли отдельного человека, так же, как смена времен года в конце рассказа, и хотя герой грустит об утраченном, он понимает, что жизнь – бесконечное изменение. А в рассказе Казакова то, какими будут эти перемены, во многом зависит от самих героев, от их желания сохранить духовную близость, пронести через годы хрупкое счастье гармоничных взаимоотношений. Лейтмотивы в рассказах рассматриваемых авторов могут быть поданы по принципу композиционной рифмовки образов – приема орнаментальной прозы: таков эпитет "безнадежный" в рассказе Бунина "Туман" (1901). Возникая в начале рассказа как определение некого состояния природы ("безнадежный туман") и ("безнадежная печаль в конце как характеристика состояния героя овладела мною"), он подтверждает мысль о нераздельности бытия человека и природы, являющейся основной в данном рассказе. У Бунина герои как бы растворяются в природе, от чего природа становится «утонченно человечной» (21, с. 109). Писатели часто обращаются к близким жизненным ситуациям в произведениях, и тогда видно, что в индивидуальном художественном восприятии могут возникать совершенно разные ассоциации и разное эмоциональное состояние. У Казакова есть рассказ с похожим на бунинский рассказ названием «В тумане» (1959). В обоих рассказах героев застает туман, однако природное состояние производит на них разное впечатление. Можно уловить «общий звук» произведения уже исходя из названия: авторы одно и то же слово используют в разной грамматической форме. Конструкция предлог «в» + существительное в предложном падеже («В тумане») имеет грамматическое значение ‘присутствие внутри чего-либо’. Соответственно, можно сделать вывод, что туман в лесу в рассказе Казакова – не враждебное герою природное пространство, тогда как использование в названии рассказа Бунина слова «туман» в именительном падеже можно 72 рассматривать как нейтральное, отстраненное от героя обозначение природного явления. Для героя Бунина, представителя интеллигенции, мир предстает в эту «странную ночь» как загадка. Рассказ делится на две части: в первой части, занимающей почти весь рассказ, возникший в море туман воспринимается как «нечто враждебное, мрачное», в результате у героя появляется тревожное настроение, которое нагнетается в течение всей первой части. Чувство одиночества как никогда остро дает о себе знать, более того герой сам не желает общения с людьми: «Мне никто не нужен теперь и я никому не нужен, и все мы чужды друг другу». Жизнь его по сравнению с бездной, которая в данный момент окружает корабль, кажется герою «маленькой и жалкой». Описывая подробно свои чувства, герой дает «определение» этому состоянию – «невыразимое спокойствие великой и безнадежной печали». Его настроению соответствует и описание пейзажа: импрессионистическое ощущение призрачности и зыбкости от тумана, «призрачный свет месяца», корабль, похожий на призрак. В результате герой чувствует, что находится как бы между сном и явью. Пограничное состояние «со знаком минус», которое он испытывает, позволяет в эту ночь ощутить то великое, что «обыкновенно называют смертью», приблизившись к тайне жизни, герой «впервые встретил ее спокойно». В конце рассказа так же, как ночь сменяется утром, туман сменяется ясным солнцем и «бирюзовым небом», меняется и настроение персонажа: после того, как туман рассеивается, героем овладевает «бессознательная радость жизни». Ощутив в полной мере «ужас» бытия этой туманной ночью, он тем сильнее испытывает «к кому-то» безграничную «детскую благодарность за все, что должны переживать мы». В душе героя происходит своеобразное очищение, утверждающее в конце рассказа светлое, оптимистическое отношение к жизни: пережитое гнетущее состояние, постигшее героя во время тумана, позволяет по достоинству оценить последующие радостные моменты просветления в природе и в собственной 73 душе. В рассказе Бунина природа так же, как состояние героя, наделяется отрицательными человеческими эмоциями (явление «интерференции»): «безнадежный» туман «темнел все угрюмее»; «тоскливая аспидная муть». У Казакова, напротив, герой рассказа «В тумане», деревенский механик Кудрявцев, испытывает необъяснимое, внезапно нахлынувшее чувство счастья «в самую глухую минуту, в самое беспросветье». Развеивается усталость героя, он начинает «с большей нежностью» думать о жене, испытывает «теплоту» к людям, встретившимся ему в этот вечер, и, возвратившись домой, не идет по обыкновению пить водку с приятелями, а решает «побыть дома с женой», помириться с ней. Герой понимает, что ничего особенного не произошло в это вечер его жизни, но точно знает, что этот туманный день он будет вспоминать очень долго: «Это как осенью: в самую мерзкую погоду вдруг голубое окно в тучах, и вот посмотришь на это голубое и какие лужи на дорогах сделаются светлые – и вспомнишь все весны и счастье, что когда-то было!» Это «беспросветье» в прямом (туман, застигший героев в лесу), и переносном смысле (ссора с женой, неудачная охота) позволяет, как ни странно, герою осознать, что счастье просто жить на этом свете и что даже в тумане, надо пытаться «разглядеть звезды на небе». Таким образом, «бессознательная радость жизни» зарождается у него, в отличие от героя Бунина, не после, а именно в то время, когда «застиг густой туман» в лесу. В результате весь рассказ Казакова от начала и до конца имеет мажорную тональность. Счастье и несчастье – стороны человеческой жизни, идущие рядом, они и составляют, как это ни странно, полноту человеческой жизни. Оптимистическое мироощущение, несмотря на присутствие трагических нот, в конечном итоге утверждается почти в каждом рассказе Казакова. Так, героиня рассказа «Некрасивая» (1956) вопреки случившимся с ней неприятным событиям, вопреки разочарованию, кажется повествователю красивой именно в тот момент, когда она вдруг видит «пронзительную красоту мира», когда сама в себе чувствует «силу и прелесть». 74 Некоторые лейтмотивы присутствуют не только в пределах одного произведения, но проходят через все творчество писателя, образуя сложные лейтмотивные комплексы, которые позволяют определить смысловые доминанты в лейтмотивной авторском структуры мироощущении. рассказов Продолжим Казакова на рассмотрение метатекстуальном (индивидуальном и общелитературном) уровне на примере лейтмотивного комплекса «белый импрессионистически цвет». В этом лейтмотивном слилось всё непознаваемо комплексе прекрасное: образ женщины, сна, русского Севера и снега, «белого света» и смерти. Белый цвет связан с образом сна: в состоянии сна, в отличие от реальности, у Казакова души людей могут слиться в одну. Если в раннем рассказе «Голубое и зеленое» (1956) герой не хочет снов, в которых ему «попрежнему 17 лет» и он любит «впервые в жизни», так как это невозможно в реальной жизни, то в рассказе «Осень в дубовых лесах» (1961) образ «белого сна» возникает в финале, обозначая такое пространство, в котором влюбленные все-таки счастливы: «Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы, наконец, были вместе». Подобное состояние посещает также героя другого рассказа писателя «На острове»: «Ну вот и счастье, - подумал Забавин и сейчас увидел лицо Густи. – Вот и любовь! Как странно… И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виднелось ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли…». Состояние эмоционального пробуждения под действием красоты природы, внезапно вспыхнувшего настоящего чувства к девушке – это своеобразный момент пробуждения героя от скучной повседневной привычки жизни без размышлений и тревог. Герой в глубине души отдает себе отчет в том, что все происходящее с ним – это лишь прекрасное мгновение (поэтому губы его «скорбно сжаты»), но именно в эти минуты у него возникает ощущение жизни и себя в ней. Герои Казакова почти всегда одиноки, и лишь на мгновение им удается объединиться душою с другим человеком. Острота переживаний в подобном 75 состоянии размывает ощущение реальности происходящего, все воспринимается героями как сквозь сон. Только в детстве, по мнению писателя, люди не ощущают одиночества, потому что все кажутся близкими, одинаково приятными. С возрастом человек теряет это качество, поэтому бывает очень трудно встретить людей, близких тебе по духу. Когда кто-то ощущает себя как единое целое с другим человеком, это происходит скорее на каком-то бессознательном уровне: часто человек даже не может объяснить, чем ему близка именно эта личность из великого множества остальных. Сон же – это подлинное пространство человеческой свободы, в котором личность стремится проявить сокровенные стороны и свойства своего «я». Во сне «происходит возвращение… в индивидуальное детство» (18, с.303). Образы снега, воды, северного сияния, белых ночей занимают у писателя значительное место. Снег – это постоянный атрибут жизни самого писателя, для него он имеет особое значение: это не только московский мерцающий снежок, как в «Голубом и зеленом», но и глубокие снега на бескрайних просторах Севера, сверкающие чистотой и первозданностью (где он постоянно любил бывать с ранней юности). Образ снега, возникая неоднократно во многих произведениях, становится лейтмотивом, позволяющим читателю открыть для себя наиболее потаенные стороны души героя. Это один из символов России. «Неожиданно приятно смотреть на мелькающий в воздухе снег: настоящей Русью пахнет!» - признается лирический герой Бунина (11, с. 224). Герои Казакова тоже постоянно ощущают белизну, звук и даже запах снега («Поедемте в Лопшеньгу», «Голубое и зеленое»). В начале рассказа «Двое в декабре» мужчина стоит на перроне в ожидании своей спутницы (образы персонажей обобщены, как в поэзии), и «ему все нравится обилие лыжников, скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве». Далее образ белого снега сопровождает персонажей в течение всей поездки за город: был «декабрь, а по виду 76 настоящий март с солнцем и блеском снега», «солнечные снега», приятный «скрип» снега, «снежное сияние». «Глядя на сияющий снег», герою начинает казаться, что счастье, которое он испытывает в эту минуту, будет длиться вечно, что «не будет смерти вообще». Как видим, слово снег нарочито повторяется в различных вариациях. Интересно, что когда во второй части повествования образ снега исчезает, между героями начинается разлад. А в конце рассказа автор намеренно уточняет, что в Москве к моменту возвращения героев «снег уже успели убрать, увезти», и в ту минуту, когда герои замечают эту деталь, они оба вдруг чувствуют, что «поездки как бы и не было, не было двух дней вместе». Контрастное словесное звучание начала и финала в этом рассказе оформлено почти одинаковыми словами. Таким образом, создается кольцевая композиция. Можно прийти к выводу, что самые счастливые минуты человек испытывает наедине с природой, где снег, его очищающая белизна создают ощущение некого пограничного сказочного состояния между сном и явью. А когда герои возвращаются к городской реальности, снова происходит «разлучение душ». Снег в рассказах Казакова описан разным. Если идет мокрый снег, то обычно этот образ связан с печальными мыслями и событиями. Так происходит в рассказах «Адам и Ева», «Проклятый Север», «Какие же мы посторонние?». В рассказе «Адам и Ева» (1962) тоже северный городок, тоже герой остается наедине с любимой девушкой. Однако на душе у обоих темно, тяжело и неуютно, чему соответствует погода: «Пошел даже снег, мокрый, тяжелый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров». Герои не понимают друг друга, несмотря на то, что любят, и вынуждены расстаться. В рассказе «Проклятый Север» (1964) герои отдыхают на юге у Черного моря после тяжелой работы на севере, однако, несмотря на окружающую солнечную беззаботную жизнь, они страдают от какой-то непонятной тоски. В один из вечеров неожиданно начинает идти снег, 77 рассказчик в этот момент прогуливается и его посещают приятные мысли «о любви и вообще о всех людях». «А на другое утро все кругом» становится «такого цвета, как гречневая каша с молоком», и герои понимают причину своего уныния – это тоска по снежным северным просторам Белого моря. Выпавший только на один вечер снег и быстро растаявший на утро, вызывает эту ностальгию по суровому Северу. Снег также может выступать как символ смерти. Возможно, у Казакова это ассоциация с зимней Москвой в военные годы. Так, в произведении «Две ночи» возникает необычное сравнение: атомная бомба заливает «все вокруг невыносимым зимним блеском». Лейтмотивы снега, белого цвета связаны с такими противоположными понятиями, как жизнь и смерть, и в рассказеочерке «Какие же мы посторонние?» (1966). Сюжет разворачивается следующим образом: герои едут в соседнюю деревню, чтобы раздобыть выпивки для своего праздника. По дороге они подвозят незнакомую женщину. Описание ее портрета сводится к следующей детали: «плечи плюшевой ее жакетки и платок побелели от снега», позже выяснится, что снег, усыпавший одежду героини, – это как бы печать смерти. Женщина странно навязывается, настойчиво приглашая их к себе в гости. Герои недоумевают, зачем ей звать к себе посторонних людей, но все-таки идут, чтобы не обидеть ее: снег действует на них умиротворяюще, сближает с незнакомыми людьми. Во время праздника женщина рассказывает о том, что у нее смертельная болезнь и ей недолго осталось жить. Она не боится умирать, но ее мучает одна мысль: «Вот я и думаю, не тот без меня будет белый свет», «Ведь горе же будет, а?». Рассказчик осознает в этот момент, что жизнь каждого человека – «это целая летопись». Его поражает щедрость, открытость души этой женщины, для которой нет посторонних людей, которая так смело и мудро относится к смерти. «Снег шел крупный, мокрый» – уточняется каждый раз в повествовании. Все вокруг завалено глубоким снегом: и лошади, и дома, и люди – «свет» буквально становится «белым». Интенсивность белого цвета в рассказе позволяет выразить, как перед лицом 78 смерти человек особенно остро чувствует жизнь, ценит каждое мгновение, общение даже с незнакомым человеком, эта параллель поддерживается на словесном уровне: белый свет, символизирующий жизнь, - белый снег, символизирующий смерть. Герои возвращаются домой, все воспринимается ими как сквозь сон – состояние между жизнью и смертью: «И опять мы ехали под мягким, беззвучным, падающим снегом, только тьма была кругом, и беспредельным казался нам наш путь, и лес, и этот снег». Создается ощущение, что время становится вечностью. Однако, вернувшись домой, герои «стряхнули с себя снег и дрему», так же, как и мысли о смерти. В финале все же звучит жизнеутверждающий пафос: рассказ, в первую очередь, убеждает в том, что даже совершенно незнакомые люди не посторонние друг другу. Схожие размышления присутствуют и в рассказе К. Паустовского «Снег». Паустовский, как было сказано, не приветствовал орнаментальность в литературе, однако для многих его произведений также характерна лейтмотивность, которая не «разжижает прозу», а, напротив, позволяет выразить наиболее важные для автора мысли. В название рассматриваемого рассказа выносится частная деталь, которая оказывается значимой в повествовании – она связана с темой жизни и смерти. Подобный принцип называния произведения – черта стиля писателей поэтического склада (Ср.: у Казакова «Свечечка», «Запах хлеба»). В рассказе «Снег» вернувшийся с войны сын узнает, что отец его умер. Всё герою после этого известия кажется чужим в родном городе. Но он, тем не менее, решается подойти и издали посмотреть на свой дом, в котором живут уже чужие люди. Потапов видит родной сад, с веток которого «сорвался снег», «расчищенную в снегу дорожку», и знакомая картина вызывает желание пройти в садовую беседку. Глядя на родной дом, он вспоминает прошлое, но внезапно кто-то касается его плеча: он оборачивается и видит женщину, она просит его зайти в дом. Позже выяснится, что героиня узнала в молодом человеке сына хозяина дома, поняла, как ему сейчас тяжело. Дается крупным планом взгляд 79 героини: «Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами. На ее ресницах и щеках таял снег». Снег здесь так же, как в рассказах Казакова, создает странное ощущение близости незнакомого человека, герой для себя объясняет это тем, что когда-то видел эту женщину. Снег, внимание незнакомки, неизменившаяся обстановка в доме отца не дают Потапову «избавиться от ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне». Благодаря этой сказочной атмосфере зимней ночи, герои находят друг в друге родные души, понимают, что все-таки не одиноки в этом мире. Итак, рассмотренные рассказы Ю. Казакова с художественной точки зрения во многом строятся на принципах поэтической прозы А. Белого и И. Бунина (внутренний ритм, монтаж, лейтмотивный тип повествования, «рифмовка» образов, яркая изобразительность, метатекстуальность и др.). В рассмотренных произведениях А. Белого и Ю. Казакова обращение к лейтмотивному комплексу Петербурга позволило с большей художественной выразительностью воссоздать ощущение безысходности происходящих в тексте событий, явилось предвестником трагической развязки в финале. Однако рассказ «Пропасть» - это, пожалуй, единственное произведение Казакова, «окрашенное» полностью «темными красками» (и, возможно, поэтому, по мнению автора, незавершенное). Большинство произведений Бунина и Казакова, напротив, объединяет следующее «общее звучание»: поэтические приемы используются авторами для утверждения простых жизненных ценностей, являющихся для них приоритетными. Такая «тональность» создается, в первую очередь, за счет лейтмотивов дома, дороги, «запахов» (хлеба, яблок и др.), состояний природы (туман), «равнодушный»), эмоциональных мотивов состояний движения, покоя («хорошо», и др. «странно», Благодаря орнаментальному стилю создается в целом оптимистическая перспектива, отличающая прозу Бунина и Казакова от произведений модернистов, также обращавшихся к 80 орнаментализму. Глава III Поэтическое начало в жанре рассказа Ю. Казакова 3.1. Типы рассказов в творчестве писателя В ноябре 1959 года Казаков писал В. Конецкому: «Задумал я, не более, не менее, как возродить и оживить жанр русского рассказа – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Задача гордая и занимательная. Рассказ наш был когда-то силен необычайно – до того, что прошиб самонадеянных западников. А теперь мы льстиво и робко думаем о всяких Сароянах, Колдуэллах, Хэмингуэях и т. д. Позор на наши головы!.. Давай напряжем наши хилые умишки и силишки и докажем протухшему Западу, что такое советская Русь!» (1, с. 34). В литературоведении распространено мнение, согласно которому рассказ – это русский эквивалент термина «новелла», его синоним (В.А. Недзвецкий, например). Между тем, применительно к Казакову это разграничение принципиально важно. Он действительно работал только в границах «малого» жанра, однако писал в жанре рассказа, а не новеллы. Сам писатель строго разводил данные разновидности, считая, что новелла – жанр западной литературы, а рассказ – малая эпическая форма с исконно русскими «национальными корнями»: «там (в новелле) логика, здесь (в рассказе) поэзия, там события, здесь жизнь», там «внешний сюжет», «остроумный, захватывающий», с «внезапным, часто парадоксальным, концом», здесь «внутренний» («воспоминания о счастливых и несчастных днях, минутах, пережитых» героем или «мгновениях», когда он ощущает «вдруг связь времен и братство людей») (2, с.268). В 1979 году в беседе «Единственно родное слово», рассуждая о своей долголетней привязанности к рассказу, он говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно. Наверное, поэтому я не мог уйти от рассказа. Беда ли то, счастье ли: мазок – 81 и миг уподоблен вечности, приравнен к жизни». Эти и другие черты могут быть реализованы в малом жанре, нежели в большом: импрессионизму, которому не характерна эпическая широта, малый жанр необходим для сохранения определенной целостности структуры художественного произведения. «А вот с романом я пока терплю фиаско. Наверное, роман, который в силу своего жанра пишется не так скупо и плотно, как рассказ, а гораздо жиже, - не для меня … так, видно, и суждено умереть рассказчиком» (2, с.311). Краткость – жанрообразующий признак рассказа. В силу своей краткости рассказ чрезвычайно мобилен: он оказывается способным аккумулировать различные формальные и содержательные тенденции. Данная особенность предельной содержательной и формальной концентрации рассматриваемого жанра является причиной сближения его со стихией поэзии, импрессионистической эстетикой. Краткость рассказа требует предельной концентрации, но, как считал Казаков, эта смысловая сгущенность не должна приводить к схематичности. Рассказ в отличие от новеллы должен оставаться «свободным» жанром, что, на наш взгляд, в прозе Казакова как раз и достигается благодаря импрессионистической эстетике, так как импрессионистические новеллы этюдны, эскизны, недоговорены. В них нет объективной ясности реалистического рассказа, нет энергического схематизма экспрессионистической новеллы. Колорит события важнее фабулы. Личность интересна только в пределах данного мгновения. Именно такими представляются исследователю А. Шорохову рассказы Казакова: «Проза Казакова - постоянное вопрошание. А еще – жизнь, хромающая, как всякое ее определение, бессюжетная, редко-редко всплескивающая до вопроса, и никогда – до ответа… Текучая» (3, с.79). Как видим, свое предпочтение жанру рассказа писатель объясняет связью его с художественным методом импрессионизма – методом, изначальной целью которого было снятие всяких ограничений с творчества, условных разграничений, в котором стираются грани между поэзией и 82 прозой, что является еще одной причиной тяготения импрессионистического произведения к «малому» жанру: краткость любого талантливого литературного произведения является следствием языковой «сгущенности» – основного качества поэзии. Действительно, его произведения характеризуются рядом импрессионистических черт, некоторые из которых он обозначил в своем рассуждении: «техника мазка», изобразительная «сгущенность», желание воссоздать действительность в ее первозданности, преобладание субъективного начала (передача впечатлений через воспринимающее сознание), суггестивность и др. Казаков, как было уже сказано, в своем творчестве отдавал предпочтение рассказу как жанру достаточно свободному от всякого рода художественных условностей, в отличие от новеллы. По этой же причине литературовед А.В. Михайлов определяет невозможность качественного разграничения русского рассказа от средней и большой эпических форм: «Новелла в первую очередь противопоставлена рассказу как форме, открытой миру и не имеющей внутренней завершенности, как жанру, отличающемуся количественно от повести и романа, но также непосредственно воспроизводящему действительность в ее широте и полноте» (4, с. 247). Рассказ, по мнению А.В. Михайлова, противопоставлен новелле. Если новелла отличается наличием завершенного внешнего сюжета, событийностью, то рассказ незавершен по своей сути, сюжет в традиционном понимании часто в нем отсутствует, содержание рассказа стремится в идеальном варианте как бы продолжить реальную действительность. Если новелла предельно лаконична, и даже в определенной степени схематична (в ней четко вырисовывается стройная композиция), то рассказ описателен, в нем все построено на ассоциативности, тонкой игре сознания, отсюда более глубокий психологизм, большая экспрессия, медитативность. Если автор новеллы стремится быть как можно объективнее в своем произведении, то автор рассказа, напротив, стремится представить происходящее, «пропуская» все через внутренний мир, эмоции повествователя, персонажей. 83 Таким образом, исследователь приходит к заключению, что «рассказ представлен как снятие ограничений с новеллы» (4, с. 248) и единственной объединяющей их характеристикой является краткость, количественный показатель. Поэтому новелла и рассказ все же имеют определенные общие характеристики. Исследователь орнаментальной прозы В. Шмид в книге «Проза как поэзия» утверждает, что существует прямая связь между краткостью жанра и построением действия, определенной организацией текста. В своем рассуждении он ссылается на точку зрения Ю. Тынянова, согласно которой «величина текста обеспечивает сохранение жанра», «определяет законы конструкции». В. Шмид приходит к заключению: в силу своей краткости «новелла – наиболее поэтический жанр повествовательной прозы». Если помнить, что краткость – общий жанрообразующий признак новеллы и рассказа, то, следовательно, для рассказа как лаконичного жанра также характерна «тенденция к вплетению поэтических приемов в основную прозаическую, нарративную канву текста» (5, с. 288). Поэтичность по-разному проявляется в наследии Казакова. Чтобы выявить определенные закономерности, связанные с поэтической составляющей рассказов Казакова, нам кажется разумным разграничение рассказов по характеру представленной в них поэтичности. Разумеется, предлагаемая нами далее классификация носит условный характер и создается нами с единственной целью – глубже осмыслить творчество писателя. Выделим следующие типы: 1. Рассказ-«событие»: «На полустанке» (1954-1956); «Некрасивая» (1956); «Странник» (1956); «В тумане» (1959); «По дороге» (1960); «В город» (1960); «Кабиасы» (1961); «Запах хлеба» (1961); «Легкая жизнь» (1962); «Пропасть» (1968-1969); 2. Рассказ-«переживание»: «Голубое и зеленое» (1956); «Поморка» (1957); «Арктур – гончий пес» (1957); «Осень в дубовых лесах» (1961); 84 «Проклятый север» (1964); «Какие же мы посторонние?» (1966)** 4 ; «Долгие крики» (1966-1972)**; «Отход» (1967)**; «Белуха» (1963-1972)**; «Поедемте в Лопшеньгу» (1971); «Зависть» (1968-1969); «Вилла Бельведер» (1968-1969); «Свечечка» (1973); «Во сне ты горько плакал» (1977). Объединяют в той или иной степени черты рассказов первых двух типов следующие произведения: «Дом под кручей» (1955); «На охоте» (1956); «Никишкины тайны» (1957); «На острове» (1958); «Старики» (1958); «Манька» (1958); «Трали-вали» (1959); «Ни стуку, ни грюку» (1960); «Вон бежит собака!» (1961); «Адам и Ева» (1962); «Двое в декабре» (1962); «Ночлег» (1963); «Плачу и рыдаю…» (1963); «Смерть, где жало твое?»*; «Старый дом»*. Рассказы-«события» написаны в традиционной для малой формы повествовательной манере от 3 лица. Они близки к новелле: отличаются лаконичностью, сюжетностью, объективностью изложения, внешней беспристрастностью (авторская позиция не выражена или скрыта). Если их рассматривать с точки зрения литературной традиции, то они близки к «гомеопатическим рассказам на страницу» А.П. Чехова (6, с. 267). Эти рассказы можно назвать поэтичными с формальной стороны, которая, как известно, влияет и на содержательную: в силу их лаконичности в них присутствует словесная «сгущенность», свойственная стихам, таким образом в тексте соблюдается принцип «тесноты стихового ряда». В рассказах-«событиях» сохраняется сюжет в традиционном понимании, то есть последовательное рассказывание событий. Создается впечатление, что повествователь беспристрастно излагает события, однако рассказы, сохраняющие нарративную канву, но обладающие орнаментальными чертами, внепсихологичны и монологичны только на первый взгляд. Психологическая ситуация в них завуалирована, и ее можно выявить через орнаментальные приемы: «Приемами, позволяющими реконструировать неявное событие, являются образы, метафоры, сравнения 4 Помеченные знаком * - незаконченные рассказы, ** - рассказы из «Северного дневника». 85 и, прежде всего, эквивалентность (то есть вневременная связь формальных и тематических мотивов) лексических единиц, предметов, символов, ситуаций и действий». При этом «наивысшей тематической сложности орнаментальная проза достигает не в полном разрушении ее нарративной основы, а там, где парадигматизация наталкивается на сопротивление со стороны сюжета» (5, с. 303), что как раз и происходит в рассказах Казакова первого типа. Итак, в рассказах-«событиях» конструктивно сплетаются формы поэзии и прозы, что позволяет достичь наибольшей художественной концентрации. За основной сюжетной канвой скрыт некий «сверхсмысл»: тот самый «призвук», о котором так часто упоминает Казаков в своих литературоведческих высказываниях. Также нужно отметить, что данный тип рассказов охватывает меньший объем произведений писателя и встречается в основном в раннем творчестве. Рассказы-«переживания» созданы от первого или второго лица. По объему они чаще превышают рассказы первого типа, потому что в них автор следует другому принципу: здесь последовательно выдерживается точка зрения главного героя – живого, участвующего в действии рассказчика. Если в рассказах-«событиях» предметом изображения, как в прозе, остается все же некий сюжет, то в рассказах-«переживаниях» объект изображения общий с поэзией – это воспринимающее сознание. Таким образом, данные рассказы, на наш взгляд, близки к поэзии и формально, и содержательно, то есть наиболее поэтичны. ассоциациям. Сюжет Поэтому для здесь них уступает характерны настроению, вольным непоследовательность, многослойность, монтажность повествования. Они наиболее личностно окрашены, автобиографичны. Если опять же говорить о литературной традиции, данный тип, пожалуй, более близок к лирико-философским рассказам И.А. Бунина. По мнению М.О. Чудаковой, рассказы в повествовательной манере от первого лица стали преобладать с 1960-х годов ХХ века в прозе В.М. Шукшина, В.И. Белова, Ф.А. Абрамова, В.Г. Распутина. В основе их «лежит подражание 86 естественному синтаксическому развертыванию разговорной речи, когда речь формируется по мере течения мысли, а не является заранее обдуманной и вмещенной в готовые, законченные формулы» (6, С.250-251). В них большая свобода выражения, большая приближенность к «живой жизни». Эти произведения в определенной степени близки к модернистской прозе «потока сознания». Поэтому они наиболее импрессионистичны из всех рассказов писателя. Однако, несмотря на кажущуюся непосредственность изложения, монтажная композиция подобных рассказов продумана: текст построен так, что в нем благодаря поэтическим приемам присутствует «надтекст», отличающий, как было отмечено, прозу Казакова. Данный тип произведений писателя можно охарактеризовать словами из рассказа Б. Пильняка «Три брата»: «Здесь я кончаю свой рассказ. Дело в том, что если искусство все, что я взял в жизни и слил в слова, как это есть для меня, то каждый рассказ всегда бесконечен, как беспредельна жизнь» (7, с. 226). Необходимо отметить, что большинство рассказов писателя не представляет собой первый или второй тип рассказов в «чистом» виде: многие рассказы могут содержать в себе те или иные поэтические особенности в разной степени. Например, многие рассказы, написанные от третьего лица, содержат несобственно-прямую речь, в них орнаментальные приемы используются, в первую очередь, для обнажения точки зрения персонажа или повествователя («Двое в декабре» и др.). Итак, мы выявили две основные поэтические тенденции в рассказах Казакова. Произведения в зависимости от характера представленной в них поэтичности содержат различные орнаментальные приемы. Рассмотрим, как используются орнаментальные приемы в ранних рассказах писателя, взяв по одному произведению для анализа каждого типа. 87 3.2. Рассказы-«события» в творчестве Казакова Далеко не во всех рассказах орнаментального плана ослаблен сюжет. Наличие нарратива, последовательно рассказываемой истории в орнаментальном произведении является вполне возможным и усиливает общий художественный эффект. Примером могут послужить рассказы И.Э. Бабеля, А.П. Платонова. Благодаря такому конструктивному взаимодействию прозы и поэзии текст наполняется дополнительными смыслами. На пространственно-временную организацию текста, его нарративную основу накладываются вневременные связи тематических и формальных мотивов, так называемые «эквивалентности». Эквивалентности – это со- и противопоставления в тексте, обнажающие точки зрения персонажей, внешне беспристрастного повествователя, усиливающие впечатление от прочитанного, придающие определенную тональность и глубину (5, с. 298). Ю. Казаков в рассказах первого типа обращается к поэтическим приемам, сохраняя при этом последовательно разворачивающийся сюжет. Сравним для большей убедительности рассказ Казакова «На полустанке» и рассказ А.П. Платонова «Фро» (1936), также содержащий элементы орнаментального стиля. В рассказе «На полустанке» (1954-1956), как и в большинстве других сюжетных произведений Ю. Казакова, сюжет весьма банален: девушка на перроне провожает парня, навсегда уезжающего из деревни в город. Однако Казакову удалось в этом рассказе, сохраняя естественность ситуации, не идеализируя героев, передать в лаконичной форме сложность внутренних переживаний героини. Текст рассказа приближен к поэтическому, отличается смысловой «сгущенностью». В повествовании нет подробного психологического описания душевных волнений персонажей, однако именно через орнаментальные приемы в 88 завуалированной форме дана психологическая ситуация. Увидеть ее читателю помогают определенные эквивалентности в тексте. Все рассказы Казакова, как мы убедимся далее, отличает динамичный рисунок, орнаментированный сквозными словами-эквивалентностями. «В художественно полноценном произведении каждый последующий композиционный элемент (строка, строфа, глава, сцена и т.п.) представляет собой своеобразное «переключение», стремительное изменение соотношения между элементами. Степень интенсивности таких «переключений» - это и есть степень художественного совершенства», – так можно трактовать утверждение Ю. Тынянова о том, что «форма есть непрерывная установка различных эквивалентов, повышающая динамизм» (8, с. 257). В лаконичном рассказе «На полустанке» повторяющееся хотя бы дважды то или иное слово, действие имеет большое значение. В тексте намеренно 4 раза возникает эпитет «равнодушный», останавливая внимание читателя на важных для рассказа образах. Рассказ ведется от третьего лица. Картина происходящего дана глазами повествователя, который выделяет только три кинематографически яркие детали во внешности героини: «припухшие глаза», «выбившуюся прядь волос», «короткие ноги в грязных ботиках». Внешность героини не так важна для наблюдателя, важно выражение ее лица: «В лице ее бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания: оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное». Глаза девушки поданы «крупным планом». Это один из любимых приемов автора (ср. в позднем рассказе «Во сне ты горько плакал» глаза ребенка, в которых отражается чистое небо). Выражение глаз девушки позволяет уловить подлинные переживания, увидеть за «кажущимся» истинное: внешне расставание героев «кажется» спокойным, обычным, но это не спокойствие, а душевная усталость, за которой скрыто что-то «болезненно-невысказанное» – постепенно осознаваемое героиней чувство одиночества, разлучение с самым близким человеком. 89 В орнаментальной прозе большое значение придается жестам, мимике персонажей, они иногда бывают важнее самих слов, внутреннего монолога. Создается впечатление, что повествователь следит за направлением взгляда юноши и девушки. Направление их взглядов – это указание на несоответствие душевного состояния персонажей: девушка смотрит не в лицо парню, а на его нелепо торчащее «белое хрящеватое ухо». Она не может заглянуть в лицо, так как парень все время избегает ее взгляда: «угрюмо смотрит в землю», «равнодушно» глядит «себе под ноги». Каждый жест героя говорит о неискренности, холодном равнодушии: «покосился на нее, кашлянул», «буркнул». И если лицо девушки повествователю только «кажется равнодушным», а ее глаза говорят об обратном, то лицо парня, действительно, безучастно. Интересно, что, когда на пустом перроне появляется третий человек – начальник станции, парень поворачивает, но не поднимает голову, поэтому видит только «новые калоши начальника». Противопоставление намечено и в описании улыбок героев: парень «усмехается одними губами» – подобная мимика так же, как известно, говорит о неискренности, фальши, а девушка «силится улыбнуться, но губы не слушаются, трясутся». Такие тонкие психологические наблюдения за поведением героев предвосхищают будущую ситуацию: герой изначально был настроен не возвращаться за девушкой и его обещания во время ожидания поезда («Говорено было. Дай огляжусь – приеду») – это трусливая ложь. В рассказе намеренно искажаются привычные представления о реальности. Автор обращается к непривычной для обычной речи орнаментальной сочетаемости слов. Неживые объекты, природа наделяются человеческими характеристиками, а внешность героя, его поведение, напротив, напоминают повадки дикого зверя («красная коротколапая рука», «тяжело повернул голову на короткой и толстой шее», «оскалился»), определяются эпитетами, относящимися к неодушевленным предметам («вихрастый, рябой … с грубым, тяжелым и плоским лицом» (ср. у А. 90 Белого: «черная дамочка – с плоским лицом, как у кобры» (9, с.154)). Подобная скупая портретная характеристика, основанная лишь на нескольких ярких необычных деталях, является приметой стиля Казакова. Подобный орнаментальный прием Н.А. Кожевникова определяет как «лейтмотив персонажа»: «он входит как одна из частностей в характеристику персонажа, он может заменить характер» (10, с.124). Этот же прием «лейтмотива персонажа» используется в другом рассказе Казакова «Долгие крики» (1966-1972): ни имени одного из героев рассказа, ни его прошлого мы не знаем, знаем только то, что он вызвался быть проводником для рассказчика, отправившегося на глухариную охоту. Характеристика проводника дается скупо, упоминается как бы кстати: «вообще был он какой-то хищный на своих гнутых ногах, крепкий, жилистый, молодой еще, с раскрытой грудью…»; «сдвинул свои звероватые брови». Определяющей деталью в образе этого персонажа, как и в рассказе «На полустанке», является сравнение его с хищным зверем. Этот прием сравнения поддерживается на протяжении рассказа «Долгие крики», перерастая в «лейтмотив персонажа»: герой наделяется повадками охотничьей собаки: «Проводник наш … стал по-собачьи ворочаться вокруг себя, укладываться»; «сам уж улегся, ямку во мху утоптал, сучки какие-то изпод себя выгреб, глаза прикрыл». А во время охоты это сходство персонажа с охотничьей собакой изображается комически: «Я оглянулся – мне показалось сначала, что проводник наш оправляется, но это он так слушал – присев на корточки». Использование лейтмотива при характеристике персонажа вместо традиционных приемов раскрытия психологии героя, свойственных прозе ХIХ века, составляет разительное отличие прозы ХХ века (яркий тому пример - произведения Е. Замятина, В. Набокова и др.). В орнаментальной прозе при наличии сюжета пространные описания душевного состояния персонажей могут быть переданы через «антропоморфные метафоры», психологические эпитеты, относящиеся к окружающей обстановке, таким образом психологическая ситуация уходит в 91 подтекст и обнажается только через определенные лейтмотивы. «Новый» психологизм рассчитан на то, чтобы вызвать активность читателя: писатель, обращаясь к столь лаконичной форме, полностью доверяет читателю, позволяет ему «дорисовать» внутреннюю ситуацию. В рассказе «На полустанке» состояние девушки в момент расставания с любимым человеком также передано через одну деталь, вступающую с предыдущей характеристикой («губы трясутся») в отношения градации: «тихо ахнула, закусила прыгающую губу». В надежде уловить последний любящий взгляд парня она отрывает руки от лица и смотрит сквозь слезы на удаляющийся поезд, но вместо этого слышит предательские слова («Слышь… Не приеду я больше! Слышь…») и видит злой оскал. В этот момент мы начинаем наблюдать за происходящим уже не только глазами повествователя, но и глазами героини. Ее душевное состояние передано опосредованно – через воспринимаемые ею звуки, зрительные образы: «невидящим взглядом посмотрела на пассажиров»; «она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее… Берегись! – раздался вдруг дикий крик над ее головой. Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше». Автор не дает подробных описаний душевных перипетий героини. Он обращается к внутреннему опыту читателя: если с ним происходило что-то похожее, то тонкие наблюдения автора затронут нужные струны, вызовут ассоциации вроде: «Да, я так же воспринимал мир и чувствовал то же самое в подобном состоянии». Автор здесь обнажает внутренний мир героини через психологически тонкие детали ее поведения: действительно, в таком 92 состоянии человек обычно не видит ничего вокруг, его взгляд цепляется за первый попавшийся предмет (в данном случае пятно мазута), и, пребывая в каком-то оцепенении, удерживает этот взгляд долгое время на предмете. В такие минуты человек может также запомнить самые незначительные детали («красный щиток на буфере поезда»). Подобное психологическое состояние своеобразного «ступора» - свидетельство предельного напряжения внутренних человеческих переживаний. Эпитет «равнодушный» возникает также в связи с еще одним персонажем – начальником станции. Его образ несколько комичен: весь облик начальника неряшлив («с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута»), однако он особенно аккуратно относится к своим «новым калошам»: «шаркая по земле», он все же обходит каждую лужу, дабы не испачкать свою предназначенную для дождливой погоды обувь. После того как поезд уезжает вместе с парнем, начальник окидывает «взглядом фигуру девушки, долго смотрит на грязные ботики» и «негромко и равнодушно» спрашивает, откуда она. Судя по всему, он отмечает про себя неряшливость девушки и удаляется, «волоча ноги», еще более «старательно обходя лужи». Комичный «избирательный педантизм» (только по отношению к лужам) начальника также противопоставлен трагическому ощущению одиночества героини: единственный оказавшийся в этот день на перроне посторонний человек не почувствовал горе девушки: начальнику показались в девушке «странными» только ее грязные ботики. Надежды рухнули, любимый человек уехал навсегда: «она подняла голову к низкому, равнодушному небу» (четвертый повтор слова «равнодушный»). Героиня ощущает безразличие всего мира. Однако в представлении повествователя природа, напротив, созвучна несчастью девушки. Она намеренно наделяется человеческими эмоциями. Состояние героини в лаконичных рассказах первого типа часто переносится на природу, окружающие предметы (явление «интерференции»). В первой части рассказа «На полустанке» дается описание пасмурного холодного осеннего дня. 93 Однако все вокруг предвещает героине несчастье, предательство любимого: лошадь «должно быть, думала о чем-то тяжелом», «листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром,… прижавшись в воде, затихали»; «поезд прокричал… устало и тонко»; «медленней и медленней пошли усталые вагоны». Предметы наделяются человеческими эмоциями, опосредованно передавая внутреннее состояние героини: «сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое глухое эхо»; «глухо дышали шпалы». Все эти орнаментальные эпитеты, свободные от привычных представлений о признаках той или иной вещи, явления, возникают в наиболее напряженный момент. Намеренно смешиваются представления о реальности, можно найти соответствия в состоянии окружающего мира и чувств героини: «усталое» лицо девушки ≈ «усталые» вагоны и поезд; «нестерпимо болевшее сердце» героини ≈ «сдавленный крик» паровоза, эха. Они позволяют без лишних авторских объяснений уловить то, что происходит в душе девушки. Природный и предметный миры оживают под наблюдательным взглядом повествователя. В целом, «холодная», «унылая» осенняя природа в своем кажущемся равнодушии созвучна состоянию героини (вспомним в начале рассказа ее лицо «казалось холодным и равнодушным»): внешне спокойная атмосфера скрывает за собой множество звуков-сигналов, звуков- сопереживаний. Таким образом, читатель Казакова вынужден следить, как за каждой предметно-зрительной деталью угадываются смысловые атрибуты меняющегося внутреннего мира героев. В рассказе «На полустанке» «равнодушие» кажущееся и действительное: эпитет «равнодушный» справедлив по отношению к парню. Своих героев Казаков всегда испытывал на прочность. Любовью он чаще всего определял душевный потенциал человека. Неискренность в любви, грубое отношение к женщине автор никогда не прощал своим героям. Справедлив эпитет также и по отношению к начальнику станции. Этот образ несколько комичен, однако его 94 равнодушие объясняется тем, что для него расставания на перроне – обычная история, недаром он говорит девушке: «Уехал? Н-да… Нынче все едут». По отношению к героине и к окружающему миру слово «равнодушный» используется автором для обозначения душевной усталости героини, которая является следствием больших внутренних переживаний: она сродни осенней тоске по всему уходящему. Кажущееся равнодушие – это своеобразная защитная реакция всего живого, когда уже нет сил больше страдать, когда наступает состояние оцепенения, так же, как в природе, которая засыпает, чтобы набраться сил, отдохнуть от бурного летнего цветения. Те же орнаментальные приемы можно встретить в рассказе А. Платонова «Фро» (1936). Ситуация в начале рассказа похожа: расставание героини с любимым человеком. «Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с открытой платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели»; (11, с. 102-117). Картина происходящего, как в поэзии, передана через воспринимающее сознание персонажа, остро ощущающего свое одиночество: для героини в момент разлучения с любимым мужчиной перрон - «как палуба корабля, оставшегося на мели». У Платонова так же, как в рассказе Казакова, присутствуют антропоморфные метафоры, которые передают другое настроение. Если в рассказе «На полустанке» «настроение» поезда созвучно ощущению безнадежности происходящего с героиней («сдавленный крик» паровоза, «глухо дышали шпалы», «усталые» вагоны), то в рассказе Платонова разворачивается совсем другая «история». Героиня Платонова знает, что разлука с любимым временная: ее угнетает необходимость периодически расставаться на долгое время с мужем, которому нужно работать далеко на Севере. Поезд также «действует» в рассказе как одушевленный предмет, этот образ периодически появляется в тексте, становясь лейтмотивным. Все в 95 рассказе связано с железной дорогой: отец героини – паровозный машинист, муж имеет два технических образования, «настраивает и пускает в работу таинственные электрические машиностроения. Метафора приборы», «живые Фро железные учится машины» на курсах постоянно поддерживается в тексте: муж Фро «одушевлял все чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла». Если в рассказе Казакова обозначено только одно направление поезда – «от героини», что как бы предвосхищает полное крушение ее надежд на встречу с любимым, то в рассказе Платонова описано движение поезда не только «на восток» (туда, куда уехал муж героини), но и обратно. Более того, дважды в тексте Платонова дословно повторяется фраза: «вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание». Данный прием, явно поэтический, позволяет провести параллель с эмоциональным состоянием героини: паровозы «набираются сил» перед длинной дорогой так же, как Фро в коротком недельном свидании с мужем будет набираться сил до их следующей нескорой встречи. Разлука с мужем в начале рассказа – это определенный переломный момент в жизни героини, своеобразная «точка отсчета» в ее переживаниях, с которой начинаются внутренние изменения в сознании: эгоизм юношеской максималистской любви постепенно сменяется зрелой любовью. В рассказе Платонова есть еще один похожий персонаж – носильщик, убирающий перрон. В начале рассказа художественно значимым является орнаментальный прием, родственный кинематографу, – необычный ракурс изображения героини: «- Посторонитесь, гражданка, - сказал носильщик двум одиноким полным ногам». В слове «одинокий» благодаря необычной «остраненной» сочетаемости выражается точка зрения сразу двух персонажей – чувство покинутости, испытываемое Фро, и раздражение 96 подметающего носильщика, устремившего свой взгляд вниз, в поле зрения которого попадают ноги единственного «провожающего», еще оставшегося на перроне, которые мешают «производить уборку территории». Ситуация непонимания, как в рассказе Казакова, усугубляется в дальнейшем: проводив мужа «в дальний путь», через некоторое время Фро снова приходит на перрон, поближе в тому месту, где она в последний раз видела мужа: «дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится». Разговор с носильщиком – еще одна попытка найти поддержку в другом человеке снова вызывает непонимание: - Вы не знаете, - спросила она его, - что курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уезжал от нас… - На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, - сказал уборщик. – Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка… Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут – надо посорить пойти…» Непонимание друг друга переходит в раздражение: разные по стилю высказывания «дневного мужика» и героини еще более подчеркивают, что персонажи находятся как бы в параллельных мирах, не слышат друг друга. Итак, неповторимый стиль Платонова обогащается также благодаря орнаментальным приемам: «Творчество Платонова, прежде всего, поэтично, в нем всегда есть неразложимый осадок, который не поддается рассудочному деловому анализу, и этот осадок – самое дорогое» (П. Антокольский, 12, с. 5). Для рассказов обоих писателей свойственна большая компрессия. Все «смещенные реалии» в рассмотренных рассказах - это атрибуты, указывающие на необычно обостренное восприятие мира их героинями. Благодаря поэтическим приемам помимо основного повествования в рассказах закладываются человеческих душ, экзистенциальные внутреннего темы самоопределения самораскрытия и духовного роста. 97 разъединенности личности, ее На примере рассказа Ю. Казакова «На полустанке» как рассказа первого типа мы смогли увидеть, как поэтическая канва может накладываться на нарративный материал, произведение таким образом строится по «принципу айсберга»: психологическая ситуация переносится на окружающий мир, вследствие чего в рассказе присутствует искажение привычных представлений о реальности. Многозначные реплики, жесты, поведение героев также позволяют добиться предельного лаконизма. Различные детали, возникая в произведении несколько раз в различных сочетаниях, создают орнаментальную сеть эквивалентностей (со- и противопоставлений), которая накладывается на сюжет и позволяет в лаконичной небольшой жанровой форме выразить через, казалось бы, незначительное событие диалектическую полноту жизни, раскрыть состояние персонажей, обнажить точку зрения внешне беспристрастного повествователя. 3.2. Рассказы-«переживания» в творчестве Казакова В лаконичных рассказах первого типа орнаментальность проявляется в предельной языковой концентрации, «сгущении» текста за счет емких поэтических приемов. Рассказы-«переживания», напротив, представляют собой непрерывный поток ассоциаций. Повествователь как бы описывает все, что приходит ему в голову, отсюда необычная насыщенность текста повторами у рассказов данного типа. Лирическая атмосфера рассказа «Голубое и зеленое» (1956), написанного от первого лица, создается во многом за счет особого ритма, основанного на многоплановом повторении. Повторяются отдельные слова, реплики, целые синтаксические единицы, сюжетные события, что позволяет говорить о присутствии в произведении 98 орнаментальных полей, пересекающихся или контрастирующих 5 . Это поля «движения», «звука», «цвета», «места», «внешности», «странного». Они на смысловом уровне представлены в виде комплекса лейтмотивов, на формальном уровне, который не менее значим, – в виде звукописи, ритмической упорядоченности единиц, использования поэтических приемов (метафоры, метонимии, анафоры, эпифоры, неправильной формы слова и пр.), за счет чего и образуется своеобразный орнамент произведения. В целом, орнаментальное поле «представляет собой специфическую разновидность семантического поля произведения художественной литературы и отличается особо сложной образностью, высокой концентрацией и интеграцией изобразительных возможностей языковых и внеязыковых единиц в едином художественном целом» (9, с. 302). Перечисленные выше особенности прозы «нового типа» также рассчитаны на другого, нового читателя, умеющего видеть «между строк». При пассивном восприятии текста ни о чем не может сказать название «Голубое и зеленое», которое с формальной точки зрения является определением, «повисшим в воздухе». В названии нет указания предмета, которому принадлежат данные признаки: это первая «недосказанность» в тексте, призывающая читателя обратить внимание на сочетаемость цветовых обозначений. «Ввод лейтмотива сопровождается обычно сгущенной образностью… Это своеобразный центр орнаментального поля, характеризующийся «теснотой» изобразительных средств. От него на периферию поля, где образная насыщенность меньше, тянутся орнаментальные “нити и россыпи” слов» (9, с.117). В начале рассказа в момент первой встречи героев во дворе дома Лили мы видим «окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые», а после их возвращения через два часа «уже не все окна горят», «много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое 5 Орнаментальное поле – «система реализаций изобразительных средств текста с насыщенной, повышенной образностью»; «особый вид текстового семантического поля», в котором «взаимодействуют разнообразные лексико-семантические группы», «сквозные повторы», «изобразительные словесные ряды» (9, с. 116-117, 134). 99 окно на втором этаже». Хотя все цветовые обозначения относятся к одному слову «окно», здесь намечается противопоставление голубого и зеленого остальным цветам по признаку «длительность освещения». Далее данная оппозиция развивается за счет разной сочетаемости цветовых эпитетов (см. таблицу). Таблица голубое зеленое белое розовое 1. В момент первого свидания «окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые» и много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже зарождения любовного чувства. «нежные «У нее… короткая белые розовые отношениях минута, когда руки»; крепкие героев, снег на крыше 2. Счастливый период в «Есть зимой взаимная и небо любовь. делаются _ щеки»; _ «рука, «розовое голубыми в белеющая в пятнышко» сумерках»; темноте»; окурка; Лиля лампа «в «голубой «совсем розовом глобус»; белая» от абажуре» темно- _ «голубое небо»; 100 холода 3. В момент расставания «голубые «зеленые искры» искры»; _ _ _ _ _ _ героев. «зеленый огонек светофора»; «платформа вся в зелени» Предметы, к которым относятся цветовые обозначения, можно разделить на две группы: реалии внешнего мира, различные виды освещения, предметы (окно, светофор, горящий окурок, лампа, искры иллюминаций, глобус), природные атрибуты (небо, снег, трава), внешность героини (руки, щеки). «Голубое» и «зеленое» выступают как эквиваленты окружающего мира – природы, дома, огней Москвы, в то время как белый и розовый цвет ассоциируется у героя с любимой девушкой. Кроме того, очевидна трансформация лейтмотивов внутри орнаментального поля «цвет» в соответствии с внутренним миром героя. Моменту первой встречи и зарождению чувства юноши и девушки в рассказе соответствует время сумерек, часто встречающееся в рассказах Казакова, и 101 только разноцветные окна (голубые и др.) освещают пространство. Самый яркий период их любви приходится на зиму, в это время герой остро воспринимает не только первое чувство, но и все вокруг. Память словно фотографирует действительность: в сознании юноши остаются импрессионистически тонко подмеченные детали: «Есть зимой короткая минута, когда снег на крыше и небо делаются темно-голубыми в сумерках». В этом фрагменте голубой цвет, как и любовь героя, распространяется на весь окружающий мир, и становится более насыщенным. Подобные детали, остающиеся в памяти человека до конца жизни, говорят о неком особом состоянии в прошлом, в котором он находился, когда чувствуется, что даже снег пахнет («пахнет чистым снегом»), и вот-вот откроются тайны мира, человеческого существования. «Розовое» и «белое» в воспоминаниях героя ассоциируется с Лилей. Очень часто в орнаментальной прозе отдельные наиболее яркие детали, части тела выступают в качестве заместителей персонажа (прием метонимии) для создания необычного запоминающегося впечатления (ср.: портреты персонажей Е. Замятина в орнаментальном романе «Мы»). Здесь образ Лили - это «розовые дрожащие щеки» с «едва заметными ямочками», «нежные белые руки». Упоминание о них встречается на протяжении всего повествования. Однако недолгое чувство девушки проходит, она встречает другого человека, выходит за него замуж. В момент, когда юноша теряет последнюю надежду на взаимность, мы больше не встречаем розовый и белый цвет, горят только «голубые и зеленые искры» иллюминаций, «зеленый огонек светофора». Зимние краски сменяются весенними – они так же переменчивы в сознании героя как чувства Лили: Алеша, провожая любимую девушку с ее мужем на Север, стоит на перроне и снова видит ту самую платформу, на которой они когда-то поцеловались первый раз в жизни, но земля на платформе уже не голубая от снега, а «вся в зелени». Итак, название рассказа «Голубое и зеленое» становится совершенно оправданным: с такой радостной и светлой цветовой гаммой ассоциируется в 102 памяти героя юность, пора первой любви. Цвет так же передает разнообразную гамму настроений, состояний любовного чувства героя. Помимо орнаментального поля «цвет» в рассказе присутствуют лейтмотивы, образующие несколько других пересекающихся или контрастирующих полей, которые наполняют текст дополнительными смыслами. Новые элементы текста, возникая рядом с уже известными, способствуют развитию повествования по спирали: частичный возврат к уже сказанному через повторение ключевых слов, фраз задерживает внимание читателя на наиболее важных фрагментах текста. Лейтмотивы различных орнаментальных полей концентрируются вокруг еще одного центрального поля «движение». В рассказе почти навязчиво повторяется мотив движения, подкрепленный в тексте многочисленными повторами, основанными на повторах анафорами («Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней…»), эпифорами («Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором…/ - Я к вам влезу через окно! – решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно…»), в последовательно выдержанной на протяжении всего повествования короткой фразе. Нарочитое повторение одних и тех же слов, конструкций имитирует в рассказах Казакова данного типа внутренний поток мыслей-чувств персонажа, не оформленных в законченные формулировки, близких в свободной стихии разговорной речи. Любовь героя в тексте непосредственно связана с ощущением перемещения в пространстве и с течением времени. Чувству юноши и девушки соответствуют определенные атрибуты пути: «перемещения», «остановки», «смена направления движения». Причем остановка в движении героя знаменует поворотные моменты во всей любовной истории: в тексте их четыре. Во время этих «остановок» поле «движение» пересекается с другими полями («звука», «места», «внешности», «странного»). 103 Первый поворотный момент – в начале рассказа. «Лиля, - говорит она грудным и глубоким голосом…». Юношу поражает голос девушки: «Я вздрагиваю от ее глубокого голоса. Есть ли у кого-нибудь еще такой голос!» отметит он позже, его удивит также «блеск, глубина, влажность» ее глаз. Поля «звук», «внешность» («глубина глаз», «глубокий голос») пересекаются в начале рассказа с обозначением пространства: «Мы стоим на дне глубокого двора». Юноше в первый раз действительно понравилась девушка, он испытывает смущение, во время знакомства его посещают противоречивые мысли и чувства, возникает ощущение, будто он «провалился куда-то». «Глубокий» в толковом словаре, с одной стороны, - имеющий большую глубину, силу воздействия, а с другой, скрытый, непонятный, отдаленный (13, с. 77). Здесь эпитет «глубокий» является сигналом, предвещающим появление первого сильного и незабываемого чувства. В дальнейшем с нарастанием любовных переживаний у героя возникает тягостное ощущение пространства, разъединяющего его с любимой, которое далее будет усугубляться: «дно глубокого двора» дома, в котором живет героиня, сменится «черной дырой ворот». «Наконец мы трогаемся… », - начало непосредственного движения в рассказе соответствует постепенному зарождению первого чувства: «И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые». Они идут в кино. Герою от смущения «не за что спрятаться», юноша не знает, что сказать ей. Напряженное состояние героя передается через кинематографически оформленный звук: «Просто иду и молчу… Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны». Девушка кажется ему странной, чужой, эта загадочность необыкновенно притягивает и в то же время по-детски раздражает героя: «Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой… И вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки». 104 Однако первый волнительный момент знакомства позади. Алеша преодолевает смущение и робость. Герои встречаются, прогуливаются по Москве, с каждым днем все лучше узнавая друг друга: «щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив!» Наступает момент, когда герои воспринимают себя как одно целое: «Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания». Ощущение движения сродни любовным переживаниям: им хочется все время быть вместе: «Я готов ходить (с Лилей. – Ц.Н.) бесконечно» ≈ «Я не знал, что любовь может быть бесконечной». В этот период, когда чувства юноши и девушки взаимны, герои в тексте идут в одном направлении. Позже, когда герой начинает улавливать охлаждение со стороны Лили, его переживания также выражаются через мотив движения: «Я чувствую, как она уходит от меня все дальше и дальше»; «вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее». Ощущение пространства и времени, преодоленное героями на краткий миг, снова встает между ними: девушка меняется, взрослеет раньше, чем герой, и ей уже не интересен этот мальчишка, их отношения кажутся наивными, детскими. Так происходит очень часто в реальной жизни, о которой Казаков и размышляет в рассказах. Ощущение духовной покинутости выражено также через мотив движения, к примеру, в позднем рассказе «Во сне ты горько плакал» (1977), где утверждается мысль о том, что люди только в детстве воспринимают себя, родителей, весь мир как одно целое, но в процессе взросления это гармоничное состояние утрачивается. В рассказе отец улавливает мимолетное «прощание» детской души ребенка с ним и с горечью осознает, что с этого момента его сын постепенно становится отдельной личностью, а не его «продолжением»: «Ты (обращение к сыну. – Ц.Н.) смотрел на меня и пристально молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, - теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе 105 никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда». Тема «разлучения душ» в различных проявлениях, по справедливому замечанию многих исследователей, является сквозной в творчестве писателя. Тягостное ощущение пространства в рассказе «Голубое и зеленое» усугубляется в момент двух последних встреч героев. Юноша снова, как в начале рассказа, находится без движения: «Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь». Жизнь словно останавливается на какоето время. Неизбывное ощущение одиночества, заброшенности, ненужности любимому человеку выражается через орнаментальный прием – так называемую «реализацию метафоры», ее буквальное воплощение: «Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней» (имеется в виду скульптурная группа на крыше Большого театра); «И сердце стоит в горле и поднимается все выше – скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать». Герою непонятен разрушающий чувства бег времени, он впервые столкнулся с болью утраты и ему очень тяжело. Время многое отнимает у человека, но оно же и лечит. Спустя несколько лет герой осознает, что «мир не разрушился» и жизнь не стоит на месте: «Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось». Герой уже понимает, что невозможно «ходить бесконечно»: человек часто останавливается на своем пути, отдыхает, меняет свой маршрут. В конце рассказа возникает еще один мотив, противоположный полю «движение», – мотив сна. Во сне, в отличие от реальности, все остается как раньше: в глубинах человеческой памяти яркие события хранятся всю жизнь. Так происходит и с первым чувством, переживаемым каждым человеком более остро, чем все последующие. Именно поэтому герой не хочет снов: они заставляют его вспоминать, переживать заново, ощущать необратимое движение времени. Неразрешимая дилемма неумолимого бега времени и «борющейся с ним» памяти выражена в двух последних предложениях рассказа: «Жизнь ведь так прекрасна! Ах, господи, как я не хочу снов!». 106 В раннем рассказе «Голубое и зеленое» Казаковым уже используются орнаментальные элементы монтажного построения, характерные для рассказов-«переживаний», написанных от лица рассказчика, и необходимые для отражения сложных душевных коллизий. Повествование подобно обрывочным воспоминаниям: отражены наиболее значимые моменты любовной истории юноши. Хотя рассказ не всегда хронологически выдержан (присутствуют временные «скачки»), все же нет впечатления разорванности текста, что становится возможным благодаря обозначенным лейтмотивам, выполняющим функцию «монтажных фраз». Подобное построение оправдано размерами жанра и сродни сценарию, в котором монтажность необходима из-за временных ограничений. Для придания цельности рассказываемой истории, а также для усиления художественного эффекта автор прибегнул к следующим приемам кинематографа: изображение только самых важных, волнительных с точки зрения героя моментов его первой любви, подача значимых деталей крупным планом (глаза, руки, щеки, случайно расстегнувшаяся пуговица на кофточке героини), замедленное изображение происходящего (описание похода в кино на первом свидании). Не случайно именно рассказ «Голубое и зеленое» был экранизирован. Сам писатель комментирует это следующим образом: «Сценарий для кино совсем другая работа, и ты в ней чувствуешь себя другим… Если бы не было рассказа, я бы сказал, что сценарий для меня – лучший способ выражения. Крупный план, дополнительное акцентирование деталей… Это импульс, галерея мгновений» (2, с.312). Если при ближайшем рассмотрении происходящее в «Голубом и зеленом» – это «мазки на полотне художника», то с дистанции картина видится как единое целое, что сродни также импрессионистической эстетике. В дальнейшем в рассказах данного типа Казаков часто будет использовать эти и другие приемы монтажной техники, свободно обращаясь с материалом. Монтажность в орнаментальном повествовании преобладает не случайно, она работает на событийность особого рода. В. Шмид определяет 107 ее как «перипетию от незнания к знанию» и именует такой тип событийности восходящим в Дж. Джойсу понятием «эпифания» (5, с.287) 6 . Непосредственное событие в поэтической прозе часто весьма банально и намечено в тексте в нескольких пунктирных штрихах, редуцировано. Из событийного материала отобраны только некоторые моменты. Событийность орнаментального рассказа заключается в осознании чего-то, лежащего в основе рассказываемой истории. В орнаментальной прозе она передается глазами единственного уникального сознания с его неповторимой гаммой переживаний. По-другому эпифания может быть определена как «внутренний сюжет» (2, с. 277). Подобного взгляда на событийность придерживается и сам Казаков, более того, он считает ее характерной особенностью всей русской литературы: «Фабульность, занимательность, по-моему, чужда русскому рассказу (за исключением, может быть, «Повестей Белкина»). Попробуйте пересказать, например, содержание «Дома с мезонином». Ну, а сюжет, - как же без сюжета! Герой, как правило, покидает страницы рассказа иным, изменившимся по сравнению с тем, каким он появился» (2, с.325). Меняется и герой рассказа «Голубое и зеленое». Казаков определил свой ранний рассказ как «исповедь инфантильного городского юноши» (2, с. 317). Внутренний монолог героя, действительно, напоминает детскую речь: более простые по структуре предложения, отсутствие отвлеченной лексики, многочисленные повторы местоимения «я», глагольных форм и прочее. «Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник, и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать – танцевать я не умею, я люблю слушать хороший джаз. Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и 6 В своей монографии В. Шмид приводит в качестве примера эпифании рассказ И. Бабеля «Гюи де Мопассан»: эпифания «как ментальное событие, ретроспективно организующее историю, имеется, например, в новелле «Гюи де Мопассан». Рассказчик читает биографию обожаемого писателя. Эпифания ужасных обстоятельств последних дней Мопассана приводит рассказчика к осознанию: «Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и вскрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня». 108 слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник». Торопливая, местами сбивчивая речь Алеши, попытка скрыть свои истинные чувства и переживания за пустой болтовней, намеренно отвлечься на посторонние предметы (на музыку из окна, «плохие картины» в фойе кинотеатра) говорит также о смущении юноши перед понравившейся девушкой. Герой меняется в течение рассказа, и его взросление выражено также на формальном уровне. Если сопоставить его размышления в начале рассказа и в конце, то можно увидеть разницу в ритмическом оформлении. Речь Алеши спустя несколько лет после описанных событий – это речь взрослого человека: «Ничто не вечно в этом мире, даже горе. Жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир». Ритмический рисунок этих строк, как видим, существенно отличается от внутреннего монолога героя в начале рассказа. Сокровенные, выстраданные повзрослевшим Алешей мысли не уступают по силе выражения философской поэзии и оформлены в этом фрагменте орнаментально – через многократные повторения, особый ритм (ямб в первом предложении, чередование хорея и ямба в последнем), поэтические тропы (сравнение, инверсия, метафора), употребление абстрактной лексики. Попарное сцепление однотипных сочетаний («жизнь не останавливается», «маленькие печали») актуализирует заложенную в повествовании основную мысль, усиливает производимый эффект; такие построения широко используются в повествовании, ориентированном на экспрессивность. Одни краски жизни сменяются другими, остаются прекрасные воспоминания, и только некоторая ностальгия, грусть по самым первым и поэтому самым ярким переживаниям иногда навещает героя. Итак, в рассказе «Голубое и зеленое» эксплицитно даны все нюансы переживаний первой любви, а также связанный с ними процесс изменения 109 героя: юношеский максимализм (желание совершить подвиг, стать «открывателем», «чемпионом СССР» и, одновременно сомнение в своих возможностях, ощущение, что «никто не понимает», кроме любимого человека) сменяет взрослая взвешенная оценка себя и своих возможностей («я взрослый человек и все могу», «Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом… ну что ж, не всем быть поэтами»). Рассказы«переживания» Казакова – это лирические «исповеди» подобного рода, например, уже взрослого, философствующего о жизни и смерти человека («Зависть», «Во сне ты горько плакал», «Свечечка» и др.). Композиция в «Голубом и зеленом» многослойная, монтажная. Характер событийности определяется соотношениями и контрастами, возникающими в разных планах: ситуационном лексическом (в речи (противопоставлены отражается стадии взросление любви героя, героев), выраженное орнаментальными поэтическими приемами), лейтмотивном (мотивы «цвета», «движения», «внешности», «места», «странного» варьируются, указывая на изменения). Сам автор наиболее точно и лаконично характеризует стилевой ключ своего раннего рассказа: «В «Голубом и зеленом» … слово светлое, цветовое, ясность мира, увиденного впервые глазами подростка…» (2, с. 312). Таким образом, рассказы Казакова импрессионистичны и поэтичны одновременно. Характер поэтичности в них выражается различными способами: и на формальном, и на содержательном уровнях. Поэтическое начало придает рассказам обоих типов большую глубину, дает возможность их неоднозначно интерпретировать. Если в рассказах первого типа орнаментальность позволяет вскрыть завуалированную психологическую ситуацию, то в рассказах второго типа (каких в творчестве Казакова большинство) она призвана изображать пережитое с точки зрения воспринимающего сознания. Рассказы-«события» чаще встречаются в ранних произведениях, рассказы-«переживания» преобладают в поздний период творчества. «Для 110 ранних рассказов Казакова, – по справедливому замечанию Н. Махининой, – был характерен поиск высших начал бытия в самом “веществе” окружающей человека реальности. В более поздних произведениях происходит переориентация в сторону исканий божественного начала в самом человеке» (14, с. 136). Предпочтение экзистенциальной проблематики, стремление писателя к полной свободе самовыражения, к предельной искренности с читателем, желание максимально приблизить искусство к реальности, поиск «божественного начала» в душе отдельного человека, – основная причина преобладания рассказов-«переживаний» в более зрелых созданиях Казакова. 111 Глава IV Орнаментальные тенденции в стиле Ю. Казакова и специфика художественного сознания писателя 4.1. Система поэтической языковой образности рассказов Казакова Е.Б. Скороспелова отмечает, что «в 1940-50-х годах орнаментализм и мотивная организация повествования сходят на нет» (1, с.85). Названные стилевые тенденции на многие годы в ХХ веке оказываются вычеркнутыми из литературного обихода. Это, как нам представляется, происходит по вполне понятным причинам: подобная свободная эстетика противоречила социальному заказу, в обществе перестала быть востребована интеллектуальная проза, предполагающая думающего, самостоятельного читателя. В современной Казакову литературной эпохе сменились приоритеты: социальная острота содержания произведения отодвинула на второй план эстетическую сторону творчества, произошла переориентация на массового читателя, требованиям которого не отвечали усложненные формы рассматриваемой организации повествования. Однако при этом Е. Скороспелова оговаривается: «Тем не менее, наиболее значимые прозаические произведения послеоктябрьского периода отмечены тенденцией к мотивной структуре повествования» (1, с.86). Творчество Ю. Казакова в этом смысле смело можно отнести к «наиболее значимым» явлениям второй половины ХХ века: столь богатый опыт предшественников не обошел стороной писателя, отличавшегося особой чуткостью к литературной 112 традиции. Несмотря на негативное отношение советского литературоведения к поэтической прозе, всякого рода литературности, Казаков имел возможность ознакомиться с орнаментальной стилистикой, посещая в литературном институте семинары В. Шкловского. Принцип «остранения» слова, разработанный В. Шкловским, как известно, лежит в основе поэтического, и в частности орнаментального творчества. Многие ранние произведения Ю. Казакова, по справедливому замечанию А.М. Панфилова, носят отчетливый экспериментаторский характер: «Ранний Казаков писал словно специально для того, чтобы проиллюстрировать тезисы раннего ОПОЯЗа, скажем, следующую заостренную формулу из статьи-манифеста Б. Эйхенбаума “Как сделана шинель Гоголя”: ”Ни одна фраза художественного произведения не могла быть сама по себе простым «отражением» личных чувств автора, а всегда есть построение, игра… Художественное произведение всегда есть нечто сделанное, оформленное, придуманное – не только искусное, но и искусственное…”» (2, с. 15). Слово «прием» в советском литературоведении во времена Казакова носило криминальный оттенок. «Между тем, необходимость в таком понятии диктуется самой природой творчества, мастерства…. При этом не имеет значения сознательно или бессознательно прибегает художник к тому или иному приему…. Важно само присутствие приема в тексте». На современном этапе развития литературоведческой мысли, по мнению Л.Н. Новикова, вновь стала актуальной «проблема материала и приема» (3, с. 15). Для проникновения в суть литературы читатель должен вдуматься в то, «как сделано» произведение. Рассмотрим на конкретных примерах, как прием «работает» на содержание рассказа. В обычной речи люди употребляют слова, даже не задумываясь об их происхождении, о той внутренней связи, которая когда-то существовала между формой слова и его значением. Писатели с орнаментальным, поэтическим видением пытаются избавиться от автоматизма восприятия, возродить в читателях ощущение жизни и делают они это, в первую очередь, 113 через реанимацию древних утерянных значений слов, через возрождение ощущения слова. Подобная реанимация лексики в орнаментальной прозе часто осуществляется за счет нарушения языковой нормы, использования необычной сочетаемости, диалектизмов и т.д., в результате чего оживляются опосредованные, косвенные связи слова с другими словами. Писатели намеренно «сталкивали» совершенно разные слова, обращались к вековой мудрости народного языка, чтобы поставить читателя в положение «первооткрывателя». Подобное состояние испытал сам Ю. Казаков, но в реальной жизни, оказавшись на Севере, он ощутил, что в этих краях «каждое слово обживалось веками». Люди Севера, их речь, природа Белого моря навсегда привязали к себе писателя, произвели незабываемое впечатление: «Окунувшись в поток настоящей живой речи, я почувствовал, что родился во второй раз. Бога ради не воспринимайте это как красивость. В жизни каждого человека есть момент, когда он всерьез начинает быть. У меня это случилось на берегу Белого моря…» (4, с. 308). Писатель отмечает, что северное слово более конкретно, вещественно, в нем еще жива внутренняя форма: «Первый тюлень, который родился, дите, на ладошке поместится. – это тебе зеленец… А потом он белеет, и тогда называется белёк… Потом пятны идут по ней, по тюлешке-ти, и это у нас серка, серочка… А на другой год он, тюлень-ти, большой-большо-о-ой… И называется серун… А на третий свой год самый настоящий лысу-ун! Лысун, а самка – утельга» (4, с. 308). Ощутив «вещественность», цветистость, сочность живого северного слова, Казаков стремился в творчестве к «оживлению» художественной речи: «Для меня современный язык, безусловно, усреднен, – писал Казаков. – А стилевое разнообразие – от мастерства писателя, от великой его способности оживить слово, но только настоящего писателя. Десятки же 114 книг написаны будто одной рукой – нивелированным языком и по его правилам: удобно, экономно, без лишних затрат» (4, с.310). «Оживление» речи в художественной системе орнаменталистов происходит на всех уровнях языка. писателей- Например, на морфологическом уровне иногда может быть использована неправильная форма слова. Намеренные отступления от правил можно встретить не только в творчестве ярких представителей орнаментального стиля. К примеру, Бунин в «Автобиографической заметке» с негодованием упоминает о случае редакторской правки текста его стихотворения: «…редкое участие принял во мне А.М. Жемчужников …Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк. Но характерный. Было у меня в стихотворении: «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился: «Кого наливают?» – и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня)» (5, с.7). У писателей поэтического склада каждое слово значимо в контексте всего произведения: данная «неправильность», в частности, указывает на пантеизм Бунина, рассматривавшего природу как проявление разумного высшего начала. Писателем была выбрана активная конструкция, которая предполагает самостоятельного полноценного субъекта действия (природа у Бунина отождествляется с Богом), в то время как в пассивном, хотя и правильном, с точки зрения норм русского языка, обороте данное предложение будет выражать позитивистский взгляд на природу как на неживой материал. Казаков также обращается к подобным приемам орнаментализма для дополнительного акцентирования идей произведения. Так грамматически обыграно в рассказе «Голубое и зеленое» слово «любовь»: «Люди идут кудато, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью». «Любовь», являясь словом с абстрактной семантикой, не может иметь форму множественного числа. Оно намеренно искажается в речи героя, для сравнения его неповторимой любви с чувствами других людей. Необычная форма «любви» рифмуется с рядом стоящим 115 «мысли». Помимо этого в предложении отмечается организованность, дисциплинированность городских жителей («четко шагая»), городская суета («спешат»). Употребляя одинаковую грамматическую форму к словам «мысли» ~ «любви», герой подчеркивает преобладание рационального начала в любви взрослых людей. В слове «любви» присутствует пренебрежительный оттенок. Юному герою со свойственным этому возрасту максималистским восприятием мира кажется, что такой любви, как у него, не испытывает никто, она уникальна, единственна в своем роде, и формы множественного числа не может иметь лишь слово любовь, обозначающее его возвышенное чувство. Эта разница между его чувствами к Лиле и чувствами остальных особенно ощущается героем, когда он возвращается в столицу с Севера, когда после месяца одинокой, вольной и спокойной жизни на природе Москва оглушает его «своими огнями, запахом, многолюдством». Хотя юноша в своих размышлениях подспудно отмечает равнодушие людей друг к другу в большом мегаполисе («каждый живет своей жизнью»), ему также все равно, что происходит с другими, потому что «в этом огромном городе» у него «есть любимая». Подобные приемы используются Казаковым только в наиболее важных для всего рассказа фрагментах, они являются знаковыми – читатель за одним словом, приемом должен увидеть смысл целого, суметь в форме разглядеть содержание. На лексическом уровне орнаментальность проявляется, прежде всего, в словесной игре: во многих рассказах Казакова частично или полностью присутствует стилизация. «Хороший рассказ, – по мнению Ю. Казакова, – похож на театр». Однако писатель «допускает возможность стилизации» лишь тогда, «когда смешение речи автора и персонажа задано определенной целью, творческой сверхзадачей» (4, с. 310). Так, «Никишкины тайны» (1957) напоминают волшебное сказочное повествование: «Вот и горы пошли, высокие, черные, стеной в море обрываются: на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить». Подобная стилизация позволяет передать 116 цельность пантеистического восприятия необычного мальчика Никишки, для которого природные явления – это живые существа. Дети в рассказах Казакова не отделяют себя от природы, поэтому им доступны ее тайны. В рассказе «Свечечка» (1973) некоторые фрагменты оформлены как молитва: «А теперь вот и земля черна, и умерло все, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому!» Данное стилизованное обращение, адресованное на самом деле к маленькому сыну, содержит повторение «и» евангельского, церковнославянское «ибо», соответствующую лексику (взмолиться, помочь, не уходи). Все это придает фрагменту торжественный сакральный оттенок, и становится понятно, что ребенок для рассказчика – это воплощение высшего знания, Бога на земле. Язык ребенка во многом схож с языком орнаментальной прозы: он также является экспериментаторским. Ребенок часто не принимает слово как данность, воспринимает его не как некую абстракцию, а как нечто реальное, как вещь, стремится проникнуть в его внутреннюю форму, «ломает» слова так же, как ломает игрушки с целью понять, как они устроены. Он интуитивно ощущает магическую связь слова с богатством жизни, цельность восприятия ребенка с миром не нарушается и на языковом уровне. Поэтому в детской речи много звукоподражаний, окказионализмов. Вспомним, к примеру, придуманное маленьким героем рассказа Казакова «Во сне ты горько плакал» (1977) слово «ждаль», произносимое им с наслаждением. В нем можно услышать многое: «жаль», «даль», «ждать» и т. д. Казакову близка импрессионистическая эстетика, в которой человек как ребенок является частью великого природного целого, мирового единства. В орнаментальной прозе слово имеет самостоятельную ценность. На уровне словоупотребления орнаментальность также выражается в использовании поэтического приема повтора. В рассказе «Голубое и зеленое» (1956) многократно повторяется из уст героя слово «люблю»: джазовую музыку, Москву, мечтать, «Девочку с персиками» Серова, Лилю, 117 весну, смотреть на рисунки на обоях. Например: «Я люблю Москву. Особенно люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю». В данном рассказе автор для подчеркивания высокой степени интенсивности многократное переживаний, повторение испытываемых глагола «любить». героем, Такой использует прием является особенностью орнаментальной прозы 7 . Цитирование произведений других авторов, аллюзии также являются приметой орнаментального стиля (6, с. 234). Казаков часто использует реминисценции: например, выносит их в название: «Плачу и рыдаю…» (1963) («Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» – это слова религиозного философа Иоанна Дамаскина); «Смерть, где жало твое?» (фраза из ветхозаветной книги Пророка Оссии). Цитации могут перемещаться из рассказа в рассказ: например, есть у Казакова рассказ с названием «Во сне ты горько плакал…» (1977), несколько измененная фраза «Во сне я горько плакал…» оказывается «древнерусской, разгульной и сладко-печальной, долгой» песней в другом его произведении «Старый дом». Герои Казакова часто цитируют из «старых книг» («Старый дом»), из Пушкина («Ночлег»), из Бунина («Во сне ты горько плакал»), обращаются к биографии Чехова, Бунина, Паустовского и др. («Проклятый север», «Адам и Ева», «Вилла Бельведер»). К примеру, героиня рассказа «Вон бежит собака!» (1961) вспоминает противоречивое отношение Л.Н. Толстого и М. Пришвина к охоте. Для нее – это некий повод, наталкивающий на собственные размышления об уничтожающей живых существ охоте, которую женщина как носительница созидательного начала не приемлет. Подобное цитирование древних, классических текстов используется для выражения наиболее важных мыслей произведения и творчества в целом, позволяет придавать цельность разрозненным противоречивым мыслям и эмоциям, ощущать «связь времен и людей», стирает грань между прошлым и 7 Ср. у А. Белого в романе «Петербург» (1913): «Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающихся призраков. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень» (7, с. 360). 118 настоящим, личным и историческим, мгновением и вечностью. Это как бы жизненные лейтмотивы автора, идущие с ним через всю жизнь, позволяющие читателю глубже проникнуть в содержание произведения. В рассказах Казакова меньший «удельный вес» метафор в отличие от прозы модернистов. Это объясняется тем, что для него более всего важно конкретно-вещественное в образном мире. Метафора как элемент текста активно участвует в реализации точки зрения автора, его мировосприятия. Те немногие метафоры, которые у Казакова присутствуют, отличаются необычностью: расширяются привычные типы метафорических переносов, слово, как у писателей-орнаменталистов, может включаться в не свойственную ему смысловую область. Например: «ледяной комок появился у меня под сердцем и не таял» («Чиф»); «кровь начинает звенеть у них (людей. – Ц.Н.) в сердце» («Арктур – гончий пес», 1957). Или ряд метафор, следующих друг за другом: «Он (писатель Писахов. – Ц.Н.) пьет звездный дождь, саркастически смеется над всем злым и спит на берегу, натянув на себя море» («Северный волшебник слова»). Метафоры в тексте Казакова используются для создания эффекта остранения, они рассчитаны на буквальное восприятие их читателем. Однако по большому счету реальность в произведениях Казакова передается в своей цельности и объемности, не искажается, как во многих модернистских произведениях. Поэтому также редко Казаков обращается к приемам метонимии, гротеска, столь популярных у других писателей-орнаменталистов. Часто в орнаментальном стиле «прием, вырастая из другого, им подкреплен». Один троп может выводиться из другого, то есть присутствует явление «обратимости тропов» (8), усиливающее художественный эффект. У Казакова единичны подобные случаи. Так, в рассказе «Легкая жизнь» (1962) сначала возникает сравнение («лебедки, трубы котла – изогнутые, похожие на скелет огромного доисторического животного»), затем сравнение становится метафорой («застывший скелет котла»). Данное явление вызвано своеобразным поэтическим характером 119 слова, его незамкнутостью, обращенностью к другим словам текста. Предмет благодаря такому приему рассматривается в разных ракурсах и становится сквозной деталью. С древних времен человек мечтает находиться в состоянии гармонии с природой. Именно поэтому настоящие поэты стремятся передать в своих созданиях не предмет, а собственное уникальное видение этого предмета. Таким образом происходит слияние созерцаемого мира и самого процесса созерцания, объективного и субъективного, а, следовательно, утверждается изначальная неотделимость человека от природы и его творческая свобода. Художники, осознавая величие природы, ее внутреннюю силу, осмеливаются предположить, что человек как часть этого прекрасного мира также наделен богатым душевным бытием. Отсюда важнейший принцип искусства поэзии – преобразование жизни по законам воспринимающего сознания, который направлен, в свою очередь, на понимание тех или иных объективных явлений. Большинство средств изобразительности, которые использует писатель поэтического склада, также рассчитано на создание ощущения восприятия через сознание героя. Это, в первую очередь, явления нарушения привычной сочетаемости, «интерференции» и «синэстезии». Нарушение привычной сочетаемости дает эстетический эффект, происходит «приращение» смысла за счет эффекта остранения. Например, у Казакова могут встречаться необычные сравнения: «янтарные навозные пятна» («Дом под кручей», 1955), парафразы: «Пианист… сует свои аккорды» (в значении ‘играет’) («Проклятый север», 1964) и др. Для лаконичных рассказов Казакова первого типа (рассказ-«событие») характерно импрессионистическое явление интерференции – соответствие внутреннего и внешнего миров, которое приобретает у многих поэтов и прозаиков ХХ века особое значение. Скрытая при поверхностном рассмотрении психологическая ситуация в отдельных рассказах писателя, отличающихся лаконизмом, на самом деле выражается через орнаментальные приемы: психологические эпитеты – «Печальный воздух» 120 («На охоте», 1956), «присмиревший тихий лес», «грустный запах осеннего моря» («На острове» 1958) (ср.: «Вижу скорбные дали зимы» (А. Белый. «Успокоение», 1903)); «антропоморфные метафоры» (В. Шмид) – «изрыгало глубинный свой запах море в темноте» («Во сне ты горько плакал»), «звуки умирали» («Некрасивая», 1956) (ср.: «Лазурное небо заплакало вдали» (А. Белый. «Симфонии», 1901)). Подобные приемы «заменяют собой отсутствующую наррацию о людях» (6, с.303), позволяют прозреть недоступное взгляду. Встречается и прием от обратного, когда персонажам приписывается качество или действие неодушевленных предметов: «Официантка прошелестела свое приветливое: «Прошем пана?» («Зависть»); ср. у А. Белого: «Над столом тяжелело молчание» (7, с.144). В целях художественной «сгущенности» воспринимающее сознание наблюдателя, его оценка может также сливаться с внешней характеристикой наблюдаемого персонажа: «Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает она на ходу бедрами» («Манька», 1958) (Ср. у И. Бунина: «она … недоступно села в угол» (5, с.215)). Во многих рассказах Казакова (особенно от первого лица) дается подробное изображение непосредственно воспринимающего сознания: «то, что деревья кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят» («Свечечка»). Воспринимающее сознание в подобных примерах – это поток мгновенных движений, в котором предмет расчленяется на сумму впечатлений. Для передачи такого сложного восприятия действительности писатели-орнаменталисты часто обращаются к художественному явлению синэстезии, актуализирующей в образе «смежные бессознательные переплетающиеся впечатления» (9, с.73). Для литературы ХХ века с ее вниманием к бессознательным сторонам человеческой психики было интересно именно такое качество художественного образа. Синэстезия – это сближение: 1) разных по происхождению восприятий, например, звука и осязания: «Стеклянный скрип журавлей» (На охоте», 1956), «надтреснуто, 121 жидко ударил колокол» («На полустанке», 1956); цвета и осязания: «черно, маслянисто поблескивала стоячая вода» («Ни стуку, ни грюку», 1960); 2) противоположных эмоций: «болезненное наслаждение» («Во сне ты горько плакал»); «горькая и сладкая любовь» («Старый дом»); «Весело ломило душу» («Вилла Бельведер») и др. Такая необычная сочетаемость призвана детализировать полноту чувственного ощущения окружающего мира, передать цельность индивидуального восприятия личности при всей его противоречивости. Казаков использует орнаментальные, поэтические приемы и на уровне синтаксической организации. Для лаконичных ранних рассказов-«событий» писателя характерно наличие коротких фраз, простых предложений без развитых однородных членов. Такой синтаксис способствует информационной насыщенности, которую приобретает во фразе каждое слово, и соответствует технике импрессионистических мазков. Например, в рассказе «Легкая жизнь» (1962) описание целого дня героя умещается в один небольшой абзац: «На другой день в бригаде вручали почетные грамоты, а вечером он напился, с кем-то подрался, с кем-то целовался, плакал, хотел топиться и утром, проснувшись в общежитии, избитый, в изодранной рубахе, с больной головой, долго не мог прийти в себя и не мог ничего припомнить из вчерашнего». В этом фрагменте присутствует ритмичность, которая выражается в ускорении или замедлении развертывания изобразительного ряда, что определяется авторским замыслом. Здесь первая фраза выдержана в спокойном ритме, затем происходит ускорение за счет однородных глаголов в прошедшем времени и повторения местоимения «с кем-то», затем снова замедление за счет усложнения предложения определениями, деепричастным оборотом, причастиями, сложносоставными глаголами. Благодаря смене ритмического рисунка описание «похождений» героя приобретает иронический оттенок, как в ускоренном и замедленном кинокадрах. 122 Рассказы-«переживания», которых в творчестве Казакова большинство (особенно в позднем), отличает изысканный усложненный синтаксис: он включает составляющие, связанные самыми разнообразными отношениями (сочинение, подчинение, присоединение, бессоюзие), так как передает течение мыслей и переживаний героя, получающее здесь многостороннее развитие за счет неожиданных ассоциаций. Поэтому в подобных рассказах простые предложения внутри сложного связаны скорее семантически, нежели синтаксически: «Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги…» («Осень в дубовых лесах», 1961). Здесь почти в каждой строке используются поэтические фигуры: анафоры, эпифоры, различные повторы, инверсии и пр. За счет чего создается необыкновенная плавность повествования и кусочки мозаики (разрозненные ассоциации), склеиваясь, дают орнамент, воспринимаются как одно целое. В результате сложный синтаксис рассказов Казакова легок для восприятия благодаря своей близости к музыкальной, поэтической стихии. В его произведениях каждый последующий абзац, как стихотворная строка, опирается на предыдущий. «Переливы голоса, долгое, почти певческое дыхание, когда фраза тянется, длится, переходит из строки в строку», – так объясняет уникальное свойство рассказов Казакова доставлять «эстетический восторг», «наслаждение почти физическое» И. Штокман (10, с. 133). Усложненный синтаксис Казакову необходим для передачи изображаемого через воспринимающее сознание, особенно в тех рассказах, где используется повествование от третьего лица: «Он подумал, хотя, в сущности, ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая в окно на темную дрожащую лужу. В нем пело и звенело что-то, как во время болезни, при температуре, он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молча шли по залам и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимое и скорбное. Он еще остановился внутренним 123 взглядом на этой скорбности и подумал: “Почему скорбное, что-то я не так думаю”, - но тотчас отвлекся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось» («Адам и Ева», 1962). Повествователю в данном фрагменте принадлежат только последние слова. Весь отрывок – это, в сущности, «поток сознания», оформленный в виде несобственно-прямой и частично в виде прямой речи. Т. Сильман выделяет такой способ поэтизации прозы как «неполная определенность» (11, с. 57). Эта особенность присутствует в языке Казакова и связана с поиском оптимальной формы реализации авторского замысла, а именно – выражения «невыразимого». Поэтика «неопределенности» – характерная черта поэзии начала ХХ века, связана она с отражением в лирике процессов внутренней речи и воплощается на всех уровнях художественной системы. Мир рассказов Казакова не подчиняется рациональным, надуманным схемам, а соответствует непредсказуемой живой жизни, странным движениям человеческой души. Поэтому у него часто встречаются слова неопределенной семантики: «какой-то», «где-то», «почему-то», «казалось», «странный» и т.п. Например: «что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями, над рекой, что-то прекрасное» («Вон бежит собака!», 1961); «Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно» («Осень в дубовых лесах», 1961). Здесь чувства лирического субъекта не называются, а передаются. «Неполная определенность» присутствует также при описании предметов, портретов персонажей. На импрессионистическую эстетику недоговоренностей, отдельных мазков работает также синтаксическая фигура умолчания. Повествование обрывается в момент наивысшего напряжения мысли или чувства, что фиксируется многоточием: «Он сейчас думал о лете. О том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога… Прощай тогда Москва…» («Двое в декабре», 1962). Подобные предложения- «недоговоренности» часто можно встретить в прозе Казакова, отличающейся 124 особой взволнованностью повествования. Благодаря поэтическим приемам «неопределенности» повышается экспрессия текста, возникает поле для фантазии читателя. Присутствие ритма в прозаическом тексте также сближает его с поэтическими произведениями. Однако ритм прозы, по мнению исследователей, значительно сложнее ритма поэзии. В прозе он может быть выражен на нескольких уровнях: на фонетическом в виде звукописи: «…на эстраде: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, они переговариваются» («Проклятый север», 1964); на морфологическом уровне в виде унификации окончаний определенного типа: «плоты с шалашами, с кострами и тенями людей возле них» («Зависть», 1968-1969), но более всего – на синтаксическом. В.М. Жирмунский считал, что «основу ритмической организации прозы всегда образуют не звуковые повторы, а различные формы грамматико-синтаксического параллелизма, более свободного или более связанного, поддержанного словесными повторениями» (12, с. 67). В прозе ритм могут создавать такие элементы, как предложение с синтаксическиоднородными членами, объединенные одинаковыми союзами, анафоры, количество слов во фразе, ритмические вопросы, восклицания, повторы. Самые важные для автора, самые лиричные высказывания обладают ритмом: «И с запоздалой болью подумал он о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, не чуток к ней, как часто не хотел слушать ее рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать, как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять, оценить жизни» («Адам и Ева», 1962). Повторение одного и того же сочетания «как часто» в новой структурной позиции и описание героем различных ситуаций, оформленных аналогично в плане синтаксиса, дает новые оттенки композиционных смысла. средств, Ритмизация с текста помощью 125 становится которого одним из осуществляются эмоционально-смысловые сопоставления и повышается семантическая емкость текста. Ритм также способствует повышению суггестивности текста: восприятие ритма держит читателя в плену повествования под воздействием гармонично организованной формы. Казакова, писателя с великолепным слухом, может привлечь хорошо звучащая фраза, из которой может родиться целый рассказ: «Мне интересно писать рассказы, потому что я предвкушаю неожиданные для себя открытия… Давно во мне застряла фраза: «Послушай! Не идет ли дождь?» А ведь в ней уже ключ к мелодии. Я еще не знаю, о чем будет рассказ, но уже чувствую его тональность… Кто-то тронул одним словом струну, и она зазвучала, и я должен подхватить, не глядя на струны и на свои пальцы… Когда композитор создает мелодию, он всегда подбирает звуки не по принципу красоты звучания – по необходимости, диктуемой мыслью. Поэтому я, скажем, не боюсь, что в одном предложении у меня несколько одинаковых слов, чего не любят редакторы. Главное – в ритме…»; или: «Давным-давно стоя у окна со своим знакомым, я услышал простую его фразу: «Вон бежит собака!» Был в ней какой-то ритм, застрявший во мне и лишь через некоторое время всплывший и вытянувший за собой замысел» (4, с. 326). Подобное спонтанное рождение сюжета свойственно писателям с поэтическим типом мышления. Ритм часто у таких писателей присутствует уже в заглавии. В. Шмид приводит следующий пример: название рассказа И. Бабеля «Переход через Збруч» (– – ′ – – ′) содержит стихотворный метр – анапест, а также аллитерацию (ч-р-з/з-р-ч) (6, с.315). То же у Казакова: возможно, во фразе «Вон бежит собака» его привлек ритм хорея (′ – ′ – ′ –), или ямб – в названии другого рассказа «Во сне ты горько плакал» (– ′ – ′ – ′ –). Однако, в целом, проза Казакова – это не метризованная проза, как, например, у А. Белого. 126 4.2. Особенности орнаментальной композиции рассказов Казакова Во многих рассказах Казакова очень широко применен монтаж как композиционный принцип. Это отмечали такие исследователи, как Н.Г. Махинина, С.П. Данилова и др. Композиция в таких произведениях приобретает динамику не за счет событий, а за счет внутренней динамики – напряженной душевной жизни героя, изменения настроений, ощущений. У Казакова даже самые большие по объему рассказы вмещают, как правило, описание только одного дня или одной ночи, но при этом время и пространство расширяется за счет ассоциативного фона. Например, в рассказе «Зависть» (1968-1969) абсолютно нет никакого действия. Рассказчик описывает вечер перед отъездом из Кракова, когда он сидит один в полупустом кафе и воспоминает «о том о сем»: «И хоть в Кракове была зима, вспоминалась мне почему-то одна осень, когда я плыл по делам на пароходе в Вологодской области». Возникающие ассоциации непонятны порой самому герою, как видим, им осознается совершенная несвязанность воспоминаний с ситуацией. Герой как бы подгоняет себя в своих воспоминаниях: «Ну, дальше, дальше! О чем я думал в кафе, разглядывая улицу и тех, кто сидел рядом со мной». «Вспоминал я весну, когда познакомился со своей будущей женой». «Ну а потом что было?»: «Она ушла от меня зимой, в феврале, - и сейчас вот февраль, Польша, Краков, и я вот тут, в этом кафе, в тепле, за столиком сижу, и сейчас сигаретку закурю, и сегодня мы едем в горы, в снег и тишину, и там еще лыжи будут, - в феврале она ушла, на Кольском. И как теперь ни думай, ничего не выдумаешь, два года прошло, не выдумалось. Почему это случилось и кто тогда был виноват. Я? Наверное, и я – потому что не был я никогда ни дивным, ни замечательным, ни единственным я не был. Но той ночи и всех последующих ночей не забыть мне вовеки». Фрагмент является ярким примером орнаментальности: повторы одинаковых окончаний, союзов, однокоренных слов, целых фраз, инверсии, нарочитое повторение частиц не и ни подчеркивают драматизм переживаний героя. 127 Весь фрагмент оформлен как «поток сознания»: возникают случайные, несвязанные с основной мыслью ассоциации (за столиком сижу в кафе, в тепле, сигаретку закурю, едем в горы, там лыжи будут), они на самом деле повторяются с целью внушения себе, что все хорошо. Монтажное нелинейное повествование подчиняет хронотоп законам восприятия. Во время этой поездки в горы на лыжню герой не просто вспоминает, а как бы перемещается во времени и пространстве несколько раз. Сначала он оказывается на Кольском: «Я это очень явственно видел, я как бы ушел туда, побывал на Кольском», затем герой возвращается в Краков, видит, как греются и пьют кофе посетители кафе, а потом он снова понимает, что «опять ушел, но уже дальше, в ту первую московскую ночь», когда он «стоял на крыше под бомбежкой». Буквально находясь в Кракове, на самом деле герой снова переживает голодные страшные минуты в полуразрушенной Москве во время войны. Здесь дается импрессионистическая картина – перечисление всего, что ассоциируется у него с военным временем: «Ранние морозы, закаменевшая земля, неубранные вилки капусты, морковь, которую выковыривали палками. Противотанковые рогатки всюду, железобетонные колпаки…» Таким образом, создается «динамическая» композиция (термин Л. Новикова), где при отсутствии внешнего сюжета динамика возникает за счет движения от воспоминания к воспоминанию. Монтажное соотношение между разрозненными, на первый взгляд, фрагментами позволяет услышать «основной звук» произведения. На наш взгляд, через грустные воспоминания о расставании с женой, о военном времени происходит своеобразное душевное очищение героя. Именно поэтому, наблюдая вокруг себя счастливых людей, отчасти завидуя им, он понимает, что когда-нибудь и в его жизни снова настанут счастливые минуты, и тогда кто-то «позавидует» уже ему, как сейчас он, сидя в кафе в Кракове и мысленно возвращаясь к своему прошлому, «завидовал всем этим счастливым лыжникам». 128 В произведении с монтажной композицией часто происходит смена ракурса изображения. К примеру, в рассказе «Легкая жизнь» возникает ракурс с высоты птичьего полета. Время и пространство могут расширяться до космических размеров: герой может ощущать движение Земли: «Агеев вдруг ногами и сердцем почувствовал, как она (Земля. – Ц.Н.) поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами – поворачивалась и летела, окруженная сиянием в страшную бесконечность». В сознании героев время может «двоиться: казаться медленным и быстрым», «мгновенно-медленным» («Плачу и рыдаю»); героями постигается относительность восприятия времени в зависимости от возраста человека: «лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало… Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца, впрочем, мгновенным оно было для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма» («Свечечка»). В орнаментальной прозе повествовательный текст дробится на сегменты, последовательность их в тексте предопределяется особенностями авторского видения изображаемого. У Казакова монтажные «кадры» могут быть обозначены графически – небольшим отступом между абзацами. У А. Белого, к примеру, подобное монтажное деление графически помечено рядом точек. Такое композиционное «дробление» текста подчеркивает смысловую и эмоциональную многослойность повествования, которая, по мнению И. Кузьмичева, «как нельзя лучше отвечала фактуре свободного лирического излияния» (13, С. 126). Монтажность рассказов писателя восходит отчасти к литературной традиции А.П. Чехова. «У Чехова, – замечал Л.Н. Толстой, – своя собственная форма, как у импрессионистов. Смотришь, человек будто без всякого разбора мажет красками, какие попадаются ему под руку. И никакого как будто отношения эти мазки между собой не имеют. Но отойдешь на некоторое расстояние, посмотришь, и в общем получается цельное впечатление, перед вами яркая, неотразимая картина» (14, с.270). Казаков 129 также отмечал отсутствие занимательности, событийности в таких, например, произведениях Чехова, как «Дама с собачкой», «Дом с мезонином» (4, с. 325). «Цельное впечатление» в произведениях импрессионистов на уровне глубинно-смысловом создают лейтмотивы, которые становятся «монтажными фразами». Принцип монтажности работает и при портретной характеристике. В отличие от изобразительных деталей, характерных для реализма ХIХ века, Казаков прибегает к редким, но выразительным мазкам модернистского стиля, портреты подаются избирательно, фрагментарно, состоят из броских частностей. Например, таков в рассказе «На острове» (1958) образ директора «с выпуклыми глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых склеротических щеках», передвигающегося «колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами»; или образы музыкантов в рассказе «Проклятый Север» (1964): «Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с вылупленными, как луковицы, глазами»; гитарист «с миндалевидным профилем»; или «лицо у нее было теперь обтянутое», «глаза длинные» («Адам и Ева», 1962). Здесь очертания фигур и черты лица выписаны угловато и гиперболично, персонажам присваиваются характеристики неодушевленных предметов. Что-то в портрете героев также может выделяться крупным планом, например, «синие, отражающие небо», «серые с фисташковыми крапинками большие глаза» ребенка в рассказе «Во сне ты горько плакал». Описание внешности, переданное через воспринимающее сознание героя, часто, как в реальной действительности, зависит от внешних влияний, к примеру, от освещения. Так, в автобусе герой не может разглядеть лицо соседки, черты которого неопределенны из-за сумерек: он «взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы» («Вон бежит собака!»). Казаков не раз говорил о том, что как бы учился по-новому мужественно смотреть на жизнь, наблюдая за вызывавшими восхищение северными жителями. Такие северные герои его рассказов, как Манька, 130 Никишка, Марфа, Нестор, Кир и др., отличаются неординарностью, идущей от природного начала. Однако Казаков, не склонный к идеализации, при изображении персонажей часто прибегает к натуралистическим деталям, свойственным импрессионистическим произведениям. Автобиографический герой рассказа «Адам и Ева», негодуя по поводу критики в свой адрес, призывающей его восторгаться «массами», заявляет о своей позиции по отношению к простому народу: «Мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю». Эти слова можно отнести в творческой позиции самого писателя, которого, в частности, А. Твардовский обвинил в создании «галереи отвратных типов» (15, с. 88). Так, натуралистично описан деревенский парень Серега Вараксин в рассказе «Ни стуку, ни грюку» (1960). Серега «губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел – в Вязьме удачно продал он свинину», при каждом шаге он «подрагивал мясистыми щеками, щурился, зевал». В начале рассказа возникает такая деталь, как «мешки, сильно и неприятно пахнувшие», которые Серега забрасывает на полку поезда. У Казакова запахи, связанные с человеком, – это определенные «коды» его поведения, и данная деталь поначалу незначительная, на самом деле предвещает грядущие неприятные события. Натуралистично описано также поведение Сереги: он «стал есть арбуз, «сербая, захлебываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне»; в лесу он «отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину», а когда наедался, распускал «ремень на брюках», «позевывая, порыгивая, ковырял спичкой в зубах…», «скашивая на Сашу налившиеся кровью глаза». Прибегая к стилизации под просторечие, под штампованный язык «передовиц», Казаков усугубляет несимпатичный образ Сереги, который легкомысленно и цинично рассказывает о том, как влюбил в себя Галю: «я ее проводил до самого двора, а пуще всего рад был, что попутно. А то если б с горок была, ошалеешь провожать-то! А тут ничего, соседи. За двор зашли, за зады, посидели на бревнышке, я ей про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю 131 идейно, как из газеты, они, такие-то, это любят. А после обжимать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, сомлела… сопит, собака, трясется! Через неделю увидишь, полный порядок в колхозе будет – я с ними умею!». Сереге, действительно, удается соблазнить Галю, однако местные парни, узнав про это, избивают его. Другой «положительный» герой рассказа, городской студент, Саша Старобельский после случившегося хочет уехать в Москву, испытывая отвращение и стыд за совершенное Серегой. Однако к этим чувствам примешивается еще и зависть к «успеху» Вараксина, что доказывает: в основе поведения Сереги лежит не социальная мотивировка, а «живучесть грязных инстинктов», присущих в той или иной степени каждому человеку (4, с.322). Таким образом, натуралистические описания, свойственные импрессионистической эстетике, используются для достижения предельной правдивости изображения естественных в своей противоречивости человеческих эмоций и мыслей. В композиционной структуре рассказов Казакова начало и конец так же, как в поэзии являются определяющими: «…я обратил внимание, – пишет Казаков, – что почти все стихотворные строчки, которые мы помним, как правило, являются началом стихотворения или его концом – это строчки, являющиеся “ключом” или подводящие итог стихотворения. Также, мне кажется, и в рассказе: конец и начало – это самая важная вещь» (4, с. 302). Начало его рассказов по закону языковой «сгущенности», как правило, резко вводит читателя в повествование: нет пространных описаний портрета персонажей, их прошлого, и даже если произведение начинается с пейзажа, он настраивает читателя на определенный лад («По дороге» 1960). Создается ощущение, что повествователь оказался случайным свидетелем какого-то эпизода из жизни его героев. Это может быть реплика из завязавшегося между героями разговора («Голубое и зеленое», «Ночлег»), или вопрос, мучающий повествователя («Вилла Бельведер», 1968-1969), или герой просто идет по дороге («Странник»,1956; «В город», 1960). Для создания большего эффекта в первой фразе рассказа может присутствовать поэтический троп: 132 «Два часа летели мы из Архангельска в белом молоке» («Какие же мы посторонние?», 1966); или в последней фразе: «Мы шли тихо, молча, как в белом сне» («Осень в дубовых лесах»). Название рассказа «Плачу и рыдаю…», восходящее к размышлениям религиозного философа, поддерживается начальным предложением, стилизованным под библейское сказание: «Их было трое – ни много ни мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров». Ю. Тынянов отмечал, что стиховое слово, стоящее в конце строки, семантически выделяется (16, с. 345). Чтобы ответить на вопрос, счастлив ли герой Казакова, по мнению автора, «плох» он или «хорош», нужно обратиться к финальному «эмоциональному аккорду» его произведений. Например, в рассказах «Трали-вали», «Легкая жизнь», «Дом под кручей», «В тумане», «Плачу и рыдаю…» повторяется фраза, обозначенная в названии, что напоминает стихотворный принцип кольцевой композиции. С помощью такого поэтического приема выдерживается общая тональность рассказов: повествование за счет «интегрального» образа, обозначенного уже в названии, наполняется множеством смысловых оттенков. Финал также намеренно может выбиваться из общего тона повествования, проливая новый свет на содержание. Неожиданно «мажорное» завершение во многих рассказах («Трали-вали», «Ночлег», «Некрасивая», «Осень в дубовых лесах», «Свечечка» и др.) утверждает желание радоваться жизни, несмотря на печальные мысли и события, о которых рассказывается в течение повествования. Например, в начале рассказа «Свечечка» (1973) герой вспоминает: «Такая тоска забрала меня в то вечер, что не знал я куда деваться – хоть вешайся!», а в конце, думая о сыне, о Севере, он вдруг чувствует, как ему «стало весело, недавнюю тоску как рукой сняло, и снова захотелось жить». Образ ребенка здесь «путеводный огонь, выводящий отца из состояния тоски и страха» (17, с. 92). Итак, мы проследили, как в рассказах писателя на двух уровнях художественной системы представлены орнаментальные приемы. И вот, что 133 получилось: 1) на языковом уровне (сиcтема языковой образности) это элементы звукописи, неправильная форма слова, стилизация (в духе фольклорных жанров, церковнославянского слога), повторы, явления, основанные на необычной сочетаемости слова (синэстезия, интерференция, метафоры, сравнения), «обратимость тропов», приемы «неполной определенности», особый синтаксис, ритм и др.; 2) на композиционном уровне – это динамическая композиция, основанная на монтажном построении, особой пространственно-временной организации, а также прием кольцевой композиции и др. Если говорить о специфике стиля Казакова, степени присутствия орнаментальности в его тексте, сопоставлять индивидуальную художественную систему писателя и прозу наиболее ярких представителей орнаментального стиля (таких, как А. Белый, Б. Пильняк и др.) на разных уровнях текста, то в плане «особого» словоупотребления, в отличие от них, Казаков достаточно сдержан, с языковым орнаментом писатель обращается строго избирательно, стараясь «не загромождать» художественную речь, стремясь к гармонии в слове. Поэтические языковые приемы, которые присутствуют в тексте писателя, возникают в наиболее важных эпизодах его рассказов и содержат в себе основную смысловую нагрузку. Орнаментальность у писателя более последовательно и ярко представлена на композиционном уровне художественной системы, а также в особом ритме его прозы, родственном ритму музыкального произведения. Также нужно отметить, что поэтичность по-разному выражена в разных типах рассказов писателя. 134 4.3. Экзистенциальные доминанты в художественном сознании Ю. Казакова «Стиль нельзя ни выдумать, ни воспроизвести, - справедливо отмечает В. Вейдле, - его нельзя сделать, нельзя заказать, нельзя выбрать как готовую систему форм, годную для перенесения в любую обстановку… Стиль как форма души, … как … предопределение, притом осуществляющееся не извне, а изнутри, сквозь свободную волю человека, и потому не нарушающее его свободы как художника, никогда не предстоящее ему в качестве принуждения, обязанности, закона… он – лишь внешнее обнаружение внутренней согласованности душ, сверхразумного, духовного их единства» (18, с.20). Причины обращения Ю. Казакова к орнаментальному стилю также связаны с особенностями художественного мышления автора, родственного взглядам писателей обозначенной литературной традиции. Орнаментальный стиль и связанное с ним импрессионистическое «видение» рассказов Казакова – это результат поиска новых возможностей собственного художественного «голоса», способного донести до читателя наиболее волнующие проблемы, оптимально и адекватно выразить мироощущение писателя, во многом экзистенциальное. В период «оттепели» после долгого забвения начинается постепенное возрождение экзистенциальной проблематики в советской литературе. На наш взгляд, данная заслуга, во многом принадлежит и Ю. Казакову. Центральное место в творчестве Казакова занимает проблема человеческого существования: «Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов – вот некоторые из проблем, которые меня занимают» (4, с.258). Обращение к сущностным основам бытия было своеобразным требованием его писательской «совести», стремлением к искренности в изображении «правды жизни» - часто 135 противоречивой, далекой от официальных идеологических установок, очень индивидуальной, затрагивающей «первородные» ценности. Сюжет в рассказах Казакова (если он присутствует) почти всегда прост, банален, с его героями не происходит никаких ярких, из ряда вон выходящих событий. Цель рассказчика – изобразить нечто необычное, яркое в душевной жизни внешне обычного и даже благополучного человека. Человеческое бытие для Казакова – это, прежде всего, поток переживаний, «внутренняя биография» личности 8 . Лейтмотивная структура, система образов, сюжеты в рассказах писателя строятся вокруг нескольких ключевых смысловых доминант, таких как «свобода» и «одиночество», «счастье» и «страдание», «творчество», «время» и «детство». Одно из центральных мест в созданиях Казакова занимает проблема свободы. Это связано как с социальными веяниями «рубежной» эпохи 1960х, так и с особенностями внутреннего мира автора. Даже фамилия писателя говорит о его корнях, восходящих к вольному казачеству («один из его пращуров, странник и молельник… Другой же, донской казак, отчаянный ухарь» (13, с.12-13)). Казаков - писатель, который был, по воспоминаниям его друзей, человеком «широкой натуры, предельно правдивым и внутренне свободным» (Г. Горышин, 20, с.9). Свобода для Казакова – это, в первую очередь, обретение самого себя, своей сущности, не зависящей от внешних социальных условностей (биологических задатков, принадлежности к определенной социальной группе, этносу, исторической эпохе). Поэтому герои Казакова такие разные, но их объединяет одно – они «ищут себя» в этом мире. «Внутренне свободным» писатель стремился ощущать себя во всем, создавал собственное «творческое пространство» как в жизни, так и в своих произведениях. Творчество для него было одним из основных условий 8 По признанию Ю. Казакова, его жизнь не была насыщена экстраординарными событиями: «Человек с богатой внутренней биографией, - заявлял писатель, - может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями. Таков был, например, А. Блок» (4, с.5). 136 достижения такой свободы, и соответственно, душевной гармонии. Однако подобное стремление экзистенционального самоощущения предполагает оторванность от толпы и, более того, от другой такой же свободной личности, иными словами, неизбежно предполагает одиночество. Отсюда столь часто посещающая писателя и его героев «экзистенциональная тоска» (Н.Л. Лейдерман, Н.М. Липовецкий, 21, с.351) по некому идеалу духовной близости с другим человеком, с природой, постоянно осознаваемая автором «разлученность людских душ». Однако герои писателя не оставляют попыток стать ближе к другому человеку. «Прорывы» к другой личности, согласно взглядам автора, возможны, но только на отдельные мгновения. Именно в эти редкие мгновения духовного единения казаковские герои испытывают истинное счастье, по-настоящему ощущают себя в этом мире. В связи с этим, многие исследователи говорят о своеобразном «счастьепоклонничестве» Ю. Казакова. Действительно, тема счастья присутствует почти во всем его творчестве. Однако отношение писателя к проблеме счастья является неоднозначным. Е. Галимова считает, что главное, неразрешимое противоречие писателя заключается в том, что «достичь абсолютного счастья возможно лишь на миг» (22, с.108). Для него «счастье – это максимально доступная интенсивность переживаемого момента, это постоянно живущее в нем осознание единственности, неповторимости и исключительной ценности каждого мгновенья жизни» (22, с.26). Казаков стремится страницах такие «невыносимости пограничные счастья», когда воссоздать на состояния человек ощущает предел своих эмоциональных возможностей и готов воскликнуть: «Скорей бы конец песне» («Трали-вали», 1959). Казаков уделяет внимание мимолетным впечатлениям, кажущимся, на первый взгляд, не столь важными, однако на самом деле постепенно меняющими настроение героев. Он находит вдохновение даже в мелочах, считая, что всё в отдельной человеческой истории является значимым. Так, 137 понятие «поэтическая проза» приобретает более широкий смысл как поэтическое изображение «прозы жизни». Всё может стать достойным предметом искусства, если писатель обладает абсолютным слухом и зрением, считает Казаков: «Женщина берет ведро и идет доить корову. Обыкновенное действие. Но когда я пишу, я в своем воображении иду вместе с нею доить эту самую корову. Я вместе с нею выхожу на крыльцо, вместе с нею оглядываюсь и смотрю, какая погода, какое небо, какие тучи. Вместе с нею потом иду я по двору, вижу, какой двор, какая земля, вместе с нею слышу какие-то деревенские звуки, вместе с нею вхожу в сарай, чувствую запахи хлева, сена, навоза, вместе с нею начинаю доить и слышу, как бежит молоко… Если я все это увижу, пронзительно и подробно опишу, то одно только описание, как женщина вышла доить корову, могло бы составить целую книгу» (4, с. 301). Ни одна, казалось бы, незначительная деталь согласно «закону абсолютного вкуса и чувству гармонии» Казакова в произведении не возникает случайно. Деталь делает события из прошлого необыкновенно ощутимыми, и они обретают вкус настоящего, память оживляет прошлое, наполняет воспоминания энергией живой жизни. Писателю не интересна череда серых однообразных спокойных дней, все его рассказы – о самых ярких моментах душевной жизни героя. Однако внешне это может быть обычный туманный день («В тумане» 1959), простая прогулка («Голубое и зеленое» 1956), поездка в другое место («На острове» 1958, «Двое в декабре» 1962 и др.). Внешние обстоятельства не так важны, важно редкое внутреннее состояние взволнованности, «очарованности» жизнью. Такое состояние посещает, например, героя рассказа «Осень в дубовых лесах» (1961): «И я подумал… что главное в жизни – не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, – потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, – а главное сколько в жизни у каждого будет таких ночей». Изображая подобные прекрасные мгновения, Казаков стремится найти реальные жизненные приметы изначальной 138 гармонии между миром и человеком. Подобный импрессионистический взгляд на время как на поиск «чудных мгновений» требует более сложного стилистического оформления, поэтому писатель часто обращается в своих рассказах к поэтическим средствам орнаментального стиля. В произведениях Казакова складывается, таким образом, совершенно иная, экзистенциальная концепция времени. Для экзистенциальной традиции концепция времени – одна из фундаментальных. Художник свободно распоряжается со временем, позволяя себе либо растягивать, либо сжимать событие, останавливать, «продлевать» время. Мгновение по силе произведенного впечатления может быть приравнено в сознании художника к вечности. Так, герой одного из рассказов Казакова «Ночлег» (1963) вспоминает слова А.С. Пушкина: «Как это у Пушкина? Ах. Да как же это? А! Вот как: “Вся жизнь – одна ли, две ли ночи…”» (Ср.: одна из героинь Бунина говорит: «В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строчки…»). «Одна или две ночи», «две-три строчки» не потому, что человеческая жизнь не стоит большего, но потому, что именно этими немногочисленными строками великое искусство способно нащупать тайную связь индивидуального с вечными законами бытия, почувствовать «связь времен». Утверждение неповторимости каждого мгновения заложено в уста другого героя того же рассказа Казакова, причем он импрессионистически неоднозначно передает свои эмоции и мысли: «грустно как-то было, хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда, всегда так – один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет. Вернее похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет, и это помнится потом долго. Ах, как жалко!». Воспоминания в виде почти живых образов, сложные, порой противоречивые эмоции героев способны в произведениях Казакова нарушить традиционные представления о времени как о движении от прошлого к настоящему, позволяют равенства между мигом и вечностью. 139 поставить знак Многие исследователи отмечали умение Казакова «завораживать словом», особый гипнотизм атмосферы его рассказов, возникающий из-за постоянного ощущения тайны бытия. Такая суггестивность искусства, как известно, восходит к древней поэзии, когда она воспринималась как посредник между Высшим разумом и людьми. Стремление «писать так хорошо, чтобы читатель поверил и полюбил» то, что любит сам художник, «и возненавидел ненавидимое» им (4, с.301) позволяет Казакову в каждом рассказе достигать соединения авторской концепции действительности с читательским восприятием мира. Ощущение дистанцированности изображаемого в произведениях писателя от реалий единого мира исчезает благодаря орнаментальной поэтике и присутствию ассоциативного фона (представленного в системе лейтмотивов), что существенно расширяет возможности культурно-эмоционального общения с читателем. И. Кузьмичев отмечает, что слово «творчество» «Казаков не любил, наверное, еще и потому, что не отделял себя от своих произведений, считая их органической своей ипостасью» (13, с.31). В его творениях происходит как бы стирание границ между реальностью и искусством, описание жизни в ее текучести. Понимание творчества как возможности подобного «прорыва» через время, через духовную разъединенность свойственно писателям с экзистенциальным восприятием мира. Поэтому для Казакова творчество не было профессией в обычном понимании, он не искал материальной выгоды, удовлетворения писательских амбиций. Для него творчество – это возможность стать внутренне свободным, стать ближе к читателю, разобраться в себе, разгадать тайны мироздания. Подобное отношение к писательскому труду послужило также причиной того, что Казаков за всю свою жизнь создал так мало, объясняет столь долгое молчание прозаика в поздний период творчества. Обостренное восприятие жизни, осознание изначальной «разлученности» человеческих душ, абсолютной непознаваемости тайн бытия определяют столь часто возникающие ноты трагичности в 140 экзистенциальном мироощущении Казакова. Однако писатель, не оставлявший попыток «открыть и открыться миру» в течение всего творчества, находит выход из этого экзистенционального «тупика» взглянуть на мир по-детски, глазами ребенка. Отличительная черта Казакова – «затаенная детскость» мировосприятия. Друг писателя В. Аксенов с огромной теплотой вспоминал о Ю. Казакове: «Он был похож на огромного ребенка с круглой головой… К нему все и относились отчасти как к ребенку, … удивительно наивному и в то же время гениальному» (23, с. 125). Он, как и другие представители его поколения, потеряв вынужденно право на детство в годы войны, всю жизнь в своем творчестве стремился обрести его заново, возвращая первозданность ощущений и переживаний, говоря о «первородных» ценностях. Многие исследователи не раз отмечали умение «схватывать» пейзаж, цепкость взгляда писателя. Это еще более удивительно, поскольку Казаков по-настоящему увидел природу только в юности, побывав на русском Севере (все свое детство он провел в Москве, на Арбате). На наш взгляд, в описаниях Казакова привлекает не только мастерская способность передать особенности натуры, но и та «взволнованность» первого впечатления, которую человек испытывает только в детстве при первом общении с природой: острота, утонченность художественного восприятия соединяется с детской наивностью, непосредственностью. Например, в рассказе «Плачу и рыдаю…» (1963) юный герой, впервые попавший на охоту, переживает эмоции «какие бывают только в детстве,… когда страшно неизвестно чего: чертей ли, темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего, а счастливо и легко». Это состояние детского счастья герой испытывает, когда вспоминает все, что случилось с ним за день: Ваня «засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальдшнепа, что он научился стрелять влет, что был разговор о любви, о смерти и что все это ерунда, а главное подбить бы ему завтра вальдшнепа или утку». Синтаксическая конструкция с повторяющимися союзами «что», «как», «ли», 141 «какая», «и», «и еще» является характерной чертой стиля Казакова. Так в данном примере представлен поток ярких разнородных впечатлений, переданных по-детски эмоционально. Произведения Казакова – «это глубокий легкий вздох, стремление с детской простотой, в одном порыве, в одном вздохе объять вселенную» (23, с.10). «Детскость» писателя – это поиск в себе естественного природного начала. Детское более яркое, острое и вместе с тем не разъединенное, цельное восприятие мира, природы позволяет нейтрализовать «экзистенциональную тоску» по оставленным в прошлом счастливым минутам и прочувствовать каждое мгновение настоящего. Итак, мы рассмотрели такие доминанты в творчестве писателя, как «свобода», «одиночество», «счастье», «страдание», «время», «творчество», «детство», экзистенциально решаемые Казаковым. Данные смысловые доминанты, на наш взгляд, более полно и глубоко выражаются в рассказах писателя за счет рассмотренных нами ранее лейтмотивных комплексов запаха, цвета, снега, тумана, дома, дороги, эмоциональных состояний «хорошо», «странно»; орнаментальных полей «движения», «покоя» и др. Предпочтение экзистенциальной проблематики – это результат определенного отношения писателя к жизни, в котором при этом присутствует одна принципиально важная направленность: обладая обостренным восприятием жизни, и одновременно осознавая бренность всего сущего, писатель, тем не менее, стремится преодолеть трагизм существования, стараясь пронести ощущение детскости через творчество и жизнь, созерцая этот мир глазами ребенка. Экзистенциальный характер мироощущения писателя определил также последовательное использование поэтических элементов в прозе, так как язык поэзии позволяет избавиться от ограничений обычного языка, способен выразить сущность бытия человека и природы, которые Казаков стремился осмыслить не столько рационально, сколько интуитивно. Творчество, в особенности поэтическое, делает творящего в большей степени свободным 142 для воспроизведения истины. В своих произведениях, особенно в поздний период, Казаков воссоздает это ощущение тайны, недоступной человеку, на которую можно лишь намекнуть на языке поэзии, музыки и творчества в целом. 143 Заключение Идея синтеза художественного слова, получившая широкое развитие в ХХ веке, обусловлена особенностями творческого сознания эпохи. Стремление избежать односторонности взгляда на мир, упрочить духовное начало в век техницизма подтолкнуло художников к поиску новых форм творческого выражения, объединивших в себе прозу и поэзию, музыку и живопись, философию и религию, чем и было обусловлено, в частности, обращение многих писателей к орнаментальному стилю. Ю.П. Казаков, будучи также по творческому духу истинным писателем ХХ века, стремился постичь действительность во всей сложности. Творчество Казакова, по мнению многих ученых, относится к лирической прозе 1950-1960-х годов. Орнаментальная проза как художественное явление первой трети ХХ века и лирическая проза периода «оттепели» - явления родственные, основанные на соединении прозаического и поэтического начал в произведениях. Благодаря общности обозначенных литературных явлений в данной работе стало возможным рассмотрение лирической прозы Казакова в контексте традиций русской орнаментальной прозы первой трети ХХ века. Выявленные орнаментальные стилистические тенденции, присущие рассказам писателя, позволили, в свою очередь, раскрыть многие существенные художественные стороны прозы Казакова. Поэтические элементы гармонично растворены в прозаическом тексте Казакова. «Теснота» изобразительного ряда, монтажная композиция, яркая живописная фактура, изображение особых состояний человека и природы, которое в некоторых произведениях приводит к отказу от сюжетного действия, к лейтмотивно-ассоциативному типу повествования, к смещению реалий по принципу «остранения», стремление передать предмет несколькими яркими штрихами, способными выразить целое, обилие повторов, ритмическое оформление, звукопись – эти и другие черты рассказов Казакова составляют орнаментальное начало в прозе писателя. 144 Привнося орнаментальные стилистические черты, присущие в первой трети ХХ века писателям-модернистам, Казаков обогащал природу реалистического метода. При этом орнаментальность произведений Казакова так же, как у других писателей поэтического склада, весьма индивидуальна. В плане «особого» словоупотребления Казаков с языковым орнаментом обращался строго избирательно. В его рассказах мы не встретим такой насыщенной образности, как, например, у А. Белого, такого обилия нестандартных с точки зрения языковых норм, «остраненных» словесных и синтаксических конструкций, как у А.П. Платонова. Тем не менее, у него присутствует «эксперимент» во многих рассказах: отдельные сходные приемы орнаментального стиля мы обнаружили при сравнении рассказов писателя с творчеством А. Белого, А.П. Платонова, И.А. Бунина. Средства поэтической выразительности его произведений художественно оправданы и используются им только в наиболее важные моменты в его рассказах, содержат в себе основную смысловую нагрузку. Орнаментальность у Казакова более последовательно и ярко представлена на композиционном уровне художественной системы (монтаж, «динамическая» композиция) и в особом ритме его прозы. Лирическое напряжение возникает в произведении в результате постоянного поиска писателем истины и в самом себе и в окружающем мире. Орнаментальность органично вписывается в стиль писателя, она усложняет восприятие до той степени, которая дает толчок для раздумий читателю, но при этом материал, «как стекло», присутствует, но не ощущается. Отдельно нужно сказать о литературной традиции И.А. Бунина в творчестве Ю. Казакова. Казаков вслед за Буниным субъективировал реалистический метод, обращаясь к поэтическим принципам. С лирикофилософской прозой Бунина Казакова сближает фабульная ослабленность, развитие души, исповедальность, фрагментарно-ассоциативная композиция, поэтическая образность. Он также стремится к импрессионистической свежести самовыражения. Для обоих писателей характерна модернистская 145 антиномичность, одновременное сосуществование противоположностей. Однако благодаря поэтическому началу противоречивые чувства, мысли героев не разрушают органичную картину мира, присутствующую в произведениях писателей. Их проза подключается к эмоциональной сфере читателя, к его подсознанию, памяти тела, и обладает суггестивностью, подобно стихам. Орнаментальный стиль близок импрессионизму, так как воспринимающее сознание – это общий для поэзии и импрессионистической прозы предмет изображения. Импрессионизм как эстетика, обладающая «переходным характером», обогащает реалистически вещественный мир рассказов Казакова. Однако стилистические орнаментальные приемы, которые в определенной степени использует Казаков и которые обусловлены импрессионистическим видением писателя, восходят к традиции русской орнаментальной прозы писателей-модернистов первой трети ХХ века. Орнаментальное начало в прозе писателя - это область пересечения разных способов художественного освоения действительности, необходимая для совершенствования индивидуального мастерства писателя. Ярко выраженное поэтическое начало прозы Казакова, «умение видеть импрессионистически» определили его верность жанру рассказа. Выделенные нами типы рассказов Казакова различаются на композиционном уровне. Импрессионистическая эстетика, с одной стороны, предполагает лаконизм, сжатость, то есть стремление выразить в одном мазке целое, что присутствует в выделенных нами рассказах-«событиях», но с другой стороны, она предполагает равномерное приятие всего, что происходит, потому что в какой-нибудь незначительной мелочи может быть скрыта истина, и это свойственно рассказам-«переживаниям». В рассказах первого типа традиционная событийность, как правило, сохраняется, а рассказы второго типа полностью или частично построены по монтажному принципу. Рассказы-«события» чаще встречаются в ранних произведениях, рассказы«переживания» преобладают в поздний период творчества, и это, по нашему 146 мнению, является следствием стремления писателя к полной свободе самовыражения, к предельной искренности с читателем, желания максимально приблизить искусство к реальности. Сеть эквивалентностей, лейтмотивов, особенно отличающая прозу Казакова, – это выражение стремления писателя вскрыть глубинную сущность и гармонию мира. Концептуально значимые лейтмотивы (мотивы «цвета», «запаха», «дома», «дороги», «снега», «сна», «тумана», «движения», «покоя» и др.) проходят через большинство рассказов Казакова. Появляясь в наиболее значимых частях текста, они способствуют преодолению дискретности повествования как в рамках одного произведения, так и в контексте всего творчества, предполагают возможность неоднозначного восприятия и образуют метатекст, позволяющий судить о смысловых доминантах авторского «пространства». Лейтмотивы становятся средоточием, образным «сгустком» авторских раздумий о тоске и счастье, любви и одиночестве, мгновении и вечности, о творчестве и писательском труде. Исследование поэтического стиля Казакова, лейтмотивной структуры его рассказов позволило нам обнаружить существенные свойства уникального индивидуального бытия писателя, которое носит, на наш взгляд, экзистенциальный характер. Слияние поэтического и прозаического начал в творчестве Казакова основывается на антиномичности его творческого сознания и, одновременно, стремлении преодолеть противоречивое восприятие мира, обрести внутреннюю «детскую» цельность, изначальную гармонию, на уровне текста утвердить свободную от различных условностей, созидательно-творческую сущность писательского труда, преобразовать «прозу» жизни в поэзию. Художественное сознание Ю. Казакова включало поиск собственных эстетических средств, способных адекватно выразить сложное мировосприятие человека ХХ века. Преодолевая одностороннее восприятие реальности, отражение лишь внешнего поверхностного слоя жизни, то есть, 147 приближаясь к обнаружению сущностей бытия, писатель вступал тем самым в орбиту экзистенциального сознания, что неизменно призывало к изменению природы орнаментальными, его реализма. Органически импрессионистическими обогащая тенденциями, его Казаков раскрывал новые возможности для реалистического способа освоения действительности. Все эти качества прозы Юрия Казакова позволяют утверждать, что его рассказы, созданные в лучших традициях русского рассказа ХIХ и ХХ веков, обладают гармонической цельностью и совершенством. 148 Примечания Введение 1. Казаков, Ю.П. Две ночи. Проза. Заметки. Наброски [Текст] / Ю.П. Казаков; [вступ. ст. И.С. Кузьмичева]. - М. : Современник, 1986. 2. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – Л., 1986; Галимова, Е.Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е.Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. Ср., например, высказывания писателя А. Приставкина и критика Т. Скороходовой: «…полное отсутствие официоза, естественность и простота, глубокий психологизм, близость к природе и вообще к естеству человека, высокая, почти музыкальная культура слова»; «Выход в свет книги рассказов… грубо искажающей нашу действительность, облик наших современников – строителей коммунизма, - ошибка Архангельского издательства». 3. Иванов, Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры [Текст] / Вяч. Вс. Иванов. - М. : Языки русской культуры, 2000. Т. 2 : Статьи по русской литературе. – 2000. 4. Солженицын, А. Бодался теленок с дубом [Текст] / А. Солженицын // Новый мир. – 1991, № 6. 5. Лейдерман, Н.Л., Липовецкий, М.Н. Современная русская литература [Текст] : 1950-1990-е годы: в 2 т. / Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. – М : Академия, 2003. Т. 1: Современная русская литература : 1953-1968 годы. – 2003. 6. Штокман, И. Адам и Ева (Любовь, поиски счастья и герои Ю. Казакова) [Текст] / И. Штокман // Жизнь на миру: время и проза: 60-90-е гг. – М. : Ключ, 1995. 7. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – Л., 1986. 8. Кукулин, И. Про мое прошлое и настоящее [Текст] / И. Кукулин // Знамя. – 2002, № 10. 9. Махинина, Н. Г. Проблемы нравственных ценностей в творчестве Ю. Казакова [Текст] / Н. Г. Махинина. - Казань, 1997. 10. Панфилов, А. М. Художественный мир Ю. Казакова и духовные традиции русской литературы [Текст] : дис. … канд. филол. наук / А. М. Панфилов. – М., 1999. 11. Галимова, Е. Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е. Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. 12. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого [Текст] / Л. А. Новиков. – М. : Наука, 1990. 13. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д. С. Лихачев. - 3-е изд. – М., 1979. 14. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. 15. Голубков, М. М. Русская литература XX в.: После раскола [Текст] / М. М. Голубков. – М. : Аспект Пресс, 2002. 16. Усенко, Л. В. Импрессионизм в русской прозе начала ХХ века [Текст] / Л. В. Усенко. – Ростов-на-Дону : изд-во Ростов. гос. ун-та, 1988. 17. Полоцкая, Э. Взаимопроникновение поэзии и прозы у раннего Бунина [Текст] / Э. Полоцкая // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1970.- Т. ХХIХ, № 5. 18. Денисова, Э. «Прозаические» стихи и «поэтическая» проза (к спорам о поэзии Бунина) [Текст] / Э. Денисова // Уч. зап. МПГУ им. В. И. Ленина. – М., 1972. - Т. 485. 19. Скороспелова, Е. Русская проза ХХ века. От Белого («Петербург») до Пастернака («Доктор Живаго») [Текст] / Е. Скороспелова. – М. : ТЭИС, 2003. Глава I 150 1. Томашевский, Б. Стих и язык [Текст] / Б. Томашевский. – М. ; Л., 1959. 2. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого [Текст] / Л. А. Новиков. – М. : Наука, 1990. 3. Холмогоров, М. Это же смертное дело! (Перечитывая Ю. Казакова) [Текст] // Вопросы литературы. - 1994. - Вып. 3. 4. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. 5. Кузнецов, М. Советский роман : Очерки [Текст] / М. Кузнецов. – М. : изд-во АН СССР, 1963. 6. Шкловский, В. Б. О теории прозы [Текст] / В. Б. Шкловский. – М., 1983. 7. Тынянов, Ю. Литературная эволюция: Избранные труды [Текст] / Ю. Тынянов. – М. : Аграф, 2002. 8. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д. С. Лихачев. - 3-е изд. – М., 1979. 9. Скороспелова, Е. Русская проза ХХ века. От А. Белого («Петербург») до Пастернака («Доктор Живаго») [Текст] / Е. Скороспелова. - М., ТЭИС, 2003. 10. Евсеев, В. Н. Художественная проза Е. Замятина. Творческий метод. Жанровые принципы. Стиль [Текст] : дис. …докт. филол. наук. – М, 2001. 11. Голубков, М. М. Русская литература XX в.: После раскола [Текст] / М. М. Голубков. – М. : Аспект Пресс, 2002. 12. Проскурня, Н. В. Ю. Тынянов как писатель и литературовед: жанрово- стилевой эксперимент в историко-биографическом романе [Текст] : дис. …канд. филол. наук. – М., 1999. 13. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. / И. А. Бунин. – М. : Правда, 1988. Т. 1 : Стихотворения. Рассказы 1892-1909 гг. – 1988. 14. Иезуитова, Л. А. В поисках выражения «самого главного…» [Текст] // Русская литература. – 1996, № 3. 151 15. Левин, Ю. И. От синтаксиса к смыслу («Котлован» А. Платонова»)» [Текст] / Ю. И. Левин // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. Школа «Языки русской культуры». – М., 1998. 16. Бессонова, М. И. Лейтмотивы как форма выражения авторской позиции в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» [Текст] : дис. …канд. филол. наук. - М., 1996. 17. Пастернак, Б. Л. Сочинения [Текст] / Б. Л. Пастернак. – М., 1998. 18. Бревнова, С. В. Системно-функциональное описание орнаментального поля художественного текста (на материале произведений Е. Замятина и Б. Пильняка) [Текст] : дис. …канд. филол. наук. – Краснодар, 2002. 19. Галимова, Е. Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е. Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. 20. Холмогоров, М. Это же смертное дело! (Перечитывая Ю. Казакова) [Текст] // Вопросы литературы. - 1994. - Вып. 3. 21. Кузьмичев, Роман рассказчика [Текст] / И. Кузьмичев [вступ. ст.] // Казаков Ю. Легкая жизнь. Рассказы. – СПб. : Азбука-классика, 2003. 22. Шукшин, В. М. Собр. соч. [Текст] : в 6 т. / В. М. Шукшин. – М., 1998. – Кн. 6. 23. Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы [Текст] : в 2 т. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М. : «Академия», 2003. Т. 1 : Современная русская литература 1953-1968 гг. – 2003. 24. Казаков, Ю. П. Две ночи. Проза. Заметки. Наброски [Текст] / Ю. П. Казаков. - М. : Современник, 1986. 25. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – Л., 1986. 26. Солженицын, А. И. Бодался теленок с дубом [Текст] / А. И. Солженицын // Новый мир. – 1991, № 6. 27. Кукулин, И. Про мое прошлое и настоящее [Текст] / И. Кукулин // Знамя. – 2002, № 10. 152 28. Трифонов, Ю. Вечные темы. Романы. Повести [Текст] / Ю. Трифонов. – М., 1985. 29. Чудакова, М. О. Избранные работы [Текст] / М. О. Чудакова. – М. : Языки русской культуры, 2001. Т.1: Литература советского прошлого. – 2001. 30. Белинский, В. Г. Эстетика и литературная критика [Текст] : в 2 т. / В. Г. Белинский. – М., 1959. 31. Бальбуров, Э. А. Поэтика лирической прозы. 1960-1970-е годы [Текст] / Э. А. Бальбуров. – Новосибирск : Наука, 1985. Глава II 1. Чудакова, М.О. Избранные работы [Текст] / М. О. Чудакова. – М. : Языки русской культуры, 2001. Т.1: Литература советского прошлого. – 2001. 2. Холмогоров, М. Это же смертное дело! (Перечитывая Ю. Казакова) [Текст] / М. Холмогоров // Вопросы литературы. – 1994, Вып. 3. 3. Казаков, Ю. Две ночи. Проза. Заметки. Наброски [Текст] / Ю. Казаков. - М. : Современник, 1986. 4. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 4-х т. / И.А. Бунин. – М. : Правда, 1988. Т. 1 : Стихотворения. Рассказы 1892-1909 гг. – 1988. 5. Набоков, В. В. Собрание сочинений [Текст] / В. В. Набоков. – М., 1995. 6. Кожевникова, Н. А. Об обратимости тропов [Текст] // Н. А. Кожевникова / Лингвистика и поэтика. - М. : Наука, 1979. 7. Шкловский, В. Б. О теории прозы [Текст] / В. Б. Шкловский. – М., 1983. 8. Сильман, Т. Заметки о лирике [Текст] / Т. Сильман. – Л. : Советский писатель, 1977. 153 9. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – Л.,1986. 10. Голубков, М. М. Русская литература XX в. [Текст] : После раскола / М. М. Голубков. – М. : Аспект Пресс, 2002. 11. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 6 т. / И. А. Бунин. – Т. 5. – М., 1988. 12. Мережковский, Д. С. Акрополь [Текст] : Избранные литературно- критические статьи / Д. С. Мережковский. - М., 1991. 13. Ничипоров, И. Б. Творчество И. Бунина и художественные принципы модернизма [Текст] : дис. …канд. филол. наук. – М., 2002. 14. Федякин, Ностальгия [Текст] / С. Федякин // Литературное обозрение. - 1989, № 4. 15. Твардовский, А. О литературе [Текст] / А. Твардовский. - М. : Современник, 1973. 16. Белый, А. Поэзия. Петербург [Текст] / А. Белый. – М. : Слово, 2000. 17. Махинина, Н. Г. Проблемы нравственных ценностей в творчестве Ю. Казакова [Текст] / Н. Г. Махинина. – Казань, 1997. 18. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. 19. Штокман, И. Адам и Ева [Текст] (любовь, поиски счастья и герои Ю. Казакова) / И. Штокман // Жизнь на миру: время и проза : 60-90-е. – М. : Ключ, 1995. 20. Тынянов, Ю. Литературная эволюция [Текст] : Избранные труды / Ю. Тынянов. – М. : Аграф, 2002. 21. Галимова, Е.Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е.Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. Глава III 154 1. Конецкий, В. Некоторым образом драма: непутевые заметки, письма [Текст] / В. Конецкий. - Л. : Советский писатель, 1989. 2. Казаков, Ю. Две ночи [Текст]. Проза. Заметки. Наброски / Ю. Казаков. - М. : Современник, 1986. 3. Шорохов, А. Юрий Казаков. Долгие крики на берегу Коцита (Рассказ- притча) [Текст] / А. Шорохов // Литературная учеба. – 2002, № 7-8. 4. Михайлов, А. В. Новелла [Текст] / А. В. Михайлов // Теория литературы. - М., 2003. Т. 3 : Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). – 2003. 5. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. 6. Чудакова, М. О. Избранные работы [Текст] / М. О. Чудакова. – М. : Языки русской культуры, 2001. Т.1: Литература советского прошлого. – 2001. 7. Цит. по: Бревнова, С. В. Системно-функциональное описание орнаментального поля художественного текста [Текст] (на материале произведений Е. Замятина и Б. Пильняка) : дис. …канд. филол. наук. – Краснодар, 2002. 8. Тынянов, Ю. Литературная эволюция [Текст] : Избранные труды / Ю. Тынянов. – М. : Аграф, 2002. 9. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого [Текст] / Л. А. Новиков. – М. : Наука, 1990. 10. Кожевникова, Н. А. Типы повествования в русской литературе Х1Х- ХХ вв. [Текст] / Н. А. Кожевникова. – М. : Институт русского языка РАН, 1994. 11. Платонов, А. Избранные произведения [Текст] : Рассказы. Повести / А. Платонов. – М. : Мысль, 1983. 12. Цит. по: Корниенко, Н. Свет платоновского творчества [Текст] / Н. Корниенко [вступ. ст.] // Платонов А. Вся жизнь: сборник. – М., 1991, с. 3-20. 155 13. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений [Текст] // С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; [РАН. ИРЯ им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп.]. – М. : Азбуковник, 1999. 14. Махинина, Н. Г. Проблемы нравственных ценностей в творчестве Ю. Казакова [Текст] / Н. Г. Махинина. – Казань, 1997. Глава IV 1. Скороспелова, Е. Русская проза ХХ века [Текст]. От А. Белого («Петербург») до Б. Пастернака («Доктор Живаго») / Е. Скороспелова. - М., ТЭИС, 2003. 2. Шкловский, В. Б. О теории прозы [Текст] / В. Б. Шкловский. – М., 1983. 3. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого [Текст] / Л. А. Новиков. – М. : Наука, 1990. 4. Казаков, Ю. Две ночи [Текст]. Проза. Заметки. Наброски / Ю. Казаков. - М. : Современник, 1986. 5. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. / И. А. Бунин. - М. : «Правда», 1988. Т. 1 : Стихотворения. Рассказы 1892-1909 гг. – 1988. 6. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. 7. Белый, А. Поэзия. Петербург [Текст] / А. Белый. – М. : Слово, 2000. 8. Кожевникова, Н. А. Об обратимости тропов [Текст] / Н. А. Кожевникова // Лингвистика и поэтика. - М. : Наука, 1979. 9. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика [Текст] / А. Н. Веселовский. - М., 1989. 156 10. Штокман, И. Адам и Ева (любовь, поиски счастья и герои Ю. Казакова) [Текст] / И. Штокман // Жизнь на миру: время и проза: 60-90-е. – М. : Ключ, 1995. 11. Сильман, Т. Заметки о лирике [Текст] / Т. Сильман. – Л. : Советский писатель, 1977. 12. Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика [Текст] / В. М. Жирмунский. - Л., 1977. 13. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – Л., 1986. 14. Толстой, Л. Н. Что такое искусство? [Текст] / Л. Н. Толстой. – М., 1985. 15. Твардовский, А. О литературе [Текст] / А. Твардовский. - М. : Современник, 1973. 16. Тынянов, Ю. Литературная эволюция: Избранные труды [Текст] / Ю. Тынянов. – М. : Аграф, 2002. 17. Смирнов, И. Рассказ в системе целостного осмысления творческого наследия писателя («Во сне ты горько плакал» Ю. Казакова) [Текст] // И. Смирнов / Целостность художественного произведения. – Л., 1986. 18. Вейдле, В. Умирание искусства [Текст] / В. Вейдле. – М., 2001. 19. Бердяев, Н. А. Кризис искусства [Текст] / Н. А. Бердяев. - М., 1990. 20. Горышин, Г. Жребий: Рассказы о писателях [Текст] / Г. Горышин. – Л, 1987. 21. Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература [Текст]. 1950-90-е годы / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. Т. 1 : Современная русская литература 1953-1968 гг. – 2003. 22. Галимова, Е. Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е. Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. 23. Цит. по: Конецкий, В. Некоторым образом драма [Текст] : непутевые заметки, письма / В. Конецкий. - Л. : Советский писатель, 1989. 157 Список использованной литературы 1. Андреев, Л. Г. Импрессионизм [Текст] / Л. Г. Андреев. - М., 1980. - 249 с. 2. Аббаньяно, Н. Экзистенция как свобода [Текст] / Н. Аббаньяно // Вопросы философии. - 1992, №8. - с. 145-157. 3. Антонов, С. Письма о рассказе [Текст] / С. Антонов. – М. : Советский писатель, 1964. - 328 с. 4. Бальбуров, Э. А. Поэтика лирической прозы [Текст] : 1960-70-е годы / Э. А. Бальбуров. – Новосибирск : Наука. Сибирское отделение. – 1985. - 132 с. 5. Бахматова, Г. Концептуальность орнаментального стиля русской прозы ¼ ХХ века [Текст] / Г. Бахматова // Филологические науки. – 1989, № 4. - с.15-31. 6. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст] / М. М. Бахтин. – М., 1979. - 318 с. 7. Бахтин, М. М. : pro et contra [Текст] : Антология / М. М. Бахтин. – СПб. : Изд-во РХГИ. – (Русский путь), 2002. Т. 2 : Творчество и наследие М.М. Бахтина в контексте мировой культуры. – 2002. - 712 с. 8. Белая, Г. А. Литература в зеркале критики [Текст] / Г. А. Белая. – М., 1986. - 517 с. 9. Белая, Г. А. Закономерности стилевого развития советской прозы 1920-х годов [Текст] / Г. А. Белая. – М. : Наука, 1977. – 254 с. 10. Белинский, В. Г. Эстетика и литературная критика [Текст] : в 2 т. / В. Г. Белинский. – М., 1959. – 2 т. 11. Белый, А. О себе как о писателе [Текст] // А. Белый. Проблемы творчества : Статьи. Воспоминания. Публикации. – М., 1988. - 830 с. 158 12. Белый, А. Поэзия. Петербург [Текст] / А. Белый. – М. : Слово, 2000. - 615 с. 13. Бердяев, Н. А. Кризис искусства [Текст] / Н. А. Бердяев. - М., 1990. - 47 с. 14. Бердяев, Н. А. О русских классиках [Текст] / Н. А. Бердяев. – М., 1993. - 366 с. 15. Бердяев, Н. А. О человеке, его свободе и духовности [Текст] : Избранные труды / Н. А. Бердяев. – М. : Флинта, 1999. - 309 с. 16. Бессонова, М. И. Лейтмотивы как форма выражения авторской позиции в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» [Текст] : дисс. … канд. филол. наук. - М., 1996. - 189 с. 17. Бицилли, П. М. Бунин и его место в русской литературе [Текст] / П. М. Бицилли // Русская речь. - 1995, №6. - с. 15-28. 18. Благасова, Г. М., Кулабухова, М. А. М. А. Булгаков и И. А. Бунин : размышления и доме [Текст] / Г. М. Благасова, М. А. Кулабухова // Творчество Бунина и русская литература ХIХ - ХХ веков. Статьи и тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения Бунина. – Белгород, 2000. – Вып. 2. - с. 144-149. 19. Бочаева, Н. Г. Мир детства в творческом сознании и художественной практике И. Бунина [Текст] : дисс. …канд. филол. наук. – Елец, 1999. – 348 с. 20. Бревнова, С. орнаментального поля В. Системно-функциональное описание художественного текста [Текст] (на материале произведений Е. Замятина и Б. Пильняка): дисс. … канд. филол. наук. – Краснодар, 2002. – 348 с. 21. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. / И. А. Бунин. - М. : «Правда», 1988. - 478 с. Т. 1 : Стихотворения. Рассказы 1892-1909 гг. – 1988. 22. Бунин, И. А. Собрание сочинений [Текст] : в 6 т. / И. А. Бунин. – М., 1988. - Т. 5. – 478 с. 159 23. Бунин, И. А. : pro et contra : Личность и творчество И. Бунина в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей [Текст] : Антология / И. А. Бунин. – (Русский путь). - СПб. : РХГИ, 2001. - 1016 с. 24. Вайль, П., Генис, А. 60-е. Мир советского человека [Текст] / П. Вайль, А. Генис. – М, 1971. – 331 с. 25. Вейдле, В. Умирание искусства [Текст] / В. Вейдле. – М., 2001. - 447 с. 26. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика [Текст] / А. Н. Веселовский. - М., 2004. - 650 с. 27. Виноградов, В. В. О языке художественной прозы [Текст] // В. В. Виноградов Избранные труды. – М., 1980. – 388 с. 28. Вознесенский, А. Ю. Казаков [Текст] // А. Вознесенский Прорабы духа. – М., 1984. - с. 375-376. 29. Волков, А. Проза Ивана Бунина [Текст] / А. Волков. – М., 1967. - 355 с. 30. Волков, И.Ф. Творческие методы и художественные системы [Текст] / И.Ф. Волков. – М. : Искусство, 1978. - 264 с. 31. Выготский, Л. С. Бунин «Легкое дыхание» [Текст] // Л. С. Выготский Психология искусства. – М., 1968. - с. 187-208. 32. Галимова, Е. Ш. Художественный мир Ю. Казакова [Текст] / Е. Ш. Галимова. – Архангельск, 1992. - 435 с. 33. Гаспаров, Б. М. Литературные лейтмотивы [Текст]. Очерки русской литературы ХХ века / Б. М. Гаспаров. – М., 1993. - 388 с. 34. Гей, Н. К. Стиль как «внутренняя логика» литературного развития [Текст] / Н. К. Гей // Смена литературных стилей. На материале русской литературы ХIХ-ХХ веков. – М. : Наука, 1974. - с. 345-384. 35. Гей, Художественность литературы [Текст] : Поэтика. Стиль / Н. К. Гей. – М. : Наука, 1975. - 471 с. 160 36. Геллер, М. Я. Платонов в поисках счастья [Текст] / М. Я. Геллер. – М., 2000. - 428 с. 37. Георгиевский, А. С. Обретение дома (Ю. Казаков) [Текст] // А. С. Георгиевский Русская проза малых форм последней трети ХХ века: Духовный поиск, поэтика, творческие индивидуальности. – М. : Альфа, 1999. - с. 86 - 101. 38. Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе [Текст] / Л. Я. Гинзбург. – Л., 1964. - 443 с. 39. Гиршман, М. Ритм художественной прозы [Текст] / М. Гиршман. – М., 1982. - 367 с. 40. Голубков, М. М. Литература второй половины ХХ века [Текст] : размышления о новых подходах, новом учебнике и не только о нем / М. М. Голубков // Вестник МГУ. Сер. Филология. - М., 2001. - с.3-21. 41. Голубков, М. М. Русская литература XX в. : После раскола [Текст] / М. М. Голубков. – М. : Аспект Пресс, 2002. - 267 с. 42. Горышин, Г. Жребий [Текст] : Рассказы о писателях / Г. Горышин. – Л, 1987. - 288 с. 43. Гречнев, В. Я. Русский рассказ конца Х1Х-ХХ вв. [Текст] (проблематика и поэтика жанра) / В. Я. Гречнев. – Л., 1979. - 208 с. 44. Гуревич, А. М. Динамика реализма в русской литературе ХIХ века [Текст] / А. М. Гуревич. - М. : ГИТИС, 1994. - 88 с. 45. Денисова, Э. И. «Прозаические» стихи и «поэтическая» проза [Текст] (к спорам о поэзии Бунина) / Э. И. Денисова // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина. – М., 1972. - Т. 485. - с. 22-39. 46. Долгополов, Л. К. А. Белый и его роман «Петербург» [Текст] / Л. К. Долгополов. – Л., 1988. - 413 с. 47. Долгополов, Л. К. На рубеже веков. О русской литературе конца Х1Х начала ХХ в. [Текст] / Л. К. Долгополов. – Л., 1985. - 351 с. 161 48. Драгомирецкая, Н. В. Стилевые искания в советской прозе [Текст] / Н. В. Драгомирецкая // Теория литературы : в 3 т. - М., 1965. Т. III : Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении. –1965. - с. 125-172. 49. Евсеев, В. Н. Художественная проза Е. Замятина. Творческий метод. Жанровые принципы. Стиль [Текст] : дисс. … докт. филол. наук. – М., 2001. 380 с. 50. Емельянова, Т. В. Характер литературного персонажа в рассказе Казакова «Манька» [Текст] / Т. В. Емельянова // Проблемы метода, жанра и стиля в русской литературе : межвуз. сб. науч. тр. - Кн. 6. - М, 1998. - 207 с. 51. Жирмунский, В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика [Текст] / В. М. Жирмунский. - Л., 1977. - 407 с. 52. Замятин, Е. И. Новая русская проза [Текст] // Е. И. Замятин Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. - М. : Наследие, 1999. - 359 с. 53. Замятин, Е. И. Избранные труды [Текст] : в 2 т. / Е. И. Замятин. – М. : Художественная литература, 1990. - Т. 2. - 410 с. 54. Захарова, В. Г. Импрессионистические тенденции в русской прозе начала ХХ века [Текст] : дисс. … докт. филол. наук. – М., 1995. - 363 с. 55. Зверев, А. ХХ век как литературная эпоха [Текст] / А. Зверев // Вопросы литературы, 1992. - Вып. 21. - с. 3-56. 56. Зотова, Е. И. Взаимодействие поэзии и прозы в творчестве Б. Пастернака [Текст] / Е. И. Зотова. – М. : Изд-во Москов. гос. ун-та, 1998. 255 с. 57. Иващенко, Е. Г. Эволюция литературного билингвизма в творчестве В. Набокова (взаимодействие стиха и прозы) [Текст] : дис. … канд. филол. наук. – М., 2004. - 248 с. 58. Иезуитова, Л. А. В поисках выражения «самого главного…» [Текст] / Л. А. Иезуитова // Русская литература. - 1996, № 3. - с. 214-226. 162 59. Иезуитова, Л. А. Творчество Бунина – единая книга о «себе» [Текст] / Л. А. Иезуитова // Автоинтерпретация : сб. ст. – СПб., 2002. - с. 97-133. 60. Измайлов, В. С. Повтор как прием орнаментальной прозы [Текст] : дисс. … канд. филол. наук. – М., 1995. - 265 с. 61. Ильин, И. А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев [Текст] / И. А. Ильин. – М., 1991. - с. 25-78. 62. Казаков, Ю. П. «А может быть сказано еще не все…» [Текст] / Ю. П. Казаков // Ленинская смена. - Алма-Ата, 1965. - 31 янв. с. 3. 63. Казаков, Ю. П. Две ночи. Проза. Заметки. Наброски [Текст]. - М. : Современник, 1986.. - 336 с. 64. Казаков, Ю. П. «Как я люблю людей…» (Из писем Казакова) [Текст] / Ю. П. Казаков // Литературное обозрение. - 1986. № 8, с. 105-110. 65. Казаков, Ю. П. Плачу и рыдаю… [Текст] / Ю. П. Казаков - М. : Русская книга, 1996. - 512 с. 66. Казаков, Ю. П. Легкая жизнь. Рассказы [Текст] / Ю. П. Казаков. – СПб. : Азбука-классика, 2003. - 782 с. 67. Карасев, Л. В. Движение по склону : О сочинениях А. Платонова [Текст] / Л. В. Карасев. - М., 2002. - 140 с. 68. Карпов, И. П. Проза Ивана Бунина (Очерки авторства) [Текст] / И. П. Карпов. – М., Йошкар-Ола, 1996. - 335 с. 69. Келдыш, В. А. Русский реализм начала ХХ века [Текст] / В. А. Келдыш. - М., 1975. - 280 с. 70. Келдыш, В. А. К проблеме литературных взаимодействий в начале ХХ века (о так называемых промежуточных явлениях) [Текст] / В. А. Келдыш // Русская литература. – 1979, №2. - с. 16-27. 71. Кириллина, О. Проблема соотношения поэзии и прозы в творчестве И. Бунина и В. Набокова [Текст] / О. Кириллина // ПРОчтение : сб. ст. по русской литературе ХХ века. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2002. - с. 7-23. 163 72. Кирнос, Д. И. Индивидуальность и творческое мышление [Текст] / Д. И. Кирнос. - М., 1992. - 171 с. 73. Кожевникова, Н. А. Об обратимости тропов [Текст] / Н. А. Кожевникова // Лингвистика и поэтика. - М. : Наука, 1979. - с. 210-222. 74. Кожевникова, Н. Из наблюдений над неклассической прозой [Текст] / Н. Кожевникова // Известия РАН. Сер. лит. и яз. – 1976. - Т. 35, № 1. - с. 5569. 75. Кожин, А. А. Некоторые особенности структуры повествования текстов орнаментальной прозы [Текст] / А. А. Кожин // Филологические науки. - 2003, № 6. - с. 53-62. 76. Кожинов, В. В. Введение [Текст] / В. В. Кожинов // Смена литературных стилей. На материале русской литературы ХIХ-ХХ веков. – М. : Наука, 1974. - с. 3-17. 77. Колобаева, Л. А. Проза И. А. Бунина [Текст] / Л. А. Колобаева. – М., 1998. - 360 с. 78. Конецкий, В. Некоторым образом драма [Текст] : непутевые заметки, письма / В. Конецкий. - Л. : Советский писатель, 1989. - 366 с. 79. Корман, Б. О. Родовая природа рассказа К. Паустовского «Телеграмма» (К вопросу о специфике лирической прозы) [Текст] / Б. О. Корман // Жанр и композиция литературного произведения. – Калининград, 1976. - Вып. 2. - 125 с. 80. Корман, Б. О. Лирика и реализм [Текст] / Б. О. Корман. – Иркутск, 1986. - 93 с. 81. Корниенко, Н. Свет платоновского творчества [Текст] / Н. Корниенко [вступ. ст.] // А. Платонов Вся жизнь: сборник. – М., 1991. - с. 320. 82. Корсакова, Л. Е. Импрессионистическая поэтика в русской прозе ⅓ ХХ века [Текст] : дисс. … канд. филол. наук. – Чебоксары, 2000. - 175 с. 164 83. Крамов, И. В зеркале рассказа [Текст] : Наблюдения, разборы, портреты / И. Крамов. – М., 1986. - 271 с. 84. Кузнецов, М. Советский роман : Очерки [Текст] / М. Кузнецов. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. - 302 с. 85. Кузнецова, А. А. Проза Ю. Казакова (Проблематика и поэтика) [Текст] : дисс. … канд. филол. наук. – Тверь, 2001. - 195 с. 86. Кузьмичев, И. Юрий Казаков. Набросок портрета [Текст] / И. Кузьмичев. – СПб., 1986. - 270 с. 87. Кукулин, И. Про мое прошлое и настоящее [Текст] / И. Кукулин // Знамя. - 2002, № 10. - с. 208-215. 88. Кулиева, Р. Реализм Чехова и проблема импрессионизма [Текст] : дисс. … канд. филол. наук. - М., 1974. - 352 с. 89. Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература. 1950-90-е годы [Текст] : в 2 т. / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – М. : Академия, 2003. Т. 1 : Современная русская литература 1953-1968 гг. – 2003. - 416 с. 90. Лейдерман, Н. Л. Теоретические проблемы изучения русской литературы ХХ в. [Текст] / Н. Л. Лейдерман // Русская литература ХХ в. : Направления и течения : сб. науч. тр. – Екатеринбург, 1992. - Вып. 1. - с. 5871. 91. Левин, Ю. И. От синтаксиса к смыслу («Котлован» А. Платонова»)» [Текст] // Ю.И. Левин Избранные труды. Поэтика. Семиотика. Школа «Языки русской культуры». – М., 1998. - с. 410-415. 92. Липовецкий, М. Забудем слово «реализм» [Текст] / М. Липовецкий // Литературная газета. - 1991, 4 дек. - с. 5-15. 93. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы [Текст] / Д. С. Лихачев. - 3-е изд. - М., 1979. - 352 с. 94. Лихоносов, В. Воспоминания о Казакове [Текст] / В. Лихоносов // Писатель и время : сб. № 4. - М., 1989. - с. 12-22. 165 95. Лосев, А. Ф. Модернистская модель [Текст] / А. Ф. Лосев // Вестник Москов. гос. ун-та. Сер. Филология. – 1996, № 1. - с. 136-150. 96. Лосев, А. Ф. Проблема художественного стиля [Текст] / А. Ф. Лосев. – Киев, 1994. - 650 с. 97. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста [Текст] / Ю. М. Лотман. - М., 1970. - 384 с. 98. Лотман, Ю. М. О русской литературе [Текст] : статьи и исследования (1958 – 1993) / Ю. М. Лотман. – СПб, 1997. - 848 с. 99. Мальцев, Ю. В. Иван Бунин [Текст] / Ю. В. Мальцев. – М., 1991. - 405 с. 100. Марулло, Т. Г. «Ночной разговор» Бунина и «Бежин луг» Тургенева [Текст] / Т. Г. Марулло // Вопросы литературы. – 1994, №3. - с. 109-124. 101. Махинина, Н. Г. Проблемы нравственных ценностей в творчестве Ю. Казакова [Текст] / Н. Г. Махинина. - Казань, 1997. – 388 с. 102. Мережковский, Д. С. Акрополь [Текст] : Избранные литературно- критические статьи / Д. С. Мережковский. - М., 1991. - 351 с. 103. Михайлов, А. В. Новелла [Текст] / А. В. Михайлов // Теория литературы. - М., 2003. Т. III : Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). – 2003. - с. 245-250. 104. Михайлов, А. В. Проблема стиля и этапы развития литературы Нового времени [Текст] / А. В. Михайлов // Теория литературных стилей : Современные аспекты изучения. – М., 1982. - с. 140-182. 105. Мочульский, К. В. А. Белый [Текст] / К. В. Мочульский. – Томск : Водолей, 1997. - 256 с. 106. Нагибин, Ю. Время жить [Текст] / Ю. Нагибин. - М., 1987. - 548 с. 107. Напцок, М. Р. Словотворчество в прозе русского зарубежья (Первая волна эмиграции : И. Бунин, Е.И. Замятин, В.В. Набоков) [Текст] / М. Р. Напцок. - Майкоп, 2001. - 190 с. 166 108. Нефедов, В. В. Чудесный призрак: Бунин-художник [Текст] / В. В. Нефедов. - Минск, 1990. - 320 с. 109. Николина, Н. А. Лингвостилистический анализ рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник» [Текст] / Н. А. Николина // Русская словесность. – 1996, №3. - с. 79-83. 110. Нинов, А. Современный рассказ [Текст] / А. Нинов. – Л. : ГИХЛ, 1969. - 455 с. 111. Ничипоров, И. Б. Творчество И. Бунина и художественные принципы модернизма [Текст] : дис. … канд. филол. наук. – М, 2002. - 187 с. 112. Новиков, В. Плодотворность противоречий [Текст] / В. Новиков // Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция : Избранные труды. – М. : Аграф, 2002. - 496 с. 113. Новиков, Л. А. Стилистика орнаментальной прозы А. Белого [Текст] / Л. А. Новиков. – М. : Наука, 1990. - 180 с. 114. Огнев, А. В. Современный русский рассказ [Текст] / А. В. Огнев. – М., 1987. - 308 с. 115. Павловский, А. О Казакове [Текст] / А. Павловский Русский советский рассказ. Очерки истории жанра. - Л. : Наука, 1970. - с. 48-75. 116. Панфилов, А. М. Художественный мир Ю. Казакова и духовные традиции русской литературы [Текст] : дис. …канд. филол. наук. – М., 1999. 388 с. 117. Пастернак, Б. Л. Сочинения [Текст] / Б. Л. Пастернак. – М., 1998. - 788 с. 118. Паустовский, К. Г. Избранные произведения [Текст] : в 3 т. / К. Г. Паустовский. – М., 1995. – 3 т. 119. Платонов, А. Избранные произведения [Текст] : Рассказы. Повести / А. Платонов. – М. : Мысль, 1983. - 653 с. 167 120. Полоцкая, Э. Взаимопроникновение поэзии и прозы у раннего Бунина [Текст] / Э. Полоцкая // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. - 1970. - Т. ХХIХ. Вып. 5. - с. 412-418. 121. Проскурня, Н. В. Ю. Тынянов как писатель и литературовед: жанрово-стилевой эксперимент в историко-биографическом романе [Текст] : дис. … канд. филол. наук. – М., 1999. - 199 с. 122. Сабат, А. Н. Мастерство создания портрета в романе Е. Замятина «Мы» [Текст] / А. Н. Сабат // Творческое наследие Е. Замятина : взгляд сегодня : науч. докл., ст., очерки, заметки, тез. : в 2 ч. – Тамбов, 1994. – ч.1. с. 104-117. 123. Саввина, Г. А. Эволюция образа автора в творчестве Ю. Казакова [Текст] / Г. А. Саввина. – Астрахань, 1998. - 245 с. 124. Сазонова, Л. И. Древнерусская ритмическая проза ХI–ХIII веков [Текст] / Л. И. Сазонова. – Л., 1973. – 248 с. 125. Скороспелова, Е. «Неклассическая» проза : наследование и развитие традиций символизма и авангарда [Текст] // Е. Скороспелова Русская проза ХХ века. От А. Белого («Петербург») до Пастернака («Доктор Живаго»). - М. : ТЭИС, 2003. - с. 48-85. 126. Скороспелова, Е. Русская советская проза 1920-30-х годов : судьбы романа [Текст] / Е. Скороспелова. – М. : Изд-во Москов. гос. ун-та, 1985. 262 с. 127. Силантьев, И. В. Поэтика мотива [Текст] / И. В. Силантьев; [Отв. ред. Е. К. Ромодановская]. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 296 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 128. Сильман, Т. Заметки о лирике [Текст] / Т. Сильман. – Л. : Сов. писатель, 1977. - 223 с. 129. Сливицкая, О. В. «Повышенное чувство жизни» : мир И. Бунина [Текст] / О. В. Сливицкая. – М. : РГГУ, 2004. - 204 с. 168 130. Смирнов, И. Рассказ в системе целостного осмысления творческого наследия писателя («Во сне ты горько плакал» Ю. Казакова) [Текст] // И. Смирнов Целостность художественного произведения. – Л. : ЛГПИ, 1986. – с. 130-150. 131. Твардовский, А. О литературе [Текст] / А. Твардовский. - М. : Современник, 1973. - 445 с. 132. Томашевский, Б. Стих и язык [Текст] / Б. Томашевский. – М. ; Л., 1959. - 348 с. 133. Трефилова, Г. П. К. Паустовский, мастер прозы [Текст] / Г. П. Трефилова. – М., 1983. - 521 с. 134. Тынянов, Ю. Литературная эволюция: Избранные труды [Текст] / Ю. Тынянов. – М. : Аграф., 2002. - 496 с. 135. Усенко, Л. В. Импрессионизм в русской прозе начала ХХ века [Текст] / Л. В. Усенко. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1988. - 237 с. 136. Федякин, С. Ностальгия [Текст] / С. Федякин // Литературное обозрение. - 1989, № 4. - с. 93-95. 137. Химич, В. Н. Чеховские традиции в рассказах Ю. Казакова [Текст] / В. Н. Химич // Проблемы стиля и жанра в советской литературе. Свердловск, 1970. - Вып. 17. - с. 76-79. 138. Холмогоров, М. Это же смертное дело! (Перечитывая Ю. Казакова) [Текст] / М. Холмогоров // Вопросы литературы. – 1994. - Вып. 3. - с. 5-24. 139. Холмогоров, М. Ю. Казаков [Текст] / М. Холмогоров // Русские писатели ХХ века : Библиографический словарь; [Гл. ред. Николаев П.А.]. М. : БСЭ, 2000, с. 355-360. 140. Храпченко, М. Б. Художественное творчество, действительность, человек [Текст] / М. Б. Храпченко. – М. : Советский писатель, 1982. - 416 с. 141. Чебракова, Е. Традиции Бунина в творчестве Казакова [Текст] / Е. Чебракова // Литературный процесс : Традиции и новаторство. – Архангельск, 1992. - с. 88-97. 169 142. Чудакова, М. О. Избранные работы. [Текст] / М. О. Чудакова. – М. : Языки русской культуры, 2001. Т. 1 : Литература советского прошлого. – 2001. - 472 с. 143. Шкловский, В. Б. О теории прозы [Текст] / В. Б. Шкловский. – М., 1983. - 384 с. 144. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин. Достоевский. Чехов. Авангард [Текст] / Вольф Шмид. – СПб. : Инапресс, 1998. - 788 с. 145. Шмид, В. Орнаментальный текст и мифическое мышление в рассказе Е. Замятина «Наводнение» [Текст] / Вольф Шмид // Русская литература. – 1992, № 2. - с. 56-67. 146. Шорохов, А. Юрий Казаков Долгие крики на берегу Коцита (Рассказ- притча) [Текст] / А. Шорохов // Литературная учеба. – 2002, № 7-8. - с. 25-34. 147. Штерн, М. С. В поисках утраченной гармонии : Проза Бунина 1930- 1940 гг. [Текст] : Монография / М. С. Штерн. – Омск, 1997. - 240 с. 148. Штерн, М. С. Краткие рассказы И. Бунина как лирический цикл [Текст] / М. С. Штерн // Творческое наследие И. Бунина и мировой литературный процесс. - Орел, 1995. - с. 21-53. 149. Штокман, И. Адам и Ева (любовь, поиски счастья и герои Ю. Казакова) [Текст] // И. Штокман Жизнь на миру : время и проза : 60-90-е. – М. : Ключ. 1995. – с. 111–127. 150. Штокман, И. Долгое эхо (Что оставил нам Ю. Казаков) [Текст] // И. Штокман Жизнь на миру : Время и проза : 60-е –90-е. – М. : Ключ, 1995. - с. 134-139. 151. Шукшин, В. М. Собрание сочинений [Текст] : в 6 т. / В. М. Шукшин. – М., 1998. – Кн. 6. – 544 с. 152. Эльсберг, Я. Е. Смена стилей в советском русском рассказе 1950-60-х годов. С. Антонов – Ю. Казаков – В. Шукшин [Текст] / Я. Е. Эльсберг // Смена литературных стилей. На материале русской литературы ХIХ-ХХ веков. – М. : Наука, 1974. - с. 178-201. 170 153. Эльяшевич, А. Единство цели – многообразие поисков. О стилевых течениях в советской литературе [Текст] / А. Эльяшевич. - Л. : Советский писатель, 1980. - 542 с. 154. Якобсон, Р. О. «Новейшая русская поэзия. Набросок первый» (1921) [Текст] // Р.О. Якобсон Литературная эволюция : Избранные труды. – М. : Аграф, 2002. - 740 с. 155. Якобсон, Р. О. Заметки о прозе поэта Пастернака [Текст] // Р.О. Якобсон Работы по поэтике. - М., 1987. - с. 324-338. 171