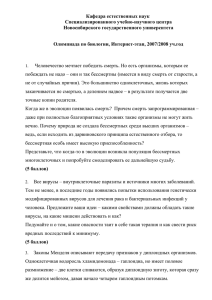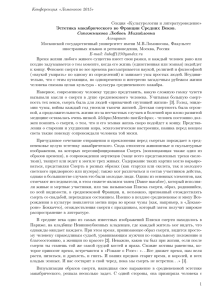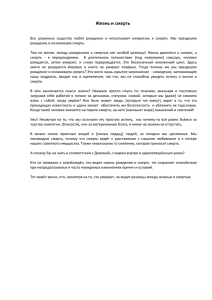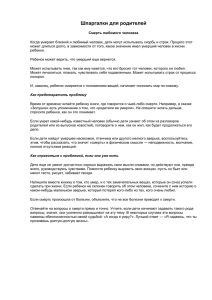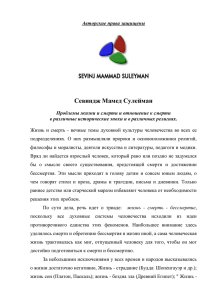Анна Жегало СМЕРТЬ КАК МЕТАФОРА ЧУДО
advertisement
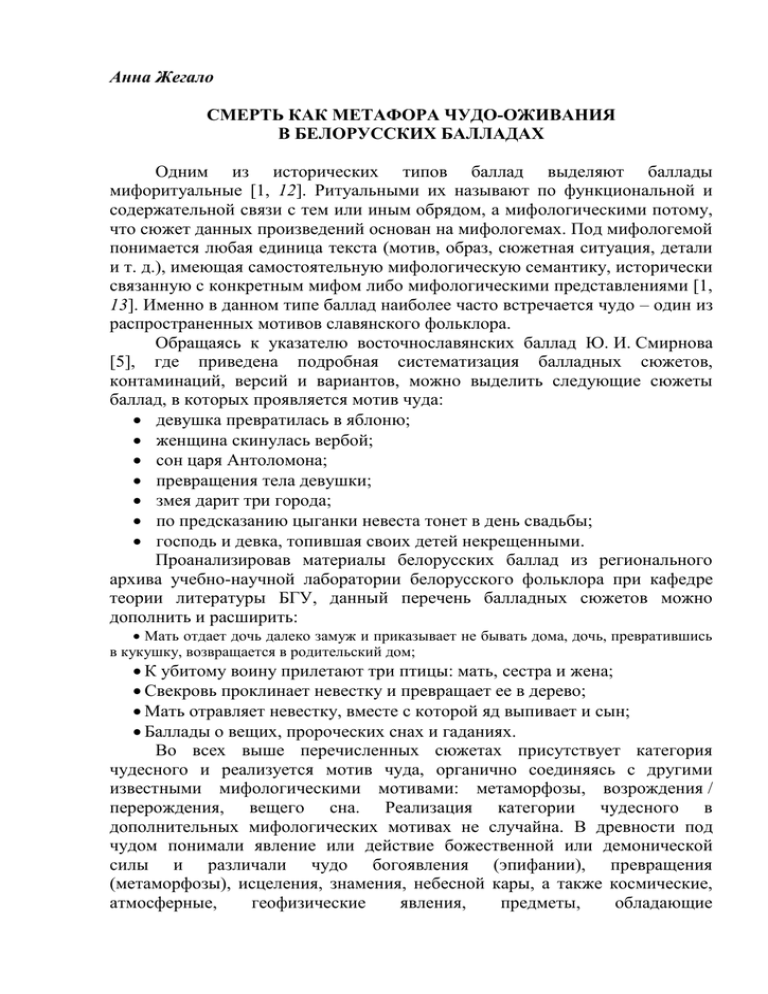
Анна Жегало СМЕРТЬ КАК МЕТАФОРА ЧУДО-ОЖИВАНИЯ В БЕЛОРУССКИХ БАЛЛАДАХ Одним из исторических типов баллад выделяют баллады мифоритуальные [1, 12]. Ритуальными их называют по функциональной и содержательной связи с тем или иным обрядом, а мифологическими потому, что сюжет данных произведений основан на мифологемах. Под мифологемой понимается любая единица текста (мотив, образ, сюжетная ситуация, детали и т. д.), имеющая самостоятельную мифологическую семантику, исторически связанную с конкретным мифом либо мифологическими представлениями [1, 13]. Именно в данном типе баллад наиболее часто встречается чудо – один из распространенных мотивов славянского фольклора. Обращаясь к указателю восточнославянских баллад Ю. И. Смирнова [5], где приведена подробная систематизация балладных сюжетов, контаминаций, версий и вариантов, можно выделить следующие сюжеты баллад, в которых проявляется мотив чуда: девушка превратилась в яблоню; женщина скинулась вербой; сон царя Антоломона; превращения тела девушки; змея дарит три города; по предсказанию цыганки невеста тонет в день свадьбы; господь и девка, топившая своих детей некрещенными. Проанализировав материалы белорусских баллад из регионального архива учебно-научной лаборатории белорусского фольклора при кафедре теории литературы БГУ, данный перечень балладных сюжетов можно дополнить и расширить: Мать отдает дочь далеко замуж и приказывает не бывать дома, дочь, превратившись в кукушку, возвращается в родительский дом; К убитому воину прилетают три птицы: мать, сестра и жена; Свекровь проклинает невестку и превращает ее в дерево; Мать отравляет невестку, вместе с которой яд выпивает и сын; Баллады о вещих, пророческих снах и гаданиях. Во всех выше перечисленных сюжетах присутствует категория чудесного и реализуется мотив чуда, органично соединяясь с другими известными мифологическими мотивами: метаморфозы, возрождения / перерождения, вещего сна. Реализация категории чудесного в дополнительных мифологических мотивах не случайна. В древности под чудом понимали явление или действие божественной или демонической силы и различали чудо богоявления (эпифании), превращения (метаморфозы), исцеления, знамения, небесной кары, а также космические, атмосферные, геофизические явления, предметы, обладающие сверхъестественными свойствами, чудесное оживление умерших, вещие сны, оракулы, гадания. Мотив беспрестанных метаморфоз не сохранился у славян в той мере, как в древнейших индоевропейских памятниках (Веды, Авеста), «Книге мертвых» и др. Улавливаются лишь рудименты древних воззрений, переживших длительный процесс переосмыслений и трансформации. В данной статье мы остановимся на анализе связи мотива смерти с мотивом чуда. С одной стороны, принимая во внимание определение баллады как эпической песни о драматических либо трагических событиях в сфере личной и семейной жизни человека, не удивительно, что баллада обращается к феномену смерти как к величайшей «драме и трагедии жизни». С другой стороны, вслед за исследователем Р. Л. Красильниковым, автором монографии «Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа» [2], подробно исследовавшим проблемы функционирования образа смерти в литературном произведении и изложившим теоретические основы литературоведческой танатологии, мы учитываем психоаналитическую и мифологическую модели анализа балладных сюжетов. В целом модель анализа предполагает кроме выявления в произведении эксплицитно выраженных смыслов смерти присутствие и латентной семантики [2, 40]. Анализ уровня латентной семантики выявляет скрытые смыслы, заключенные в образе смерти. Данные значения связаны с психоаналитическими комплексами, архетипами и мифологемами, бессознательно отраженными в тексте [2, 68]. Это дает возможность не останавливаться на интерпретации смерти как конце физического существования, а искать новые смыслы феномена. Отправной точной для исследования танатологических мотивов как элементов сюжета является статья Ю. М. Лотмана «Смерть как проблема сюжета» [3]. Здесь литературовед показывает актуальность проблемы смерти-концовки для всей истории культуры, которая представляется ему поэтапной «борьбой с концами». В сфере культуры первым этапом таковой борьбы является циклическая модель, господствующая в мифологическом и фольклорном сознании. Необходимость примирить недискретность бытия с дискретностью сознания и бессмертие природы со смертностью человека породила идею цикличности, а переход к линейному сознанию стимулировал образ смерти-возрождения. Отсюда вытекало мифологическое представление о возрождении состарившегося отца в молодом сыне и идея смертирождения. Показательным в этой связи является балладный сюжет о матери, отравляющей невестку, вместе с которой яд выпивает и сын. После смерти влюбленные возрождаются на своих могилах и предстают в образах деревьев (явар і бяроза, чырвона рожа і бела бяроза, чырвона каліна і горка рабіна, зялены дубок і бела бяроза). Герои баллады не противятся смерти, а спокойно ее принимают, ибо смерть воспринималась архаическим обществом не так, как нами. Нет пределов жизни и смерти, есть только их череда. Жизнь и смерть порождают друг друга: жизнь смертоносна, смерть витальна, а человек выступает опосредующим, связующим и гармонизирующим жизнь и смерть существом. По мнению О. М. Фрейденберг, «жизнь», «смерть», «снова жизнь» для первобытного сознания являются единым взаимнопронизанным образом. Поэтому 'умереть' значит на языке архаических метафор 'родить' и 'ожить', а 'ожить' – умереть (умертвить) и родить (родиться) [7, 89]. Именно поэтому мы видим мать, умерщвляющую сына: этим она дает ему бессмертие. Ведь смерть в сознании древнего человека является рождающим началом; земля-преисподняя есть земля-мать, из которой рождаются не одни растения, но животные и люди. Отсюда образ смерти как подательницы жизни и всякого плодородия. Всякий плод, будь он дитя или вегетация, есть непосредственное детище земли. Образ чудесной, рождающей смерти вызывает образ круговорота, в котором то, что погибает, вновь нарождается; рождение, да и смерть, служат формами вечной жизни, бессмертия, возврата из нового состояния в старое и из старого в новое; все умирающее возрождается в новом побеге, в приплоде, в детях. С этим представлением слито и другое: тождество человека и животного с растением: как вегетация, человеческая жизнь то быстро увядает, то снова цветет. Именно поэтому умирающие сын и невестка вновь оживают в образе деревьев. Следует отметить, мотив чудесного произрастания деревьев на могилах влюбленных является международным и достаточно древним по возникновению в балладах. Не случайно влюбленные предстают в образах деревьев. В представлениях об извечном переходе от жизни к смерти и от смерти к жизни, нескончаемой цепи перевоплощений, жизни душ умерших в потустороннем мире и возвращении их на землю в самых различных обликах существенная роль принадлежит идее мирового дерева. Мировое (космическое) дерево поддерживает небесный свод; корни его – в подземном мире, ствол – между землей и небом, ветви уходят в космический мир. Оно является также древом жизни, познания, бессмертия, местом пребывания богов и душ умерших. Изучение названий дерева у разных сибирских народов привело Л. Я. Штернберга к заключению, что в их основе находятся значения «путь», «дорога», т. е. оно связано с представлением о посреднике между мирами как средстве пути в мир предков и возвращения на землю. Все это позволяет понять истоки идей языческих славян о дереве как элементе приобщения к миру предков. Образ матери, отравляющей сына и невестку восходит к архетипу Матери, выделенному К. Юнгом [8]. Данный архетип обнаруживает практически безграничное разнообразие в своих проявлениях, из которых упомянем некоторые наиболее характерные. Первыми по важности являются мать, бабушка, мачеха, свекровь (теща); далее идет любая женщина, с которой человек состоит в каких-то отношениях, например, няня, гувернантка или отдаленная прародительница. Затем идут женщины, которых называют матерями в переносном смысле слова. К этой же категории принадлежат богини, особенно Богоматерь, Дева, София. Другие символы матери в переносном смысле присутствуют в вещах, выражающих цель страстного стремления к спасению: рай, царство божье, небесный Иерусалим, вызывающих набожность или чувство благоговения, таких как церковь, университет, город, страна, небо, земля, леса и моря (или какие-то другие воды), преисподняя и луна, или просто какой-то предмет, – все они могут быть материнскими символами. Этот архетип часто ассоциируется с местами или вещами, которые символизируют плодородие и изобилие: рог изобилия, вспаханное поле, сад. Он может быть связан со скалой, пещерой, деревом, весной, родником или с разнообразными сосудами, такими как купель для крещения, цветами, имеющими форму чаши (роза, лотос). Все эти символы могут иметь как позитивное, благоприятное значение, так и негативное, связанное злом. Следовательно, архетип Матери амбивалентен. С ним ассоциируются такие качества, как материнская забота и сочувствие, магическая власть женщины, мудрость и духовное возвышение, превосходящее пределы разума, любой полезный инстинкт или порыв, т. е все, что отличается добротой, заботливостью или поддержкой и способствует росту и плодородию. Мать – главенствующая фигура там, где происходит магическое превращение и воскрешение, а также в подземном мире с его обитателями. В негативном плане архетип матери может означать нечто тайное, загадочное, темное: бездну, мир мертвых, все поглощающее, искушающее и отравляющее, т. е. то, что вселяет ужас и что неизбежно, как судьба. Амбивалентность этих атрибутов выражается формулой «любящая и страшная мать». Именно в такой ипостаси предстает в белорусских балладах мать и свекровь. Материнская ревность, обида за безразличие к материнскому благословению и нежелание принимать в свою семью чужую девушку, возлюбленную сына, в духе психоанализа можно интерпретировать как реализацию Эдипова комплекса. Однако архетип матери содержит в себе стихийное, разрушительное начало, возвращающее все сущее к исходной точке. Поэтому в одном из вариантов баллады дети, возродившись к новой жизни в образе деревьев, вновь оказываются под влиянием матери (церковь – материнский символ): Ой, яны раслі, раслі, пахіліліся, Цераз цэркаўку сашчапіліся… Обычно в фольклоре не только люди говорят, но говорит небо, свет, солнце, звезды, говорит растительность, говорит вода и земля. Но «говорить» здесь означает «жить». Акт «реченья» есть акт осиленной смерти, побежденного мрака. Подобное значение «говорения» сохранилось в античной религии, в мифологии, в фольклоре. Так, древнейший Зевс вещает в шелесте листьев дуба, в плеске воды; вещает полет по небу птицы. Смерть в фольклоре означает молчание. Чтобы приобрести вещание, необходимо было спуститься в преисподнюю и выйти оттуда, т. е. проделать путь от смерти к жизни. Только после чуда-оживания после смерти в образах деревьев и птиц герои баллады вновь могут говорить и общаться. Подтверждение находим в белорусских балладах с мотивом чудаметаморфозы. Среди них одной из распространенных является «Дачкаптушка». Сюжет баллады следующий: мать отдает дочь далеко замуж и приказывает не бывать дома; дочь, превратившись в кукушку, возвращается в родительский дом; брат хочет убить кукушку из ружья, но мать не позволяет, узнав в птице свою родную дочь. Цярпела гадок, цярпела другі, Трэці не ўсцярпела, Ператварылась шэрай зязюляй, К дому паляцела… Представления о перевоплощении людей в птиц, растения и деревья прослеживаются у славян в сказках и балладах. Как известно, сказочный материал в этом аспекте разработан В. Я. Проппом. Относительно баллад П. В. Линтур пришел к следующему заключению: «Сказки, баллады, как один из самых архаических типов устного творчества, сочетая стихотворную и прозаическую форму художественного выражения, чаще всего развивают мотив метаморфозы, превращения человека в дерево или животное» [4, 178]. В данном сюжете также скрываются латентные смыслы образа смерти. Древние славяне отождествляли смерть с мраком, с холодом, но их разуму в явлении смерти нужно было открыть внутреннюю сторону и представить смерть материально, в каком-либо видимом образе. Видя быстроту, с какой смерть появлялась то там, то здесь, унося с собой новые и новые жертвы, предки часто представляли смерть в образе птицы [6, 40]. Следовательно, обернувшись птицей, соприкоснувшись со смертью и вновь ожив, героиня баллады обрела способность говорить: Села на бярозу, стала кукаваці Стала кукаваці, жалю надаваці, Каб пачула маці… То же наблюдаем и в балладе «Тры птушачкі ля забітага малойчыка»: Прыляцелі тры зязюлечкі. Адна села ў галовачцы, Другая села ў ножачках, Трэцяя села на сэрдайку. Што ў галовачцы – мамачка яго. Што ў ножачках – сястрыца яго. Што на сэрдайку – мілая яго. Мамачка плачыць – аж рэчанькі ідуць, Сястрыца плачыць – ручайкі бягуць. А мілая плачыць: “А што ж мне рабіць? А што ж мне рабіць, а з кім жа веку дажыць?” Образ сменяющих друг друга женщин, превратившихся в птиц, отсылает к древнему представлению о постоянной смене перевоплощений, на которой зиждется извечный кругооборот жизнь – смерть – жизнь, к причитаниям и плачам, в которых часты обращения к умершему с призывом возвратиться, «обернувшись перелетным ясным соколом», «белым голубочком», «сизой кукушечкой», «пташечкой». Отсюда не случаен в балладе образ птицы – символ души, воплощения духа умерших, характерный не только для индоевропейских народов. Свидетельством может служить название Млечного Пути «птичьей дорогой» наряду с названием «тропа душ» у различных народов Европы и Азии. В балладе о невестке, которую в отсутствие сына свекровь выгоняет из дому и заклинает стать деревом (тапалінай, рабінай, былінкай), проявление идеи чудесного перевоплощения сказывается наиболее выразительно в наделении объекта перевоплощения человеческими качествами. Это видно в сопоставлении частей дерева с частями тела убитого, в каплях крови, текущих из дерева. По сюжету данной баллады сын, вернувшись с войны, замечает необыкновенное дерево. Мать посылает сына срубить его, а дерево человеческим голосом раскрывает свою тайну: Вазьмі ў ручкі тапарочак, Да зрубі ты ў рабіначцы самы вяршочак. Секануў ѐн раз – цела бела, Секануў другі – кроў канула, Секануў трэці – слова молвіла: – За што, мой міленькі, так мяне караеш, Ці ты сваей роднай мамцы патураеш? Как видим, вновь героиня, соприкоснувшись со смертью и возродившись в виде дерева, обретает способность к общению. Драматизм и трагизм в балладе усиливается с помощью мотива чудесного узнавания, который восходит к эстетике сказочного творчества. В целом, метаморфозы как часть древних мифологических представлений, связанных с анимизмом, тотемизмом и другими верованиями, приобрели широкое распространение в балладах, со временем став поэтическим и художественным средством. К балладам с мотивом чуда относятся и те, в сюжете которых упоминается о пророческих, вещих снах. Сын у матулі ночку начаваў, Ночку начаваў, дзіўны сон відаў. – Устань, матуля, устань, дарагая, Ды разбяры ж ты гэты дзіўны сон… Сны в балладах обычно предсказывают потерю, смерть близкого человека. Реальное тесно переплетается с ирреальным, становится возможным взаимодействие с живой и неживой природой, с «тем светом». Действительно, в языческой картине мира чудесное актуализирует одну из основных особенностей архаического мышления: убежденность в том, что потусторонний мир и мир посюсторонний не разделены непреодолимой границей, а находятся в постоянном контакте. Вещие сны, оракулы, гадания, «предупреждения свыше» человек древности трактовал как соприкосновение с потусторонним миром, внимание божества, пославшего ему предупреждение. В балладах о вещих снах снова встречаем мотив смерти. Это не случайно, так как акт смерти, кроме мрака и холода, напоминал древним славянам и акт сна. Отсюда появляется воззрение, что смерть есть сон: У полі пры дарожаццы Малойчык убіт ляжыць, Над ім конік вараны стаіць, Капыцікам зямлю кроіць, Свайго пана паціху будзіць. – Ставай, пане, ужо досыць спаць, Ідзе войска незмерона, незлічона… Действительно, если смерть отождествлялась с мраком, то она должна отождествляться и со сном, в который погружает всю природу зимний мрак [6, 36]. Такое воззрение могло сложиться и под влиянием того, что сон неразлучен со временем ночи, а заснувший напоминает умершего: так же закрывает глаза и не воспринимает окружающий мир, как умерший. Указания на отождествление смерти со сном или веру в их близкую связь встречаем еще у греков. Так, Гомер в «Илиаде» называет Смерть и Сон близнецами, а Гесиод – чадами Ночи. Из того факта, что смерть древний человек представлял птицей, становится понятным, почему в вещих, пророческих снах появляется образ птицы: Ночку начаваў, дзіўны сон відаў, З левай падпахі арол вылятаў, А з правай рукі кальцо ўпала. Мамуля, устань, мой сон разгадай… Таким образом, мотив смерти в белорусских мифологических балладах закономерен. Анализ латентной семантики смерти вскрывает еѐ глубинные мифологические и психоаналитические смыслы. Смерть предстает как одно из семантических проявлений мотива чуда: чуда оживания и возрождения к новой жизни. Не случайно в «Повести о прении Живота со Смертию» (рукописный сборник с Синодиком из собрания Ф. И. Буслаева, 17 век) смерть называется «чудом» [6, 43]: Едет Аника через поле, Навстречу Анике едет чудо: Голова у него человеческа, Волосы у чуда до пояса, Тулово у чуда звериное А ноги у чуда лошадиныя. И это чудо говорит про себя: Я смерть страшна и грозна Вельми не померна. ПРИМЕЧАНИЯ *1. В статье использованы материалы жанрового архива учебно-научной лаборатории белорусского фольклора при кафедре теории литературы БГУ. ЛИТЕРАТУРА 1. Баладныя песні (балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філал. фак. / Р. М. Кавалева і інш.; пад рэд. Р. М. Кавалевай. Мінск, 2004. 2. Красильников, Р. Л. Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни анализа / Р. Л. Красильников. Вологда, 2007. 3. Лотман, Ю. М. Смерть как проблема сюжета / Ю. М. Лотман. // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. 4. Славянский фольклор. М., 1972. 5. Смирнов, Ю. И. Восточнославянские баллады и близкие им формы / Ю. И. Смирнов. М., 1988. 6. Соболев, А. Н. Мифология славян. Загробный мир по древнерусским представлениям / А. Н. Соболев. Санкт-Петербург, 1999. 7. Фрейденберг, О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг. М., 1997. 8. Юнг, К. Г. Душа и миф. Шесть архетипов / К. Г. Юнг. М., 1997.