электронная - Поволжский государственный университет
advertisement
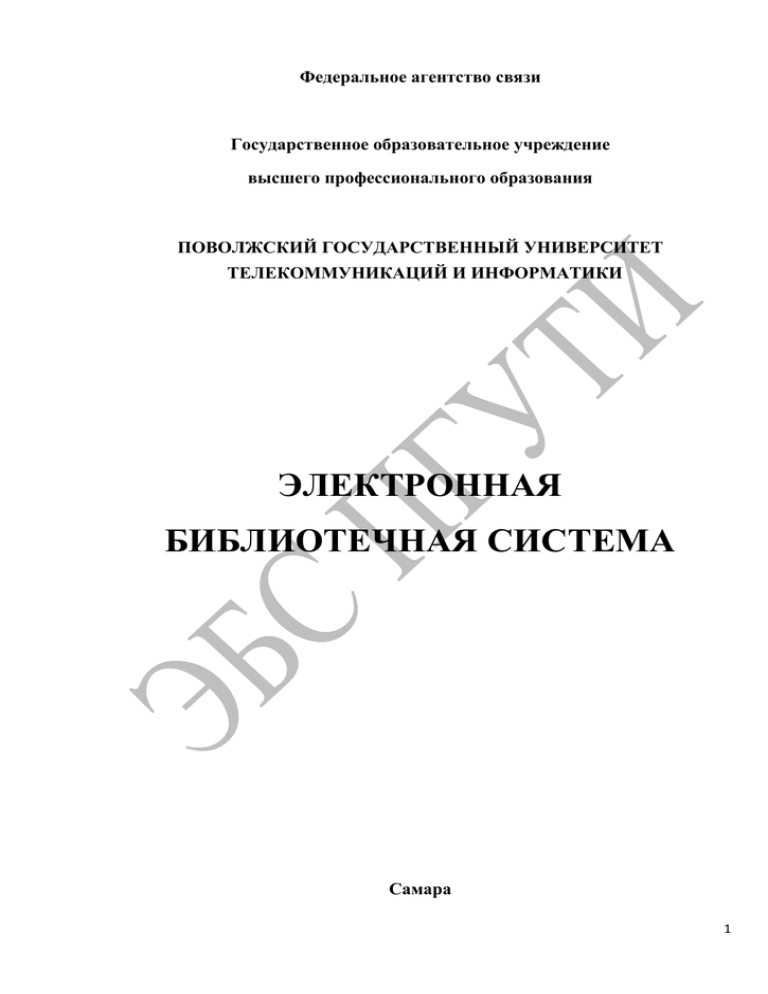
Федеральное агентство связи Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Самара 1 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики Г.А. Доброзракова Сергей Довлатов: диалог с классиками и современниками Монография Самара, 2011 2 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Рецензенты доктор филологических наук, профессор Надежда Борисовна Алдонина, Поволжская государственная социальногуманитарная академия; кандидат филологических наук, доцент Екатерина Сергеевна Шевченко, Самарский государственный университет Научный редактор доктор филологических наук, профессор Юрий Борисович Орлицкий, Российский государственный гуманитарный университет В монографии в контексте традиций русской литературы рассматриваются произведения раннего, зрелого и позднего периодов творчества С.Д. Довлатова. Прослеживаются многочисленные интертекстуальные связи довлатовской прозы с произведениями М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и с прозой современных русских авторов. Книга предназначена для преподавателей, студентов, широкого круга читателей. 3 Cодержание Введение ......................................................................... 5 Глава 1. Путь Сергея Довлатова к прозе..................... 9 1.1 Поэтическое творчество С. Довлатова.................. 9 1.2. Этапы творческой эволюции: авторская переделка рассказа «Человек, которого не было» ....................................................... 28 Глава 2. С. Довлатов и русская классическая литература XIX – XX веков 33 2.1. О природе смеха в прозе С. Довлатова .............. 33 2.2. Лермонтовский код автопсихологической прозы С. Довлатова 40 2.3. Рецепция Гоголя в творчестве С. Довлатова ..... 49 2.4. Тургеневские реминисценции в повести С. Довлатова «Филиал» 2.5. Достоевский в художественном сознании С. Довлатова 67 74 2.6. Чехов в прозе С. Довлатова................................. 90 2.7. Интертекстуальные связи повести С. Довлатова «Чемодан» с произведениями русской литературы XIX – XX веков 97 2.8. К вопросу о соединении русской и американской традиций в творчестве С. Довлатова ................................................................... 102 Глава 3. Диалог с современниками ......................... 108 3.1. Миф об Америке в творчестве В. Аксенова и С. Довлатова 108 3.2. Летопись «третьей волны»: перекличка произведений Гладилина, В. Аксенова ............................................ 120 С. Довлатова, А. 3.3. Интертекстуальные связи повести С. Довлатова «Филиал» с повестью А. Битова «Сад».............................................................. 125 3.4. Ориентация на приемы довлатовской поэтики в мемуаристике как форма манифестации мифа о Довлатове ............................ 129 3.5. Модели довлатовского мифа в кинодокументалистике 135 3.6. Проза С. Довлатова на сцене............................. 138 Заключение ................................................................ 150 Библиографические ссылки и примечания............. 153 4 Введение За 20 лет, прошедших после смерти С.Д. Довлатова (1941 – 1990), популярность писателя не идет на убыль, а, наоборот, возрастает. Довлатова читает современная молодежь, о чем свидетельствуют обсуждения его произведений в интернетовских блогах. В российских и зарубежных театрах по его книгам ставятся спектакли, которые идут с постоянным успехом. Довлатов стал героем документальных фильмов и художественных произведений. В современной литературе появились продолжатели довлатовских традиций. Это, прежде всего, писатели, на которых манера письма Довлатова оказала непосредственное влияние: М. Веллер, А. Генис1, Н. Толстая (лауреат премии имени С. Довлатова, учрежденной редакцией журнала «Звезда»), П. Санаев, Е. Гришковец, А. Аствацатуров. Так, Е. Гришковец признается, что «очень захотел сделать такой знак любви – написать поклон Довлатову. Им стал сборник рассказов ―Следы на мне‖. Я впервые взялся за непосредственную автобиографию с совершенно конкретными именами, фамилиями, городами… <…> …Вся книга ―Следы на мне‖ – это мой диалог с Довлатовым»2. Кроме того, появились многочисленные мемуаристы, которые в своих воспоминаниях о Довлатове, опираясь на его художественные достижения и используя его любимый жанр литературного анекдота, подражают Довлатову. Необходимо отметить, что довлатовский миф, бытующий в русской литературе и средствах массовой информации и сопровождающийся ритуалами почитания объекта культового поклонения, каковым стал Довлатов после своей смерти, развивается по нарастающей. Так, в 2006 г. в районной библиотеке Пушкинских Гор не было ни одной книги Довлатова – автора повести «Заповедник» – и имя его даже не упоминалось в вышедшем в 2003 г. I томе энциклопедии «Михайловское» (хотя к тому времени переводы произведений Довлатова были известны читателям многих стран мира, а самого автора литературоведы причисляли к незаурядным представителям философско-юмористической прозы середины XX века3). Зато к 70-летию со дня рождения писателя, которое будет отмечаться 3 сентября 2011 г., намечается открытие музея Довлатова в селе Березино Пушкиногорского района Псковской области, в доме, где писатель жил в1976 – 1977 гг., работая экскурсоводом4. К юбилею писателя Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» планирует создать специальный экскурсионный довлатовский маршрут, а в помещении бывшего Пушкиногорского экскурсионного бюро разместить литературную экспозицию, посвященную Довлатову5. Рассматривается вопрос об увековечивании памяти писателя в Уфе – в городе, где он родился6. Готовится большой литературный праздник в честь Довлатова в Таллинне7. Что касается научных исследований, то за последние десять лет написано около двадцати диссертаций, посвященных особенностям языка, стиля, поэтики, жанра произведений писателя. Анализ индивидуальных черт творческой манеры Довлатова сопровождается выявлением в его прозе традиций русской классической литературы. Наиболее полно исследованы в творчестве Довлатова пушкинские традиции. Первым, кто обозначил тему «Пушкин – Довлатов», был А. Генис, который в докладе «Пушкин и Довлатов», сделанном на Первой 5 международной конференции памяти С. Довлатова, проведенной в 1998 г. в Петербурге, заявил, что именно Пушкин является ключом к пониманию Довлатова8. В дальнейшем эта тема разрабатывалась в диссертациях Ю.Е. Власовой «Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова»9 (2001), Ж.Ю. Мотыгиной «С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция поэтики»10 (2001), К.Г. Дочевой «Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова»11 (2004), И.З. Вейсман «Ленинградский текст Сергея Довлатова»12 (2005). В течение последних трех лет довлатоведение пополнилось новыми научными работами, затрагивающими вопросы о наследовании Довлатовым традиций отечественной классики: эти вопросы поднимает А.Г. Плотникова в диссертации «Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д. Довлатова» (2008) и Ким Хен Чон в диссертации «Книга С.Д. Довлатова ―Наши‖ и традиция семейного романа» (2009). Обратимся к подробному анализу тех разделов указанных диссертаций, которые соприкасаются с темой нашего исследования. Рассматривая творчество Довлатова в контексте традиций русских писателей XIX в. – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, – А.Г. Плотникова делает вывод: «Сергей Довлатов осознавал себя продолжателем эстетической линии литературы, полемически отталкиваясь от дидактической роли литературы, ориентируясь прежде всего на ―изящную словесность‖, на искусство слова. Произведения писателя с подобной творческой концепцией отличаются неявной или сознательно скрытой авторской позицией, обусловленной лишь внутренней логикой их характеров»13, что было характерно для прозы Пушкина и Чехова. Не случайно наиболее подробно в диссертации проанализирована связь творчества Довлатова с чеховскими традициями. А.Г. Плотникова считает – и это совершенно справедливо, – что Довлатова объединяет с Чеховым, прежде всего, «особое уважение к специфической природе искусства и нежелание навязывать художественному произведению задачи, свойственные иным областям духовной деятельности человека»14 (слова Э.А. Полоцкой о связи художественной деятельности Чехова и Пушкина). Во-вторых, в качестве отличительной черты художественного мировоззрения Чехова и Довлатова Плотникова называет их пристальное внимание к языку. В-третьих, отмечается, что «для Довлатова, как и для Чехова, характерно сочетание элементов различных родов литературы: эпоса, лирики и драмы»15 (вопросу о взаимодействии поэзии и прозы в творчестве Довлатова автор посвящает отдельный параграф, однако детального анализа того, как взаимодействует довлатовская проза с драмой, нет). В-пятых, ряд сходств в творчестве С. Довлатова и А.П. Чехова автор диссертации связывает «с абсолютным началом и абсолютным концом произведения (буквально – с первым и последним предложением), часто имеющими определяющее значение. Оба писателя как бы извлекают фрагмент из жизни, избегают долгих зачинов. Первые фразы их произведений выглядят как слова из середины»16. И наконец, как одну из основных общих черт поэтики А.П. Чехова и С. Довлатова А.Г. Плотникова выделяет подтекст, выражающийся «несколькими основными 6 формами: деталь, символ, повторение, несоответствие»17 (проявление подтекста через интертекст автор диссертации не исследует). В параграфе, посвященном значению творчества Н.В. Гоголя для Довлатова-художника, лишь фиксируются и комментируются высказывания о Гоголе из довлатовских выступлений и его художественной прозы. А.Г. Плотникова отмечает, что при «сравнении» себя с Гоголем (в произведениях «Ремесло» и «Марш одиноких») Довлатов обнаруживает «стремление обозначить высокий ориентир»18, к которому он хотел приблизиться. Автор диссертационного исследования приходит к выводу, что для Довлатова было «неизмеримо важнее гоголевское мастерство бытописателя и тонкого юмориста, чем его нравственные проповеди», и что писатель «наследует великий тип героя (―маленького человека‖) в русской литературе, одним из родоначальников которого был Гоголь»19. Сопоставляя творчество Достоевского и Довлатова, А.Г. Плотникова говорит о сходстве писателей в области темы: «Достоевский – зачинатель традиции русской тюремной прозы, Довлатов – ее реформатор и один из последних ее творцов. ―Зона‖ стала первым значительным произведением Довлатова, его ―последний‖ рассказ ―Старый петух, запеченный в глине‖ тоже связан с лагерной темой»20. Проявление литературной традиции А.Г. Плотникова находит в жанровом сходстве «Записок из Мертвого дома» и «Зоны», в сюжетных перекличках (однако автор диссертации называет лишь такое соответствие, как празднование Рождества у Достоевского и концерт по случаю годовщины Октябрьской революции у Довлатова, не отмечая других многочисленных перекличек в сюжете), в описании тюремного языка, в сочувственном авторском отношении к своим героям, даже самым недостойным. Исследователь обращает внимание на то, что «смеховая стихия Достоевского и Довлатова имеет множество точек соприкосновения»21, однако конкретного сопоставления специфики юмора этих писателей не предпринимается, и эта параллель в творчестве Довлатова и его предшественника остается неисследованной. Южнокорейский довлатовед Ким Хен Чон, рассматривая в своей диссертации структуру книги С. Довлатова «Наши» на фоне русской традиции семейного романа, сопоставляет довлатовское произведение с романами Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Н. Федоровой «Семья» и В. Пановой «Времена года». Продолжение толстовской традиции автор диссертации усматривает в том, что «художественная установка произведений [«Анна Каренина» Л.Н. Толстого и «Наши» С. Довлатова] во многом совпадает: история семьи как история общества (светского общества 1870-х годов и советского общества 1980-х годов)»22. Несомненно, указанные исследования вносят в довлатоведение существенный вклад. Однако обращение к изучению творческого наследия Довлатова до сих пор остается актуальным, поскольку не изучены еще ранние этапы его писательской деятельности, не выявлены до конца элементы довлатовской поэтики – как новаторские, так и восходящие к русской классической традиции, не рассмотрены в полной мере интертекстуальные связи его произведений с произведениями классиков и современных ему авторов. 7 В предлагаемой читателям монографии «Сергей Довлатов: диалог с классиками и современниками» продолжено начатое в нашей предыдущей работе – «Мифы Довлатова и мифы о Довлатове: проблемы морфологии и стилистики» – исследование творчества С.Д. Довлатова в русле традиций русской литературы XIX – XX веков и рассмотрение моделей довлатовского мифа, функционирующих в СМИ и мемуаристике. Если первая монография была посвящена преемственности Довлатова по отношению к художественному опыту А.С. Пушкина, то в настоящей работе выявляются связи автопсихологической прозы Довлатова с творчеством М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. Кроме того, исследуется влияние на творчество Довлатова поэзии Н. Олейникова, рассматривается интертекстуальная перекличка довлатовских произведений с произведениями современных писателей. Первая глава монографии посвящена малоизученному в довлатоведении раннему (до эмиграции в 1978 г.) творчеству Довлатова. В первом параграфе анализируются стихотворные опыты писателя, их связь с литературной традицией, прослеживается влияние поэтического творчества Довлатова на его прозу, отмечаются характерные для его прозы элементы стихового начала. Во втором параграфе первой главы восстанавливается история авторской переделки раннего довлатовского рассказа для детей «Человек, которого не было» в драму «Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана», проводится сопоставительный анализ этих одноименных произведений, помогающий выявить эволюцию литературного мастерства автора. Во второй главе исследуются элементы довлатовской поэтики, которые восходят к лучшим образцам русской классической литературы XIX века; рассматривается (на уровне приемов поэтики) влияние русской классики на художественное сознание Довлатова. Выявляются интертекстуальные связи прозы Довлатова с такими произведениями, как «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя, «Дым» И.С. Тургенева, «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского. В третьей главе исследуются параллели между прозой Довлатова и современных ему авторов: А. Битова, В. Аксенова, А. Гладилина. В четвертом и пятом параграфах третьей главы значительное место уделено рассмотрению моделей довлатовского мифа, бытующего на страницах мемуарной литературы о Довлатове и в средствах массовой информации, в том числе таком жанре телевидения, как документальном кино. Последний параграф посвящен вопросам театральности довлатовской прозы и инсценировкам по книгам Довлатова. 8 Глава 1. Путь Сергея Довлатова к прозе 1.1 Поэтическое творчество С. Довлатова Поэтическое творчество Сергея Довлатова знакомо далеко не всем читателям и в научных работах литературоведов практически не исследовано. Отчасти это объясняется тем, что стихотворения Довлатова отдельным изданием не выходили и с ними можно познакомиться лишь по его эпистолярному наследию и по мемуаристике, включающей довлатовские экспромты, воспроизводимые друзьями и близкими писателя обычно по памяти. Исключение составляет диссертация А.Г. Плотниковой «Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д. Довлатова» (2008), в которой автор, кратко рассматривая стихотворные произведения Довлатова, совершенно справедливо указывает на то, что поэтический опыт писателя не пропал бесследно, сумев реализоваться в его прозе, и проявилось это в использовании им при создании прозаических произведений законов поэтической речи. «Во-первых, – отмечает А.Г. Плотникова, – это концентрация смысла в рамках наиболее сжатого фрагмента текста, невозможность изменить фразу без ущерба смысла и стиля. Во-вторых, в художественной прозе Довлатова последовательно реализуется принцип эвфонии. Втретьих, в текстах Сергея Довлатова проявляется особая ритмическая организация прозы, а также использование в прозе преимущественно поэтических приемов: анафоры, эпифоры и др.»23. Однако выводы, к которым приходит в своей диссертационной работе А.Г. Плотникова, не кажутся нам достаточно полными и новыми. Вспомним, что одним из первых мысль о том, что довлатовские прозаические произведения «написаны как стихотворения»24, в своем эссе, написанном через год после смерти Довлатова, высказал И. Бродский. О «похожести» довлатовской прозы на стихи и о проявлении в ней различных элементов стихового начала, не всегда, правда, объясняя истоки этого явления, стали писать впоследствии критики и литературоведы. Так, И. Сухих отмечает, что «стилистическими аналогами» прозы Довлатова «будут Пушкин, Мандельштам или Кушнер» – «это проза выделенного слова, четких контуров, ровного дыхания, размеренной и спокойной интонации»25. С. Иванова называет довлатовского героя «лирическим», как если бы речь шла о стихах26. «Строением прозы по законам стиха» объясняет В. Куллэ такие особенности довлатовской прозы, «как бесконечно варьирующиеся, повторяющиеся из произведения в произведение сюжеты, зарисовки, персонажи-маски…»27. Автор монографии «Творческая индивидуальность Сергея Довлатова»28 Ж.Ю. Мотыгина обращает внимание на поэтические черты ранних рассказов Довлатова. Ю.Б. Орлицкий в статьях, посвященных прозе «третьей волны», пишет о стиховом начале в довлатовских произведениях зрелого периода29. Таким образом, в довлатоведении подготовлена почва для более исчерпывающего, чем это сделано в диссертации А.Г. Плотниковой, изучения стихотворного наследия писателя и исследования того, какое влияние оказало поэтическое творчество Довлатова на его прозу. Обращение не только к проблеме стихового начала в прозе Довлатова, но и непосредственно к анализу стихов Довлатова диктуется, прежде всего, необ9 ходимостью развеять миф о том, что «природа довлатовского таланта – и довлатовского успеха – с трудом поддается определению»30 (Т. Толстая), доказать с опорой на факты, что элементы поэтики Довлатова-прозаика явились на основе его тщательной и длительной работы над поэтическим словом в юношеском возрасте, когда начинающий автор, колеблясь в выборе творческого пути, отдавал предпочтение поэзии. Интересно также проследить, как в стихотворных произведениях, с которых начиналось творчество Довлатова, отразились темы, мотивы и образы его будущих рассказов и повестей. Кроме того, если второй (1970 – 1986) и третий (1986 – 1990) периоды довлатовского творчества31 в какой-то степени изучены, то в изучении первого периода (до 1970 г.), куда вошел и этап ученичества, наблюдаются пробелы, что, скорее всего, связано с запретом самого Довлатова обнародовать произведения, созданные им при жизни в Советском Союзе. Полагаем, что без исследования характера поэтического творчества, которым писатель занимался в большей степени в ученический период, а иногда и в последующие годы, невозможно представить процесс становления творческой манеры Довлатова. Цель этого параграфа – дать, прежде всего, целостное представление о поэтических опытах прозаика Довлатова; рассмотреть стихотворные «упражнения» писателя в процессе формирования и эволюции его эстетических принципов; проанализировать влияние на довлатовское творчество стихов Н. Олейникова; исследовать, каким образом стихотворчество Довлатова сказалось на жанровой специфике и поэтике его прозы. Одаренный различными способностями (отлично рисовал, обладал исключительной артистичностью), Довлатов с детства сочинял стихи. Об этом пишет в воспоминаниях его отец Донат Мечик32. О своих первых поэтических опытах Довлатов упоминает в автопсихологической прозе: «1952 год. Я отсылаю в газету ―Ленинские искры‖ четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три – про животных…»33 (глава «Начало» из повести «Ремесло»); «В 54-м году я стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов… Премии нам вручал Самуил Яковлевич Маршак» [повесть «Наши» (2; 322)]. Текст одного из довлатовских стихотворений, написанного им в детском возрасте в духе являвшейся непременной для творчества того времени партийной идеологии и в то же время с явной иронией, воспроизводится в воспоминаниях А. Черкасова: «К коммунизму быстро мчусь: / И работаю, учусь, / Как велел на этот счет / Наш отец эН. эС. Хрущев»34. В памяти своих друзей и одноклассников Довлатов остался автором шутливых, комических стихотворений. По воспоминаниям А. Нахимовского, Довлатов (в школе он носил фамилию Мечик) участвовал в оформлении классной стенгазеты. «Однажды там поместили Сережин шарж на старосту нашего класса, достаточно пассивного в своей должности. Подпись гласила: ―Лет до ста расти нам без старосты!‖»35. Иронического звучания автор шаржа добивается, прибегая к парафразированию известных строк В. Маяковского. Еще один образец языкового юмора Довлатова приводит друг детства и юности Дм. Дмитриев: «В техникуме мне поручили заведовать стенгазетой, и я часто обращался к Сереже за помощью. Учился со мной один парень по фамилии Вакульчук, он курил сигареты с мундштуком и был чем-то на Чаплина похож: малень10 кий, с усиками… Собирал в перерывах деньги со студентов и бежал за угол покупать им пирожки, а сдачу оставлял себе за ―работу‖. Я о нем рассказал Сереге, он посидел, подумал и написал такой стих: Вставив в рот большой мундштук, Рассуждает Вакульчук: «Если мелкими шажками Побегу за пирожками И со всей огромной группы Соберу оброк некрупный, То куплю автомобиль! Будет сказки лучше быль! И на ―Волге‖ иль ―Победе‖ Я на практику приеду!» Вот что думал Вакульчук, Вставив в рот большой мундштук. Вакульчук тогда на это страшно обиделся»36. Стихотворение, высмеивающее скупость, излишнюю предприимчивость Вакульчука, построено на антитезе («большой мундштук» – «мелкие шажки», «огромная группа» – «оброк некрупный», «сказка» – «быль»), имеет кольцевую композицию и содержит афористическую «вставку»: «Будет сказки лучше быль!», – отсылающую к словам из марша сталинской авиации «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» (стихи поэта П. Германа), что привносит в короткое произведение дополнительное – ироническое – значение, делает его многозначным37. Дм. Дмитриев же приводит и текст эпиграммы, написанной Довлатовым на одного из «университетских поэтов»: Твой стих хотели мы забыть, Ты ж прозой нас уже тревожишь! Поэтом можешь ты не быть, Но быть писателем – не можешь!38 Ко второй половине XX века русская эпиграмма (короткое лирическое стихотворение, от 1 – 2-х до 8 –12 строк, с остроумной, порой афористической концовкой – пуантом), активно развиваясь с конца XVII века, имела свою длительную историю и традиции. Приведенная выше довлатовская юношеская эпиграмма написана вполне в духе русской традиции и носит характер литературной полемики. Известные стихотворные строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан», – с помощью парафразирования начинают играть роль пуанта. Такие эпиграммы, в которых «перепевы» известных стихотворений русских классиков способствовали созданию острых пуантов, вызывающих двойные ассоциации, были нередки в истории отечественной литературы и обычно имели успех. Например, В.С. Курочкин использовал заключительное четверостишие стихотворения Лермонтова «Не верь себе, мечтатель молодой…» в эпиграмме на Каткова – в сатирических стихах Курочкина парафразирование произведений русской поэзии с использованием их 11 размеров, своеобразия рифмовки, строфики, а в некоторых случаях и с включением целых стихов было излюбленным приемом39. Довлатов оценивал критически не только чужое творчество, но и свое, поэтому необходимо вспомнить об автоэпиграмме, написанной им после того, как в журнале «Юность» (1974, № 6) был опубликован довлатовский рассказ «Интервью» на производственную тему. Здесь же была помещена фотография автора. На этот опыт в жанре советской литературы Довлатов отозвался так: «Портрет хорош, годится для кино, / Но текст – беспрецедентное говно»40. Интересный образец вкрапления эпиграммы в элегическое стихотворение – экспромт Довлатова, относящийся к началу 1960-х годов, – опубликовала в мемуарной книге «Когда случилось петь С.Д. и мне» первая жена писателя Ася Пекуровская: Безмолвно по бульвару Одна гуляет пара. И кавалера мучает вопрос: Нет денежки хрустящей Для девушки курящей Купить хотя бы пачку папирос. Она краса-девица, Что можно удавиться, А если уж влюбиться, так навек. Он парень был не промах, Спросите у знакомых, А главное – хороший человек. На это все Манюня Глядел, роняя слюни, Манюня был решительный еврей… С сигарою в кармане, С жасмином в талисмане, Смердел точь-в-точь как старый лук-порей. Гуляя по бульвару, Стихи читала пара, Я строки эти в памяти храню… Манюня ж был в старанье, Чтоб с нею в ресторане Щека к щеке зачитывать меню. Она сказала: «Папа, На вас пальто и шляпа, На вас костюм и модные носки, Но я люблю поэтов, 12 Желательно брюнетов. И вы мне удивительно мерзки». И снова по бульвару Одна гуляет пара. И кавалера мучает вопрос: Нет денежки хрустящей Для девушки курящей Купить хотя бы пачку папирос41. В стихотворении звучат напевы городского песенного фольклора – популярных в 60-е гг. «песенок» «Крокодила» («По улицам ходила / Большая крокодила. / Она, она голодная была»42) и «Цыпленок жареный, цыпленок пареный…» (в одном из вариантов этой песенки есть слова: «Была бы шляпа, / Пальто из драпа, / А к ним живот и голова, / Была бы водка, А к водке глотка, / Все остальное трын-трава»43) с их «гастрономической» темой и ироническими интонациями. И это не случайно: в раннем стихотворении уже слышится один из постоянных мотивов довлатовской прозы – мотив бедности влюбленного молодого человека, а вместе с этим мотивом появляются знакомые по прозаическим произведениям образы автопсихологического двойника и Манюни. (Как явствует из воспоминаний Пекуровской, «Манюня» было прозвище, данное одному из ее ухажеров – Фиме Койсману, преуспевавшему в то время адвокату44.) В главе «Приличный двубортный костюм» из повести «Чемодан», где рассказывается о том, как редакция газеты купила неимущему журналисту Довлатову импортный костюм, писатель «превращает» адвоката Манюню из мужчины в женщину: «Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая Манюня Хлопина твердила: – Да пригласи же ты меня в ресторан! Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь! Мне приходилось вяло оправдываться: – Я ведь и не живу с тобой. – А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача – ―Щедрый гектар‖! А твоя? – А моя – ―Есть ли жизнь на других планетах?‖ – Не думаю, вздыхала Хлопина, – и здесь-то жизнь собачья…» (3; 327). Так, создав полный иронии текст, Довлатов возвращается одновременно с воспоминанием о Манюне к «ресторанной» теме, которая, по словам Пекуровской, являлась «ностальгической темой времен далекой юности»45. И возвращение к этой теме в повести «Чемодан» закономерно, потому что именно повесть «Чемодан» связана автоинтертекстуальными связями со всеми написанными до нее и после нее произведениями Довлатова, героем которых является автопсихологический двойник писателя (Алиханов – Довлатов – Далматов), а глава «Креповые финские носки» из «Чемодана» отсылает читателя к истории драматичной любви Довлатова и Аси Пекуровской, изображенной в повести «Филиал». 13 Особого внимания заслуживают армейские стихи Довлатова, написанные за период с конца июля 1962 г. по осень 1963 г., которые стали доступны читателям после публикации довлатовских писем к отцу, частично напечатанных в журнале «Звезда» в 1998 г. и – в более полном объеме (семьдесят четыре письма, содержащих около шестидесяти стихотворений) – в сборнике «Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям» (2003). Письма Довлатова из армии представляют собой образец смыслового взаимодействия эпистолярной прозы и стихотворных текстов. Эти письма интересны в том отношении, что в них раскрывается лаборатория довлатовского творчества: прослеживаются творческие планы, комментируются собственные стихи, излагаются мотивы, побудившие автора написать произведения. Переписка с родными и друзьями, а главное, стихотворные опыты помогают Довлатову пережить тяжелый период службы в конвойных войсках (1962 – 1965) и определить дальнейший жизненный путь. «Стихи очень спасают меня, Донат. Я не знаю, что бы я делал без них»46, – сообщал он. В письмах, обращенных к Д. Мечику осенью 1962 г., двадцатиоднолетний автор рассказывает, что сочиняет по одному стихотворению в два дня, т.к. «довольно нагло решил смотреть вперед» (с. 39), делая «заготовки» для будущей работы. В его планах было после отбора и переделки стихов через три года их напечатать. Кроме того, он мечтал о том, «чтоб написать хорошую повесть, куда, впрочем, могут войти кое-какие стихи» (с. 39). «Я… не рассчитываю стать настоящим писателем… Но я хочу усердием и кропотливым трудом добиться того, чтоб за мои стихи и рассказы платили деньги…» (с. 59), – писал Довлатов отцу. Выполняя обязанности то редактора ротной газеты, то заведующего батальонной библиотекой, став автором стихов и песен, которые приобрели популярность среди его армейских друзей, Довлатов размышляет над тем, какими качествами должны обладать стихи, предназначенные для массового читателя: «…Я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, иначе даже такие Гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном счете, остаются беспомощны и бесполезны… а Слуцкий или Евтушенко становятся нужными и любимыми писателями…» (с. 39). Однако писать так, чтобы стихи полностью отвечали собственным запросам и вкусам, получалось не всегда: «Стихи пишутся очень трудно» (с. 74), – сетовал Довлатов; многие стихотворные произведения оставались незавершенными. В письмах отражается процесс работы автора над рифмой: «Делаю огромные усилия, чтобы не рифмовать: карусель-карасей, т.к. стих ―глубоко философский‖, и хочется, чтоб рифмы не перли в глаза»47; «…я понял, что стихи сочиняются двумя способами. 1. Это когда поэтическая мысль идет вслед за словом, т.е. вслед за удачной рифмой, за звучной строкой, за ритмически удавшимся моментом. Такие стихи обычно беднее мыслью, но написаны художественней и производят лучшее впечатление. Мне кажется, что большинство стихов пишутся так. У меня, во всяком случае. Но бывает, что вначале складывается в голове рациональная мысль… Такие стихи неимоверно трудно рифмовать» (с. 81). 14 Замысел Довлатова ввести свои армейские стихи в ткань прозаического повествования в дальнейшем осуществился: в повесть «Зона», рассказывающую о службе в ВОХРе, писатель включил собственные стихотворные фрагменты. Это незначительно переделанная заключительная строфа из стихотворения «Дамское танго» (в повести Довлатов адресует авторство одесскому поэту, впоследствии эмигранту, Л. Маку), которая контрастирует с прозаическим текстом и выражает эмоциональное отношение автора к героине: …Видно, я тут не совсем кстати… Патефон давно затих, шепчет… Лучше вальса подождем, Катя, Мне его не танцевать легче… (2; 85). Стихотворения, написанные в армейский период, на тематическом и мотивном уровнях перекликаются не только с посвященной этому периоду повестью «Зона» (тема лагерного быта, мотив пьянства), но и с другими довлатовскими прозаическими произведениями. Так, в шуточном стихотворении о Дантесе (1962), в которое Довлатов, по его словам, «хотел… вложить смысл, пусть озорной, но все же разумный», уже отражено стремление взглянуть на всем известные факты остраненным взглядом, выражена одна из основных идей повести «Заповедник» (1983) о том, что Пушкин – не только культовая персона и не только вдохновенная творческая личность, но и простой смертный человек. [Во время экскурсии по Пушкинскому заповеднику автопсихологический герой повести Алиханов рассказывал «о маленьком гениальном человеке, в котором так легко уживались Бог и дьявол. Который высоко парил, но стал жертвой обыкновенного земного чувства. Который создавал шедевры, а погиб героем второстепенной беллетристики» (2; 232).] Дантес фон Геккерен, Конечно, был поддонком. Тогда на кой же хрен Известен он потомкам. Французик молодой Был просто очарован Пикантной полнотой Натальи Гончаровой. Он с ней плясал кадриль, Купался в волнах вальса. А Пушкин, тот хандрил, Поскольку волновался. Поэту надоел Прилипчивый повеса, Он вызвал на дуэль 15 Несчастного Дантеса. А тот и не читал Его стихотворений, Не знал он ни черта Про то, что Пушкин – гений. Поэт стрелял второй, Пошла Дантесу пруха. Устукал мой герой Ревнивого супруга. Откуда мог он знать, Что дураки и дуры Когда-то будут звать Его врагом культуры (с. 63 – 64). Стихотворение «На тему о любви» с посвящением Асе предваряет одну из сюжетных линий повести «Филиал» (1989), раскрывающих сложность и неоднозначность отношений героя с любимой женщиной: Будь вокзал тот единственным в жизни вокзалом, А перрон, как трибуна, последним твоим рубежом, Я б пошел за тобой озорным скоморохом базарным, Промышляя красивые вещи тебе грабежом. Я баюкал ладони твои в своих огрубевших ладонях, И Варшавский вокзал был, как церковь, угрюм и суров. Жизнь моя лишь дорога, вернее, погоня Мимо сонных улыбок влюбленных в тебя фраеров. Может, песня моя прочих песен была незаметней. Может, сердце мое слишком громко стучит по ночам. Все равно я доволен отслуженной мною обедней, И одно остается, едри ее в душу, – печаль. Я стоял на дощатом перроне, свисток паровозный, как выстрел. И слова, я поверил им, этим последним словам, И запомнил тот вечер, до последней отрывистой мысли, И запомнил те руки, которым я след от кольца целовал (с. 21). Армейские стихи связаны между собой, прежде всего, единым лирическим героем, близким к автопсихологическому герою довлатовской прозы, которому в размышлениях о вечных проблемах – о смысле жизни, о любви – были свойственны философичность и ироничность одновременно: 16 Я вспоминаю о прошедшем, Детали в памяти храня: Не только я влюблялся в женщин – Влюблялись все же и в меня. Получше были и похуже – Терялись в сутолоке дней, Но чем-то все они похожи, Неравнодушные ко мне. Однажды я валялся в поле, Травинку кислую жуя. И, наконец, представьте, понял, Что сходство между ними – я (с. 56 – 57). В стихотворении «Равнодушие» уже проявляется парадоксальность довлатовской мысли и способность выразить эту парадоксальность словесно: Да, можно скрыть и ненависть, и нежность, И зависть черную, и даже тяжкий гнев, Но равнодушие всегда заметно мне, И скрыть его попытки безуспешны. Когда ты исчезаешь зыбкой тенью, Когда стихает легких платьев шум, Я мести, словно милости прошу, И ненависти жду, как снисхожденья (с. 72 – 73). [О постоянной рефлексии по поводу понятий «любовь» – «равнодушие» – «ненависть» свидетельствуют и «Записные книжки» Довлатова: «Противоположность любви – не отвращение. И даже не равнодушие. А ложь. Соответственно, антитеза ненависти – правда» (4; 195).] В стихотворении «Погоня (веселая песенка)», как отмечает В. Хаит, чувствуется умение автора «сочетать трагедию с иронией, прятать трагедию за иронией… Легкий танцующий ритм стихотворения не вполне соответствует его довольно-таки невеселому содержанию. Отсюда и необходимость подзаголовка48». А след по снегу катится, Как по листу строка. И смерть висит, как капелька На кончике штыка. Под ветром лес качается, 17 И понимает лес, Что там, где след кончается, Сосновый будет крест. А снег сверкает кафелем, Дорога далека. И смерть висит, как капелька На кончике штыка (с. 18 – 19). Именно в «зоне» к Довлатову приходит понимание того, что истина не бывает однозначной: республика Коми – одна из «добродушных» автономных социалистических республик, но она, кроме того, и «концлагерь» (с. 35); жизнь в тайге – не только романтика и красота природы, но и тяжелые будни, экзамен на выживание; отношение к женщине в лагере – трепетно-нежное и в то же время цинично-жестокое. Стремление к изображению жизни такой, «какая она есть», в ее «диалектической антиномичности», проявляется уже в армейских стихах – впоследствии одним из основных принципов Довлатова-прозаика станет принцип объективного повествования. Весной 2005 г. на сайте www.politikhall.com/showtext.php… был опубликован материал Г. Шикирявой, рассказывающей об истории романтических отношений Довлатова со Светланой Меньшиковой, с которой Довлатов вел переписку из армии. На сайте помещены отрывки из довлатовских писем с включенными в них стихами и размышлениями автора о поэзии: «…О стихах. Я не очень люблю возвышенный тон. Мне гораздо ближе нарочито грубоватые стихи, нарочито простые, нарочито бесцветные. Есть в Москве такой поэт Б.А. Слуцкий. Вот кого я уважаю. Как-нибудь о нем напишу. Мне пришлось быть на встрече молодых авторов с А.А. Ахматовой. Я был растерян и читал не то, что следовало. Анна Андреевна назвала меня ―ломовым архангелом‖ и сказала: ―Вас очень долго не будут печатать, потому что вы серьезно злы на свою страну‖. Я опять растерялся и, как идиот, молчал. Но одно стихотворение она все-таки попросила на память и уверяла, что нравится, вероятно, чтоб меня не обидеть»49. Некоторые стихи, написанные в период армейской службы, Довлатов отправлял в редакции газет. Например, стихотворение «Солдатские письма» было опубликовано в газете Коми «Красное знамя» (автор получил за него пять рублей): Солдаты пишут письма наугад Далеким незнакомым девушкам, Волнуются, боятся напугать И ждут ответа, только где уж там… Им эти письма кажутся загадкою. Любимая моя, а может быть, Тебе придет такое же, 18 солдатское… Ответь ему, как отвечаешь мне, Ответь ему, пускай солдат утешится, И помни, что в любом таком письме Частица есть моей любви и нежности50. Отдельного разговора заслуживают стихи Довлатова для детей. Среди его армейских писем есть письмо, адресованное младшей сестре – пятилетней Ксане Мечик, – в стихах (с довлатовскими же иллюстрациями к ним): Дорогая Кси-Кся-Ксю, Я люблю тебя вовсю И пишу тебе в стихах О различных пустяках. Например: вот это слон, Он чудовищно силен, На макушке у слона Пририсована луна. Ведь известно, что слоны Ростом чуть не до луны. А вот это будет лев, Он заснул, кого-то съев. Заяц белый, заяц белый, Расскажи, куда ты бегал? Он боится всех зверят. «Трус», – про зайца говорят. Тигр хочет скушать зайца. Наказать его, мерзавца!!! Отвратительного тигра Участь грустная постигла. (Здесь рядом со стихами Довлатов на рисунке изобразил, как слон отбрасывает в сторону крадущегося к зайцу тигра. – Г. Д.) Хороша собой лисица, С этим как не согласиться, Но важнее красоты Ум. А как считаешь ты? Вот собака, умный зверь, Ей во всем, как другу, верь. Если б не было собак, Дело было бы – табак. 19 Время позднее весьма, Наступил конец письма. Жду ответа. Буду рад. До свиданья, Ксюша. Брат51. Детские стихи молодого автора выдержаны в духе русско-советских традиций: они просты, понятны, сродни детской игре, не лишены афористичности и нравоучительности. Довлатов использует элементы лучших образцов детского фольклора: повтор (примета русской народной сказки), вопросительные и восклицательные интонации, занимательность (игровые приемы). Строки «Заяц белый, заяц белый, / Расскажи, куда ты бегал?» – это парафразирование детской считалки: – Заяц белый, Куда бегал? – В лес дубовый. – Что там делал? – Лыко драл. – Куда клал? – Под колоду. – Кто брал? – Родион. – Выйди вон!52 Образы животных, героев довлатовского стихотворения: слон, лев, заяц, тигр, лиса, собака, – традиционные образы русских народных сказок, басен, детских стихов С.Я. Маршака. После возвращения Довлатова из армии, по словам его жены Елены, «сразу стало понятно, что он будет заниматься литературой, к тому времени у него уже были написаны рассказы на армейском материале. <…> …Осознание того, что он будет писать рассказы, пришло к Сереже в армии, хотя сначала он оттуда присылал отцу письма со стихами. После армии Сережа писал очень много и довольно быстро»53. Однако в это время Довлатов продолжал писать и стихи, в том числе стихи для переложения на музыку. Так, песня на стихи Довлатова «Моя Ассоль», проникнутые гриновскими мотивами (романтика, море, мечты), вошла в репертуар М. Магомаева. А композитор Яков Дубравин приводит малоизвестный факт, что его песня «Свидание с Ленинградом» на слова Довлатова получила премию на конкурсе в честь 50-летия Великой Октябрьской революции (1967). «Сережа Довлатов к этому поэтическому успеху относился застенчиво и иронично. И подписался Валерий Сергеев!»54. [Довлатов цитирует фрагмент «Мне город протянул ладони площадей…» своей популярной тогда песни «Свидание с Ленинградом» в одном из эпизодов повести «Заповедник» (2; 240).] Поэтический опыт Довлатова сказывается уже в его ранней прозе, стиховое начало прослеживается, например, в рассказах «Блюз для Натэллы», «Ко20 гда-то мы жили в горах» из сборника «Демарш энтузиастов», в повести «Иная жизнь», писавшихся в середине 1960-х гг. и находившихся в состоянии перманентной доработки в эмиграционный период. В рассказах, вошедших в сборник «Демарш энтузиастов», основными приемами, заимствованными из разряда поэтических средств, становятся: анафоры [например: «Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы. Забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед» (1; 48) – в «Блюзе для Натэллы», «Когда-то мы жили в горах», «Когда-то мы были чернее», «Когда-то мы скакали верхом» (1; 66) – в рассказе «Когда-то мы жили в горах»]; внесение в структуру прозы силлабо-тонического метра и паронимической аттракции, например: «Когда-то / мы жили / в горах. Эти горы / косматы / ми псами / лежали / у ног. Э / ти горы / давно у / же стали / ручными / …» (1; 61) (амфибрахий; аллитерация: к – г – т – р). Не только к метру, но и к рифме Довлатов обращается в заключительном абзаце повести «Иная жизнь»: «Кончается история моя. Мы не постигнем тайны бытия вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры – все это бред. Разгадка в нас самих. Ее узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить. Но поздно, поздно что-то изменить…» (1; 130). В письме Науму Сагаловскому от 25 августа 1984 г. Довлатов объясняет, что этот прием вводится им совершенно сознательно, как дань набоковской традиции: «Стишки в прозаическом тексте – очень древний фокус. Западные писатели делают это сто лет. Набоков в 30-е годы закончил стихами ―Дар‖. Стилистически это – курсив, выделение. Все равно, что напечатать абзац зеленой краской. Так что аксеновская ―Цапля‖ – ни при чем. Фокус настолько старый, что принадлежит всем и каждому»55. К концу 1960-х гг., по свидетельству Л. Штерн, относится знакомство Довлатова с поэзией Николая Олейникова: когда Штерн прочитала Довлатову стихи из хранящегося в ее домашней библиотеке редкого в то время сборника Олейникова, «Сергей пришел от них в восторг»56. По всей видимости, Штерн упоминает о книге стихотворений Олейникова самиздатовского происхождения, т.к. в «Примечаниях» к наиболее полному собранию стихотворных произведений поэта, изданному в 2000 г., А.Н. Олейников указывает, что в 1960-х гг. некоторые стихи его отца были напечатаны в выпусках ленинградского альманаха «День поэзии» (1964, 1966), в журнале «Вопросы литературы» (1969, № 3), в «Литературной газете» (1968, 17 июля), а также в мемуарных изданиях: книге «Мы знали Евгения Шварца» (Л.; М.,1966) и воспоминаниях И. Рахтанова «Рассказы по памяти» (М.,1966); зато в 1960 – 1970-е гг. по стране ходило множество списков, на основе которых отдельное издание вышло за границей, в Бремене, лишь в 1975 г.57. (Вероятнее всего, Довлатов был знаком и со сборником Олейникова «Иронические стихи», вышедшим в 1982 г. в Нью-Йорке с предисловием Льва Лосева. Эта книга по своей структуре, в основном, повторяет предыдущее бременское издание с некоторыми дополнениями.) Познакомившись с творчеством Олейникова, Довлатов стал писать стихи-подражания. Так, под впечатлением стихотворений, в которых слышалась 21 олейниковская шутка с присущей ей «домашней семантикой» (термин Тынянова, использовавшийся им применительно к «арзамасскому» и пушкинскому кругу), Довлатов написал шутливое стихотворение à la Николай Олейников: Среди всех других предметов Выделяется Далметов Несравненной красотой, Неоцененной тобой. Удивительно и мило, Что пришла ко мне Людмила. Напоила молоком, И растаял в горле ком58. Уже здесь Довлатов использует один из вариантов своей фамилии, которую, по воспоминаниям Штерн, и в армии, и в университете, и в редакциях часто искажали. Самоирония, звучащая в стихотворении Довлатова, напоминает олейниковские строки: «А Олейников, скромный красавец, / Продолжает в немилости быть…»59. На стихи Олейникова «Жук-антисемит»: И солнышко не греет, И птички не свистят. Одни только евреи На веточках сидят… – Довлатов ответил такими строками: Все кругом евреи, Все кругом жиды. В Польше и Корее Нет другой среды. И на племя это Смотрит сверху вниз Беллетрист Далметов – Антисемитист60. Штерн отмечает, что «Сергей впитывал смешное как губка и, слегка редактируя и видоизменяя, производил собственные шутки и остроты»61. Уроки Николая Олейникова сказались и в дальнейшем – при написании экспромтов: стихотворных записок, надписей. Поводом для подобных стихов служили, как и для довлатовской прозы, факты его собственной биографии, стремление к поэтизации, мифологизации будней. Вот, например, текст из архива Тамары Зибуновой – записка Довлатова, которую тот передал ей в роддом: Вышла легкая промашка: ждали сына, а затем 22 родилась на свет букашка с опозданьем дней на семь. Не с Луны она, не с Марса, день примерно на седьмой нам с проспекта Карла Маркса привезут ее домой. Нету большей мне награды, чем ребенок общий наш. Все мы очень-очень рады. До свиданья, Твой Алкаш62. Вот надпись на фотографии, сделанной в Пушкинском заповеднике, где Довлатов запечатлен с распухшей щекой, – это изображение, по одной из версий, он подарил Зое Катрич: 16.7.77 З.К. Взглянув на эту каторжную рожу, Ты не узнаешь (в том уверен я) Красивого Довлатова Сережу, Который хамски лез к тебе в друзья. Не думай, что меня ударил Форман, Не думай, что меня ударил Клей, Мое лицо переменило форму, Но содержанье – в русле прежних дней. Зуб вырван мой! Десна моя зашита, Гной удален (прости сию деталь), Я жду тебя. Ты мной не позабыта, Но я забыт тобой. И это жаль! С.Д.63 (Такую же фотографию с подобной же надписью, правда, с примечанием, что Форман и Клей – боксеры-чемпионы, Довлатов прислал Наталье Антоновой, о чем она рассказывает в документальном фильме «Довлатов», снятом в 2007 г. на 5-м канале телевидения.) Или надпись в «Невидимой книге»: «О! Если б мог в один конверт Вложить я чувства, ум и страсти И отослать его на счастье Милейшей Нине Аловерт!.. Тогда бы дрогнул старый мир И начался всеобщий кир! 15 ноября 79. New York. С.Д.»64 23 На одном из экземпляров книги «Заповедник» (выпущенной издательством «Эрмитаж» в 1983 г.), предназначенном в качестве подарка И. Серману, Довлатов написал: Экспромт (извините за качество) Позвольте новый «Заповедник» Преподнести вам от души. Не все из книг моих последних Так безупречно хороши! Пускай Илья Захарыч Серман Истреплет этот экземпляр В своем стремленьи непомерном Подметить мой растущий дар. Пускай строчит мой благодетель, Не зря его всегда любил: Старик Державина заметил, Да и меня благословил. С.65 (Книга с надписью была подарена после того, как в 1985 г. в журнале «Грани» появилась статья И. Сермана «Театр Сергея Довлатова» – первая большая статья на русском языке о творчестве Довлатова.) С середины 70-х гг. Довлатов стал известен именно как прозаик (в 1976 г. некоторые его рассказы были опубликованы на Западе в журналах «Континент» и «Время и мы»), однако многие профессиональные поэты говорили о его незаурядных поэтических способностях. А. Шкляринский в своих воспоминаниях «Сто слепящих фотографий» отметил: «Как-то считалось в то время, что проза поэта всегда хуже его стихов, а уж стихи прозаика-то вообще бог знает что… А Сергей уже считался прозаиком…»66 Однако от стихов Довлатова «застрял» в памяти Шкляринского «один осколок» – «шикарная рифма», которую Довлатов сочинил, увидев в газете «лицо какого-то колхозного бригадира с необыкновенными усищами»: Анчоусы А ничего усы67. Скульская вспоминает, что на редакционных летучках они с Довлатовым играли в буриме: «У Сергея здорово получалось. Он вообще неплохо писал стихи. Ему, например, принадлежит такое четверостишие: Наш паровоз вперед летит в назначенную даль. Иного нет у нас пути, Чего немного жаль»68. В переписке со Скульской выявляются отношение к поэзии и поэтические пристрастия Довлатова того периода, когда он окончательно решил уехать в эмиграцию, чтобы заняться писательской работой. В 1978 г. в ответ на одно из 24 писем Скульской, в котором она сообщала о выходе в Таллинне ее сборника стихов, Довлатов написал: «Я поэзией не занимаюсь и люблю целиком только двух поэтов – Бродского и Мандельштама. Еще мне нравятся несколько стихотворений Вийона, Пушкина плюс «Медный всадник», отдельные строфы Ахматовой, Языкова («Не вы ль услада наших дней…»), Тютчева («Эти бедные селенья…»), Пастернака («Когда случалось петь Дездемоне…»69), Вяч. Иванова («Когда ж противники увидят…»). И, кажется, все. Все мои любимые стихи я готов воспроизвести за один час…»70. Как следует из письма, Довлатов окончательно отрекается от занятий стихотворчеством, зато, работая над созданием прозаических произведений, он в полной мере использует принципы стихового текстопорождения, и есть все основания называть его прозу «стихообразной» (Л. Сальмон) 71. (Таким же – от стихов к прозе – был путь Пушкина, совмещавшего в прозаическом повествовании две тенденции, одна из которых проявлялась в стремлении к «суровому», без украшательств стилю, другая – в использовании поэтических приемов. Не случайно Пушкин являлся образцом для Довлатова, который, как передает И. Серман, заявлял: «Я совершенно однозначно считаю, что проза Пушкина – лучшая на русском языке, конкретно – ―Капитанская дочка‖, и в еще большей степени – ―Повести Белкина‖»72.) Необходимо отметить, что именно «поэтическая» требовательность к созданию собственных текстов побуждает Довлатова в начале 1980-х гг. обратить серьезное внимание на изыскания французских авторов, входивших в группу УЛИПО (Мастерской, или рукодельни потенциальной литературы). Основной целью писателей этого объединения было «искать пути развития литературы, основанной не на спонтанном вдохновении, но на ряде формальных ограничений, к каковым они относили ограничения стихотворной формы… логические, грамматические, семантические и лексические ограничения…»73; во главу своего творчества улиписты поставили «такие качества, как практика, как работа, как игра»74, о чем писал один из наиболее талантливых авторов этой группы Жорж Перек. О том, как произошло знакомство Довлатова с принципами литературы жестких самонавязанных ограничений, упоминаает в своем интервью с В. Волошиной А. Арьев: «Я однажды рассказал Сереже о французском прозаике, умудрившемся, пренебрегши одной из букв алфавита, написать целый роман. Сошлись мы после некоторой дискуссии на том, что понадобилось это писателю… для того, чтобы, ограничив себя в одном твердом пункте, обрести шанс для виртуозной свободы. Сережа нашел более изысканный способ самовыражения, давший исключительный эффект», - «у него в предложениях ни одно слово не начинается с одной и той же буквы. Он специально затруднял процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, на автоматизм»75. О необходимости введения при написании прозы «дисциплинирующего момента» сам Довлатов сообщает в письме к Науму Сагаловскому от 21 июня 1986 г.: «Дело в том, что у меня есть такая как бы теория. Я считаю, что каждый прозаик должен надевать какие-то творческие вериги, вводить в свое письмо какойто дисциплинирующий момент. В поэзии роль таких вериг играет рифма + размер. Это дисциплинирующее начало уберегает поэтов от многословия и пусто25 ты. У прозы таких рамок нет, их, мне кажется, надо вводить искусственно. Особенно тем, у кого нет от природы железного отборочного механизма, какой был у Зощенко. Известно, что знаменитый французский писатель Жорж Перек в течение десяти лет не употреблял в своей прозе букву ―е‖, самую популярную во французском алфавите. Что касается меня, то вот уже лет шесть я пишу таким образом, что все слова во фразе начинаются у меня на разные буквы. Даже предлоги не повторяются. Даже в цитатах я избегаю двух слов на одну букву в одной фразе»76. (В русской литературе сторонником формальных приемов был Валерий Брюсов, считавший их необходимым средством, «с помощью которых поэт может достичь совершенно неожиданных, новых и глубоких эффектов», и провозглашавший, что «при знании технических законов своего ремесла поэт становится, действительно, господином своего языка»77.) Таким образом, как многие крупные писатели новейшего времени, Довлатов отдал дань стихосложению, от чего, как считал И. Бродский, проза только «сильно выигрывает», т.к. писатель получает, прежде всего, «уроки лаконизма и гармонии», с помощью «перенесения методологии поэтического мышления в прозаический текст» приобретает навыки передавать «множественность смыслов»78. Совершенно очевидно, что поэтические опыты Довлатова оказали непосредственное влияние на его прозу. Не прошло бесследно довлатовское юношеское увлечение эпиграммами и шутливыми стихами – впоследствии Довлатов-прозаик начинает работать в близких к эпиграмме жанрах: сначала в жанре фельетона (в советское время в № 2 за 1969 г. журнала «Крокодил» появляется его фельетон «Победители», а в № 2 за 1972 г. – фельетон «Счастливчик» 79), затем в жанре литературного анекдота («Соло на ундервуде» – одна из его первых книг, вышедших в Америке в 1980 г.). По закону анекдота (важнейшей чертой его поэтики выступает эстетический эффект непредсказуемости, достигаемый за счет действия закона пуанта) построены многие микроновеллы, из которых состоит последняя довлатовская повесть «Филиал». Кроме того, самостоятельность каждой микроновеллы в «Филиале» подчеркивается тем, что автор на протяжении всего текста сознательно выделяет их чисто визуально – с помощью пробелов, использование которых в прозаическом тексте восходит к строфическому принципу в поэзии 80. Увлечение стихами Николая Олейникова отразилось не только на стихотворном творчестве Довлатова, но и на поэтике и стилистике довлатовской прозы, вобравшей такие олейниковские черты, как глубокая ироничность; совмещение несовместимого как принцип словоупотребления; скрещение разных стилистических пластов языка; включение цитат классиков русской литературы в бытовой контекст; весомость слова; насыщенность аналогиями и ассоциативными связями; простота формы и скрывающаяся за ней смысловая сложность, когда внешне веселое повествование об обыденных предметах и явлениях неожиданно приобретает неподдельно трагическое звучание. Говоря о ярко выраженном в творчестве Довлатова взаимодействии прозы со стихом, необходимо выделить следующие характерные для его прозы элементы стихового начала: метризация и паронимическая аттракция; явившая26 ся результатом «стиховой выучки» (А. Арьев) «слоговая устойчивость» (термин Б.М. Эйхенбаума, который употребляет А. Арьев по отношению к свойствам довлатовской фразы и который объясняется Л. Сальмон: «кроме лаконичности, речь идет о совокупности художественных техник» – «1) о просодическом ритме, 2) о системе созвучий, 3) о лексическом подборе»81); прозиметрия (чередование в повествовании фрагментов прозаического текста с фрагментами стиховотворного или вмонтирование в прозаический текст точных или неточных цитат из стихов русских классиков – Пушкина, Блока, Мандельштама); «смысловая рифма» (А.А. Воронцова-Маралина), «проявляющаяся в повторяющихся элементах на разных уровнях организации текста (деталь, персонаж, мотив, сюжет)»82 и сравнимая с автоцитированием в поэзии; миниатюризация прозы, выражающаяся в обращении к жанру прозаической миниатюры, как правило, к литературному анекдоту; строфизация текста (краткость абзацев); стихоподобная разбивка прозаического текста на фрагменты, сознательно выделяемые автором визуально – с помощью служащих знаком паузировки пробелов. По мысли Ю. Орлицкого, использование средств стиховой речи в прозаических произведениях Довлатова выступает не только как чисто эстетический, «гармонизирующий» прозу прием, но и как знак определенной литературной традиции: Пушкин – Серебряный век – Набоков83. 27 1.2. Этапы творческой эволюции: авторская переделка рассказа «Человек, которого не было» Детский рассказ С. Довлатова «Человек, которого не было» и его пьеса для кукольного театра под тем же названием относятся к доэмиграционному периоду довлатовского творчества. Как известно, писатель, получивший признание в Америке, критически относился к своим ранним произведениям, считая, что они компрометируют его. Так, в письме к А. Арьеву 2 декабря 1988 г. Довлатов писал: «Повсюду валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие внимания и пр. Самое дикое, если что-то из этого хлама просочится в печать, это много хуже всяческого непризнания»84. А «в завещании прозаика специально оговорен запрет на публикацию каких бы то ни было его текстов, созданных им в СССР до эмиграции в 1978 г.»85. Однако в настоящее время, когда проза Довлатова, получив признание читателей, заняла достойное место в литературном процессе порубежной эпохи, но при этом многие вопросы в довлатоведении остались еще не исследованными, важно проанализировать наследие писателя полностью, проследив его творческую эволюцию и восстановив каждый этап литературного пути. Над рассказом «Человек, которого не было» Довлатов начал работать в период своего пребывания в Кургане. В письме к Л. Штерн 20 декабря 1969 г. (из Кургана) Довлатов пишет: «Я довольно много написал за это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы про В.Ф. Панову»86. История создания довлатовского рассказа «Человек, которого не было» подробно раскрывается в мемуарах И. Сабило: «В сборнике ―Дружба‖, выпущенном ―Детгизом‖ в 1971 году, в числе двух десятков авторов напечатались и мы с Довлатовым. Он представлен рассказом о цирке ―Человек, которого не было‖. – Ты знаешь цирк? – спросил я. – Нет, только клоуна Карандаша. Мне было лет 16, когда я увидел его на арене. Внешне – копия Чарли Чаплина, ―маленький человек‖. Помню, смеялся от души, когда он изображал сцену ―В саду‖. Потом на улице мне показали крохотного человека и сказали, что это Румянцев – знаменитый Карандаш. Меня поразило, насколько этот уличный человек не соответствовал человеку манежному, цирковому. И понял, что либо здесь, на улице, либо там, в цирке, он – человек, которого нет. И написал рассказ про иллюзионистов. – Я был знаком с Карандашом, – сказал я. – Встреча с ним, к сожалению, оставила в моей душе чувство растерянности и недоумения»87. Далее следуют воспоминания Сабило о том, как он работал униформистом в минском цирке. «На манеже Карандаш. Я сметаю с красного ковра опилки. Он входит и плоским клоунским башмаком специально цепляет опилки на ковер. Зрители смеются. Я смел уже три раза. На четвертый решил подыграть и замахнулся на него метлой. Думал, он творчески, по-клоунски включится в игру, а он чего-то испугался. Зрители захохотали, зааплодировали, думая, наверное, что так положено по сценарию. Но Карандаш – пулей за кулисы. И 28 пропал»88. Молодого униформиста после произошедшего случая уволили из цирка. Рассказывая об этом Довлатову, Сабило заметил: «И мне до сих пор кажется странным, что в таком знаменитом артисте совершенно отсутствовало внутреннее пространство. Он же видел, что перед ним пацан, к тому же по уши влюбленный в его искусство. – Человек, которого не было, – сказал Довлатов. – Под Чарли Чаплина работал. И совершенно неожиданные слова: – Чарли Чаплин породил в довоенном мире миллионы ―маленьких людей‖, которые покорно шли в газовые камеры…»89. В довлатовском рассказе для детей о цирке – одном из немногих рассказов, напечатанных в Советском Союзе еще при жизни там автора (литературнохудожественный сборник для детей «Дружба» с рассказом Довлатова после отъезда писателя за границу был изъят из доступного для читателей библиотечного фонда, и сейчас этот сборник можно найти лишь в домашних библиотеках поклонников довлатовского творчества), – звучит протест против рабской психологии «маленького человека». Именно в цирке, о котором автор восторженно пишет: «Знаете, что такое цирк? Это единственное место, где можно показать себя с наилучшей стороны», продемонстрировать «силу и мужество»90, – работает Василий Барабукин, который превратился в человека, «которого не было». Его брат-близнец Альберт Барабукин, ставший цирковым артистом и выступавший как иллюзионист под именем Альберта Астанелли, придумал необыкновенный номер с двумя поднятыми на тросе сундуками. «Великий маг» «почти одновременно появлялся то из одного, то из другого сундука»91. Цирковой трюк был создан за счет обмана зрителей: в одном из сундуков находился Василий, которого Астанелли превратил в своего двойника, заставив его жить тайной жизнью и оплачивая ему работу связкой баранок в день. «Так Василий поселился в большом кованом сундуке. Он слышал аплодисменты, но это его не радовало. Он чувствовал себя очень одиноким. Иногда он тайно вылезал из сундука, гладил лошадей и разговаривал с тиграми. Он перестал улыбаться. Он превратился в след пролетевшего облака, в звук падающего снега и значил не больше, чем те слова, что написаны прутиком на воде. Он стал меньше тени, у него не было ни имени, ни лица, несмотря на то, что его лицо смотрело со всех афиш, а выдуманное имя повторялось на каждом шагу»92. Школьник Коля Булавкин, который с детских лет мечтал стать артистом цирка, проник за кулисы, чтобы увидеть знаменитого Астанелли и посоветоваться с ним о том, как добиться исполнения своей мечты. Коля узнал об истории двух братьев и помог Василию, мечтавшему работать ветеринаром, выбраться из плена. Ранний рассказ Довлатова отличается от его зрелой прозы тем, что носит явно дидактический характер (что соответствует характеру произведений, предназначенных для детей); мораль выводится в конце рассказа: каждый, у кого есть мечта, должен стремиться приблизиться к ней, никогда ей не изменять и слушаться старших. Примером для всех школьников должно стать поведение Коли Булавкина, который решил: «У меня есть мечта, и мне нельзя от нее удаляться. 29 – Главное – хорошо учиться, – сказала мама. – И заниматься спортом, – добавил папа. – Пожалуй, вы правы, – сказал Коля, – сяду-ка я за уроки. Так он и сделал»93. Приблизительно в 1975 г. на основе семистраничного текста рассказа «Человек, которого не было» Довлатов создает пьесу для кукольного театра. Это был не первый опыт работы писателя-прозаика над драматургическим произведением. В приведенном выше письме Довлатова к Л. Штерн упоминается о драме про В. Панову. Драма писалась в соавторстве с друзьями по университету А. Арьевым и В. Веселовым. В своих воспоминаниях Веселов пишет: «На читку пьесы, которую мы писали втроем, я пригласил режиссера Николая Воложанина. Наш опус ему понравился, но он заметил, что текст слишком плотен для сцены, мало воздуха, мол, это вещь для чтения, а не для постановки. Дело обычное. Многие прозаики считали делом престижа написать пьесу. И что же? Все они создали вещи для чтения. Драматургические опыты Томаса Манна (Фьоренца) и Хемингуэя (Пятая колонна) сценического успеха не имели. Короткий монолог Воложанина дал мне больше для понимания законов сцены, чем специальные труды по теории драмы»94. А. Арьев рассказывает: «…в моем архиве есть масса ―нового‖ Довлатова: ранние рассказы, повестушки, пьесы… Да что там говорить – в семидесятом году мы написали совместный сценарий кинофильма к столетию Бунина»95. Идею написать не просто пьесу, а выступить в роли сказочника в драматургии для детей искавшему любой возможности, чтобы заработать, Довлатову подал близкий приятель Л. Лосев – сын известного детского писателя и драматурга В. Лившица. Это событие отразилось в переписке (относящейся к 1975 – 1976 гг.) Довлатова с Е. Скульской: «Новостей мало. На работу не берут. Первые заработки ожидаются в сентябре. Зато сочиняю много, от отчаяния. Написал мстительный рассказ о журналистах ―Высокие мужчины‖. Заканчиваю третью часть романа. Ну и кукольную пьесу с лживым названием ―Не хочу быть знаменитым‖. Она лежит в трех местах. Пока не вернули»96. Однако в советское время спектакль поставлен не был, и остается неизвестным, в какие театры страны направил свой сценарий Довлатов (в письме к Е. Скульской – из переписки 1976 – 1977 гг. – он написал: «Столица Удмуртии – Ижевск, а также Ульяновск и Иваново заинтересовались моей кукольной драмой»97). В 2001 г. завлитом Псковского театра кукол А. Масловым в архиве театра был найден один из экземпляров довлатовской сказки в двух действиях под названием «Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана». Как удалось выяснить Маслову, в начале семидесятых годов Довлатов на одном из литературных совещаний в Москве познакомился с однофамильцем своего курганского приятеля, А. Веселовым – в то время главным режиссером Псковского театра кукол, – и договорился с ним о сотрудничестве. Сценарий был передан в театр предположительно в 1976 году, но по ряду причин постановка «Пьесы для младших школьников с фокусами, но без обмана» тогда так и не осуществилась98. Только в 2003 г. после двухлетних переговоров с вдовой писателя Е. Довлатовой о разрешении постановки пьесы 30 при поддержке спонсоров – «Новая газета» выкупила право проката спектакля театром на пять лет – сказка (она осталась не изданной до сих пор – «Новая газета» опубликовала в 2001 г. лишь ее I действие99) была поставлена на сцене Псковского театра кукол. Важным представляется не столько восстановление истории создания двух ранних одноименных произведений Довлатова, относящихся к разным родам литературы, сколько их сопоставительный анализ, который помогает выявить процесс работы автора над совершенствованием своего литературного мастерства. В самом факте авторской переделки прозаического произведения в драматургическое не было ничего необычного: так, например, С.Я. Маршак чешскую народную сказку «Двенадцать месяцев» тоже сначала пересказал на русском языке в прозе, а затем создал пьесу. Однако драматизированный вариант у Довлатова существенно отличается от прозаического тем, что автор вводит в него сказочные и комедийно-сатирические элементы; кроме того, довлатовская пьеса ориентирована на классические образцы прозиметрии и представляет собой чередование прозаических фрагментов со стихотворными (в русской детской литературе такими образцами опять-таки являются пьесы Маршака «Двенадцать месяцев» и «Горя бояться – счастья не видать»). Писатель сохраняет в драматической сказке тот же сюжет, что и в рассказе, но изменяет имена героев: школьник Минька Ковалев помогает разоблачить знаменитого циркового артиста Луиджи Драндулетти (Петра Барабукина), выполнявшего затейливые трюки-исчезновения с помощью брата-близнеца Николая Барабукина. В пьесе, в отличие от рассказа, уже три пары двойников: братьяблизнецы, один из которых потерял свою индивидуальность и живет под именем своего знаменитого брата; Николай Барабукин и говорящий попугай Цымба, который умеет только повторять за другими и, подобно Николаю, говорит о себе: «У меня нет имени, нет лица, нет души. Я – пустое место!»100; мечтающий о карьере циркового артиста школьник Минька Ковалев и фокусник Луиджи Драндулетти, уже сделавший карьеру в цирковом искусстве. Миньку и Драндулетти сближает неодолимое стремление к достижению популярности. В представлении Миньки цирк – это только аплодисменты: «…Цирк – это да! Это жизнь! Все на тебя смотрят! Все тебе аплодируют! Лампочки горят! Музыка играет! Красота! Висишь под куполом цирка, а люди тебе хлопают! Шагаешь по канату – гром аплодисментов! <…> Эх, стать бы знаменитым циркачом! Все тебе завидуют! Шум, треск и крики ‖браво‖»101. Не случайно в I действии пьесы слова «аплодисменты», «аплодировать», «хлопать в ладоши» повторяются многократно. Но самое главное, что Минька, как Драндулетти, стремится достичь известности с помощью обмана. Минька считает своим рекордным трюком «неподвижное сальто», умеет «ходить по проволоке, которая лежит на земле», дрессирует невидимого микроба Фердинанда: «Фердинанд, вылезай из кармана! Продемонстрируй, на что ты способен. (Обращается к Цымбе.) Фердинанд – послушный и дисциплинированный микроб. Он ходит по канату, танцует вальс и прыгает через обруч. Жаль, что публика этого не видит – Фердинанд исклю31 чительно мал»102. С помощью слов «укротитель», «жонглер», «фокусник» Минька оправдывает все свои неблаговидные поступки: «Сначала я решил быть укротителем. Начал укрощать Вовку Цурикова, отличника. А учительница мне за поведение четверку вкатила. Тогда я решил жонглером стать. Жонглировал на перемене цветочными горшками. Учительница мне четверку на тройку переправила. Тогда я подумал, не стать ли мне фокусником. И такой фокус придумал – завел второй дневник. Один – для учительницы, второй – для папы с мамой. В одном тройки, в другом – сплошные пятерки»103. Луиджи Драндулетти, добившийся почета, славы, хорошей зарплаты, дружеского общения и признания за счет своего «иллюзиона века», где он «раздваивается», совершенно потерял такие человеческие качества, как доброта и справедливость. «Знаменитый фокусник» – эгоист, негодяй, злодей, который держит своего брата в сундуке под замком. Название пьесы, таким образом, приобретает метафоричность и многозначность: «человек, которого не было» – это не только Николай Барабукин, о существовании которого никто не знает, но и Драндулетти, ведь за бесчеловечность его нельзя назвать человеком. Авторская оценка поведения «мага» дана и в говорящей фамилии (в сочетании с ней нелепо звучит слово «великий», употребляющееся «чародеем» по отношению к себе), и в словах Ведущего: «Товарищ Драндулетти – фокусник, иллюзионист» «от слова ―иллюзия‖», обозначающего «обман», «видимость»104. И если в рассказе «Человек, которого не было» акцент делается, прежде всего, на том, что нельзя терять свое имя, свое лицо, нельзя быть человеком, «которого нет», – необходимо с детства воспитывать в себе личностные черты (поэтому довлатовский герой-школьник возмущен образом жизни ставшего двойником иллюзиониста «маленького человека» и помогает ему самоутвердиться), то в пьесе не менее отчетливо звучат еще и такие выводы: не обязательно становиться знаменитым, чтобы стать самим собой, а «для того чтобы стать знаменитым, не обязательно держать в сундуке родного брата»105. После разоблачения обмана Луиджи Драндулетти школьник Минька Ковалев приходит к мысли: «Главное – быть самим собой. Я об этом и в сочинении напишу…»106 Отсюда, вероятно, и появляется другой вариант названия пьесысказки: «Не хочу быть знаменитым». Чувство собственного достоинства, желание быть самим собой появляется также у Николая Барабукина и попугая Цымбы. Спектакль заканчивается исполнением этими героями финальной песни: За право быть самим собой, Отважно борется любой, Идет на честный бой, лица не пряча! Чужое имя не к лицу, Ни моряку, ни кузнецу, А каждому – свое. И не иначе! Нет двойников. Все это ложь! Ни на кого ты не похож, У каждого свои дела и мысли. Не могут даже близнецы, 32 Похожи быть, как леденцы, Или как два ведра на коромысле! Наступит час – в огонь и дым, Иди под именем своим, Которое ты честно носишь с детства. И негодуя, и любя, Мы вспомним ИМЕННО тебя, И никуда от этого не деться!107 В конце пьесы разоблаченный Драндулетти, преследуя убегающего от него брата, достает револьвер, о котором автор специально предупредил в начале I действия: «Револьвер обязательно нужен. Он проявится в финале»108. Согласно высказыванию А.П. Чехова о том, что, если в I акте пьесы на стене висит ружье, оно должно обязательно выстрелить, Довлатов заставляет выстрелить револьвер Драндулетти: «…Где мой револьвер?! Ага, в правом кармане! (Сует руку в карман. Достает зажженную сигарету. Помните: ―… без обмана, из правого кармана…‖ Обжигается.) Ай, значит, в левом кармане! (Сует руку в карман. Оттуда тянется бесконечная лента серпантина. Кое-как выпутывается. Достает из-за пазухи. Прицеливается.) Бац!!! (Вылетает птичка. Драндулетти все-таки кудесник, хоть и разложившийся морально. Бросает револьвер. Кричит. Устремляется в погоню.)»109. Пьеса «Человек, которого не было» – немаловажный этап в творчестве Довлатова. С поздней довлатовской прозой ее сближает мотив обмана, игры, подмены, лицедейства (по-разному, однако, звучащий в ранних и поздних произведениях писателя); метафоричность и многозначность заглавия; система двойников; интертекстуальность и автоинтертекстуальность; говорящие фамилии; полифонизм оценок; языковая игра; юмор и ирония; включение стихотворных фрагментов в прозаическое повествование. Глава 2. С. Довлатов и русская классическая литература XIX – XX веков 2.1. О природе смеха в прозе С. Довлатова Литературоведы давно констатировали: прозу Сергея Довлатова анализировать трудно. Связано это, прежде всего, с тем, что творчество писателя, избегавшего в своих произведениях однозначности и одномерности, не поддается и не подлежит однозначной интерпретации. Лишнее тому доказательство – противоречивые мнения, высказываемые не только рядовыми читателями, но и критиками, довлатоведами, об особенностях творчества писателя. Так, известны разные точки зрения на генеалогические истоки довлатовской прозы (например, И. Сухих, И. Каргашин считают Довлатова приверженцем русской литературной традиции, И. Бродский, П. Вайль и А. Генис – писателемкосмополитом), на своеобразие его творческой манеры (до сих пор ведутся дискуссии, является ли Довлатов постмодернистом или нет: В. Курицын, О. Богданова говорят о писателе как о постмодернисте – Н. Лейдерман, М. Липовецкий относят его к постреалистам, а Л. Сальмон – к скептическим реали33 стам). Достаточно сложной и неоднозначно решаемой в довлатоведении является и проблема, касающаяся природы смеха в прозе Довлатова. Здесь выделяются две позиции: 1) проза Довлатова имеет анекдотический (основанный на анекдоте) и анекдотичный (имеющий целью только рассмешить) характер (этой позиции придерживаются Е. Перемышлев, В. Кривулин, И. Сухих, Е. Курганов, О. Вознесенская, Ю. Власова, А. Неминущий и другие); 2) довлатовская проза – проза юмористическая, ничего общего не имеющая со смешным и ироническим; ей присущ не «комизм», а «юморизм» (термин, введенный в 1908 г. Л. Пиранделло в эссе «Юморизм»), то есть «смех сквозь слезы» – своего рода творческий парадокс, философский юмор (такова позиция Л. Сальмон)110. Таким образом, в довлатоведении накопилось достаточно большое количество исследований, рассматривающих вопрос об особенностях довлатовского «смеха», «юмора» (в терминологии не наблюдается единообразия). Однако нельзя забывать, что до сих пор не осуществлен доскональный и всеобъемлющий литературоведческий анализ, который охватывал бы весь корпус прозаических произведений Довлатова и на основе которого можно было бы выявить функции и приемы осмеяния, характерные как для отдельно взятых произведений писателя, так и для всего творчества в целом. В данном параграфе, не претендуя на всеохватывающий анализ поэтики смеха в творчестве Довлатова, попытаемся дать подробный обзор критических и научных работ по теме и изложить собственный взгляд на проблему. Уже в одной из первых рецензий на цикл «Записные книжки», вышедший в России в 1992 г., Евг. Перемышлев, ведущий раздел «Литературная критика» в журнале «Октябрь», определяет жанр довлатовских миниатюр как «жанр анекдота, или мемуаров по Довлатову»111, хорошо знавшему принципы построения анекдота. Относительно повестей Довлатова критик пишет, что «они – те же анекдоты, но вставленные в искусственную схему»112. А В. Кривулин говорит не только о том, что основная форма произведений Довлатова – это форма анекдота, но и впервые указывает на элементы парадоксальности как на специфическую особенность довлатовской прозы, продиктованной «опытом драматического осознания смехотворной двусмысленности человеческого бытия»113. По мнению Кривулина, Довлатов «создал собственный жанр, в пределах которого анекдот, забавный случай, нелепость в конце концов прочитываются как лирический текст и остаются в памяти как стихотворение – дословно. Перед нами не что иное, как жанр возвышающего, романтического анекдота»114. И. Сухих в монографии «Сергей Довлатов: время, место, судьба», анализируя одну из первых книг Довлатова – «Соло на ундервуде» (1980), – отмечает, что «Довлатов-литератор начинается с анекдота»115 и что сам писатель ясно осознавал это. Действительно: хотя в самом названии книги «Соло на ундервуде» не обозначено, что она представляет собой цикл литературных анекдотов, позднее «термин попал в подзаголовок совместной с М. Волковой книгифотоальбома, куда переместились многие сюжеты записных книжек, – ―Не только Бродский. Русская культура в портретах и анекдотах‖ (1988)»116. 34 И. Сухих считает, что «органичной стихией довлатовской прозы, довлатовского мира оказывается юмор», под которым исследователь понимает «чистый комизм», соседствующий «с серьезностью, возвышенностью, поэтичностью и личностной самокритикой»117. «Чистый комизм» Сухих рассматривает как одну из форм эстетической самодостаточности текста, именно с ее помощью неофициальная культура, к которой принадлежал Довлатов, чаще всего противостояла официозу. Автор монографии обращает внимание на то, что вместе с чувством юмора Довлатов обладает и «чувством драмы», но оба этих чувства не противоречат друг другу: «чувство драмы» «логически вытекает из того серьезного, возвышенного понимания юмора, о котором шла речь раньше»: «большая русская классика девятнадцатого века наряду с бытовым и историческим анекдотом культивировала анекдот драматический, который был важен для Пушкина («Пиковая дама»), Гоголя («Шинель»), Достоевского («Скверный анекдот»), Чехова (скажем, «Тоска»)»118. «Записные книжки» Довлатова, по мнению Сухих, «становятся экспериментальным полигоном анекдотического мышления, анекдотического видения»119. «Анекдотический принцип» лежит и в основе других произведений Довлатова: каждое произведение – это цепочка микросюжетов, это цикл анекдотов, связанных между собой общей идеей произведения («на одной странице – полдесятка персонажей и столько же микросюжетов, построенных по анекдотическому принципу»120). Е. Курганов считает прозаические произведения Довлатова «развернутым анекдотом», а «Записные книжки» – произведением, «воссоздающим анекдот в чистом виде»121. По мысли Курганова, Довлатов работал по законам свободной циклизации отдельных сюжетов, то есть по законам анекдотического эпоса: «Довлатов циклически развертывал автобиографию в эпизодах-анекдотах, распределявшихся по сериалам-блокам (служба в армии, работа в таллинской газете, работа в американской русской прессе). Довлатов вернул новеллу к анекдоту, представил новеллу как анекдот»122. Доминирующее положение анекдота в прозе Довлатова отмечается в диссертации «Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова» Ю.Е. Власовой123 и в работах А.Н. Неминущего124. Общее мнение отечественных довлатоведов четко выражено О.А. Вознесенской в диссертационной работе «Проза Сергея Довлатова. Проблемы поэтики»: «Практически все исследователи отмечают анекдотический характер довлатовских микросюжетов. Анекдот стал для писателя своеобразным способом видения мира, отражающим его парадоксальную сущность, его противоречивость, абсурдность»125. В 2008 г. появилось серьезное и глубокое исследование, посвященное особой природе смеха в прозе Довлатова, – монография итальянского слависта и переводчика Лауры Сальмон «Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова», в которой автор, следуя теории Луиджи Пиранделло и основываясь на процессах перевода текстов Довлатова с русского языка на итальянский, пытается разобраться в типологии довлатовского юмора, его механизмах. Автор монографии рассматривает основные подходы «к теме осмеяния, смеха и юмора, 35 которые применялись в разные времена в разных культурах и сыграли важную роль как в разработке общей модели, так и в дифференцировании текстов»126, а также анализирует свойства и механизмы действия юмористических текстов, используя при этом самый продуктивный подход – междисциплинарный. Опираясь на фундаментальные теоретические труды представителей разных наук: лингвистики, литературоведения, философии, психологии, физиологии, – Сальмон утверждает, что восприятие творчества Довлатова как творчества «анекдотичного» кажется ей неприемлемым, что у Довлатова «нет никакого ―комизма‖. Если, читая его рассказы, ты смеешься, то это совершенно не значит, что эти тексты ―комичны‖. Ведь смеяться можно не только от ―смешного‖, но и от стыда, от страха, от застенчивости, от ярости, от смущения, от возбуждения, от радости, от бессилия, от жары и острого холода127. А главное… смех отнюдь не является доминирующей реакцией у читателей довлатовских произведений. Смех сам по себе, – сугубо ―освобождающее‖ явление, а Довлатов стимулирует реакцию сложную, парадоксальную и ―обременительную‖: он показывает нам не столько ―смешное‖, сколько то тяжело-абсурдное, парадоксальное, которое изначально, неизбежно является присущим именно человеческой действительности»128. (Как видим, выводы Сальмон, несмотря на принципиальное отличие ее концепции от других, имеют точки соприкосновения с выводами авторов более ранних исследований: мысль о том, что «за смешной стороной жизни юморист чувствует ―сторону серьезную и болезненную‖» 129, звучит в монографии И. Сухих, который писал о чувстве юмора и о «чувстве драмы» у Довлатова; об абсурдном и парадоксальном в довлатовском творчестве говорили В. Кривулин, О.А. Вознесенская и другие.) Амбивалентность, парадоксальность – это и есть сущность юморизма, это главное, что, по мысли Сальмон, является отличительной особенностью довлатовского творчества. Автор монографии анализирует механизмы порождения и воздействия на читателя юмористического текста с разных сторон. Так, с точки зрения физиологии, в момент восприятия подобного текста на подсознательном уровне «юмористическая развязка вызывает как удовольствие (посредством узнавания), так и сожаление (эмоциональную затрату)… <…> Юмористический текст депрограммирует то, что по социальным условиям считается ―логической очевидностью‖. Потеря бинарных ориентиров превращает удовольствие в временную растерянность, удовольствие переходит в неудовольствие… Юмористическая когнитивная печаль воспринимается более или менее сладостно, ибо она смешана с эстетическим удовольствием: благодаря быстроте физиологического процесса рефлексии (происходящего в доли секунды), удовольствие и печаль воспринимаются как один синхронный ответ»130. С точки зрения философии, юморизм «направлен против наивных, упрощенных, стереотипнобинарных представлений. …Юморизм старается опровергать первенство перцепции, выделяя пространство для ―альтернативной логики‖»131. С точки зрения психологии, основанное на условиях игры, предлагающее альтернативу, довлатовское творчество есть результат удачного процесса сублимирования, которое помогает «защищаться, мстить, вознаграждать, обустраивать мир»132, позволяет как самому творцу-художнику, так и его реципиенту «расширить 36 рамки понимания мира и самого себя, получая в этом процессе самое истинное удовольствие»133, дает читателю возможность взглянуть на реальную действительность по-новому, помогает «любить жизнь, зная о ней всю правду» [С. Довлатов «Марш одиноких» (2; 474)]. Одна из глав монографии Сальмон посвящена довлатовской поэтике парадокса. Литературоведческое исследование в этой главе, как было оговорено автором, не выдвигалось на первый план. Все внимание обращено на раскрытие совокупности элементов, которые вызывают парадоксальную реакцию «смеха сквозь слезы». В качестве основных принципов юморизма были выделены: остранение, превращение жизненного материала в литературный сюжет по принципу анекдота и театра; эстетизация безобразного, которая соответствует упорядочению беспорядка; полифония; тоска как необходимый элемент настроения; афористичность и парадокс; фиктивная, но реалистическая репрезентация действительности; «раздвоение» героев; крах коммуникации при наличии диалогического общения персонажей. Итак, делает вывод Сальмон, «юморизм в исконной пиранделловской концепции является спецификой творчества Сергея Довлатова. Он – его доминанта»134. Последнее замечание является чрезвычайно важным, поскольку юморизм является не единственным видом смеха в довлатовской прозе. На наш взгляд, в творчестве Довлатова, стремившегося на всех уровнях художественного произведения соединять несоединимое, наблюдается соединение «смеха сквозь слезы» и «чистого комизма», «чистого комизма» и иронии. Строящийся по законам метаморфозы, многосмысленности, эстетической игры, литературный анекдот, к которому писатель обращался на протяжении всего своего творчества, как известно, является жанром полифункциональным. Этот жанр позволял Довлатову не только запечатлеть абсурдную действительность (мотив абсурдности советской жизни в позднем творчестве Довлатова переходит в мотив тотальной абсурдности мира) и противостоять ей с помощью смеха, не только выразить нравственную, этическую оценку того или иного поступка, явления, пользуясь лишь сюжетом и языковыми средствами, но и извлечь комический эффект из парадоксального несоответствия между нормой и изображаемой действительностью, вызывая эстетическое наслаждение художественной формой, остроумием, игрой слов. Литературный анекдот в «Записных книжках», восходящих к пушкинскому циклу «Table-talk» («Застольные разговоры»), был не только своеобразной летописью времени, но и «остроумным вымыслом» (формулировка А.С. Пушкина), создававшим эстетический эффект, детективную остроту. Слова Е. Курганова о том, что Пушкин с удовольствием «играл с анекдотом как с литературной формой, демонстрируя богатейшие художественные возможности этого жанра, используя анекдот, прежде всего… как средство эстетического эпатажа, дающее право смягчить, нарушить литературные каноны»135, можно вполне отнести и к Довлатову как автору «Записных книжек». Неоднократное включение в повествование анекдотических микросюжетов характерно также для довлатовских повестей. Так, например, в повести «Заповедник» они выполняют несколько функций: 37 вскрывают вопиющую глупость или моральное ничтожество изображаемых лиц (например, анекдот о том, как Леня Гурьянов сдавал экзамен по литературе профессору Бялому); обнаруживают комичность ситуации: «Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то: – Вы не знаете, при чем тут Магеллан? Продавец задумчиво ответил: – Может, умер… Или героя дали…» (2; 176); «Увидев нас, Михал Иваныч страшно оживился, страдальчески морщась, он застегнул рубаху на бурой шее. Да так, что загнулись мятые углы воротничка. Потом зачем-то надел фуражку. – С Борькой живем хорошо, – говорил он, – и насчет поведения, и вообще… В смысле – ни белого, ни красного, ни пива… Не говоря уж про одеколон… Он все книжки читает. Читает, читает, а дураком помрет…» (2; 242); способствуют демонтажу пушкинского мифа (несмотря на царивший в Заповеднике культ Пушкина, никто из посетителей, как показывает Довлатов, не отличается глубокими знаниями его творчества: экскурсанты задают вопросы о том, почему была дуэль между Пушкиным и Лермонтовым, не могут сообразить, какое отчество носили сыновья Александра Сергеевича, причем для Довлатова и его современников это был «смех сквозь слезы», а для представителей последующих поколений, не имеющих представления о культе Пушкина в советский период, подобные ситуации – проявление «чистого комизма»). Анекдотические микросюжеты в «Заповеднике» сочетаются с каламбурами, выполняющими как чисто комическую роль, так и служащими выражению иронии: «Диаграммы сулили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей» (2; 172 – 173) (иронию здесь обнаружит читатель, которому известно, как плохо было в застойные годы в СССР с продуктами и товарами; остальные увидят в этой фразе лишь каламбур, основанный на многозначности слов); «Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней: – Давайте познакомимся. – Аврора, – сказала она, протягивая липкую руку. – А я, – говорю, – танкер Дербент» (2; 173) [и комический эффект в результате обыгрывания слов-омонимов (Аврора – женское имя и название крейсера, холостым выстрелом с которого был подал сигнал к штурму Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство, и который стал одним из символов Октябрьской революции 1917 г.), и ироническое отношение к этому имени, вытекающее из ответа Алиханова («Танкер ―Дербент‖» – вышедшая в 1938 г. повесть русского советского писателя Юрия Крымова, рассказывающая о зарождении стахановского движения на нефтеналивных судах Каспия в середине 1930-х годов и о героизме моряков при спасении горящего судна), увидят только те читатели, которые знают об указанных исторических фактах]; «– Над моим именем все смеются. Я привыкла… Что с вами? Вы красный! 38 – Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я – конституционный демократ» (2; 173) (каламбур с его чисто комической функцией плюс самоирония); «Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить… читать» (2; 173) («чистый комизм» плюс самоирония). «Филиал» – последняя довлатовская повесть – представляет собой цепочку микроновелл, о самостоятельности которых свидетельствует то, что на протяжении всего текста они сознательно выделяются автором чисто визуально – с помощью пробелов, служащих знаком паузировки, замедляющих (с точки зрения физиологии) ритм восприятия текста и маркирующих переход к другому смысловому плану, смену сюжетных блоков или временной промежуток между двумя сюжетными блоками136. Нарушающий автоматизм восприятия и вызывающий у читателя не только зрительные, но и интеллектуальные усилия, пробел в прозаическом тексте, по мнению О.Д. Бурениной, является «моделью абсурдного текстопорождения»137. Многие из довлатовских микроновелл в «Филиале» построены по принципу анекдота, в котором действует закон пуанта, проявляющийся в смещении, нарушении в финале эмоциональнопсихологической направленности, которая задана с первых слов анекдота. Именно в ходе пуантного столкновения, заключающегося в резкой смене смыслов, утверждается идея анекдота, реализуется та концепция, носителем которой он является138: «Панаев был классиком советской литературы. В сорок шестом году он написал роман ―Победа‖. В романе не упоминалось имени Сталина. Генералиссимус так удивился, что наградил Панаева орденом. Впоследствии Панаев говорил: – Кровожадный Сталин наградил меня орденом. Миролюбивый Хрущев выгнал из партии. Добродушный Брежнев чуть не посадил в тюрьму» ((4; 91); «В моем архиве есть семь писем от него [Панаева]. Вернее, семь открыток. Две из них содержат какие-то просьбы. В пяти других говорится одно и то же. А именно: ―С похмелья я могу перечитывать лишь Бунина и Вас‖. Когда Панаев умер, в некрологе было сказано: ―В нелегкие минуты жизни он перечитывал русскую классику. Главным образом – Бунина…‖» (4; 125). Однако «анекдотичность» нередко сочетается в «Филиале» с иронией: «Здесь [в Америке] вас могут ограбить. Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное» (4; 9). (Эффект от непредсказуемого вывода сочетается здесь с иронией, относящейся к нелепостям жизни в СССР.) «Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию. Я употреблял такие слова, как, ―философема‖, ―экстраполяция‖, ―релевантный‖. Наконец редактор вызвал меня и говорит: – Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ» (4; 12 – 13). (Неожиданность заключительной фразы соединяется здесь с самоиронией автопсихологического героя.) 39 Ирония, как одна из форм смеха в довлатовских произведениях, заслуживает отдельного исследования. Отметим лишь, что иронию у Довлатова нельзя свести просто к стилистическому приему, это – художественное отражение авторского мировосприятия. Иронический принцип повествования в прозе Довлатова может служить и средством самовыражения автопсихологического героя, и попыткой вследствие неприязни к ложному пафосу скрыть подлинно высокие чувства, и способом выражения авторской оценки (чаще всего – дискредитации описываемого с помощью приема сведения к абсурду), и проявлением неодномерности авторской мысли, когда формируется специфически сдвоенный взгляд на изображаемое. Таким образом, для довлатовских произведений характерно причудливое переплетение «чистого комизма», иронии, «смеха сквозь слезы», и сам автор отчетливо понимал это. Отвечая на вопросы анкеты журнала «Иностранная литература», писатель сказал, что «наиболее сносной» из собственных книг считает повесть «Чемодан», потому что «она смешная и печальная»139. П. Вайль вспоминал, что Довлатов «мечтал о читателе плачущем»140, а не смеющемся, объясняя это тем, что «Довлатов, в общем-то не выходил из рамок российской традиции, в которой смех – это низость», и что «Сергей очень желал массового читателя и понимал, что тому нужен именно всхлип рядом со смешком»141. Но, как человек, обладавший редким чувством юмора, Довлатов умело прибегал к иронии, помогавшей жить в минуты отчаяния, и ценил проявления «чистого комизма». «…Мы осуществляем великое человеческое право на смех и улыбку. Смеемся над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством. Над пророками и псевдомучениками… Да, мир на грани катастрофы. И привели его к этой грани – угрюмые люди… и потому мы будем смеяться. Над русофобами и антисемитами… Над мягкотелыми ―голубями‖ и твердолобыми ―ястребами‖… И главное – тут я прошу вас быть абсолютно внимательными – над собой! Друзья мои! Научитесь смеяться и вы научитесь побеждать!»142; «Юмор – украшение нации. В самые дикие, самые беспросветные годы не умирала язвительная и горькая, простодушная и затейливая российская шутка. И хочется думать – пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом!» (2; 456) – писал Довлатов – редактор «Нового американца» и продолжатель русской юмористической традиции. 2.2. Лермонтовский код автопсихологической прозы С. Довлатова При внимательном прочтении текстов довлатовских произведений обнаруживается, что в них четко прослеживается лермонтовский код, хотя ни в статьях, ни в выступлениях Сергея Довлатова нет упоминаний о том, что он стремился подражать стилю М.Ю. Лермонтова, использовать элементы его поэтики или «похожим быть» на него (в то время как о желании быть похожим, например, на А.С. Пушкина, А.П. Чехова, А.И. Куприна писатель говорил неоднократно). Однако отзывы на восприятие Довлатовым лермонтовского творчества содержатся в эпистолярном наследии Довлатова, в частности, в его переписке с Е. Скульской. В своих последних письмах к ней, написанных неза40 долго до отъезда в Америку (а это был тяжелый период в жизни Довлатова: жена и дочь эмигрировали; сам он, оставшись без средств к существованию, был под постоянным надзором КГБ и, хотя уезжать не хотел, уже склонялся к решению об эмиграции), он неоднократно упоминает о Лермонтове. Извинительно говоря о лапидарности своих писем, которыми интересуются – «как будто читают из-за плеча» – разные люди, перечисляя свои занятия, среди которых – чтение «поразительных книг», Довлатов пишет: «Сообщил ли я Вам мой новый псевдоним: Михаил Юрьевич ВЕРМУТОВ»143. Довлатов не изменил имени и отчества автора, произведения которого в тот момент занимали его сознание. Зато с присущей ему иронией переделал фамилию, которая была не только созвучна фамилии Лермонтова, но и намекала на приверженность Довлатова к пагубной привычке (заметим, кстати, что здесь кроется и аллюзия на Чехова, который свое письмо старшему брату Александру от 24 ноября 1887 г. подписал: «Твой Шиллер Шекспирович Гете»144). В письмах между Скульской и Довлатовым, по-видимому, происходил обмен репликами, отражавшими их литературные пристрастия (письма Скульской к Довлатову не опубликованы, и следить за ходом «дискуссии» можно только по письмам Довлатова к Скульской). 30 мая 1978 г., уже готовясь к эмиграции, Довлатов пишет: «Теперь… о Лермонтове. Во-первых, исказили хрестоматийную цитату. Надо: ―Есть речи – (Вы пропустили тире) значенье темно иль ничтожно, но им (а не ей, как у Вас) без волненья…‖ и т.д. Но это мелочная снобистская придирка. Дальше. Подобные ―речи‖ в стихотворении Лермонтова – образ, фигура. Даже некий синдром. Сам же он изъяснялся довольно внятно. Нет? Если обнаружите у Лермонтова строчку ничтожного значения, я буду абсолютно раздавлен. А если уж долю безвкусицы (―необходимую‖) (Е.С.), то я откажусь от намерения эмигрировать и остаток дней (дней восемь) посвящу апологетизации безвкусицы»145. Такое скрупулезное – вплоть до знаков препинания – знание текста лермонтовского стихотворения, замечания о том, что больше всего волновало самого Довлатова как писателя – о ясности и значительности мысли в лермонтовских произведениях, об эстетическом вкусе художника слова, – свидетельствуют о глубоких размышлениях Довлатова относительно особенностей творчества Лермонтова, а возможно, и относительно общности их судьбы – трагической судьбы изгнанника. Так или иначе, рефлексия писателя на лермонтовский роман «Герой нашего времени» отразилась в довлатовском творчестве. Элементы текста-предшественника представлены на разных уровнях автопсихологической прозы Довлатова. Прежде всего, мы имеем возможность наблюдать однотипность жанровой структуры произведений Лермонтова и Довлатова. Первым, кто обратил внимание на соотношение довлатовской прозы с лермонтовским «Героем нашего времени», был И. Сухих: «…Сергея Довлатова можно воспринимать как автора одного, главного текста. Его пятикнижие (―Зона‖ – ―Заповедник‖ – ―Наши‖ – ―Чемодан‖ – ―Филиал‖) можно интерпретировать как роман рассказчика, метароман, роман в пяти частях (подобный ―Герою нашего времени‖)»146. Думается, что к «единому» довлатовскому тексту можно отнести также повести «Компромисс» и «Ремесло», повествование в ко41 торых ведется от лица их главного героя – Сергея Довлатова. Вспомним, что повести Лермонтова первоначально были изданы отдельно и позднее объединены в роман, в котором, по словам В. Белинского, прослеживалась «одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов»147. Системное единство перечисленных выше повестей Довлатова так же, как и у Лермонтова, обусловлено целостностью личности писателя, его жизненной позиции, неизменностью главного персонажа – персонажа автопсихологического (Алиханов – Довлатов – Далматов), – образ которого как образ представителя поколения застойного советского периода всесторонне и последовательно создается и развивается на протяжении всех повестей (юность героя и размышления о смысле жизни – в «Зоне»; отражение журналистского опыта – в «Компромиссе»; попытки найти себе применение в качестве экскурсовода в Пушкинском заповеднике и крутой поворот судьбы – в «Заповеднике»; изображение «истоков» – в «Наших»; повествование о неудачах на писательском поприще при жизни в Советском Союзе и о журналистской работе в Америке – в «Ремесле»; автопортрет на фоне вещей и семейного фотоальбома – в «Чемодане»; осознание абсурдности жизни не только в СССР, но и в эмиграции – в «Филиале»), подобно тому как в новеллах «Героя нашего времени» раскрывается с разных сторон образ Печорина. Жанровая связь произведений Довлатова с лермонтовским романом особенно заметно «обнажается» при сравнении их с главами-повестями «Журнал Печорина» и «Фаталист», отразившими, как отмечает В.А. Мануйлов в комментарии к роману «Герой нашего времени»148, многие черты биографии Лермонтова и созданными в форме «автобиографических заметок». Характерные особенности этой формы: субъективность, психологизм, авторефлексия – сближают «метароман» Довлатова, написанный от первого лица, с текстом Лермонтова; кроме того, у обоих авторов изображение образа времени и становления личности главного героя занимает центральное место и заменяет собой сюжет, что осознавалось обоими писателями: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа…»149 (М.Ю. Лермонтов) – «Мне кажется, я пишу историю человеческого сердца» [С.Д. Довлатов в статье «Как издаваться на Западе» (4; 368)]. Время Лермонтова – годы казарменной муштры и политической реакции, наступившие после разгрома восстания декабристов. Время Довлатова, как писал он сам, – «казарменный социализм», «административно-командная система и в более общем смысле – ―эпоха застоя‖. Сразу же представляется нечто мрачное, беспросветное, лишенное каких бы то ни было светлых оттенков» (4; 252). Размышляя о масштабности личности И. Бродского, Довлатов сравнивал свое поколение, называя его «гнусным», с поколением Лермонтова150. И если в довлатовских художественных произведениях нет прямого осуждения эпохи заката социализма, то оно угадывается в подтексте, который отсылает читателя к строкам Лермонтова: «Печально я гляжу на наше поколенье…» (I; 442). Раскрывая историю духовной жизни героев, находившихся в полном разладе с обществом, Лермонтов и Довлатов создают «свой портрет и портреты 42 своих знакомых» (IV; 276) в контексте своего времени. Лермонтов делает это, применяя элементы иронической экспрессии, выставляя напоказ и достоинства, и пороки Печорина, показывая его склонность к авторефлексии, раскрывающей мотивы поступков, а также изображая его глазами других героев, а главное, постоянно комментируя черты характера своего героя, анализируя его внутренний мир и особенности внешнего облика, раскрывающие душевные качества персонажа. Таким образом, одним из основных принципов создания образа Печорина у Лермонтова является принцип аналитический, причем, как отмечает У.Р. Фохт, «анализируя внутренний мир героя, Лермонтов дополняет анализ обобщениями, которые придают повествованию философско-публицистическое звучание»151. Довлатов же, избегавший прямых авторских оценок и стремившийся вслед за Пушкиным к краткости, точности и объективности своей прозы, кроме иронического принципа повествования и изображения предрасположенности героя к постоянной рефлексии, использует «тайный» психологический анализ, нередко обращаясь к мастеру психологической прозы Лермонтову и в некоторых случаях прибегая к непосредственному цитированию (точному и неточному) лермонтовского текста. Такую установку писателя можно рассматривать как стремление побудить читателя к самостоятельному психологическому анализу внутренней жизни героя. Произведения Довлатова полны реминисценций, которые отсылают к тексту романа Лермонтова «Герой нашего времени», при этом межтекстовые переклички выполняют характерологическую функцию, указывают на идентичность главных героев и во многих случаях служат для усиления обобщенности передаваемого смысла. У довлатовского и лермонтовского персонажей много общего: творческая одаренность (автопсихологический персонаж Довлатова – писатель, не признанный в своей стране и вынужденный зарабатывать журналистской работой; Печорин у Лермонтова первоначально тоже был задуман как литератор, но, по замечанию И. Сермана, принятое Лермонтовым «решение сделать героем человека мысли, безотносительно к его профессии, открывало неисчерпаемые возможности для прозы о современности»152), интеллигентность, склонность к бесконечным самотерзаниям, деструктивность в отношениях с окружающими, неясность внутренних рычагов поведения, «кривая» линия судьбы. Но, разумеется, нельзя ставить абсолютный знак равенства между Печориным и автопсихологическим героем Довлатова. Довлатовский персонаж не любит и не понимает природу, и Алиханов – автопсихологический герой повести «Заповедник» – неоднократно подчеркивает это: «русский пейзаж без излишеств» вызывает у него «необъяснимо горькое чувство» (2; 176); Алиханов равнодушен к березе – символу России: «Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку» (2; 176). Герой Довлатова видит смысл гармоничного существования не в слиянии с природой, а в приобщении к слову. Напротив, Печорин воспринимает природу глубоко, что с наибольшей полнотой отразилось в момент, когда он думает о возможной смерти – накануне дуэли: «Я помню – в этот раз, больше чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке 43 виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!» (IV; 441). Однако, в отличие от довлатовского автопсихологического героя, Печорин, высказавший Вернеру свое «убеждение», что он «в один прегадкий вечер имел несчастие родиться» (IV; 368), никогда не задумывался о своих «истоках» – читатель ничего не знает о его родителях (в отсутствии намеков на печоринские корни, вероятно, сказалось сиротство самого Лермонтова). Зато автопсихологический герой Довлатова знаком со своей родословной и по линии отца, и по линии матери (повесть «Наши»). У Печорина нет пристрастия к алкоголю, как у Алиханова – Довлатова, но есть другая страсть – стремление к власти над людьми: «первое мое удовольствие – подчинять моей воле все, что меня окружает» (IV; 401). Печорин, по сравнению с довлатовским героем, более активная, более язвительная и даже жестокая натура, склонная к нравственному вампиризму, что не мешает ему быть, по мнению Белинского, воплощением критического духа своего времени153. Отсылки к лермонтовскому тексту ни в коем случае не являются пародией, снижающей образ автопсихологического героя довлатовских произведений, наоборот, они способствуют восприятию его как личности более сложной и значительной, чем это кажется на первый взгляд. Необходимо отметить, что Довлатов – не единственный автор в истории русской литературы, который сближает своего героя именно с Печориным154. С момента опубликования лермонтовского романа «Герой нашего времени» Печорин, как первый образ лишнего человека в русской прозе, не только оказался предметом литературной критики, напряженно обсуждавшей, герой ли Печорин и кто виноват в его бедах: время, личность или «классовое положение», – но и произвел очень большое впечатление на читателей как некий образец определенного облика и поведения. Разочарованность, холодная сдержанность и небрежность Печорина, трактуемые как маска тонкого и глубоко страдающего человека, становятся предметом подражания. В 1850-е годы появляются произведения, запечатлевшие печоринство как характерное явление русской жизни: повесть «Дневник лишнего человека» И.С. Тургенева (1850), пьеса А.Н. Островского «Бедная невеста» (1851), роман М.В. Авдеева «Тамарин» (1852), водевиль И.В. Чернышева «Жених из домового отделения» (1858). Наконец, в 1874 г. М.В. Авдеев пишет работу «Наше общество (1820 – 1870) в героях и героинях литературы», рассуждая в ней о рефлексирующих героях, в том числе о Печорине. И вот через сто лет, на новом этапе истории, Довлатов возвращается к начатой Лермонтовым традиции рассматривать духовную историю общества в «героях» русской литературы. Несмотря на то, что, по замечанию Н. Выгон, тип лишнего человека был «исключен»155 из литературного процесса советской эпохи, центральный довлатовский герой, образ которого был создан автором в эмиграции, по большей части на основе неопубликованных в СССР произведений, предстает перед читателями как лишний человек Нового времени. [А в «Филиале» от изображения ситуации «лишности» (Ю. Манн) прослеживается нить к экзистенциальным ощущениям драматизма человеческого существования.] 44 Сближают автопсихологическую прозу Довлатова с «Героем нашего времени» и общие элементы романтической поэтики, важнейшими среди которых являются: параллелизм судьбы персонажа и автора, проходящих через одинаковые испытания и приобретающих опыт романтического отчуждения; изображение незаурядности героя, его вера в свое особое предназначение; совмещение противоположностей в характере и тяготение к гармонии; «бегство» главного героя как одна из высших форм его отчуждения, при этом важнейшим мотивом «бегства» становится желание свободы; романтическая ирония; рассуждения о добре и зле в их диалектическом взаимодействии; двоемирие, сохранение представления о существовании двух миров: мир идеальный, хотя и затенен, но стоит рядом с миром реальности. Интертекcтуальная связь произведений Довлатова с романом «Герой нашего времени» в некоторых случаях подчеркивается упоминанием в тексте фамилии писателя – Лермонтов. В конце одного из «писем к издателю» в повести «Зона» читаем: «Только что звонил Моргулис, просил напомнить ему инициалы Лермонтова…» (2; 42). Кстати, именно в этой «главе» текста исповедь довлатовского героя-рассказчика перекликается с размышлениями Печорина о назначении человека, о его духовной жизни и раздвоенности человеческой личности. У Лермонтова У Довлатова «…Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги» (IV; 469); «Моя сознательная жизнь была дорогой к вершинам банальности. Ценой огромных жертв я понял то, что мне внушали с детства. Но теперь эти прописные истины стали частью моего личного опыта» (2; 40); «В этой напрасной борьбе я ис«…Мне ли не знать, что такое тощил и жар души и постоянство во- душевная слабость» (2; 40); ли…» (IV; 494); «Одни скажут: он был добрый «Я увидел, как низко может пасть чемалый, другие – мерзавец!» (IV; 438); ловек. И как высоко он способен парить» (2; 16); «Славный был малый, смею вас уве- «В охране я знал человека, который не рить; только немножко странен. Ведь, испугался живого медведя. Зато любой например, в дождик, в холод целый начальственный окрик выводил его из день на охоте, все иззябнут, устанут – равновесия» (2; 40). а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один…» (IV; 284 – 285). 45 В центре довлатовского повествования стоит яркая интеллектуальная личность, ее напряженная внутренняя жизнь. Подобная тенденция отмечалась именно в творчестве Лермонтова, в отличие от пушкинского стремления в 30-е гг. XIX в. «вывести на авансцену искусства обыкновенных людей с их несложной психологией»156. Одним из важнейших мотивов «метаромана» Довлатова, как и у Лермонтова, является мотив самопознания личности в ее противоречиях. Размышляя над философскими проблемами человеческого существования и его цели, герои обоих авторов не обходят вопроса о фатализме. Мотив судьбы повторяется в «Журнале Печорина» в разных сюжетно-психологических ситуациях, но неоднократное и настойчивое обращение с вопросами к судьбе в дневниковых записях героя остается без ответа. В главе «Фаталист» Печорин пробует найти решение этой так неотступно занимающей его проблемы на примере двух судеб: чужой и своей. Цепь эпизодов, посвященных испытанию судьбы – состязанию со смертью, – показывает, что Печорин, заявивший Вуличу о своем неверии в существование предопределения, начинает сомневаться в этом и постоянно находится в привычном для себя рефлексирующем состоянии. Автопсихологический герой Довлатова верит в судьбу. В главе «Судьба» из «Невидимой книги», писавшейся в 1975 – 1976 гг. в советском Ленинграде, изданной на Западе в 1977 г. и ставшей впоследствии первой частью повести «Ремесло», он утверждает, что единственно возможная для него судьба – судьба русского писателя – была предопределена ему еще в трехнедельном возрасте встречей с Андреем Платоновым, жившим в Уфе в октябре 1941 г. (Довлатов родился в Уфе в сентябре того же года). Как веление судьбы истолковывает Алиханов из «Заповедника» неизбежность эмиграции: его «пугал такой серьезный и необратимый шаг. Ведь это как родиться заново» (2; 237). И все же пришлось эмигрировать, воссоединиться с семьей: «…Тут все гораздо сложнее. Тут уже не любовь, а судьба…» (2; 276). Испытание судьбы показано Довлатовым в повести «Зона», причем изображенный эпизод носит особый характер соотнесенности с лермонтовским текстом. Описание случая, когда Алиханов бросается на вооруженного преступника, перекликается с теми строками из повести «Фаталист», где Печорин обезоруживает казака, убившего Вулича. У Довлатова У Лермонтова «На секунду я ощу«Сердце мое сильтил тошнотворный холо- но билось…Я схватил док под ложечкой… его за руки…» (IV; 473). – Назад! – крикнул я, хватая Чалого за рукав» (2; 40). Здесь воспоминания автопсихологического героя корректируются литературным текстом; Алиханов словно осознает себя в роли Печорина, пересказывая этот эпизод в соответствии с поведением лермонтовского персонажа. Как отмечает Н. Николина, такое явление может наблюдаться в автобиографиче46 ской прозе: «‖Поведенческий текст‖ (Ю.М. Лотман) в этом случае имеет аналогом текст художественный, с которым он переплетается. С одной стороны, литературный сюжет рождается в жизни, затем воплощается в тексте и параллельно живет в воспоминаниях, с другой стороны, изображенный в художественном тексте мир влияет на характер этих воспоминаний и их отображение в другом тексте»157. Как видим, языковые средства в прозе Довлатова являются не только формой образа, но и средством аллюзии, отсылая к лермонтовскому слову, важному для интерпретации текста. Значительная часть цитат вводится Довлатовым без указания авторства, многие из них подвергаются различным модификациям и используются максимально свободно. Укажем еще на некоторые параллели в тексте Довлатова и Лермонтова. Так, и Печорин, и Алиханов (в повести «Заповедник») предстают перед читателем как потенциальные женихи (хотя сама мысль о женитьбе приводит их в ужас). У Лермонтова У Довлатова «…Видно…вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они [дамы] на меня посмотрели с нежным любопытством…» (IV; 357). «–…Простите, вы женаты? –…Наши девушки интересуются. –…У нас тут много одиноких. Парни разъехались. <…> Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы» (2; 178). Совпадает способ представления читателям главных героев – Печорина в «Журнале Печорина» и Алиханова в «Заповеднике». Имена героев называются в диалоге при встрече со старыми приятелями. Диалоги эти построены по одному плану. У Лермонтова «Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой У Довлатова «– Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет 47 знакомый голос: – Печорин! Давно ли здесь? Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде» (IV; 358). сейчас из-за поворота… Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. – Борька, хрен моржовый, – дико заорал он, – ты ли это? Я отозвался с неожиданным радушием» (2; 179). Кажущаяся на первый взгляд радушной сцена встречи Бориса Алиханова с Леней Гурьяновым даже без авторских разъяснений воспринимается как встреча не друзей, а недругов, поскольку, напоминая встречу Печорина с Грушницким, сразу отсылает к тексту главы «Княжна Мери», заканчивающейся дуэлью между Печориным и Грушницким. Используются отсылки к тексту Лермонтова и в диалоге между Алихановым и Натэллой («Заповедник»), характеризующем главного героя: « – А вы человек опасный. –То есть? – Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек. – В нетрезвом состоянии? – Я говорю не о том. – Не понял. – Полюбить такого, как вы, – опасно» (2; 189). Сравним диалог Печорина с Мэри: «– Вы опасный человек! – сказала она мне, – я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, – я думаю, это вам не будет очень трудно. – Разве я похож на убийцу?.. – Вы хуже…» (IV; 404 – 405). В довлатовском произведении наблюдается ироническое снижение лермонтовской цитаты, которая контрастирует с бытовым контекстом, и в то же время читатель понимает, что оценка героя окружающими не совпадает с его самооценкой. Самоирония, характерная для Печорина и для автопсихологического персонажа довлатовской прозы, сочетается с их ироническим отношением к обществу. Ироническая экспрессия у Довлатова в некоторых случаях усиливается именно за счет отсылки к лермонтовскому тексту. Так, в повести «Заповедник» текстовая перекличка помогает соотнести образы женщин-экскурсоводов, всеми силами поддерживавших пушкинский культ, с бездумными и нелепо выряженными представительницами светского «водяного» общества. 48 У Лермонтова У Довлатова «Я стоял сзади одной толстой дамы, осененной розовыми перьями; пышность ее платья напоминала времена фижм, а пестрота ее негладкой кожи счастливую эпоху мушек из черной тафты; самая большая бородавка на ее шее прикрыта была фермуаром» (IV; 389). «Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик – претенциозная картинка Бенуа. Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляли о себе его характерные черточки. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров цыганскую шаль. У кого-то болталась за плечами соломенная шляпа. Кому-то достался нелепый веер из перьев» (2; 194). Таким образом, ситуации и образы довлатовского «метаромана» проецируются на художественный мир Лермонтова. Одно из главных соответствий в творчестве Лермонтова и Довлатова – изображение образа времени, характеризующегося как застойное, и интерпретация главного героя как лишнего человека, осознающего абсурдность своего существования. Лермонтовские цитаты, включаемые в текст произведений Довлатова, носят как явный, так и скрытый характер. В тематическом отношении они связаны с развертыванием трех сквозных мотивов: мотива поисков истинного «я» в процессе самопознания, мотива разочарования, мотива судьбы. Автопсихологический герой Довлатова при помощи цитат и реминисценций сближается с Печориным, при этом обращение к лермонтовскому слову не только расширяет круг образных средств, используемых Довлатовым, но и выполняет характерологическую функцию, устанавливая отношения идентификации между главными героями обоих авторов, служит средством неявно выраженной авторской оценки, создавая полифонизм оценок для характеристики главного героя (самооценка, оценка глазами других персонажей, оценка с помощью интертекста). 2.3. Рецепция Гоголя в творчестве С. Довлатова Отношение Сергея Довлатова к Гоголю, согласно высказываниям самого Довлатова, было сложным, не однозначным. В своей лекции «Блеск и нищета русской литературы», прочитанной 19 марта 1982 г. в университете Северной Каролины (опубликована впервые в газете «Новый американец» № 111 за 1982 г.), Довлатов касается творчества «четырех гигантов русской прозы, явившихся на смену Пушкину», в число которых, кроме Толстого, Достоевского и Тургенева, писатель включает Гоголя. В отличие от Пушкина, чье творчество было для Довлатова образцом для подражания, все они, считает Довлатов, «стали жертвами своих неудержимых попыток выразить себя в общественнополитических и духовно-религиозных сферах деятельности» (4; 357). 49 Что касается Гоголя, то он, по мнению Довлатова, «обладал феноменальным художественным дарованием сатирической направленности, обладал не совсем обычным для русского писателя тотальным чувством юмора, написал лучший роман на русском языке – ―Мертвые души‖» (4; 359). А с другой стороны, отмечает Довлатов, Гоголь «углубился в поиски нравственных идеалов, издал опозорившую его книгу ―Выбранные места из переписки с друзьями‖… загубил в себе художника и умер сравнительно не старым и абсолютно сумасшедшим человеком» (4, 359). В повести «Ремесло» (1984), рассуждая о праве каждого автора «обнародовать написанное», автопсихологический герой Довлатова своеобразным способом пытается сопоставить себя с Гоголем: «Тринадцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь – побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. (Обязанности разные.)» (3; 8). Такие черты в писателе, как традиционно приписываемые Гоголю учительство, пророчество и обличительство, были неприемлемы для Довлатова – не случайно П. Вайль называет Довлатова «самым антидидиктическим русским писателем нашего времени, безжалостно истреблявшим в своих сочинениях намеки на наставления и мораль»158. Тем не менее между творчеством комического писателя Довлатова и творчеством комического писателя Гоголя прослеживаются достаточно прочные связи. Прежде всего, это проявляется в том, что в довлатовских произведениях так же, как в гоголевских «Ревизоре» и «Мертвых душах», юмор, ирония и игра слов, лежащие на поверхности и бросающиеся в глаза любому читателю, сочетаются с изображением абсурда повседневной действительности, причем в выборе элементов поэтики для изображения абсурдной реальности у Гоголя и Довлатова наблюдается много общего. Так, свойственное Гоголю карнавальное начало (это явление пристально рассматривается в первой главе неоднократно издававшейся работы Ю.В. Манна «Поэтика Гоголя») воплощает в себе не только особый тип народной смеховой культуры, но и является одним их элементов категории абсурдного. Под категорией абсурдного мы будем понимать особую эстетическую категорию, «в которой все классические категории смешиваются: прекрасное с безобразным, комическое с трагическим, возвышенное с низменным»159. Как отмечают исследователи, категория абсурдного начинает доминировать в мировой культуре и литературе на рубеже XIX – XX вв.160, но проявляется уже в творчестве Гоголя. Проявление категории абсурдного в произведениях Гоголя трактуется поразному: в статье 1924 г. «Как сделана ―Шинель‖ Гоголя» Б. Эйхенбаум рассматривает абсурд в гоголевском изображении исключительно как языковой прием – «прием доведения до абсурда или противологического сочетания слов»161, с помощью которого ломается логика текста и создается комический эффект. В. Набоков же, отмечая, что «абсурд был любимой музой Гоголя»162, полагает, что у Гоголя абсурдное, напротив, «граничит с трагическим»: «Было бы неправильно утверждать, будто Гоголь ставит своих персонажей в абсурдные положения. Вы не можете поставить человека в абсурдное положение, если весь мир, в котором он живет, абсурден; не можете, если подразумевать под 50 словом ―абсурдный‖ нечто, вызывающее смешок или пожатие плеч. Но если под этим понимать нечто, вызывающее жалость, то есть понимать положение, в котором находится человек, если понимать под этим все, что в менее уродливом мире связано с самыми высокими стремлениями человека, с глубочайшими его страданиями, с самыми сильными страстями, – тогда возникает нужная брешь, и жалкое существо, затерянное в кошмарном, безответственном гоголевском мире, становится ―абсурдным‖ по закону, так сказать, обратного контраста»163. Итак, одной из важнейших сторон гоголевской поэтики абсурда является карнавализация. Элементы карнавализации отмечаются, например, в гоголевской поэме «Мертвые души». Один из таких элементов – сбой в обозначении времени действия. Первым обратил внимание на этот парадокс профессор древней истории В.П. Бузескул164, а впоследствии временную несогласованность в тексте «Мертвых душ» комментировали и другие исследователи. Так, Ю.В. Манн замечает: «Собираясь делать визиты помещикам, Чичиков надел ―фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях‖. По дороге Чичиков видел мужиков, сидевших перед воротами ―в своих овчинных тулупах‖. Все это заставляет думать, что Чичиков отправился в дорогу в холодную пору. Но вот в тот же день Чичиков приезжает в деревню Манилова – и его взгляду открывается дом на горе, одетой ―подстриженным дерном‖. На этой же горе ―были разбросаны по-английски две – три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций… видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами… пониже пруд, покрытый зеленью‖. Время года, как видим, совсем другое…»165 Ю.В. Манн считает, что «ошибки» Гоголя художественно мотивированы, поскольку «Гоголь мыслит подробности – бытовые, исторические, временные и т.д. – не как фон, а как часть образа»166. Е.А. Смирнова объясняет смысл этой несогласованности во времени тем, что автор стремится превратить трагическое в смешное с помощью переключения «повествования в совершенно особую – карнавальную – мировоззренческую плоскость, в зоне действия которой не может быть ничего серьезного и сама смерть становится смешной»167. (О сложном отношении Гоголя к смерти как некоему «роковому рубежу», о попытке «обойти» «роковой рубеж» с помощью тончайшего комизма и изображения неустойчивости оппозиций: мертвый – живой, духовность – материальность – пишет и Ю.В. Манн168.) По мысли Е.А. Смирновой, Гоголь определенной техникой создает ассоциации с русским карнавалом – масленицей, которая немыслима без фигуры медведя. Так возникает «шинель на медведях» – «медведь здесь… персонифицирован, приближен (хотя всего лишь грамматическим путем) к образу, который необходимо вызвать в сознании читателя»169. Временные сбои мы наблюдаем и в довлатовской повести «Заповедник». Сначала автор опережает происходящие события, показывая, как Алиханов записал в блокнот: «Любимая, я в Пушкинских Горах, / Здесь без тебя – уныние и скука, / Брожу по заповеднику…» (2; 175), – в то время как «до Пушкинских Гор оставалось километров сто» (2; 175). Затем время, наоборот, поворачивает вспять. С приездом Алиханова в Заповедник, где он стал работать экскурсово51 дом и одновременно заниматься творчеством, жизнь его несколько упорядочилась: «В июле я начал писать. <…> … Жизнь обрела равновесие. Стала казаться более осмысленной и логичной» (2; 216). После приезда в Заповедник Татьяны, сообщившей мужу о своем намерении эмигрировать вместе с дочерью, жизнь автопсихологического героя вновь становится хаотичной. Алиханов был близок к самоубийству: «Снял ружье и думаю – не пора ли мне застрелиться?» (2; 249). Счет времени сбивается, за июлем наступает июнь (причем слово «июнь» повторяется дважды): «Июнь выдался сухой и ясный, под ногами шуршала трава. <…> Стук мячей, аромат нагретой зелени, геометрия велосипедов – памятные черты этого безрадостного июня…» (2; 249). Не только время, но и произведения Пушкина представлены в повести «Заповедник» «шиворот-навыворот». Принцип игры при этом расширяет границы привычного анализа известных произведений, привносит элемент многоплановости и многосмысленности, а главное, способствует десакрализации пушкинского мифа, так ловко приспособленного в советское время для служения партийной идеологии. Так, например, вместо строк Пушкина «Подруга дней моих суровых…» Алиханов читает есенинские: «Ты жива еще, моя старушка?», – и выдает их за пушкинские, с удивлением обнаружив, что никто из экскурсантов не заметил подмены. Название пушкинского произведения «Дубровский» звучит у Довлатова как «Домбровский» – так называет повесть Пушкина студент-филолог Гурьянов. А в Михале Иваныче, как замечает И. Сухих, «странное сочетание жестокости и доброты повторяется в тех же деталях (запертый дом, кошка)», что и в эпизоде из «Дубровского», когда «Архип-кузнец безжалостно… сжигает в запертом доме приказных-подьячих, но, рискуя жизнью, спасает бегающую по горящей крыше кошку»170. Однако в довлатовском «Заповеднике» все происходит наоборот: повесив кошек и одобрив поведение немцев, уничтожавших в войну евреев и цыган [―Худого, ей-богу, не делали. Жидов и цыган – это как положено…‖ (2; 215)], Михал Иваныч до утра просидел на крыльце, постеснявшись постучать в дверь собственного дома, которую квартирант нечаянно закрыл изнутри на щеколду. Элементы карнавализации в гоголевском и довлатовском творчестве не только помогают преодолению устойчивых, традиционных взглядов на многие явления действительности, но и дают возможность представить эти явления сложными и многогранными. Так, у Гоголя карнавальное восприятие смерти сочетается в «Мертвых душах» с философским ее пониманием, о чем свидетельствуют размышления автора, приведенные в эпизоде описания смерти прокурора в X главе. А в повести Довлатова «Заповедник» переворачивание «с ног на голову» пушкинских произведений соседствует с неподдельным восхищением творчеством Пушкина, что выражено в использовании автором приемов повествования, ориентированных на пушкинскую поэтику и стилистику. Таким образом, амбивалентность в изображении явлений – яркая черта поэтики как Гоголя, так и Довлатова. В «Заповеднике» прием «сопроникновения противоположных начал» (Ю.В. Манн) Довлатов использует особенно часто. Прежде всего, амбивалентными изображены Пушкинский заповедник (это не только пространство, где функционирует пушкинский миф, но и естествен52 ная среда обитания «живого автора») и сам Пушкин (фигура агитпропа – герой советского социокультурного мифа – и писатель, чья эстетическая позиция и художественный опыт заслуживают особого внимания). И здесь, в отношении к Пушкину, выявляется еще одна точка пересечения художественного мира Довлатова с художественным миром Гоголя. Оба писателя, обладая особым мифологическим сознанием, способностью к мифотворчеству, оказались причастными к истории функционирования пушкинского мифа: Гоголь одним из первых в русской литературе мифологизирует Пушкина – Довлатов одним из первых манифестирует в повести «Заповедник» вторичный миф о Пушкине. Кроме того, Гоголя и Довлатова сближает то, что оба они – каждый в свое время – явились одновременно не только манифестаторами, но и демифологизаторами пушкинского мифа. Существование пушкинского мифа почти с самого момента его возникновения сопровождалось появлением еще при жизни Пушкина множества анекдотов о нем, которые выполняли двойную функцию, являясь и формой развенчания, и способом манифестации литературного мифа. Сложившуюся фольклорную традицию продолжил Гоголь, который и поддерживал славу Пушкина, и в числе первых начал преобразовывать пушкинский миф: в его произведениях ирония в адрес своего кумира и «учителя» звучит неоднократно. Так, в «Невском проспекте», включенном в вышедший в 1835 году сборник «Арабески», упоминается о праздно гуляющих в дневное время по Невскому черных бакенбардах, принадлежащих «только одной иностранной коллегии», служащие которой «отличаются благородством своих занятий и привычек»171. В «Записках сумасшедшего» из того же сборника «Арабески» слово «бакенбарды» соседствует со словом «камер-юнкер», непосредственно указывающим на чин, занимаемый в то время Пушкиным: «… у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком…» (III; 204). За этим, по выражению И.П. Золотусского, «щекотаньем своего кумира»172 скрывается и соперничество [«Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам» (III; 205)], и литературная полемика Гоголя с Пушкиным. В 40-е гг., как указывает В.Ю. Белоногова, Гоголь ведет внутренний спор с Пушкиным, сводящийся к проблемам понимания профессионального долга писателя, места художника в жизни общества, не только с помощью ироничных аллюзий, сознательного «снижения» пушкинских формул и пародирования его героев, но и в непосредственно обращенных к читателям монологах, в частности, в лирическом отступлении седьмой главы «Мертвых душ», а также в многочисленных пушкинских, преимущественно ―онегинских‖, реминисценциях в тексте поэмы. В то же время в статье «В чем же наконец существо русской поэзии» в связи с пушкинским стихотворением «Странник» Гоголь выстраивает миф о Пушкине-проповеднике. Этот миф можно расценить, по мысли В.Ю. Белоноговой, как путь Гоголя к преодолению своего труднообъяснимого глубоко противоречивого отношения к Пушкину173. Довлатов, с почитанием относясь к Пушкину и его творчеству, демифологизирует именно идеологизированный вариант пушкинского мифа, бытовавший 53 в период социализма. При этом предметом акцентированного внимания писателя в повести «Заповедник» становится тот факт, что облик поэта в Советском Союзе узнается только по знаменитым бакенбардам, тросточке и цилиндру: «цилиндр, лошадь, гений, дали неоглядные…» (2; 217). Не случайно уже в самом начале повести появляется образ официанта с неестественными «громадными войлочными бакенбардами» (2; 172). Автор показывает, что изображения Пушкина встречаются на каждом шагу, «даже возле таинственной будочки с надписью ―Огнеопасно!‖. Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно» (2; 185). Таким образом, Довлатов фиксирует, что «бакенбарды» являются маркером советского заповедного пространства. С другой стороны, эта цитата, где «бакенбарды» выступают как основная черта внешности Пушкина, отсылает, прежде всего, к повестям Гоголя «Невский проспект» и «Записки сумасшедшего», а также (Довлатов нередко использует двойные интертекстуальные связи) – к эссе А. Терца «Прогулки с Пушкиным». В эссе Терца, в отличие от повестей Гоголя, ирония достаточно отчетливо звучит уже не по отношению к самому Пушкину, а к «успешно его заменяющему ―великому гражданину‖»174 («Прогулки с Пушкиным» создавались в советских лагерях сразу же после приговора, и с их помощью автор вел полемику с государством о роли художника, о необходимости для писателя обладать свободой творчества, боролся за право на другое, отличное от разрешенного искусство.): «…его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами…»175. Отсылки в повести «Заповедник» к текстам произведений Гоголя и Терца усиливают авторскую иронию по отношению к маркерам заповедного пространства советского времени. Вступая в противоборство с официальным пушкинским мифом, ставшим для Довлатова частью мифа о Стране Советов, писатель преподносит его в качестве абсурда. Однако Довлатов не только демифологизирует, но и ремифологизирует миф о Пушкине. В повести «Заповедник» автор создает свою мифологию, где Пушкин является и вдохновенной творческой личностью, чьей писательской манере Довлатову хочется подражать, и обыкновенным смертным человеком, который мучается над разрешением тех же жизненных проблем, что и автопсихологический герой повести: служебных, семейных, творческих. Ирония по отношению к «советскому» Пушкину сочетается у Довлатова с демонстрацией актуальности эстетических достоинств произведений Пушкина для литературы последней четверти XX века. Амбивалентными в «Заповеднике» изображены образы главного героя Алиханова (он одновременно «непризнанный гений» и «страшный халтурщик») и Михал Иваныча, который вызывает у читателей и сочувствие, и отвращение. Но если характеристика автопсихологического героя осуществляется с помощью оксюморона, то с выражением оценки образа Михал Иваныча дело обстоит гораздо сложнее. Михал Иваныч – это характер не случайный, а тот, в котором отразился самый распространенный и отвратительный порок, свойственный мужскому населению страны, – беспробудное пьянство. Интересно, что в создании этого характера Довлатов использует те же композиционные принципы, что и Гоголь в «Мертвых душах» при сатирическом изображении образов 54 помещиков, а в некоторых случаях в «Заповеднике» наблюдается и текстовая перекличка с гоголевской поэмой. Как известно, центральное место в I томе «Мертвых душ» занимают пять «портретных» глав (II – VI), которые построены по одному плану и показывают, как русская действительность 20 – 30-х гг. XIX века приводит людей к моральному разложению. Создавая образы, Гоголь использовал: говорящие фамилии; прямую авторскую характеристику; описание поселения, хозяйства; описание домашней обстановки, которая помогает понять характер хозяина; описание внешнего облика, в котором проявляется сходство с тем или иным животным; речевую характеристику; изображение торга. Непосредственно связанной с положительным идеалом категорией в системе гоголевской мысли выступает душа. Наличие души выражает у Гоголя полноценность человека. Пассивное подчинение антигуманной морали общества писатель рассматривает как духовную смерть личности, как смерть души. Деградация души начинается с изменения человеческого облика. Не случайно Манилов похож на кота, Собакевич – на медведя, а в Ноздреве заметно сходство с собакой, что передается иносказательно. Михал Иваныч у Довлатова по своей беззаботности и беспечности, по манере говорить тоже больше напоминает не человека, а птицу; отсюда, вероятно, и фамилия – Сорокин. В обрисовке внешности Михал Иваныча используется стилистически сниженное слово: «Тотчас высунулась багровая рожа, щедро украшенная синими глазами» (2; 191). (Гоголь хотя и не употребляет слова «рожа», изображая портреты помещиков, но, как указывает В.В. Гиппиус, «откровенно рисует не лица, а рожи, причем рожи человеческие переходят в звериные»176.) В то же время при описании внешнего облика Михал Иваныча звучит явная авторская симпатия, выраженная в словах героя-рассказчика Бориса Алиханова: «Это был широкоплечий, статный человек. Даже рваная, грязная одежда не могла его понастоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругий, четкий шаг… Я невольно им любовался…» (2; 192). Проявление сочувственного авторского отношения к Сорокину показано и в дальнейшем повествовании: «Миша – человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный…» (2; 198). Позицию автора вполне можно понять: его автопсихологический герой не скрывает, что он обладает тем же пороком, что Михал Иваныч, поэтому так снисходительно относится к нему. Тем не менее читательское отношение к Михал Иванычу не может однозначно совпадать с авторским, и в этом большую роль играет язык художественных ассоциаций и уподоблений, свойственный поэтике Довлатова. Интертекстуальные связи повести «Заповедник» с поэмой «Мертвые души», проявляющиеся в использовании перечисленных выше гоголевских приемов создания образов, а 55 также в непосредственном точном и неточном цитировании Гоголя, приводят к вытеснению авторского оценочного слова. Сопоставим довлатовский текст с гоголевским. У Гоголя У Довлатова Описание поселения, хозяйства Описание усадьбы Манилова: «…Темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы … нигде между ними растущего деревца или какойнибудь зелени; везде глядело только одно бревно. …Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки» (VI; 23). Описание усадьбы Плюшкина: «Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр…» (VI; 111). «Некрашеные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята. Нервной мультипликационной походкой выступали куры. Звонко тявкали лохматые приземистые собаки» (2; 190). «Хозяйства у Михал Иваныча не было. Две худые собаки, которые порой надолго исчезали. Тощая яблоня и грядка зеленого лука…» (2; 198). «Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла – заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля» (2; 192). 56 «Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим изпод широкой щели, находившейся внизу двери» (VI; 114). «С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно… было заклеено бумагою…» (VI; 119). Описание домашней обстановки У Коробочки: «Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всѐ были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как нашивали при Павле Петровиче» (VI; 47). У Плюшкина: «Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. <…> «В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли. Утюг, заменявший гирю, касался пола… Соседняя комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависла. Две металлические кровати были завалены тряпьем и смердящими овчинами. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа» (2; 192). 57 На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки…» (VI; 114 115). Изображение торга У Манилова: «‖Теперь остается условиться в цене…‖ ―Как в цене?‖, сказал опять Манилов и остановился. ―Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то, с своей стороны, я предаю их вам безынтересно и «– Сколько платить? – А нисколько. – То есть как? – спрашиваю. – А вот так. Неси шесть бутылок отравы, и площадь за тобой. – Нельзя ли договориться более конкретно? Скажем, двадцать рублей вас устраивает? Хозяин задумался: – Это сколько будет? – Я же говорю – двадцать рублей. – А если на кир пере58 купчую беру на себя‖» (VI; 36). У Ноздрева: «‖Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу‖» (VI; 79). вести? По рупь четыре? – Девятнадцать бутылок «Розового крепкого». Пачка «Беломора». Два коробка спичек, – отчеканил Толик. – И два рубля – подъемных, – уточнил Михал Иваныч. Я вынул деньги» (2; 193). На фоне домов-поместий Пушкиных, Осиповых, Ганнибалов Довлатов показывает убогость русской деревни: бревенчатые серые избы, традиционные петухи и куры. Но дом Михал Иваныча производит особенно страшное впечатление. Описание его помещения напоминает описание хозяйства у Плюшкина, которого Гоголь назвал «прорехой на человечестве»: беспорядок, нагромождение ненужных вещей, какое-то тряпье, яичная скорлупа, остановившиеся часы. Не забыта и такая деталь, как портреты знаменитых людей на стенах. Но если в гоголевской поэме портрет Багратиона в комнате Собакевича и портрет Кутузова в комнате Коробочки являются не только приметой эпохи, но и выражением русского богатырства, то в комнате Михал Иваныча фотография Гагарина, соседствующая с цветным портретом Мао, выглядит абсурдно. Кроме цветописи, как у Гоголя, при описании домашней обстановки Довлатов использует прилагательные, характеризующие различные запахи: «прокисшая еда», «смердящая овчина». Пристрастия Михал Иваныча раскрываются и в сцене торга, и в речевой характеристике персонажа. Ей Довлатов придавал особенно большое значение: «Мишина речь была организована примечательно. Членораздельно и ответственно Миша выговаривал лишь существительные и глаголы. Главным образом, в непристойных сочетаниях. Второстепенные же члены употреблял Михал Иваныч совершенно произвольно. Какие подвернутся. Я уже не говорю о предлогах, частицах и междометиях. Их он создавал прямо на ходу. Речь его была сродни классической музыке, абстрактной живописи или пению щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом» (2; 214). Таким образом, изображая характер Михал Иваныча, Довлатов использует гоголевские принципы создания образа, при этом автор нередко обращается к цитированию текста поэмы «Мертвые души». Интертекстуальные связи позволяют интерпретировать образ Михал Иваныча как образ человека, потерявшего человеческую душу, ведь за выбор жизненного пути человека несет ответственность не только общество, но и сам человек. Вслед за Гоголем хочется сказать: «И до такой ничтожности… гадости мог снизойти человек!» (VI; 127). Бедность чувств героя, отсутствие душевного отношения с его стороны к жене и детям вызывает у читателя самые разнообразные эмоции – от сострадания и снисходительности до отвращения и негодования. 59 В галерею сатирических портретов повести «Заповедник», кроме образа Михал Иваныча, входят и образы экскурсоводов Пушкинского заповедника. Один из них – Митрофанов; в нем «блестящая любознательность» и «феноменальная память» сочетались с фантастической ленью и атрофией воли. Рассказ о лени Митрофанова доходит до гротеска: «Был случай, когда экскурсанты, расстелив дерматиновый плащ, волоком тащили Митрофанова на гору. Он же довольно улыбался и вещал…» (2; 205) . Сатирически изображен и авантюрист Стасик Потоцкий, который «решил стать беллетристом. Прочитал двенадцать современных книг. Убедился, что может писать не хуже. Приобрел коленкоровую тетрадь, авторучку и запасной стержень» (2; 206) и стал сочинять по рассказу в день – «сочинения его были тривиальны, идейно полноценны, убоги» (2; 206). Когда Потоцкого перестали печатать, он приехал работать экскурсоводом в Пушкиногорье и здесь «выдумал новый трюк»: «подстерегал очередную группу возле могилы. Дожидался конца экскурсии. Отзывал старосту и шепотом говорил: «Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа!» Затем уводил группу в лес и показывал экскурсантам невзрачный холмик» (2; 209). Рассказывая о судьбе провинциального автора Потоцкого, не имевшего «явных литературных способностей» (2; 208), Довлатов касается постоянно звучавших в его прозе перекликающихся тем: о назначении художника слова, о возможности свободной творческой деятельности в СССР, о художественных достоинствах произведений русских и советских писателей. Уже на первых страницах повести «Заповедник» автопсихологический герой исповедуется читателю: «Жить невозможно. Надо либо жить, либо писать. Либо слово, либо дело. Но твое дело – слово…» (2; 183). Вспомним о начале гоголевской статьи из «Выбранных мест из переписки с друзьями» – «О том, что такое слово», где Гоголь пишет: «Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому: За слова меня пусть гложет, За дела сатирик чтит, – сказал так: ―Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела‖» (VIII; 229). И тут же Гоголь комментирует: «Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще» (VIII; 229). Как видим, афоризм Довлатова «твое дело – слово» представляет собой парафразирование пушкинских слов, переданных Гоголем и одобренных им. Именно так – в виде парадокса – вставляет Довлатов свою реплику в диалог русских писателей, начатый еще Ломоносовым, о неразрывном единстве творчества и жизни177. (Довлатовские слова перекликаются, кроме того, со словами А. Блока: «Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные в мир, сами начинают творить свое дело. ―Слова поэта суть уже его дела‖. Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и 60 производят какой-то отбор в грудах человеческого шлака…»178 – в высказывании Блока закавычены слова Пушкина.) С иронией цитируя фрагменты из произведений чебоксарского прозаика Потоцкого [«Наиболее яркими в них были стилистические погрешности и опечатки» (2; 207)], с горечью говоря о том, что десятки заурядных рассказовблизнецов «украшали молодежные журналы» (2; 206) советского периода, констатируя, что у писателя Волина «слово перевернуто вверх ногами» (2; 182), автопсихологический герой «Заповедника» (вместе с автором, ориентирующимся в своем творчестве на Пушкина) подтверждает полную солидарность с Гоголем, главным тезисом которого в статье «О том, что такое слово» было: «Обращаться с словом нужно честно» (VIII; 231). Размышления о собственной неудавшейся писательской участи заставляют довлатовского Алиханова обратиться к чтению произведений тех авторов, которые в то время в Советском Союзе печатались: «Я улегся поверх одеяла, раскрыл серый томик Виктора Лихоносова. Решил наконец выяснить, что это за деревенская проза? Обзавестись своего рода путеводителем…» (2; 181); «Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. (Услышал бы Толстой подобный комплимент!) И тем не менее в основе – безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: ―Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!.‖ (2; 213). В последнем из процитированных отрывков прослеживаются двойные интертекстуальные связи – перекличка Довлатова не только с Лихоносовым, но и с Гоголем, у которого в лирических отступлениях, содержащихся в одиннадцатой главе поэмы «Мертвые души», обращения к Руси проникнуты высоким лирическим пафосом. Для знакомства с писателями-деревенщиками Лихоносов был выбран Довлатовым вовсе не случайно: в повести Лихоносова «Элегия», созданной в 1972 – 1973 гг., рассказывается о паломничестве автопсихологического героя в Пушкинские Горы и затрагиваются те же проблемы, что и в довлатовском «Заповеднике» (отношение потомков к Пушкину, судьба России, писатель и цена его слова). Довлатов очень точно подмечает, что основной мотив повествования у Лихоносова – горький, пессимистический мотив, продиктованный невозможностью вернуть патриархальность как символ русской национальной самобытности, а вместе с ней прежнюю, старозаветную Россию. Автопсихологический герой «Элегии», с патетикой рассуждающий о том, что во время путешествий он чувствует «утомительное тягучее безмолвие в просторах Руси, и она, Русь, благословляет тебя…»179 (эти лихоносовские слова тоже, как видим, перекликаются с лирическим отступлением одиннадцатой главы «Мертвых душ» о Руси), становится свидетелем разговора экскурсантов о прошлом и настоящем России: 61 «Три сестры, очевидно, спорили до меня. – Лучше было забыть, и всѐ забыли… Куда всѐ ушло? – развела руками старшая»180. Лихоносов повествует, как к Пушкину из «глухой сибирской деревни»181 приезжает молодой учитель. Во время пребывания в Тригорском учителю казалось, что он пришел в гости к людям XIX века. «Они говорили с учителем. Они без смущения признавались в своих секретах, в самых тайных подробностях, и нынче им было легко признаваться. С гордостью пускали барышни в свои уголки, показывая господские пяльца, подушечки, любовные записки. Посмотрите, – точно подталкивали они, – посмотрите же со вниманием из своего двадцатого века, как мы жили когда-то, в какой обстановке… Вам не завидно? … Мы дети своего века и другой, о, совсем другой России…»182 Автопсихологический герой Лихоносова вспоминает строки из пушкинского стихотворения «Поэту» (1830): «Ты царь: живи один. Дорогою свободной / Иди, куда влечет тебя свободный ум…», в котором Пушкин напоминает о том, что «взыскательный художник» должен уметь сам «всех строже оценить» «свой труд»183. «Повторил, насладился, поддался музыке и власти поэта… Не забудь же, не измени!»184 Но вскоре тон повествования меняется, становится безысходным: «Кто, скажешь, верит теперь в пушкинское завещание, где они, эти творцы? Каждый день черт будет шептать тебе братски: ―Брось! живи! пользуйся! Мир шумит, царствует, несет искушения, чужие примеры соблазняют теплом, даровым хлебом, вояжами за границу, ловкими увертками быть всегда правым. Слово упало в цене. Не лезь!‖ <…> Да разве писатель я?!»185 Это горькие и искренние слова о невозможности писателя сопротивляться советскому режиму. Довлатов отвечает Лихоносову четырьмя предложениями, разбитыми на три абзаца: «Голову ломают: ―Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!‖ Кто, кто… Известно кто… И нечего тут голову ломать…» (2; 213). Далее автор возвращается к рассказу о реальной жизни того времени – о пьянстве Михал Иваныча, которое можно расценивать как «алкогольный протест» (2; 240) против существовавшей российской действительности и которое одновременно свидетельствует о том, что пили не только в городе, деградировавшем, по мнению писателей-деревенщиков, нравственно, но и в деревне, и поэтому идеализация деревенской жизни – это компромисс с советской властью. Так, с помощью аллюзий и реминисценций осуществляется перекличка Довлатова, не желавшего «писать по лживым стандартам»186 соцреализма, с Гоголем и Лихоносовым. Экспрессивно-эмоциональное обращение к Руси в лирических отступлениях «Мертвых душ» связано у Гоголя с выражением чувства сильнейшего патриотизма и с его размышлениями над проблемой долга писателя-гражданина. Мечтавший об искоренении всего «презренного и глупого в жизни» (VI; 243) России, полемизировавший с «так называемыми патриотами» 62 по вопросу об истинном патриотизме, Гоголь признавал трагичность своей судьбы – судьбы сатирика, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину… повседневных характеров…» (VI; 134).Несмотря на возможность оскорблений, насмешек, ругательных статей в свой адрес, Гоголь дал в поэме сатирическое изображение крепостнической России, т.к. видел свой писательский долг в том, чтобы показать действительную жизнь родной страны, сказать о ней горькую правду. Писатель-деревенщик Виктор Лихоносов сетует на положение советского писателя, но смиряется с ним. Интертекстуальные связи с поэмой Гоголя «Мертвые души» и с повестью Лихоносова «Элегия» позволяют Довлатову вложить глубинный смысл в несколько коротких абзацев повести «Заповедник». Используя в одном произведении синтез жанров – автопсихологической повести и анекдота, – автор достигает исповедальности, лиричности, с одной стороны, и сатирического эффекта, едкости – с другой. В этом тоже довлатовская повесть «Заповедник» напоминает гоголевскую поэму «Мертвые души», где гармонично переплетаются лирическое и сатирическое направления. В повести «Чемодан» для изображения общей обстановки тотального жизненного абсурда, когда нормальными считаются явления, события и факты, противоречащие логике здравого смысла, Довлатов использует один из излюбленных гоголевских приемов – введение в повествование большого количества второстепенных персонажей, роль которых не менее, а, возможно, более важна, чем роль главного героя. Именно Гоголь первым в русской литературе отказался от привычной иерархии главных и второстепенных персонажей. В произведениях Гоголя, по наблюдениям В. Набокова, второстепенные герои «оживляют фон действия»187. На страницах «Мертвых душ» некоторые из подобных лиц появляются только один раз, другие же «вместе с Чичиковым и помещиками, с которыми он встречается… занимают авансцену книги, хотя мало разговаривают и не оказывают видимого влияния на похождения героя. В пьесе [«Ревизор»] жизнь побочных персонажей ограничивалась тем, что о них упоминали действующие лица»188. В повесть Довлатова «Чемодан», занимающую всего 120 страниц, вводится столько персонажей второго плана, что их трудно сосчитать. Они не просто создают фон, а являются героями довлатовской России, где абсурд распространен повсеместно и в которой все абсурдное является нормой. Например, в главе «Номенклатурные полуботинки», рассказывающей о невероятной для реальной действительности краже (о том, как главный герой украл во время банкета, посвященного открытию станции метро «Ломоносовская», импортные ботинки у председателя ленинградского горисполкома), появляются второстепенные персонажи, среди которых есть не только вымышленные лица: штангист Дудко, скульпторы Виктор Дрыжаков и Чудновский, – но и реально существовавшие: композитор Андрей Петров, режиссер Владимиров, художник Шемякин. Упоминаются также Ю. Гагарин, В. Маяковский, Ф. Кастро, В.И. Ленин, которые у Довлатова изображены в виде скульптур, находящихся «в мастерской знаменитого скульптора». Все эти исторические личности были «абсо63 лютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой» (3; 306). Увидев героев и вождей времен социализма в таком оскорбляющем их достоинство виде, главный персонаж «похолодел от страха. – Ничего удивительного, – пояснил скульптор, – мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду… Зато наши скульпторы – люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина» (3; 306). Ленину как второстепенному персонажу у Довлатова посвящено значительно больше места, чем остальным: в лирическом отступлении автор повествует о том, какой комический случай произошел в Челябинске во время открытия там памятника Ленину. «Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке» (3; 307). Иронизируя по поводу преклонения советских граждан перед героями социалистической эпохи, Довлатов сосредоточивается все же на доказательстве главной мысли главы, которая заключается в следующем: в России воруют все и везде. При этом автор подчеркивает: «Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве» (3; 305). Перечисление случаев воровства, совершенного второстепенными персонажами, которые даже не имеют имени, рисует убедительную картину подобного явления: «тонкий, благородный, образованный человек… унес с предприятия ведро цементного раствора»; «приятель» украл избирательную урну; «третий знакомый» украл огнетушитель; «четвертый» знакомый «унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона»; «пятый» унес «афишную тумбу»; «шестой» прихватил «пюпитр из клуба самодеятельности» (3; 305). Сродни воровству и получение денег за недобросовестно выполненную работу. Скульпторы, не жалея государственных средств, наживаются на изображениях Ленина. Бригада камнерезов, работать в которую устроился герой Довлатова, создает вместо скульптуры Ломоносова «мраморную глыбу» – нечто среднее между «мужиком и бабой». «Скульптуру», установленную на станции метро «Ломоносовская», убрали через два месяца, но деньги за работу над рельефом «полностью заплатили» (3; 317). Количество «побочных персонажей» увеличивается за счет того, что в их роли часто у Довлатова выступает не один человек, а множество людей: «приятели»; «тысячи полторы народу», собравшиеся на митинг в честь открытия памятника Ленину в Челябинске; «каменщики, электрики, штукатуры» – строители метро; «трезвые работяги» с оттопыренными карманами; «чиновники исполкома»; «представители ленинградской общественности»: «ученые, генералы, спортсмены, писатели» (3; 312). Если в «Мертвых душах» Гоголя «побочные характеры» «оживлены всяческими оговорками, метафорами, сравнениями и лирическими отступлениями»189, то в довлатовском «Чемодане» почти с каждым из таких персонажей связана какая-нибудь совершенно невероятная, абсурдная история. Даже безымянные «электрики, сварщики, маляры, штукатуры» становятся активными действующими лицами, например, в эпизодах, рассказывающих о том, как в 64 процессе работы главному герою – Довлатову – пришлось шесть раз ходить за водкой. «На следующий день мы поступили иначе. А именно сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх. На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется. Но окружающие по-прежнему выпивали. И щедро угощали нас. На четвертый день Лихачев объявил: – Я не фрайер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?.. И я отправился наверх…» (3; 310 – 311) В главе «Приличный двубортный костюм» только один главный герой – Довлатов, остальные персонажи – второстепенные. Их более двадцати. Это директор Пушкинского заповедника, генерал Филоненко, французский художниккоммунист Фернан Леже, редактор газеты, ответственный секретарь Минц, заведующий отделом пропаганды Безуглов, отец и мать Безуглова, Сашка Шевелев, Самойлов, Мищук, тромбонист Балиев – бывший заключенный [«недавно с гастролей вернулся» (3; 322)], русский умелец Евгений Эдуардович Холидей, дворничиха Брыкина, начальник домоуправления Михеев, Галина Викторовна Шапорина, машинистка Манюня Хлопина, майор КГБ Чиляев, швед Артур Торнстрем, диссидент Шамкович и другие. Истории, связанные с этими героями, характеризуют разные явления советской действительности. Читатель узнает не только про то, что у журналиста была небольшая зарплата, которой не хватало, чтобы приобрести «приличный», т.е. импортный костюм, но и про то, что даже при наличии денег купить его можно было лишь «по знакомству» (такого рода знакомства, или блат, были только у высокопоставленных лиц – у редактора газеты, например). А если такой костюм был куплен, то ходить в нем было некуда – разве что в театр и на похороны. Рассказывая о стремлении главного героя заработать на статьях «широкого общественно-политического звучания» (3; 320), автор показывает, что сделать это было не так-то просто, поскольку многие темы были закрыты для журналистов. Этих запретных тем как раз и касается в своей повести Довлатов. В главе объемом в четырнадцать страниц писатель повествует о «собачьей жизни» одинокой многодетной дворничихи, которую государство наградило медалями и пособием в размере сорока рублей в месяц; о нелегальной работе частного пансиона Шапориной; о стремлении к «красивой» жизни машинистки Хлопиной; о бдительности КГБ и даже о том, как был разоблачен шведский шпион, оказавшийся на самом деле консервативным журналистом. Довлатовская повесть «Чемодан» состоит из «Предисловия» и восьми небольших глав, которые, в свою очередь, складываются из отрывков и фрагментов, показывающих разные стороны русской действительности советского времени и дающих ее целостную картину (читатель узнает о службе в армии, о жизни чиновников, кэгэбистов, рабочих, журналистов, писателей, артистов, 65 спекулянтов, заключенных), подобно тому как «Мертвые души» Гоголя во многом отражают жизнь России первой половины XIX века, а в «Ревизоре» автор охватывает «все стороны общественной жизни и управления»190. Не случайно Г. Боева называет «Чемодан» «энциклопедией советской жизни»191. При сопоставлении довлатовского произведения с гоголевскими немаловажную роль играет такая деталь, как чемодан. С чемоданом из Петербурга в провинцию едет Хлестаков; странствуя по России, Чичиков берет с собой чемодан «из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге» (VI; 8),. Но если у Чичикова, кроме чемодана, был еще «небольшой ларчик красного дерева с штучными накладками из карельской березы» (VI; 8), то герой Довлатова – Довлатов – уезжает из России с одним старым фанерным обвязанным бельевой веревкой (поскольку замок не работал) чемоданом, с котором когда-то ездил в пионерлагерь. «На крышке было чернилами выведено: ―Младшая группа. Сережа Довлатов‖. Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: ―говночист‖» (3; 288). Да и этот один-единственный чемодан был заполнен ненужными вещами, с каждой из которых была связана нелепая история ее приобретения. «Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это все? И ответил – да, это все» (3; 290). Так довлатовский чемодан становится символом «пропащей, бесценной, единственной жизни» (3; 289). Заслуживает внимания довлатовская ономастика, которая во многом сходна с гоголевской (Ю.В. Манн «странное и необычное в именах и фамилиях персонажей»192 выделяет как одну из форм выражения странно-необычного, или парадоксального, в творчестве Гоголя) и становится одним из элементов поэтики абсурда. Как и Гоголь, Довлатов использует «игру» имен: странное имя нередко сочетается с обычной фамилией или наоборот. Например, у Гоголя: Никифор Тимофеевич Деепричастие («Иван Федорович Шпонька и его тетушка») – у Довлатова: Фред Колесников («Креповые финские носки»). У обоих авторов многие фамилии содержат в себе «говорящие» элементы. У Гоголя: частный пристав Уховертов, полицейские Свистунов и Держиморда, судья Ляпкин-Тяпкин. У Довлатова: потомок знаменитого Левши, который подковал английскую блоху, – русский умелец Холидей, генерал Филоненко («Приличный двубортный костюм»), скульптор Чудновский, помощник бригадира Цыпин – Цыпа («Номенклатурные полуботинки»). Таким образом, Довлатов – осознанно или неосознанно – становится продолжателем традиций Гоголя в русской литературе, что находит свое проявление в сочетании лирического и сатирического начал в прозаическом произведении, а также в использовании писателем таких элементов поэтики абсурда, сходных с гоголевскими, как карнавализация, амбивалентность в изображении явлений и образов, введение в повествование большого количества второстепенных персонажей, «игра» имен. Рецепция Гоголя в произведениях Довлатова обнаруживается в точном и неточном цитировании Гоголя и в гоголевских реминисценциях, позволивших Довлатову «озирать всю громадно-несущуюся жизнь… сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы» (VI; 134). 66 2.4. Тургеневские реминисценции в повести С. Довлатова «Филиал» В выступлении «Блеск и нищета русской литературы» Довлатов дал такой отзыв о творчестве И.С. Тургенева: «Тургенев начал с гениальных ―Записок охотника‖, затем написал романы ―с идеями‖ и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева, мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться» (4; 358). Однако в повести «Иностранка», где, упоминая о себе в одном из диалогов между персонажами в 3 лице, Довлатов ставит себя рядом с Тургеневым, отражается совершенно иное мнение о нем: «– Вы что, Довлатова не знаете? Он пишет, как Тургенев, даже лучше. – Ну, если как Тургенев, этого вполне достаточно» (3; 265). А в последней повести Довлатова – «Филиал» – отмечаются явные переклички с тургеневскими произведениями. Так, сюжет повести «Филиал» напоминает сюжет романа «Дым»; близки между собой, при всем различии стиля авторов, и некоторые композиционные приемы. Точно сказать, думал ли Довлатов о своем предшественнике во время написания повести или подражал бессознательно, трудно. Очевидно, как полагает С. Чекалова, «оба писателя были уязвлены одной и той же жизненной ситуацией»193, отраженной позднее в художественной форме. Роман Тургенева «Дым» рассказывает о кружке эмигрантов, озабоченных будущим России. Автор вводит в произведение любовную историю, о которой он хотел написать отдельную повесть, – историю любви Литвинова и Ирины. В юности, живя в Москве, герои полюбили друг друга, но Ирина предпочла браку с обедневшим помещиком Литвиновым брак по расчету. Главные герои встречаются за границей, на водах, после десяти лет разлуки, и страсть с новой силой вспыхивает в их сердцах, хотя Ирина замужем, а у Литвинова есть невеста. В «Филиале» Довлатова тоже отражена жизнь представителей эмиграции, рассуждающих о преобразовании России; есть и любовная история. Автор включает в повествование лирические фрагменты из своего ненапечатанного романа «Один на ринге», который он, по воспоминаниям Т. Зибуновой, писал про свою первую любовь, живя в Таллинне с 1972 по 1975 г.194. Герои Довлатова – Далматов и Тася, любившие друг друга и расставшиеся в Ленинграде, – не виделись пятнадцать лет и встретились в Лос-Анджелесе, куда главный герой приезжает на конференцию. Тася беременна, а у Далматова в Нью-Йорке жена и двое детей, но он понимает, что по-прежнему любит Тасю. Обе сюжетные линии довлатовской повести – и рассказ о жизни русских эмигрантов, и история любви Далматова и Таси – наполнены реминисценциями, отсылающими к «Дыму». В этом романе (задуманном в 1862 – 1863 гг. и напечатанном в 1867 г.) политическая эмиграция, увлеченная идеями Чернышевского и Герцена, изо67 бражена Тургеневым резко критически. Писатель саркастически высмеивает русское заграничное барство, развлекающееся на курорте вдалеке от России и толкующее о ее будущности, а в образах разночинцев, приехавших за границу с революционными задачами, подчеркивает только их крикливую заносчивость и жонглерство громкими фразами. Тургенев придает образам эмигрантов оттенок карикатурности, при этом все герои имеют реальные прототипы (в некоторых же образах проступают черты не одного, а двух реальных лиц). Так, изображая Губарева – провозвестника новой политической доктрины, собирающего вокруг себя толпу доверчивых поклонников, – Тургенев намекал на Н. Огарева (даже фамилии их рифмуются). Огарев как раз во время создания «Дыма» в ряде статей, напечатанных в «Колоколе», развивал народническую теорию общинного социализма, видя в общине начало, призванное обновить мир, и отрицал созданную буржуазией Запада цивилизацию. Тургенев, сомневаясь в великой миссии патриархальной крестьянской общины, в своем романе защищает европейскую цивилизацию. Взгляды автора в романе выражают Потугин, в чьи уста вкладывается положительная программа западников, и Литвинов, который будущее России видит в преодолении пережитков крепостничества с помощью реформ и в постепенном приобщении русского народа к благам цивилизованной Европы. Так в романе «Дым» отражаются историко-философские и социально-политические дискуссии Тургенева с Герценом, Огаревым и Бакуниным195. Изображая в «Филиале» жизнь эмиграции 1970 – 1980-х гг., Довлатов, уже с позиций своего времени, возвращается к вопросам, волновавшим русскую интеллигенцию в течение двух веков: о будущем своей страны и о взаимоотношениях между Россией и Западом, – и вступает в своеобразный диалог с Тургеневым. Как известно, русские писатели – эмигранты «третьей волны», устремившиеся в конце XX века в Америку, выдвигали тезис о Западе как прямой противоположности России. Однако Довлатов, очутившись в эмиграции, приходит к выводу о невозможности реализации каких-либо утопий и за океаном: Америка не является филиалом рая на земле, американская жизнь так же абсурдна, как и советская (см. об этом параграф 3.1.). В повести «Филиал» писатель стремится развеять американский миф, доведя его до абсурда, и именно с этой целью рисует ярко сатирические образы эмигрантов – представителей «третьей волны», рассуждающих о будущем России. Выводы участников общественно-политической секции придуманного Довлатовым симпозиума «Новая Россия» звучат нелепо: «Все единодушно признали, что Запад обречен, ибо утратил традиционные христианские ценности. Все охотно согласились, что Россия – государство будущего, ибо прошлое ее ужасающе, а настоящее туманно. Наконец все дружно решили, что эмиграция – ее достойный филиал» (4; 115). Взгляды самого Довлатова выражает в повести его автопсихологический герой, который на вопрос редактора Тарасевича: «… Что ты думаешь о будущем России?» – дает ответ: «Откровенно? Ничего. <…> Я еще с прошлым не разобрался…». А на вопрос: «Есть у тебя какие-нибудь политические идеалы?» – отвечает: «Не думаю». Однако все-таки высказывает свое мнение «о буду68 щем»: «Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим – это уже другой вопрос. Но мир будет единым. С общим хозяйством. Без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему…» (4; 16). У Далматова, по его словам, нет «мировоззрения», зато есть «миросозерцание». В отличие от Тургенева, Довлатов был твердо убежден, что писатель не имеет права отражать свои политические убеждения в художественном произведении. В выступлении на международной конференции «Литература в эмиграции: третья волна» 16 мая 1981 г. (опубликованном в газете «Новый американец», № 67, 24 – 30 мая 1981 г.) Довлатов выступил против стремления литераторов «третьей волны» «любой ценой дезавуировать тоталитарный режим»196. Он утверждал, что такая задача является «ложной для писателя. <…> Об ужасах советской действительности расскажут публицисты. Историки. Социологи. Задача художника выше и одновременно – скромнее. И задача эта остается неизменной. Подлинный художник глубоко, безбоязненно и непредвзято воссоздает историю человеческого сердца»197. (И в этом позиция Довлатова совпадала со взглядами А.П. Чехова. В довлатовских словах обнаруживается аллюзия не только на Лермонтова, призывавшего писать «историю души человеческой», но и на Чехова, рассуждавшего в письме от 6 февраля 1898 г. к А.С. Суворину: «Скажут: а политика? Интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее»198.) «История человеческого сердца» раскрывается в другой сюжетной линии повести «Филиал», которая рассказывает о любви Далматова и Таси и заслуживает особого внимания, поскольку исследователи творчества Довлатова чаще всего обращают внимание на ироничность его повествования, на механизмы юмора, и почти никто не замечает авторского лиризма, способности писателя передать глубокие романтические переживания автопсихологического героя. А ведь повесть «Филиал», которая завершает творческий путь Довлатова, – одно из лучших произведений русской литературы конца XX века, посвященных изображению первой любви. По силе и искренности чувств главного героя, по способу передачи его душевных переживаний «Филиал» можно поставить рядом с романом Тургенева «Дым», а также с тургеневскими повестями о первой любви («Ася», «Первая любовь», «Вешние воды»). Довлатовское представление о любви как о стихии, не подвластной человеку, также совпадает с тургеневским, и в этом чувствуется отголосок влияния на обоих писателей пессимистической теории А. Шопенгауэра: Тургенев в свое время был приверженцем шопенгауэровской философии, а Довлатов, по свидетельству А. Арьева, тоже Шопенгауэра «читал с вниманием»199. Фрагменты «Филиала», посвященные любви главных героев, становятся иллюстрацией к рассуждениям Шопенгауэра о непрерывных человеческих страданиях: счастье – всегда «обманчивая, хрупкая и печальная вещь»200; человек постоянно одинок и «может находиться в совершенной гармонии лишь с самим собою…»201 - внешние источники счастья ненадежны. 69 В основе сюжетной линии «Филиала», повествующей об отношениях Далматова и Таси, лежит история драматичной любви Сергея Довлатова к Асе Пекуровской – первой жены писателя. Ася Пекуровская, ставшая прототипом главной героини повести, по воспоминаниям Михаила Рогинского, была в молодые годы женщиной «совершенно необыкновенной красоты»202. Сам же Довлатов, как вспоминает его друг Д. Дмитриев, с юности сознательно воссоздавал свой образ – «образ человека, который везде и всюду производит впечатление»203 благодаря своему артистизму, красоте, начитанности, остроумию, желанию лидерствовать. «Он не мог себе позволить быть вторым, это было просто не в его натуре»204. Любовь Довлатова и Пекуровской «была основана на противостоянии и потому стала нелегким испытанием для обоих. Сережа очень ревновал Асю (она пользовалась большим успехом) и заставлял ее в свою очередь ревновать. Оба они мучились и переживали…»205. Довлатов и Пекуровская быстро расстались, но первая любовь прошла через всю жизнь писателя. В «Филиале» Довлатов, подобно Тургеневу с его философией любви как роковом, своенравном чувстве, распоряжающемся жизнью человека, показывает, что даже взаимная любовь оказывается несчастной. С одной стороны, это романтическое, поэтическое, возвышенное чувство: любимая девушка «взошла над моей жизнью, осветила ее закоулки» (4; 77), с другой – это трагедия: Далматов постоянно испытывает ревность, тоску, страх от мысли, что может потерять Тасю, ненависть к себе, чувство вины перед Тасей и жалости ко всем бедным, больным, несчастным. Вместе с темой первой любви в повесть «Филиал» входит мотив утраченного счастья, которое было близко и возможно. С утратой счастья Далматова не покидают предчувствие беды, ощущение тревоги, абсурдности жизни. Повествование о любви окрашивается элегическим лиризмом, проникнутым иронией, за которой скрываются истинные, глубокие чувства. Раскрывая силу чувств героя, автор ориентируется на особенности тургеневского психологизма, который С.Е. Шаталов условно назвал «фиксированным психологизмом», обогащенным (в поздних произведениях, в частности в «Дыме») «элементами, воспроизводящими непосредственно поток сознания, со всеми присущими ему противоречиями и завихрениями»206. В отличие от Л. Толстого, Тургенев использовал подобный способ психологического анализа только по отношению к главному герою. Те же принципы изображения автопсихологического персонажа мы видим у Довлатова: самораскрытие главного героя происходит через внутренний монолог, при этом фиксируются лишь отдельные психические состояния Далматова – эпизоды, рисующие его переживания, быстро меняются, как кадры на экране: «Иногда я замечал упрек в Тасиных глазах. Я стал думать – что произошло? Чем я провинился? Могу же я просто смотреть на эту девушку? Просто лежать с ней рядом? Просто сидеть в открытом кафе? Разве я виноват, что полон сдержанности?..»(4; 53); «Мы тогда не виделись пять дней. За эти дни я превратился в неврастеника. Как выяснилось, эффект моей сдержанности требовал ее присутствия. Чтобы относиться к Тасе просто и небрежно, я должен был видеть ее» (4; 57); 70 «Раньше я был абсолютно поглощен собой. Теперь я должен был заботиться не только о себе. А главное, любить не только одного себя. У меня возникла, как сказал бы Лев Толстой, дополнительная зона уязвимости. Жаль, что я не запомнил, когда это чувство появилось впервые. В принципе, это и был настоящий день моего рождения» (4; 77); «Все мужчины, которых я знал, были с Тасей приветливы и корректны. Все они испытывали к ней дружеское расположение. И не более того. Однако жизнь моя была наполнена страхом. Я боялся, что все они тайно преследуют мою любовь» (4; 83 – 84); «Любую неприятность я воспринимал как расплату за свои грехи. И наоборот, любое благо – как предвестие расплаты. Мне казалось, что я не должен был радоваться. Не должен открыто выражать свои чувства. Показывать Тасе, как она мне дорога. Я притворялся сдержанным. Хотя догадывался, что утаить любовь еще труднее, чем симулировать ее» (4; 88); Рассказывая об истории любви Далматова к Тасе, Довлатов использует ту же композиционную схему, что и Тургенев в повествовании о романтических отношениях между Литвиновым и Ириной (подобный композиционный принцип наблюдается и в тургеневской повести «Вешние воды»). Он пишет о том, как любуется герой красотой Таси, воспроизводит поток его романтических переживаний, смену настроений, ассоциаций, показывает раскаяние героя при осознании им трагической развязки отношений. Оба автора передают сначала впечатление молодого человека от внешнего вида девушки, его любование ею. У Довлатова: «… Она высокая, стройная. Голубая импортная кофточка открывает шею. Тени лежат возле хрупких ключиц. Я протянул руку, назвал свое имя. Она сказала: ―Тася‖. И тут же выстрелила знаменитая ленинградская пушка. Как будто прозвучал невидимый восклицательный знак. Или заработал таинственный хронометр. Так началась моя погибель» (4; 37); «Я любовался Тасей. Догадывался, что она не случайно идет впереди. То есть предоставляет мне возможность разглядывать себя…» (4; 49). У Тургенева: «Это была девушка высокая, стройная… с редкою в ее лета бледно-матовой кожей, чистою и гладкою как фарфор, с густыми белокурыми волосами… Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне еще утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости…»207. «Литвинов влюбился в Ирину, как только увидал ее… <…> Бывало… сидит и украдкой смотрит на Ирину: сердце в нем медленно и горестно тает и давит ему грудь…»208. Далматов, как и тургеневские герои, обнаруживает большую склонность к рефлексии, самоанализу: «Дома я час просидел на кровати. Все думал о том, что случилось. Как легко удалось этой девушке расстроить меня. Стоило ей уйти не простившись, и все. И вот я уже чуть не плачу. Хотя, казалось бы, чего я ждал? Объяснения в любви на исходе первого дня знакомства? Бурной любовной сцены в холодном подъезде? Предложения сердца и руки? 71 Конечно, нет. Однако я страдал и мучился. Ведь каждый из нас есть лишь то, чем себя ощущает. А я ощущал себя глубоко и безнадежно несчастным» (4; 43). «И снова я целый вечер думал о Тасе. Я утешал себя мыслью: ―Должна же она готовиться к зачетам. И потом – не могут люди видеться ежедневно…‖. При этом я был совершенно уверен, что видеться люди должны ежедневно, а к зачетам готовиться не обязательно» (4; 46). «Почему я даже в шутку не заговаривал с Тасей о женитьбе? Почему с непонятны упорством избегал этой темы? Очевидно, есть во мне инстинкт собственника. И значит, я боялся ощутить Тасю своей, чтобы в дальнейшем не мучиться, переживая утрату. Став ее законным мужем, я бы навсегда лишился покоя. Я бы уподобился разбогатевшему золотоискателю, который с пистолетом охраняет нажитое добро» (4; 89); «Ты жалуешься – я мол, не виноват. Ты перестал быть человеком, который ей необходим. Разве это не твоя вина?.. Ты удивляешься – как изменилась эта девушка! Как изменился мир вокруг! Свидетельствую – мир не изменился. Девушка осталась прежней – доброй, милой и немного кокетливой. Но увидит все это лишь человек, которому она принадлежит… А ты уйдешь» (4; 90 – 91). Основные эпизоды сюжета, посвященные изображению переживаний главного героя, его встречам с любимой девушкой, невелики по объему. Фрагментарность повествования напоминает кадры из кинофильма. Исследователи творчества Тургенева отмечают, что он, «по-видимому, одним из первых в русской литературе начал разрабатывать и совершенствовать» подобный прием: «Собранно-лаконичному стилю Тургенева-психолога присущи некоторые свойства, как бы предвосхищающие искусство кино, – пишет А.И. Батюто. – Сцены в его романах чередуются с кинематографической быстротой, усугубляемой не всегда заметными для неискушенного глаза зияниями между ними. Такие сцены похожи на то, что мы теперь называем ―кадрами‖…»209. Стремясь к лаконизму повествования, Довлатов использует в «Филиале» принципы «тайного» психологического анализа. Так, например, отрывок из стихотворения Мандельштама, повторяющийся в тексте повести дважды: «Быть может, прежде губ уже родился шепот, / И в бездревесности кружилися листы, / И те, кому мы посвящаем опыт, / До опыта приобрели черты …», – помогает понять причины ревности и страданий Далматова: он не может простить Тасе ее прошлого, ее опыта, приобретенного до встречи с ним. Приемы «тайного» психологического анализа были свойственны именно поэтике Тургенева, который считал: «Поэт должен быть психологом, но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но представляет только самые явления – в их расцвете или увядании…»210. Изображая эмоциональное состояние главного героя, Тургенев обычно рисует картины природы, которые созвучны этому состоянию, настроению. 72 Довлатов, характерной чертой поэтики которого является либо полное отсутствие пейзажа, либо предельно лаконичный пейзаж, тоже прибегает к нему в «Филиале», чтобы передать смену настроения Далматова или усилить значительность его переживаний: «Мы погуляли еще немного. <…> Солнце, остывая, исчезло за деревьями. <…> Затем мы снова шли по набережной. В сгущавшихся сумерках река была почти невидима. Но близость ее ощущалась. <…> Затем она повернулась и ушла. <…> На улице стало пасмурно. Из-за поворота налетал холодный ветер» (4; 42). Так, с помощью пейзажа автор фиксирует, как меняется настроение у влюбленного молодого человека на протяжении всего свидания, проходившего за городом: «И вот она сказала: ―Поехали купаться‖ – ―Сейчас?‖ – ―Лучше завтра. Если будет хорошая погода‖. <…> Наутро я первым делом распахнул окно. Небо было ясное и голубое» (4; 46); «Песчаное дно круто устремилось вниз. Я поплыл, ориентируясь на четкие силуэты Кронштадта. С криком проносились чайки. На воде мелькали их дрожащие колеблющиеся тени. Я заплывал все дальше, с радостью преодолевая усталость. На душе было спокойно и весело. Очертания рыболовных судов на горизонте казались плоскими. Приятно было разглядывать их с огромным вниманием. Я заплыл далеко. Неожиданно ощутил под собой бесконечную толщу воды. Перевернулся на спину, выбрав ориентиром легкую розоватую тучку. На берег я вышел с приятным чувством усталости и равнодушия. Тася помахала мне рукой» (4; 51 – 52); «Мы подъезжали к Ленинграду. Пейзаж за окном становился все более унылым. Потемневшие от дождя сараи, заборы и выцветшая листва. Щегольские коттеджи. Сосны, яхты – все это осталось позади. И только песок в сандалиях напоминал о море» (4; 53 – 54). Довлатов показывает беззащитность, хрупкость, обреченность чувства главного героя, препятствиями для которого стали материальные затруднения, уязвленное самолюбие, ревность. Сам герой понимает это и впоследствии раскаивается: «Казалось бы, люби и все. Гордись, что Бог послал тебе непрошеную милость. <…> Любить эту девушку – все, что мне оставалось. Разве этого недостаточно? А я все жаловался и роптал. Я напоминал садовника, который ежедневно вытаскивает цветок из земли, чтобы узнать, прижился ли он» (4; 106). Тургеневские реминисценции присутствуют и во фрагментах довлатовской повести, посвященных встрече героев в эмиграции. Перед встречей с Ириной Литвинова мучает неопределенная тоска и дурные предчувствия. Далматов тоже «ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. Не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался…» (4; 35). Ирина принесла Литвинову в гостиницу букет гелиотропов, которые должны были напомнить ему о прошлом (когда-то в юности он подарил ей букет этих сине-фиолетовых душистых цветов). Тася принесла Далматову в гостиницу щенка: «–…Это тебе… Ты же всегда хотел иметь собачку» (4; 76). 73 Замысел автора рассказать не только об истории своей первой любви, но и о жизни в эмиграции, предопределил изображение Таси в финале повести. Тася вовлечена в общественную деятельность эмигрантов, и ее облик приобретает сатирический характер, как и образы всех других членов эмигрантских кружков разного рода. Сами приемы в обрисовке характера Таси изменились: оттенялись ее отрицательные черты, точно так же, как в финальной части романа Тургенева «Дым» выделялись отрицательные черты характера Ирины, не захотевшей изменить свою жизнь среди достатка и благополучия ради любви. Во время второй встречи, за границей, Литвинов объясняется в любви Ирине, Далматов – Тасе, однако ни героям Тургенева, ни героям Довлатова не суждено быть вместе. Остаются лишь размышления о фатальном чувстве. У Довлатова: «Раз уж это случилось, то все. Конца не будет. До самой, что называется могилы. Или, как бы это поизящнее выразиться, – до роковой черты» (4; 128). У Тургенева: «Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым, каким образом может мужчина – мужчина! – допустить влияние на себя женщины, любви…»211. Таким образом, споря с Тургеневым по поводу возможности отстаивать в художественном произведении свои политические идеи и убеждения, Довлатов берет на вооружение принципы поэтики Тургенева – певца любви, когда дело касается воссоздания «истории человеческого сердца». Повествуя о любви Далматова и Таси, Довлатов использует те же приемы изображения образа главного героя, что и Тургенев: фиксация эмоционально-романтических переживаний персонажа, выраженных с помощью внутренних монологов; созвучность пейзажа настроению и чувствам героя, использование «тайного» психологического анализа. Психологизму автора «Филиала» присущ свойственный Тургеневу элегический лиризм с оттенком иронии. Любовь в изображении Довлатова – чувство глубокое, сильное, возвышенное, но стихийное, неуправляемое, трагическое. 2.5. Достоевский в художественном сознании С. Довлатова Ф.М. Достоевскому в первой десятке лучших авторов мировой литературы Довлатов отводил второе место. В письме к Е. Скульской (из переписки 1976 – 1977 гг.) Довлатов писал: «… Хемингуэй плоский, Фолкнер объемистый, но без рентгена. А у этого – душераздирающие нравственные альтернативы… Я бы их так расположил: ―Деревушка‖ Фолкнера, ―Преступление и наказание‖ (угадайте, кто автор), ―Портрет‖ Джойса, ‖Гэтсби‖, ―Путешествие на край ночи‖ Селина, ―Арап Петра Великого‖, ―Гулливер‖, ―Бовари…‖, а дальше уже идет всякая просто гениальная литература»212. Во вступлении к трехтомному собранию сочинений Довлатова А. Арьев упоминает о том, что молодой Довлатов особый интерес проявлял лишь к тем писателям, в произведениях которых находил элементы юмора. Так, он «охотно поддерживал мысль о том, что и Достоевский гениален лишь тем, что порой бе74 зумно смешно пишет...»213. А. Генис тоже вспоминает: «Довлатов… уверял, что Достоевский – самый смешной автор в нашей литературе214. Ему вторит П. Вайль: Довлатов, «обладая редким чутьем на юмор», «у Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в ―Братьях Карамазовых‖»215. По воспоминаниям А. Пекуровской, Довлатова привлекало в Достоевском то, что он «был смешон именно в самые свои патетические моменты. У него Раскольников где-то взял сестру и мать за руки, после чего минуты две всматривался то в ту, то в другую, и при этом мать Раскольникова, к тому же ―Пульхерия Александровна‖, как сообщает нам читавший Гоголя Достоевский, не выдержав грустного взгляда сына, разражается рыданиями. Теперь представьте себе человека, который в своих небольших руках (демонстрация небольших рук, которые, как известно, были в наличии) держит еще четыре руки, строго говоря ему не принадлежащие, и в такой комической позе еще пытается, не без успеха, зарыдать от сострадания. Именно зарыдать. Именно от сострадания»216. В своих произведениях Довлатов упоминает имя Достоевского неоднократно. Например, в «Соло на IBM»: «Сцена в больнице. Меня везут на процедуру. На груди у меня лежит том Достоевского. <…> Врач-американец спрашивает: – Что это за книга? – Достоевский. <…> Таков обычай? – интересуется врач. – Да, – говорю, – таков обычай. Русские писатели умирают с томом Достоевского на груди. Американец спрашивает: – Ноу Байбл? (Не Библия?) – Нет, – говорю, – именно том Достоевского. Американец посмотрел на меня с интересом» (4; 235 – 236). Такое отношение к Достоевскому отражает осознание Довлатовым своей приверженности к его традиции (как утверждает А. Арьев в интервью с В. Волошиной, на Западе Довлатова как раз неоднократно сравнивали с Достоевским217), проявление которой в довлатовском творчестве в полной мере еще не исследовано. Любимым произведением Довлатова, по свидетельству Е. Скуль218 ской , был рассказ Достоевского «Бобок» (1873), который, как вспоминает В. Нечаев, Довлатов «считал лучшим рассказом в мировой литературе»219. В нем наиболее ярко проявляется как амбивалентная природа смеха Достоевского, затрагивающего сиюминутное и вечное, обыденное и фантастическое, плотское и духовное и имеющего глубокий и серьезный философский подтекст, так и мастерство Достоевского в создании парадоксальных ситуаций – неожиданных, непривычных, противоречивых по отношению к общепринятому, традиционному взгляду или здравому смыслу. Рассказ «Бобок», как известно, явился предметом пристального внимания М. Бахтина в монографии «Проблемы поэтики Достоевского». Исследователь 75 тщательно анализирует исключительность положения, воспроизводимого автором: герой-рассказчик, ставший свидетелем разговора мертвецов, которым дарована «последняя жизнь сознания (два – три месяца до полного засыпания)», наблюдает, как «используют» «современные мертвецы» «жизнь вне жизни», ничем не ограниченную, свободную, освобожденную «от всех условий, положений, обязанностей и законов обычной жизни»220. Оказывается, вместо ожидаемых раскаяния, смирения, заботы о своей душе перед лицом вечности мертвецы тратят подаренные им последние мгновения сознания на брань, скандалы, игру в преферанс, смех, бесстыдные разговоры, что приводит героя в недоумение. Не только «загробная жизнь» в рассказе Достоевского предстает карнавализованной, но и описание кладбища и похорон, как отмечает М. Бахтин, «проникнуто подчеркнутым фамильярным и профанирующим отношением к кладбищу, к похоронам, к кладбищенскому духовенству, к покойникам, к самому ―смерти таинству‖»221. К основным жанровым особенностям рассказа «Бобок» Бахтин относит: необычность образа рассказчика (это человек, «уклонившийся от общей нормы»)222; внутренне диалогизированную, пронизанную полемикой речь рассказчика и особый ее тон – «зыбкий, двусмысленный, с приглушенной амбивалентностью»223; карнавализацию; описание, полное снижений и приземлений, карнавальной символики и одновременно грубого натурализма и построенное на оксюморонных сочетаниях, карнавальных мезальянсах; наличие анакризы, провоцирующей «мертвецов раскрыться полной, ничем не ограниченной свободой»224. Довлатов, которого И. Сухих называет «природным филологом», сделавшим «филологию предметом своей литературы»225, вероятно, был знаком с работой Бахтина. И если карнавализация воздействовала на Достоевского «преимущественно как литературно-жанровая традиция, внелитературный источник которой, то есть подлинный карнавал, может быть, даже и не осознавался им со всею отчетливостью»226, то вряд ли можно ошибиться, предположив, что рассказ «Бобок» и, возможно, его бахтинская интерпретация, в свою очередь, оказали влияние на творчество Довлатова. Так, «Компромисс одиннадцатый» из повести «Компромисс» явно перекликается с рассказом Достоевского. Одним из основных мотивов повествования становится мотив подмены. Журналист Довлатов, выполняя редакционное задание, участвует вместо уехавшего в командировку Шаблинского в похоронах директора телестудии Ильвеса. Довлатову дают для выступления написанную другим человеком речь, надевают на него чужой пиджак, путают его фамилию – в результате свое «прощальное слово» он произносит как «товарищ Долматов» (1; 386). Отношение к похоронам и к покойникам определяется, прежде всего, словами рассказчика: «Я ненавижу кладбищенские церемонии. <…> На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Я ненавижу похо76 роны за ощущение красивой убедительной скорби. За слезы чужих, посторонних людей. За подавляемое чувство радости: ―Умер не ты, а другой‖. За тайное беспокойство относительно предстоящей выпивки. За неумеренные комплименты в адрес покойного» (1; 367). А в словах похоронной речи, заготовленной Шаблинским, слышится откровенный цинизм: «Товарищи! Как я завидую Ильвесу! Да, да, не удивляйтесь. Чувство белой зависти охватывает меня. Какая содержательная жизнь! Какие внушительные итоги! Какая завидная слава мечтателя и борца! <…> …Спи, Хуберт Ильвес! Ты редко высыпался. Спи!..» (1; 369). Кроме того, профанация проявляется в подмене покойников во время похорон и в невозможности вовремя исправить ошибку: «Сейчас вы будете хохотать. Это не Ильвес» (1; 385); «Ильвеса под видом Гаспля хоронят сейчас на кладбище Меривялья <…> Ночью поменяют гробы» (1; 387). Автор показывает, как трагическое событие превращается в трагикомическое – окружающим совершенно безразлично, кто умер, таинство ритуала погребения низводится до конвейера, сама церемония превращается в «ответственное мероприятие» (1; 386). Налицо и карнавальное действо увенчания – развенчания. Похороны Гаспля под видом Ильвеса транслируются в прямом эфире телевидения, а в газете «Советская Эстония» появляется репортаж с кладбища с использованием соответствующих штампов и клише советского времени: «Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма» (1; 364), «Под звуки траурного марша… Над свежей могилой звучат торжественные слова прощания… В траурном митинге приняли участие… Память о Хуберте Ильвесе будет вечно жить в наших сердцах» (1; 365). С другой стороны, выясняется, что Ильвес обладал такими нравственными качествами, что от него отвернулись «родные и близкие»: «откровенно говоря, его недолюбливали» (1; 386). Н.А. Орлова отмечает, что в «Компромиссе» Довлатова «знаковость внешней стороны человеческой личности и общественной жизни тесно переплетается с удвоением смехового мира. Возникает хорошо знакомый по мировой литературе мотив двойничества, зеркальности. Формы раздвоения смехового мира очень разнообразны. Появление комических двойников (Довлатов – Шаблинский, Ильвес – бухгалтер Гаспль и т.д.) – одна из них. Это дает автору широкие возможности для различных антитез и сопоставлений»227. Герои противопоставлены, прежде всего, по занимаемому ими положению в иерархической общественной системе. Шаблинский – журналист, который умел создавать «проблемные материалы» (1; 366) для советской прессы, и поэтому у него был приличный черный костюм, а у аполитичного Довлатова даже костюма не было – только джемпер. Ильвеса как «номенклатурного работника» (1; 387) хоронят на привилегированном кладбище, в отличие от простого смертного – бухгалтера Гаспля. Мысль о том, что хоронить будут по земным «заслугам», волнует как героя рассказа «Бобок» («Разные разряды. Третий разряд в тридцать рублей: и прилично и не так дорого. Первые два в церкви и под папертью; ну, это кусается»228), так и довлатовских персонажей: «– Прямая трансляция, – сказал Быковер. Затем добавил: – Меня-то лично похоронят как собаку» (1; 384). 77 Тем не менее, несмотря на важный чин покойника, обряд прощания с Ильвесом приобретает «оттенок веселой относительности, становится почти бутафорским»229 (М. Бахтин); с помощью оксюморонных сочетаний он показан автором амбивалентным: это одновременно похороны и «торжества», участники которых должны «скорбеть и лицемерить» (1; 367). Сравним: герой рассказа «Бобок» «ходил развлекаться, попал на похороны»230, заметил, что на кладбище «много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной веселости»231. В описании поведения довлатовского героя во время похорон также прослеживаются параллели с Достоевским. Герой рассказа «Бобок» «закусил и выпил»232 в ресторане за воротами кладбища; герой Довлатова, получив от распорядителя «булькнувший сверток», принял «глоток перед атакой» (1; 382) в фургоне, где стоял гроб. В «Компромиссе» герои кладут для закуски бутерброды на крышку гроба, в рассказе Достоевского: «на [кладбищенской] плите… лежал недоеденный бутерброд»233. Довлатов, неся гроб, обращает внимание на особенную тяжесть этого груза: «Медленно идти с тяжелым грузом – это пытка. Я устал. Руку сменить невозможно. Быковер сдавленным голосом вдруг произнес: –Тяжелый, гад…» (1; 384). У Достоевского: «…участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле. Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим…»234. Герой Достоевского заглядывает в лица мертвецов и в могилы: «Заглянул в могилки – ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком»235. У Довлатова: «Я шагнул к могиле. Там стояла вода и белели перерубленные корни.<…> Неизвестный утопал в цветах. Клочок его лица сиротливо затерялся в белой пене орхидей и гладиолусов» (1; 386). К элементам карнавализации, профанирующему и фамильярному [даже галстук Довлатов старается завязать мертвецу «кембриджским лотосом», преимущество которого в том, что «узел легко развязывается», – «Ильвес будет в восторге» (1; 380)] отношению к смерти в довлатовском повествовании присоединяется двусмысленная речь рассказчика – похоронная речь, доведенная до гротеска. Довлатов, которому «поручено быть желающим» (1; 382) выступить, произносит над могилой незнакомого ему покойника совсем не те слова, которые подготовил, и – происходит фантастическое: герой-рассказчик ощущает себя лежащим в гробу. Примечательно, что текст рассказа Достоевского «Бобок» отражается в довлатовском тексте «наизнанку». Если у Достоевского из гробов слышится смех и разговоры о низменном (автор при этом подробно характеризует голоса мертвецов: «брезгливый», «визгливый», «хохочущий», «испуганный», «дерзкий», «сюсюкающий» и т.п.), то у Довлатова «далекий» голос вещает о смятении души, о нетленном и возвышенном. 78 «Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос: ―…Я не знал этого человека. Его души, его порывов, стойкости, мужества, разочарований и надежд. Я не верю, что истина далась ему без поисков. Не думаю, что угасающий взгляд открыл мерило суматошной жизни, заметных хитростей, побед без триумфа и капитуляций без горечи. Не думаю, чтобы он понял, куда мы идем и что в нашем судорожном отступлении радостно и ценно. И тем не менее он здесь… по собственному выбору…‖ <…> ―… О чем я думаю, стоя у этой могилы? О тайнах человеческой души. О преодолении смерти и душевного горя. О законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца…‖» (1; 386 – 387) По мысли М. Бахтина, исключительная, парадоксальная ситуация в рассказе Достоевского «Бобок» «подчинена чисто идейной функции провоцирования и испытания правды»236. Герой-повествователь, пораженный «нравственной вонью», дает заключительную оценку: «Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения и… А главное, главное, в таком месте! Нет, этого я не могу допустить…»237. Герой Довлатова после похорон человека, который «разминувшись с именем, казался вещью» (1; 386), понимает, что «в открывшемся мире не было перспективы. <…> …Гармонию выдумали поэты, желая тронуть людские сердца…» (1; 387). Сближает «Компромисс одиннадцатый» с рассказом Достоевского и полемика со своими современниками относительно литературного творчества. Если герой Достоевского – непризнанный писатель – полемизирует с редакторами, не печатающими его произведений, с публикой, не понимающей юмора, то автопсихологический герой Довлатова выступает против «типичного журналиста с его раздвоенностью и цинизмом» (1; 370). Перекличка с Достоевским наблюдается и в довлатовской повести «Заповедник». Подобно тому как в «Братьях Карамазовых» «под звуки трактирного органа, под стук бильярдных шаров, под хлопанье откупориваемых пивных бутылок монах и атеист решают последние мировые вопросы»238 (речь идет о беседе Ивана и Алеши в трактире «Солнечный город» на торговой площади захолустного городка), в «Заповеднике» во время пьянки Алиханова с фотографом Марковым обсуждается самый насущный для автопсихологического героя вопрос – о неизбежности его эмиграции. Во фрагменте есть все то, что М. Бахтин обозначает «трущобным натурализмом» и «жизненной грязью». Действие изображается в провинциальном советском ресторане «Витязь»: дверь его «была распахнута и подперта силикатным кирпичом. В прихожей у зеркала красовалась нелепая деревянная фигура – творение отставного майора Гольдштейна. На медной табличке было указано: Гольдштейн Абрам Саулович. И далее в кавычках: ―Россиянин‖. Фигура россиянина напоминала одновременно Мефистофеля и Бабу Ягу» (2; 252). «Обнажение» правды происходит то под звон мелких 79 монет, которые падали «в блюдечко с отбитым краем» (2; 252) на буфетном прилавке, то под кашель и смех «рабочих турбазы, санитаров психбольницы и конюхов леспромхоза» (2; 253), то под пронзительные звуки гармошки. Все в довлатовском повествовании переворачивается «с ног на голову». Автопсихологический герой после отъезда жены и дочери за границу размышляет о том, что впереди у него – «развод, долги, литературный крах» (2; 253), но уезжать из страны не хочет. Слова о невозможности жить в Советском Союзе из-за отсутствия творческой свободы произносит не Алиханов, которого не печатают на родине, а его двойник – «российский алкаш»-интеллигент – фотограф Марков, для которого творческая свобода как раз не проблема: «Зарабатываю много… каждая фотка – рубль… За утро – три червонца… К вечеру – сотня… И никакого финансового контроля…» (2; 255 – 256). Автор указывает на исключительность своего героя: «Длинноволосый, нелепый и тощий, он производил впечатление шизофреника-симулянта… Он мог бы сойти за душевнобольного, если бы не торжествующая улыбка и не выражение привычного каждодневного шутовства. Какая-то хитроватая сметливая наглость звучала в его безумных монологах… Молодец высказывался резко, отрывисто, с болезненным пафосом и каким-то драматическим напором… Он был пьян, но и в этом чувствовалась какая-то хитрость…» (2; 254 – 255). Марков не знает никаких преград в претворении своих желаний, тем не менее мечтает о другой жизни, потому что жизнь, которую он ведет, не устраивает его: «Что остается делать?.. Пить… Возникает курская магнитная аномалия. День работаешь, неделю пьешь… Другим водяра – праздник. А для меня – суровые будни…» (2; 256). Без какой-либо сложной и развернутой аргументации [в качестве аргументов выступают слова: «Ненавижу… Ненавижу это псковское жлобье!..» (2; 256) и «Свободы желаю! Желаю абстракционизма с додекакофонией!..» (2; 256)] Марков выдвигает идею о своей эмиграции: «Раньше я думал в Турцию на байдарке податься. Даже атлас купил. Но ведь, потопят, гады… Теперь я больше на евреев рассчитываю…» (2; 257). Необузданная мечтательность, граничащая с маниакальными состояниями, по мысли М. Бахтина, так же, как сновидения и безумие, разрушает «эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой»239. Для сцены в ресторане «Витязь» характерны злободневность, публицистичность: в довлатовском тексте кроются многочисленные аллюзии на общественно-политическую жизнь Советского Союза и различные события эпохи. Речь Маркова, свидетельствовавшая о сложном, неоднозначном отношении героя к своей стране, состояла из «тошнотворной смеси» «газетных шапок, лозунгов, неведомых цитат» (2; 254). Эта сцена, с одной стороны, подготавливает финал повести – решение Алиханова эмигрировать из СССР, с другой стороны, приобретает чуть ли не философское значение, свидетельствуя об относительности такого понятия, как свобода творческой личности. 80 Рецепция Достоевского отчетливо проявляется в повести Довлатова «Зона». «Довлатовская ―Зона‖ соткана из аллюзий, реминисценций, из прямых отсылок на Достоевского. Это произведение – диалог с традициями русской классической литературы, вне контекста которой понять глубину, богатейший подтекст повести невозможно»240, – пишет Э.Ф. Шафранская, которая одной из первых среди исследователей поставила имя Довлатова рядом с именем Достоевского. Правда, Довлатов сам в письме к издателю – эпистолярными вставками связаны все фрагменты его повести – указывал на своих предшественников: «―Каторжная‖ литература существует несколько веков. Даже в молодой российской словесности эта тема представлена грандиозными образцами. Начиная с ―Мертвого дома‖ и кончая ―ГУЛАГом‖. Плюс – Чехов, Шаламов, Синявский. Наряду с ―каторжной‖ имеется ―полицейская ‖ литература. Которая также богата значительными фигурами. От Честертона до Агаты Кристи. Это – разные литературы. Вернее – противоположные. С противоположными нравственными ориентирами. Таким образом, есть два нравственных прейскуранта. Две шкалы идейных представлений. По одной – каторжник является фигурой страдающей, трагической, заслуживающей жалости и восхищения. Охранник – соответственно – монстр, злодей, воплощение жестокости и насилия. По второй – каторжник является чудовищем, исчадием ада. А полицейский, следовательно, – героем, моралистом, яркой творческой личностью. Став надзирателем, я был готов увидеть в заключенном – жертву. А в себе – карателя и душегуба. То есть я склонялся к первой, более гуманной шкале. Более характерной для воспитавшей меня русской литературы. И разумеется, более убедительной. (Все же Сименон – не Достоевский.) Через неделю с этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой. Вторая – тем более. Я, вслед за Гербертом Маркузе (которого, естественно, не читал), обнаружил третий путь. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями…» (2; 45 – 46). Обзор предшествующих «Зоне» произведений автор сделал с присущими ему краткостью и ироничностью (сравнение себя с Гербертом Маркузе, соединившим в своей философии учения Маркса и Фрейда) и в то же время вполне исчерпывающе. Текстуальный анализ произведений «каторжной» литературы позволяет сделать вывод, что эпизоды «Зоны», самые ранние варианты которых Довлатов писал в 1965 – 1968 гг. вскоре после демобилизации из ВОХРы, где он служил в 1962 – 1965 гг. (первый год в Коми АССР, затем под Ленинградом), представляют собой прямую перекличку с повестью Достоевского «Записки из Мертвого дома» (1861). Перекличка наблюдается, прежде всего, в жанровом соответствии и в заглавиях произведений: у Достоевского повесть названа «Записки из Мертвого 81 дома», у Довлатова повесть «Зона» имеет подзаголовок – «Записки надзирателя». Слово «тюрьма» оба автора заменяют метафорой, оба указывают, что произведения написаны в жанре записок, обосновывая этот выбор фрагментарностью изображаемого. У Достоевского: «Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем. <…> …Каторжные записки – ―Сцены из Мертвого дома‖, – как называет он их сам где-то в своей рукописи… »241. У Довлатова: «… Моя рукопись законченным произведением не является. Это – своего рода дневник, хаотические записки, комплект неорганизованных материалов» (2; 8), «заметки» (2; 23). Источниками записок и для Достоевского (проведшего четыре года на каторге – с 1850 по 1854 гг.), и для Довлатова послужил реальный жизненный опыт. Но, как замечает Э.Ф. Шафранская, «помимо синонимичности названий, есть в них и явное противопоставление, поскольку ―Записки‖ Достоевского принадлежат острожнику, ―Записки‖ Довлатова – стражнику»242, так что в ходе диалога «на один и тот же феномен писатели смотрят с разных сторон ―колючей проволоки‖»243. Кроме того, объединяются эпизоды записок в одно художественное целое у Достоевского и у Довлатова совершенно по-разному. Достоевский прибегает к использованию принципа, не нового для русской литературы, когда разрозненные повести (у Достоевского – фрагменты) объединяются как главы под видом записок «знакомого» автору лица, например, у Лермонтова в «Герое нашего времени» или у Пушкина в «Повестях Белкина». Особенностью довлатовского повествования выступает то, что в нем отсутствует традиционное деление на главы: записки начинающего писателя о своей армейской службе в конвойных войсках чередуются с письмами к издателю, являющимися вторичным текстом, так как они написаны гораздо позже записок надзирателя уже зрелым автором и в основном посвящены комментированию лагерных рассказов. Е.Е. Баринова рассматривает письма к издателю как метатекст «Зоны», а саму повесть относит к постмодернистской литературе, аргументируя тем, что метатексты, которые «во многом способствуют возникновению игры, когда стирается четкая грань между текстами писем и записок, между литературой и жизнью» 244, «наиболее характерны для постмодернистского художественного творчества»245. Однако знакомство с довлатовским эпистолярным наследием помогает выявить, что Довлатов писал рассказы, как он сам объяснял в письме к Г.Н. Владимову от 24 февраля 1984 г., «с расчетом на американские журналы и на дальнейшие американские издания в виде книг, не сборников рассказов, а именно циклов, которые можно путем некоторых ухищрений превратить в повести и даже романы, состоящие из отдельных новелл, превращенных в главы. Дело в том, что сборник рассказов здесь издать невозможно… считается, что сборник рассказов в коммерческом смысле – безнадежное дело»246. Письма Довлатова к друзьям дают возможность проследить, как, преобразовав коммерческую проблему в творческую, автор искал различные варианты скрепления своих рассказов в повесть. Первоначально, как сообщал Довлатов И. Ефимову в письме 21 мая 1981г., планировалось в качестве образца ис82 пользовать манеру «хемингуэевских курсивов в книжке ―В наше время‖»: «―Зону‖… можно опоясать таким нехитрым приемом – выдумать солдатское письмо страниц на 12, давать его кусками между рассказами и растянуть на всю книжку»247. Как замечает А.А. Воронцова-Маралина, «спустя несколько месяцев замысел трансформируется, солдатское письмо, которое должно было сопровождать все части ―Зоны‖ и быть связующим элементом, предполагается заменить явным проявлением авторского присутствия»248. Об этом Довлатов пишет в письме И. Ефимову 21 января 1982 г.: «Теперь насчет ―Зоны‖. Я знаю, насколько важно превратить это в единое целое… Там 13 рассказов. Они делятся на четыре группы, довольно обособленные. Четыре группы соответствуют четырем группам персонажей. Это – я (то есть лирический герой), затем – солдаты, зеки и офицеры охраны. Это значит, надо сплести четыре мотива… с открытой лабораторией и нескрываемыми приемами. Чтобы рассказы, ставшие фрагментами книжки, – оставались беллетристикой, а связки, набранные, допустим, курсивом, были документальные, в свободной манере, непроизвольные и откровенные. Сейчас так очень многие пишут, так что это не покажется манерным, автор как бы участвует в повествовании и пр. Как у Воннегута в ―Бойне‖»249. Таким образом, давая своему произведению подзаголовок «Записки надзирателя» и следуя в этом за Достоевским (сравним: «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», рассказ «Бобок» тоже имеет подзаголовок: «Записки одного лица»), Довлатов использует принцип циклизации, являвшийся приметой как русско-европейской, так и американской традиции и более всего соответствовавший условиям публикации рассказов, вошедших в «Зону». В качестве переклички между повестью Достоевского «Записки из мертвого дома» и повестью Довлатова «Зона» исследователи чаще всего называют параллели в описании лагерного языка. Сравним эти описания: У Достоевского У Довлатова «А какие были они все мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство возведено было у них в науку; старались взять не столько обидным словом, сколько обидным смыслом, духом, идеей – а это утонченнее, ядовитее. Беспрерывные ссоры еще более развивали между «Лагерный язык – затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к звукописи ремизовской школы. Лагерный монолог – увлекательное словесное приключение. Это – некая драма с интригующей завязкой, увлекательной кульминацией и бурным финалом. Либо оратория – с многозначительными 83 ними науку»250; «Не мог я представить себе сперва, как можно ругаться из удовольствия, находить в этом милое упражнение, приятность? Впрочем, не надо забывать и тщеславия. Диалектикругатель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру»251. паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. Лагерный монолог – это законченный театральный спектакль. Это – балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция. <…> Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не котируются. Скорее – наоборот. Вольные достижения забыты. Остается – слово» (2; 86 – 87). «Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс – необходимый творческий изыск. <…> Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы. Предпочитает точность – изобилию. <…> В лагере еще жива форма словесного поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто наблюдал такие бои – с разминкой, притворной апатией и внезапными фейерверками убийственного красноречия. С отточенными формулировками на уровне Крылова и Лафонтена…» (2; 88). 84 В повести «Зона» Довлатов не только дает характеристику языку уголовников, но и нередко включает сквернословие в речь персонажей. По этому поводу Э.Ф. Шафранская отмечает: «Сквернословие, по-научному – эсхрология, ритуальный язык карнавала. Этот феномен мотивирован карнавальной эстетикой: все, что прежде, вне карнавала запрещено, во время его – узаконено»252. Жаргонные слова, свойственные заключенным, включаются автором, например, даже в молитву надзирателя по прозвищу Фидель: «Милый Бог! Надеюсь, Ты видишь этот бардак?! Надеюсь, Ты понял, что значит вохра?!. Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или, на худой конец, в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. <…> Милый Бог! За что Ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью… и то не каждый день… Милый Бог! Совесть есть у Тебя или нет? Если Ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа вскорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски…» (2; 29 – 30). Молитва Фиделя перекликается с теми эпизодами «Записок из Мертвого дома», которые рассказывают о том, как люди разных вероисповеданий совершают обряд молитвы. Таким образом, лагерный язык становится одним из элементов довлатовского карнавализованного повествования – мира перевертышей и травестий, свойственного также и поэтике Достоевского. В «тюремных» повестях Достоевского и Довлатова наблюдается множество других сюжетных перекличек. На сходство между главой «Представление» из «Записок из Мертвого дома» и довлатовским «Представлением» (так назывался рассказ Довлатова, написанный в 1984 г., уже после выхода первого издания «Зоны», и позднее вошедший в «Зону») указывал И. Серман в статье «Театр Сергея Довлатова», опубликованной еще при жизни писателя – в 1985 году253. Во фрагментах, рассказывающих о пьянстве уголовников во время праздников – Рождества в повести Достоевского и Нового года в повести Довлатова, – тоже отмечаются параллели. А в примыкающей к «Зоне» главе «Офицерский ремень» из повести «Чемодан» развивается один из сюжетов произведения Достоевского – о том, как заключенные симулируют сумасшествие, чтобы избежать наказания или выйти на волю. Отметим, что эта глава интертекстуально связана и с рассказом «Шоковая терапия» из «Колымских рассказов» В. Шаламова254. Двойные интертекстуальные связи прослеживаются также во фрагменте, повествующем о привязанности капитана Токаря к своей собаке – черному спаниелю Брошке, которого капитан называл «единственным другом» (2; 115 – 116). Фрагмент перекликается с рассказом Достоевского о том, что майор – ненавистный для всех каторжан начальник – любил «больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он рыдал над ним, как над родным сыном»255. Но если Трезорка погиб от болезни, то Брошка был съеден зеками: «Ели мясо, зажаренное в бараке на плите. <…> 85 – Эй, начальник, – сказал бугор Агешин, – знаешь, кого ты ел? <…> Знаешь, из чего эти самые котлеты? Я почувствовал, как в моем желудке разрывается бомба. – Из капитановой жучки… Шустрый такой был песик…» (2; 119). Этот эпизод напоминает, кроме того, рассказ В. Шаламова «Выходной день»: два блатаря зарубили топором большого щенка-овчарку. «Вечером запах мясного супа не давал никому спать в бараке, пока все не было съедено блатарями»256. Остатки мяса дали доесть Замятину, а затем объявили: «‖Это, батя, не баранина, а псина. Собачка тут к тебе ходила – Норд называется‖. <…> Замятин молча глядел на Семена. Потом повернулся и вышел. <…> Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ»257. Но если перекличка Довлатова с Шаламовым дает понять читателям, что изображенные писателями случаи в зоне не редкость, то перекличка с Достоевским переводит акцент на личность капитана Токаря, дает намек на отношения между ним и заключенными. Однако важнее аллюзий на «Записки из Мертвого дома» является то, что в «Зоне» автор придерживается философской концепции своего предшественника о двойственной природе человеческой личности, которая особенно четко была представлена в повести Достоевского «Записки из подполья» (1864). «Записки из Мертвого дома» наполнены гуманным, искреннее сочувственным отношением автора к каторжнику: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего»258. (Такой взгляд не находит поддержки у другого представителя «каторжной» литературы – В. Шаламова, который пишет: «Достоевский в ―Записках из Мертвого дома‖ с умилением подмечает поступки несчастных, которые ведут себя, как большие дети, увлекаются театром, по-ребячески безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому блатному миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия. <…> Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же – не люди. Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи, – ни начальники, ни подчиненные. Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше ему умереть»259.) 86 В «Записках из Мертвого дома» у Достоевского звучит мысль, близко воспринятая Довлатовым, что на воле и в тюрьме люди по своей натуре одинаковы: «‖Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, – спешил я подумать себе в утешение, – кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, остальных, которые остались там, за острогом‖. Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем – боже мой! – если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!»260. Достоевский вместе с тем признавал, что «свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современном человеке»261. Отражение этой концепции находим у Довлатова: «Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хороших… На злодеев и праведников» (2; 40); «Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей. Между заключенными и надзирателями. Между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны. Между зеками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе стороны запретки расстилался единый… мир» (2; 46); «Мы были очень похожи и даже – взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы» (2; 47); «Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. <…> Человек способен на все – дурное и хорошее» (2; 74). Философия о противоборстве в человеке двух противоположных начал – «дурного» и «хорошего» – находит у Довлатова художественное воплощение в обращении к теме двойничества, являющейся одной из основных тем в творчестве Достоевского и заслуживающей в рамках нашей работы пристального рассмотрения. Ким Юн Кюн, посвящая свою диссертацию типологии двойников в творчестве Достоевского, дает методологическую основу для изучения проблемы, делая вывод о том, что «в исследованиях проблемы ―двойничества‖ в творчестве Достоевского преобладают три главных аспекта»: «философско-этический, психоаналитический, мифологический или мифопоэтический»262. Понятие «двойничество», став важнейшим понятием, характеризующим особенность психологизма Достоевского – способность писателя раскрывать и анатомировать внутренний мир и душу человека, – с философской и психоаналитической точек зрения «определяется в контексте ―всеобщего‖ двоемирия, частные проявления которого – раздвоение сознания человека, отчуждение человека от окружающего мира, разрыв между идеалом и действительностью, разрыв между обществом и личностью»263. С. Аскольдов, определяя Достоевского как писателя «личности», в своих работах «соотносит понятие ―личности‖ с понятием ―двойничества‖ с этической точки зрения. В понимании С. Аскольдова… образ ―двойника‖ как крайнее выражение раздвоения воплощает в себе всякого рода зло». «Основываясь на тезисе, что ‖личность есть целостность сознания, проникнутая наибольшим единством и самостоятельностью‖, С. Аскольдов видит одно из выражений раздвоения личности в понятии ―актерство‖, которое можно отнести к эстетизированному шутовству, лжеюродству и самозванству, коррелирующим с двойничеством. В этом контексте принцип психологизма Достоевского, понимаемый С. 87 Аскольдовым как ―принцип двойственной значимости переживаний‖, соотносится с явлением двойника – воплощением злого начала в человеке»264. В мифологическом аспекте рассматривали понятие «двойничество» применительно к творчеству Достоевского Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, В.П. Владимирцев и другие. Так, Ю.М. Лотман говорит о мифологическом происхождении сюжетного двойничества265. В.П. Владимирцев видит в двойничестве отражение того, что характерно для мифов: «дуальное и оппозиционное мироустройство, парность, бинарность сущего, зеркальный эффект, симметрию, близнечность и т.п.»266. Е.М. Мелетинский, сравнивая Достоевского с Гоголем, утверждает, что если у Гоголя архетипичность связана с его непосредственным обращением к фольклору и мифу, то у Достоевского она выражена прежде всего в двойственном мироустройстве его творчества…267 Воплощая тему двойничества в структуральной архитектонике своих произведений, Достоевский как бы восстанавливает поэтику раннего Гоголя-романтика. Развивая мысль Е.М. Мелетинского, Ким Юн Кюн подчеркивает, что «при художественном воплощении темы ―двойничества‖ Достоевский прежде всего опирался на опыт романтиков»268, и рассматривает литературную «генеалогию» двойников Достоевского в гоголевских и лермонтовских традициях. М.М. Бахтин отмечал, что особенно ярко выражено у Достоевского явление пародирующих двойников: «почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-разному его пародирующих: для Раскольникова – Свидригайлов, Лужин, Лебезятников, для Ставрогина – Петр Верховенский, Шатов, Кириллов, для Ивана Карамазова – Смердяков, черт, Ракитин»269. Рассмотрим, как отражена проблема двойничества в повести Довлатова. Обращаясь в «Зоне» к проблеме двойничества, писатель выстраивает свое произведение так, что его композиционной основой становится чередование фрагментов, иллюстрирующих концепцию о проявлении двойственной натуры человека независимо от его общественно-социального положения. Так, автор показывает, что вохровцы, призванные поддерживать проявление законности в лагере, сами способны на насилие. Оценивая поведение охранников после новогодней пьянки, Алиханов говорит им: «Всякую падаль охраняем!.. Сами хуже зеков!.. Что, не так?!.» (2; 31). А «истаскавшийся по этапам» (2; 107) шестидесятилетний уголовник Макеев способен на сильное романтическое чувство. Он полюбил учительницу Изольду Щукину, видя ее только издалека – на крыльце сельской школы, расположенной в двух километрах от лагеря. Макеев изобразил на стене барака ромашку «величиной с паровозное колесо» и «каждый вечер стирал тряпкой один из лепестков» (2; 108), словно гадая: любит – не любит. Его любовь вызывала у заключенных не насмешку, а глубокое сочувствие. Образ «лирического» героя, который связывает между собой все фрагменты в «Зоне», тоже построен на основе двойничества. Борис Алиханов – личность сложная, двойственная. Довлатов пишет о нем то в третьем лице, давая ему прямую авторскую оценку: «Борис добросовестно выполнял свои обязанности», «его считали хладнокровным и мужественным», «он был чужим для всех», «иностранец» (2; 25), «он был хорошим надзирателем», «в казарме его 88 уважали» (2; 26), – то предоставляет Алиханову роль героя-повествователя, черты которого проявляются через самооценку, внутренний диалог, речь, поступки. Автор показывает, как происходит раздвоение сознания Алиханова, что помогает ему выжить в зоне: «Не важно, что происходит кругом. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Поскольку каждый из нас есть то, чем себя ощущает. Я чувствовал себя лучше, нежели можно было предполагать. У меня началось раздвоение личности. Жизнь превратилась в сюжет… Мое сознание вышло из привычной оболочки. Я начал думать о себе в третьем лице. <…> Фактически я уже писал. Моя литература стала дополнением к жизни» (2; 23 – 24). Кроме того, пародирующим двойником Бориса Алиханова становится зек Борис Купцов, в деле которого записано: «БОМЖ (без определенного места жительства). БОЗ (без определенных занятий). Гриф ОР (опасный рецидивист). Тридцать два года в лагерях. Старейший ―законник‖ усть-вымского лагпункта. Четыре судимости. Девять побегов. Принципиально не работает…» (2; 54). Купцов привлекает Алиханова наличием в нем невероятной внутренней свободы, которая позволяет ему жить по своим собственным законам. Как замечает И. Серман, «в клубке мерзости, каким явилась ему зона», Алиханов «сталкивается с античным героизмом – когда рецидивист Купцов, чтобы навсегда избавиться от проклятия работать на своих тюремщиков, отрубает себе пальцы на руке, что сродни подвигу Муция Сцеволы… Тот самый Купцов, который в ответ на слова рассказчика: ―Ты один против всех. А значит не прав‖, – говорит ―медленно, внятно и строго‖: ―Один всегда прав…‖ Ведь это и есть ―безумство храбрых‖…»270. Позиция героя-бунтаря становится для Алиханова тождественной его собственной позиции: «Я начинал о чем-то догадываться. Вернее – ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта – мой двойник. Что рецидивист Купцов (он же – Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог и необходим. Что он – дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма. Что мы – одно» (2; 61). Есть в повести «Зона» и прямая отсылка к роману «Преступление и наказание». В то время, когда все зеки работают, «потомственный российский вор» Купцов сидит у костра. «Рядом на траве белеет книга. <…> – Привет, сказал Купцов, – вот рассуди, начальник. Тут написано – убил человек старуху из-за денег. Мучился так, что сам на каторгу пошел…» (2; 55). Таким образом, тщательное текстуальное рассмотрение довлатовской повести «Зона» позволяет оспорить положение о том, что повесть относится к постмодернистской литературе, и свидетельствует о преемственности Довлатовым литературной традиции, идущей, прежде всего, от Достоевского. Кроме того, анализ произведений Довлатова, в которых сказывается непосредственное влияние Достоевского («Компромисс», «Заповедник»), дает возможность расширить представление о природе довлатовского смеха. Некоторые исследователи относят произведения Довлатова к философскоюмористической прозе, отмечая, что писатель-юморист, осознавая несовершенство мира, вовсе не отвергает его, при этом главной антитезой эмоциональнооценочному отрицающему пафосу сатиры становится юмористическое приятие 89 мира и человека271. Однако карнавализованный смех, который был присущ Довлатову, шедшему от традиции Гоголя и Достоевского, принципиально иного свойства: по мысли М. Бахтина, такой смех в первую очередь «направлен на высшее – на смену властей и правд, смену миропорядков»272. 2.6. Чехов в прозе С. Довлатова В своих «Записных книжках» Сергей Довлатов написал: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова» (4; 168). Теперь в отечественном довлатоведении не утихают споры о том, почему Довлатову хотелось быть похожим именно на Чехова. (Довлатов действительно внимательно перечитывал в эмиграции чеховскую прозу и драматургию, о чем свидетельствуют не только художественные произведения Довлатова, но и документы, где писатель прямо говорит об этом, например, видеоинтервью, записанное в 1989 г. Евг. Поротовым.) И. Сухих замечает, что Довлатова сближало с Чеховым осознание своей роли в литературе в качестве скромного литератора, рассказывающего о том, как живут люди, а не о том, как они должны жить273. Б. Ланин считает Довлатова «едва ли не самым ―чеховским‖ писателем после смерти великого рассказчика», потому что «чеховские мотивы ―не-встреч‖, ―не-романов‖ и ―не-развязок‖ получают в его прозе талантливое развитие»274. Е. Курганов делает вывод о том, что Довлатов ощущал свою органическую близость чеховской поэтике через анекдот, который в первую очередь определяет художественные законы довлатовского мира275. О преобладании в текстах произведений обоих авторов подтекста и скрытой иронии пишет В. Васильева276.Ю. Федотова обращает внимание на то, что «сближает прозу Довлатова с чеховской и отказ от морализаторства, от следования определенной нравственной позиции и навязывания этой позиции читателю», что произведения этих писателей пронизаны «ощущением абсурдности бытия»277. А. Неминущий отмечает такую особенность, как, «повествовательный минимализм»278, которому Довлатов учился у своего предшественника. А. Семкин настаивает на том, что «Чехов становится для Довлатова высочайшим идеалом прежде всего по той причине, что осознается им как носитель нормы»279. Казалось бы, все соответствия между Чеховым и Довлатовым, касающиеся как их миросозерцания, так и поэтики, перечислены (причем каждый из исследователей выделяет одну – две общие черты, сближающие этих авторов) – не хватает лишь логического обобщения. Для этого необходимо обратиться к эстетическим воззрениям Довлатова, изложенным им в лекции «Блеск и нищета русской литературы». Слабые стороны русской литературы писатель видел в том, что «из явления чисто эстетического, сугубо художественного литература превращалась в учебник жизни» (4; 355). Тем не менее, отмечает Довлатов, на протяжении истории русской литературы не утихала борьба «за сохранение ее эстетических прав, за свободное развитие ее в рамках собственных эстетических законов, ею самою установленных» (4; 355), Себя Довлатов осознавал как 90 продолжателя именно эстетической линии в русской литературе, идущей от А.С. Пушкина – писателя, стоявшего выше нравственных и идеологических претензий. В повести «Заповедник» автопсихологический герой Довлатова говорит о сходстве своей позиции с пушкинской: «Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина. Его готовность принять и выразить любую точку зрения. Его неизменное стремление к последней высшей объективности. Подобно луне, которая освещает дорогу и хищнику и жертве. Не монархист, не заговорщик, не христианин – он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом. Его литература выше нравственности. Она побеждает нравственность и даже заменяет ее. Его литература сродни молитве, природе…» (2; 212). Знаменательно, что, говоря о Пушкине, Довлатов использует не только аллюзии на пушкинские тексты («Капитанская дочка» Пушкина: «Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу»280; пометки, сделанные рукой поэта на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова», где автор утверждает: «Трагик не есть уголовный судия». И Пушкин пишет на полях: «Прекрасно!» Но затем критик продолжает в назидательном тоне: «Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку». А Пушкин отзывается: «Ничуть. Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело… Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона»281), но и парафразирование письма А.П. Чехова А.Н. Плещееву от 4 октября 1888 г.: «Я не либерал, не постепеновец, не консерватор, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником. Я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к молодежи. Форму и ярлык я считаю предрассудком. Моя святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь…»282 Ориентированный на художественный опыт Пушкина, Довлатов увидел в Чехове, прежде всего, пушкинского преемника, в котором, по точному замечанию А. Агеева, возродилась «наиболее ясно и талантливо пушкинская духовная независимость, пушкинская полнота восприятия жизни, выражающаяся… в доверии к ее естественному течению… который отказался сотрудничать с Богом и государством, которого совершенно невозможно адаптировать в духе любой идеологии – настолько у него мало точек соприкосновения с тоталитарным мышлением»283. Важнейшим чеховским принципом художественности был принцип объективной формы повествования, которая рождалась в результате лаконизма и беспристрастности писателя. Чехову, опасавшемуся одностороннего изображения действительности и рассчитывавшему на «догадливого» читателя, претило открытое проявление авторского отношения к предмету изображения. Он стремился к «множественному видению истины»284, к показу во всех явлениях их «диалектической антиномичности»285. Художественная система Чехова, по наблюдениям Э. Полоцкой, основана на сочетании «взаимоисключающих прин91 ципов» – он опирается «на низкое рядом с высоким, злое – с добрым, красивое – с некрасивым, смешное – с печальным»286. Недаром так неоднозначно трактуется, например, образ главной героини чеховского рассказа «Душечка»: «Душечка – безликая раба своих привязанностей; Душечка – непостоянное, беспринципное существо; Душечка – воплощение истинного предназначения женщины»287. Не случайно для «Вишневого сада» характерна эмоциональная двусторонность, переплетение комического и драматического, бодрого и печального. Стремление к изображению жизни такой, «какая она есть», и осознание ее парадоксальности вводит в прозу и драматургию Чехова элементы абсурда. Как чеховские герои, довлатовские персонажи существуют в постоянном становлении, они многолики и многогранны. Однако многозначность и многослойность текста Довлатова раскрывается только посвященному и вытекает из интертекстуальности и связанной с ней ассоциативности, требующей от читателя огромной внутренней работы по «додумыванию». Проиллюстрируем это на примерах из повести «Заповедник», к которой, кстати, чаще всего обращаются сценаристы и режиссеры, предлагающие самые различные ее интерпретации. Подобно тому как герои Чехова соотносят себя с авторами и героями мировой литературы (по наблюдениям З. Абдуллаевой, «Астров сравнивает себя с героем Островского, Тригорин – с Поприщиным, Треплев Тригорина – с Гамлетом, Шабельский себя – с Чацким, Львова – с Добролюбовым, Львов Иванова – с Тартюфом, Соленый себя – с Лермонтовым, вспоминает Алеко. Лопахин Варю – с Офелией, Дядин себя – с Бетховеном и Шекспиром, Серебрякова – с Тургеневым, Войницкий Серебрякова – с Отелло и Дон Жуаном»288), главный герой «Заповедника» Алиханов соотносится с писателями – Пушкиным, Бродским и самим Довлатовым, – а также литературным персонажем Лермонтова – Печориным. Так, А. Арьев рассказывает, что прототипом Алиханова стал Иосиф Бродский. «Был в жизни поэта такой эпизод, когда он пытался уберечься от ударов советской судьбы в Пушкинском заповеднике. Хотел получить в нем хотя бы место библиотекаря. Но и этот скромный номер не прошел – его не взяли ни в библиотеку, ни куда бы то ни было еще. <…> Помня и думая об этом сюжете, Довлатов и принялся за свой ―Заповедник‖. Приехав в Пушкинские Горы, он проживал подобную ситуацию в масштабе собственной биографии. Он не представлял себя публике гением, но и не скрывал принадлежности к не слишком лояльным питерским литературным кругам. При мне как-то показал ―ни с того ни с сего‖ одному из работников заповедника первую свою публикацию в запрещенном ―Континенте‖. И тут же услышал: ―Подумаешь, буря в стакане воды…‖»289 Значит, Алиханов – это и сам Довлатов, переживавший мучительный кризис, и – в более широком смысле – всякий опальный талант. Кроме того, в диссидентствующем герое проступают пушкинские черты. История отношений автопсихологического героя повести с обществом проецируется на биографию Пушкина; сближают Пушкина и Алиханова «несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством» (2; 181). Сов92 падение проявляется и в том, что псковское пушкинское имение оказывается местом для пробы творческих сил обоих писателей. Алиханов также близок лермонтовскому герою – Печорину – и предстает перед читателями как лишний человек Нового времени, которого роднят со своим предшественником постоянная авторефлексия, одиночество, ирония по отношению к себе и окружающим, колебания воли, стремление к свободе, к идеалу и горечь разочарования. Таким образом, интертекстуализация повествования позволяет творческому читателю включиться в процесс импровизации и наблюдать за тем, как происходит раскрытие характера героя прямо на его глазах. Параллели с судьбой Пушкина, межтекстовые переклички повести «Заповедник» с романом Лермонтова «Герой нашего времени» помогают глубоко осознать трагичность судьбы советского интеллигента, жившего в эпоху «застоя». В то же время Алиханов – это и бывший надзиратель из «Зоны», главный герой одного из предшествующих «Заповеднику» произведений. Прошедший через испытание зоной, Алиханов – не только творческая, яркая, талантливая личность, но и слабый, несчастный человек, подвергнутый пагубному пристрастию к алкоголю. Не случайно для прямой авторской оценки своего персонажа писатель выбирает оксюморон: «Я был – одновременно – непризнанным гением и страшным халтурщиком» (2; 229), – что дает возможность читателям воспринимать образ Алиханова как образ, не поддающийся однозначному толкованию. Сложность образа Алиханова усугубляется тем, что точному определению не всегда поддаются и чувства, переживаемые главным героем: они подчас слишком противоречивы. Так, даже любовь становится дискурсом игры и предметом для иронии: «Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви. Казалось бы – откуда?! Из какого сора?! Из каких глубин убогой, хамской жизни?! На какой истощенной, скудной почве вырастают эти тропические цветы?! Под лучами какого солнца?!» (2; 224); «Но где же любовь? Где ревность и бессонница? Где половодье чувств? Где неотправленные письма с расплывшимися чернилами? Где обморок при виде крошечной ступни? Где купидоны, амуры и прочие статисты этого захватывающего шоу? Где, наконец, букет цветов за рубль тридцать?» (2; 226). В первой цитате наблюдается перекличка со стихами А. Ахматовой: Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи и лебеда290. А вторая – перекликается с есенинскими строками «О моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств»291. Цитирование Ахматовой и Есенина усиливает ироническую экспрессию. Однако и здесь, как всегда у Довлатова, нет смысловой однозначности, поскольку в мифах и сказках «атрибутика сора… является полной противоположностью золотой символике, и именно в силу этой оппозиционности возникает… взаимообмен, когда отбросы, продукты распада превращаются в сокровища. 93 Такое превращение происходит обычно не само по себе, а благодаря определенным обстоятельствам, связанным с конкретной ситуацией»292. На вопрос, умеет ли любить довлатовский герой, помогает ответить и обращение к тексту романа «Евгений Онегин», в котором Пушкин показывает, что «онегинское искажение любви, светский флирт, салонные интрижки и игривые легкие романы противостоят высокой трактовке темы любви в образе поэта-автора»293. По мысли Г.А. Гуковского, контраст между пониманием любви автором и Онегиным проявляется в знаменитом лирическом отступлении о ножках, где «сталкиваются две стихии стиля и переживания любви, из которых одна роднит авторскую манеру с онегинским кругом и может быть определена как выражение онегинского начала, а другая отличает ее от онегинской… это… начало поэта. Отсюда и переходы, типичные для текста романа, от светского иронического скепсиса (онегинского) к лирической патетике (поэта)»294. Итак, с одной стороны, в размышлениях Алиханова, в которых находит отклик пассаж о ножках, звучит ирония, близкая к онегинской. С другой стороны, цитата из «Заповедника» отсылает непосредственно к пушкинской патетической трактовке любви. Словосочетание же «тропические цветы» вызывает в памяти название сборника Н. Гумилева, посвященного А. Ахматовой, – «Романтические цветы», и цитату «тропический сад» из стихотворения «Жираф», включенного в эту книгу. Ассоциации, возникающие у читателя в связи с гумилевскими текстами, тоже указывают на сложность переживаний автопсихологического героя Довлатова. В довлатовском «Заповеднике» неоднозначен и пушкинский образ. Прежде всего, Пушкин – объект поклонения: работники Заповедника постоянно повторяют: «Пушкин – наша гордость!.. Это не только великий поэт, но и великий гражданин…» (2; 188). Подвергая иронии все элементы культа, в советское время превратившего Пушкина в фигуру агитпропа, Довлатов вместе с тем проявляет скрупулезное внимание к его творчеству. На это указывают «пушкинские начала», использованные автором в повести «Заповедник»295. Пространство Пушкинского заповедника можно рассматривать, по мысли самого Довлатова, тоже с разных точек зрения: это – «заповедник, Россия, деревня… скотский хутор» (из письма Довлатова к И. Ефимову от 20 июля 296 1983 г.) . Прежде всего, Заповедник – одно из красивейших заповедных мест в России, родовое имение Пушкина, в котором он похоронен. Это деревня – место, где по традиции, идущей еще от античности, а в России – от поэтов XVIII века, вдали от суетных городов хочется писать, творить. Однако Пушкинские Горы у Довлатова еще и «скотский хутор»: как повсюду в Советском Союзе, здесь царит лицемерие; Пушкина «приспосабливает» для себя советская власть, используя его биографию и творчество для пропаганды социалистического строя. Кроме того, в Пушкинских Горах при любом политическом режиме функционирует самый популярный русский культурный миф, мешающий адекватно воспринимать творчество поэта.Т. Скрябина расшифровывает заглавие повести как «клетка для гения», «заповедник человеческих нравов»297. Н. Анастасьев усматривает в слове «заповедник» еще одно значение: это «собственная 94 душа» автора, «внутренний мир – суверенное пространство, готовое отстаивать себя от любых покушений извне»298. Таким образом, название повести «Заповедник» становится названием, включающим в себя множество смыслов. Так же многозначно и заглавие повести «Филиал». До знакомства с настоящей американской действительностью многие соотечественники, покинувшие Советский Союз в период «третьей волны» эмиграции, считали, что Америка – это филиал рая на земле; русские писатели, искавшие творческой свободы, стремились эмигрировать именно туда. Но жизнь за океаном приводит Довлатова к убеждению, что независимо от того, где живет человек, он везде сталкивается с абсурдной реальностью. Развенчивая в «Филиале» с помощью иронического принципа повествования американский миф, автор показывает, что Америка – это филиал СССР. Слово «филиал» используется автором, кроме того, по отношению к эмиграции, которая характеризуется в повести тоже неоднозначно: то как «филиал будущей России» (участники общественнополитической секции придуманного Довлатовым симпозиума «Новая Россия» говорят о том, что «эмиграция есть ―лаборатория свободы‖. Или там – ―филиал будущей России‖») (4; 69), – то как «достойный филиал» России современной, поскольку «все единодушно признали, что Запад обречен, ибо утратил традиционные христианские ценности. Все охотно согласились, что Россия – государство будущего, ибо прошлое ее ужасающе, а настоящее туманно» (4;.115). Таким образом, стремление к «множественному видению истины», к изображению жизни во всей ее полноте, сложности и парадоксальности [«А если мир сложнее таблицы умножения? Если кроме ―дважды два – четыре‖ существуют логарифмы?» – пишет Довлатов в «Марше одиноких» (2; 466)] – это и есть то общее, чем связано творчество Довлатова с творчеством Чехова. Кроме того, Довлатова роднит с Чеховым ориентация на принципы объективного повествования, т.е. отсутствие прямых авторских оценок, когда отношение к изображаемому формируется на основании отражения множественности точек зрения на события и поступки героев – через подтекст, через многочисленные интертекстуальные связи. Литературные цитаты и реминисценции как в драматургии Чехова, так и в прозе Довлатова предвосхищают, подтверждают или оспаривают события и поведение героев. Вот несколько общеизвестных примеров из комедии Чехова «Вишневый сад». Неточная шекспировская цитата, включенная в реплику Епиходова: «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне, собственно, хочется, жить или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер»299, – свидетельствует о том, что самооценка Епиходова, отождествлявшего себя с Гамлетом, не совпадает с оценкой Епиходова окружающими, называвшими его «двадцать два несчастья». На протяжении всей пьесы Лопахин никак не может объясниться с Варей. Любовь Андреевна пытается помочь им, советуя Лопахину жениться на Варе. Лопахин отвечает: «Что же? Я не прочь… Она хорошая девушка»300. Однако при встрече с Варей он говорит: «Охмелия, иди в монастырь…»301, тем самым предопределяя их дальнейшие отношения. 95 А вот примеры из довлатовского «Заповедника». Кажущаяся на первый взгляд радушной сцена встречи Бориса Алиханова с Леней Гурьяновым напоминает встречу Печорина с Грушницким из лермонтовской главы «Княжна Мери», которая заканчивается дуэлью между героями (см. параграф 2.2.). У Лермонтова У Довлатова «Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос: – Печорин! Давно ли здесь? Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде»302. «– Тут все живет и дышит Пушкиным, – сказала Галя, – буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота… Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. – Борька, хрен моржовый, – дико заорал он, – ты ли это? Я отозвался с неожиданным радушием» (2; 179). В тексте эпизода встречи Алиханова с Гурьяновым прослеживаются и другие интертекстуальные связи – связи с произведениями хранителя пушкинского мифа в Заповеднике С. Гейченко, который писал: «Еще Луначарский, приезжавший в Михайловское в 1926 году, пережил это чувство: ―когда ходишь… по запустелому парку, с такой страшной интенсивностью думаешь о Пушкине, что кажется, нисколько не удивился бы, если бы вдруг из купы деревьев или из-за угла здания появилась бы его задумчивая фигура‖»303; «Когда будете в Михайловском, обязательно пойдите как-нибудь вечером на околицу усадьбы, станьте лицом к маленькому озеру и крикните громко: ―Александр Сергеевич!‖ Уверяю вас, он обязательно ответит: ―А-у-у! Иду-у!‖»304. Довлатовский текст, наполненный иронией, направлен на разоблачение не только веры в особую магию пространства советского Заповедника, но и на разоблачение официального пушкинского мифа: там, где вместо Пушкина появляется кэгэбист, нет места духовным ценностям. Уже цитировавшийся диалог между Алихановым и Натэллой (см. параграф 2.2.) тоже отсылает сразу к двум произведениям – к «Герою нашего времени» М.Ю. Лермонтова и к «Каменному гостю» А.С. Пушкина. «– А вы человек опасный. – То есть? – Я это сразу почувствовала. Вы жутко опасный человек. – В нетрезвом состоянии? – Я говорю не о том. – Не понял. – Полюбить такого, как вы, – опасно» (2; 189). Сравнение диалога Алиханова и Натэллы с диалогом Печорина и Мэри: 96 «– Вы опасный человек! – сказала она мне, – я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок… Я вас прошу не шутя: когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня, – я думаю, это вам не будет очень трудно. – Разве я похож на убийцу?.. – Вы хуже…»305, – показывает, прежде всего, как было уже отмечено, что самооценка автопсихологического героя не совпадает с оценкой его окружающими. На то, что «пошлая реплика кокетничающей с Алихановым экскурсовода Натэллы: ―Вы человек опасный‖ – буквально повторяет слова Доны Анны из ―Каменного гостя‖»306, обратил внимание А. Генис в статье «Пушкин», но не объяснил смысл включения цитаты. Наблюдения показывают, что отсылки к тексту «Каменного гостя» из пушкинских «Маленьких трагедий» встречаются в повести тогда, когда речь идет о взаимоотношениях Алиханова с женщинами, и напоминают об ответственности за непостоянство этих отношений со стороны главного героя. Таким образом, в прозе Довлатова через интертекст обнаруживается подтекст – то, что так присуще драматическим произведениям Чехова, допускающим самые различные интерпретации, о чем ярко и выразительно высказался М. Веллер: «Чехов оказал театру… неоднозначную услугу, гениально давая чувства героев подтекстом обыденных фраз. …Чем дальше текст от подтекста, тем, стало быть, театральнее. …А если драматург сразу напишет то, что и должен понимать зритель, то… в чем же тогда проявляться гениальности его, режиссера?»307. Довлатовские произведения, подобно чеховским, могут восприниматься одновременно как комедия и как трагедия, что открывает пути для разных, порой противоположных сценических толкований. Инсценировки по прозе Довлатова (этой теме посвящен параграф 3.6.) наглядно выявляют такие элементы его поэтики, как ассоциативность и многосмысленность, и позволяют сделать вывод, что Довлатов-прозаик унаследовал особенности чеховской драматургической системы, заключающиеся в трансформации смыслов и оценок, в обилии литературных источников, к которым прибегает автор, чтобы показать процесс создания характеров прямо «на наших глазах». 2.7. Интертекстуальные связи повести С. Довлатова «Чемодан» с произведениями русской литературы XIX – XX веков Интертекстуальность, то есть присутствие в текстах маркированных следов других текстов в виде цитат, аллюзий или заимствованных художественных приемов, – одна из характернейших черт стиля Довлатова. К исследованию интертекстуальных связей довлатовской прозы литературоведы обращались не раз308. Тем не менее, далеко не все произведения Довлатова, в том числе повесть «Чемодан» (1986) – образец зрелой прозы писателя, – были рассмотрены с позиций интертекстуального анализа, хотя многие интертекстуальные и ассоциативные связи повести с произведениями русской литературы XX в. (А. 97 Блок «Грешить бесстыдно, непробудно…», И. Ильф «Записные книжки», В. Голявкин «О чемодане», А. Тарковский «Вещи», Д. Кедрин «Есть у каждого бродяги сундучок воспоминаний…», М. Осоргин «Вещи человека», Б. Житков «Что я видел», «Что я нажил») были намечены в монографии И. Сухих 309 «Сергей Довлатов: время, место, судьба» . Основной мотив повести «Чемодан» – мотив абсурдности жизни в Советском Союзе. Композиционной и тематической доминантой произведения является его заглавие, как всегда у Довлатова, многозначное. Слово «чемодан», вынесенное в название, здесь обозначает не только «вместилище для ручной перевозки вещей» 310, но и становится в переносном значении «вместилищем» большей части довлатовской (автопсихологический герой повести носит фамилию автора) жизни: «Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал – неужели это все? И ответил – да, это все» (3; 290). А поскольку чемодан был заполнен вывезенными из Советского Союза ненужными вещами, с каждой из которых была связана абсурдная история, то чаще всего заглавие интерпретируется как «горькая метафора бессмысленно прошедшей человеческой жизни»311. Однако это не совсем так. Прежде всего, потому, что в тексте повести сам автор использует оксюморонное сочетание определений: «пропащая» и в то же время «бесценная, единственная жизнь» (3; 289). Кроме того, эпиграф, предпосланный к повести: «…Но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне» (3; 287), – говорит о том, что, кроме горечи, связанной с осознанием абсурдности русской жизни, автор и его автопсихологический герой испытывали к этой жизни и чувство любви. В качестве эпиграфа, значение которого до сих пор не получило должного толкования, Довлатов берет слова одного из наиболее часто цитируемых в своих текстах авторов – Александра Блока. Последние строки блоковского стихотворения «Грешить бесстыдно, непробудно…» (1914), входящего в цикл «Родина», отсылают читателя к теме всего стихотворения – изображению противоречивого образа России, вызывающей у лирического героя не менее противоречивые чувства. «Блоковский образ России контрастен. Он строится на противопоставлении благочестия и греховности, душевной щедрости и скопидомства, доброты и равнодушия»312, – отмечает И. Сухих. Но лирический герой стихотворения принимает свою страну и в неприглядном обличье, выражая сложное чувство к своей родине – чувство любви-ненависти. Довлатов заменяет одно слово в блоковской строке: вместо «да» ставит «но», однако это «но» используется не для выражения сомнения, как считает И. Сухих313, а по своему прямому назначению – для противопоставления абсурдной русской действительности и глубины, искренности чувств, которые вызывает родная страна: «но и такой, моя Россия, / ты всех краев дороже мне». На протяжении всей своей эмигрантской жизни Довлатов тосковал по родине, о чем писал в письмах к друзьям и в публицистических произведениях: «Начинается день. И я к нему готов. А потом неожиданно вспоминаю: ―В Пушкинских Горах закончился сезон. В Ленинграде дожди… Или заморозки?..‖»314. 98 «…Если родина отвергла нашу любовь? Унизила и замучила нас? Предала наши интересы? Тогда благородный человек говорит: – Матерей не выбирают. Это моя единственная родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная и спившаяся! Потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей! Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой?! Березы, оказываются, растут повсюду. Но разве от этого легче? Родина – это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих коричневых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки… Нелепые, ужасающие стихи… Мысли о самоубийстве… Стакан ―Агдама‖ в подворотне… Армейская махорка… Дочка, варежки, рейтузы, подвернувшийся задник крошечного ботинка… Косо перечеркнутые строки… Рукописи, милиция, ОВИР… Все, что было с нами, – родина. И все, что было, – останется навсегда…»315 Свой жизненный путь Довлатов определяет так: «от Маркса к Бродскому», то есть от жизни в Советском Союзе, основанной на идеях Маркса, до жизни в эмиграции – периода творчества, когда кумиром становится Бродский – художник «созидательного, позитивного направления»316, как отозвался о нем Довлатов, отвечая на анкету журнала «Иностранная литература». Имя Бродского в повести «Чемодан» появляется не случайно: его творчество во многом перекликается с довлатовским, Бродский – герой литературных анекдотов Довлатова (таким образом, фамилия Бродского становится в «Чемодане» точечной автоцитатой). А главное, что объединяет этих двух писателей, – общность эстетических принципов и взглядов на роль литературы: по мнению Бродского, «только литература, а никак не философия, не религия и тем более не политика, может воспитать человека как с точки зрения политической, так и с нравственной и духовной точек зрения»317; «мать этики – эстетика»318. В выступлении «Блеск и нищета русской литературы» Довлатов высказывает подобную же точку зрения: «Когда вы читаете замечательную книгу… вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова: ―Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сейчас же начну жить иначе – достойно, благородно и умно…‖ Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство, – и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия, оказываемого чисто эстетическими средствами…»319 При выборе эстетических, чисто художественных средств Довлатов нередко обращается к традициям русской классической литературы. Так, считая Гоголя первым русским писателем-юмористом, для создания комического эффекта и выражения авторской оценки, а также для воссоздания абсурдной действительности в повести «Чемодан» Довлатов – возможно, не осознанно, а интуитивно – перенимает некоторые приемы своего предшественника, в частности, использование «говорящих» имен и фамилий и введение в повествование большого количества второстепенных персонажей, роль которых не менее, а, может быть, более важна, чем роль главного героя (см. об этом параграф 2.3.). 99 По отношению к повести С. Довлатова «Чемодан» целесообразно применение и автоинтертекстуального анализа. Использование термина «автоинтертекстуальность» (Н. Фатеева) позволяет не только охарактеризовать тип связей, существующих между произведениями Довлатова в рамках сверхтекстового единства, но и говорить об интертекстуальных связях его прозы с прозой А.П. Чехова, использовавшего «принцип ситуативного варьирования ряда главных идей, мотивов, ситуаций и персонажей320. Связи, существующие между довлатовскими произведениями, эксплицируются при помощи сквозных героев, сохраняющих в разных произведениях единство психологических характеристик, и при помощи многоуровневой системы повторов и текстовых перекличек. Повесть «Чемодан» занимает особое положение в этой системе: она связана со всеми написанными до нее и после нее произведениями Довлатова, героем которых является автопсихологический двойник писателя (Алиханов – Довлатов – Далматов). Именно с позиций автоинтертекстуального анализа конкретизируется мысль И. Сухих о том, что «Чемодан» «можно прочесть … как оглавление довлатовской прозы»321. Так, к повести «Зона» примыкает глава «Офицерский ремень», представляющая собой историю из жизни лагерной охраны. «Офицерский ремень», в свою очередь, перекликается с повестью «Заповедник» («сумасшедшего» зека зовут Толиком, как друга Михал Иваныча; оба Толика произносят одинаковые реплики: «Толик меня зовут», – и одинаково пристрастны к спиртному), с главой «Номенклатурные ботинки» из «Чемодана» (микросюжеты о необычном воровстве в России) и с «Записными книжками» (анекдот «На Иоссере судили рядового Бабичева»). Кроме того, глава «Офицерский ремень» отражает одну из особенностей довлатовской прозы – ее театральность. Как отмечает Е. Шевченко, «в главе ―Офицерский ремень‖ театрализовано даже не одно, а три события. Во-первых, зек разыгрывает помешательство. Во-вторых, рассказчик по просьбе Чурилина сочиняет сцену суда, прописывая все реплики… Наконец, непосредственно на суде персонажи ведут себя совершенно не по написанному»322 и разыгрывается новое представление. Из главы «Поплиновая рубашка» читатели узнают об одной из трех версией знакомства автопсихологического героя со своей женой (другие две представлены в повести «Заповедник» и в повести «Наши»). Глава «Приличный двубортный костюм» перекликается с главой «Куртка Фернана Леже» (в главе «Приличный двубортный костюм» автор кратко пересказывает историю подаренной ему куртки – эта история становится основой сюжета в главе «Куртка Фернана Леже»), а также связана с повестью «Компромисс», рассказывающей о компромиссах в журналистской работе, – и общностью темы, и цитатно, и общей деталью (костюм как атрибут представителя похоронных процессий). В главах «Куртка Фернана Леже» и «Зимняя шапка» через «домашние» сюжеты и общих героев (родители, домработница, брат Борис, друзья автопсихологического героя) просматривается связь с главами повести «Наши». Глава «Креповые финские носки» перекликается с последней довлатовской повестью – «Филиал» (а через нее – с повестью А. Битова «Сад», посвященной любви Сергея Довлатова и Аси Пекуровской) – не только на мотивном уровне (мотив бедно100 сти влюбленного молодого человека), но и с помощью включения в «Филиал» точных и неточных цитат из «Чемодана». Сравним: «Креповые финские носки» («Чемодан») (3; 292 – 293) «Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас – инженеры, журналисты, кинооператоры. <…> Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего она ложилась на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Ася заказывала такси… <…> Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. <…> Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка – преступна». «Филиал» (4; 76 – 78) «Круг Тасиных знакомых составляли адвокаты, врачи, журналисты, художники, люди искусства… <…> Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего она ложилась на плечи Тасиных друзей… Короче, я болезненно переживал все это. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Тася заказывала автомобиль… <…> Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. <…> Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка – преступна». И наконец, глава «Шоферские перчатки», повествующая о том, как автопсихологический герой, переодевшись в костюм царя Петра I, снимался в любительском фильме Шлиппенбаха, отражает один из основных мотивов довлатовского творчества – мотив игры, лицедейства, характерный для многих его произведений. Приведенные наблюдения свидетельствуют о сознательной работе Довлатова над проблемой преобразования всего корпуса прозаических произведений в сверхтекстовое единство, что было характерно для творчества А.П. Чехова, а также для отразившего влияние разностилевых тенденций рубежа XIX – XX веков творчества А. Грина, а в поэзии – для А. Блока, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Б. Пастернака. Текст повести «Чемодан» впоследствии становится источниками интертекстуальной «иррадиации» (Н. Фатеева) для мемуарной прозы Е. Рейна, который строит свои воспоминания «Мне скучно без Довлатова» (1997) с помощью аллюзий на довлатовские произведения. Так, названия глав, повествующих о различных нелепых случаях из жизни Рейна и его друзей: «Шапка из поседевшего волчонка», «Розовая мужская замшевая сумка», «Два итальянских галсту101 ка», – ассоциируются с названиями глав довлатовской повести. Таким образом, интертекстуальные связи повести «Чемодан» способствуют введению довлатовского текста в широкий культурно-литературный процесс. 2.8. К вопросу о соединении русской и американской традиций в творчестве С. Довлатова Довлатоведы отмечают, что в творчестве С. Довлатова проявляется парадоксальное соединение русской и американской традиций323. Сам писатель, давая интервью Джейн Бобко для калифорнийского еженедельника «Трипенни’с ревю» (1984), на вопрос: «Некоторые черты стиля в ваших произведениях сходны с чертами стиля американских прозаиков. Как могло случиться, что писатель, родившийся и выросший совсем в других жизненных условиях, мог выработать сходные черты стиля?», – отвечает: «Я вырос под влиянием американской прозы, вольно и невольно подражал американским писателям…»324. Влияние американской литературы на свое творчество Довлатов объясняет тем, что вышедшие в годы «хрущевской оттепели» переводные произведения американских авторов поразили его «своим эстетическим блеском, неподдельным трагизмом, вниманием к реальным человеческим проблемам и компетентностью по части жизненного материала»325. Среди американских прозаиков, чьи произведения «существенным образом отличались не только от безжизненной, велеречивой и постной советской литературы, но и от произведений русской классики»326, претендовавших на роль «учебника жизни», Довлатов выделяет Фолкнера, Томаса Вулфа, Хемингуэя, Колдуэлла, Стейнбека, Сарояна, Чивера, Фитцджеральда, Апдайка, Воннегута, Селинджера. Таким образом, Довлатов вполне осознавал, что его литературными учителями являлись не только русские, но и американские писатели. Шервуд Андерсон (1876 – 1941), творчество которого в значительной степени повлияло на становление таких мастеров прозы, как Э. Хемингуэй и У. Фолкнер, был одним из самых любимых Довлатовым американских авторов. Его «Историю рассказчика», по воспоминаниям И. Бродского, «Сережа берег пуще всего на свете»327. Однако, рассматривая вопрос о влиянии творчества Ш. Андерсона на прозу Довлатова, отметим два значительных обстоятельства. Прежде всего, необходимо учитывать высказывания самого Довлатова о том, на что он ориентировался в своем творчестве. В американской прозе его привлекали демократизм, «великая сила недосказанного», «потрясающий сплав целомудрия и чувственности… юмор»328. Известно, что такие особенности повествования, как лаконичность, недосказанность, отсутствие явно выраженной авторской оценки, юмор, изображение образов и явлений действительности в их парадоксальной сложности, многозначности и антиномичности, Довлатов находил, ценил и перенимал не только у американских, но и у русских авторов – у Пушкина и Чехова, например. Так, в «Записных книжках» Довлатов писал: «…похожим быть хочется только на Чехова» (4; 168), а в письме к И. Ефимову несколько иронично заявлял: «…эпигон Пушкина-прозаика – один, Сергуня…»329 102 С другой стороны, Ш. Андерсон, стремясь изобразить жизнь «такой, какая она есть», учился у русских классиков, о чем свидетельствует его письмо переводчику П.Ф. Охрименко (январь 1923 г.): «Читая мои рассказы, вы должны были заметить, что я очень многим обязан вашим русским писателям, и я буду очень счастлив, если смогу хоть немного уплатить долг, доставляя эстетическое наслаждение русским читателям… <…> До тех пор, пока я не нашел русских прозаиков, ваших Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова, я никогда не читал прозы, которая бы меня удовлетворяла. У нас в Америке плохая традиция, идущая от англичан и французов. Наши пользующиеся популярностью рассказы в журналах привлекают остроумным сюжетом, разного рода трюками и фокусами. Естественным результатом этого является то, что описание жизни человека перестает быть важным и становится второстепенным. Сюжет не вырастает из драмы, естественно возникающей из переплетения человеческих отношений, тогда как у ваших русских писателей всюду, на каждой странице чувствуется жизнь»330. Таким образом, творческие поиски и интересы Довлатова и Ш. Андерсона во многом совпадали. В интервью с Джейн Бобко Довлатов объясняет, насколько близка была его литературная позиция позиции Ш. Андерсона (однако Довлатов не забывает при этом о русской традиции): «Вся моя, так сказать, литература выросла из устных рассказов. С детства я имел порочную наклонность к злословию и очернительству, подмечал в жизни и людях курьезное и смешное, а потом конструировал из этих впечатлений устные новеллы… <…> Долгие годы у меня ушли… на то, чтобы придать устным рассказам форму и качество литературных произведений… <…> Кстати, путь от устного рассказа к писательству – не такая уж редкость в литературе, его проделал Шервуд Андерсон, а из русских – выдающийся драматург Евгений Львович Шварц»331. Ю.Е. Власова, исследовавшая специфику жанровой структуры довлатовских произведений, считает, что интерес Довлатова к Ш. Андерсону был обусловлен еще и тем немаловажным обстоятельством, что «книга рассказов писателя (―Уайнсбург, Огайо‖) представляет собой некое эстетическое единство: сюжетно не связанные короткие рассказы (даже миниатюры), каждый из которых воспринимается как законченное произведение, объединяются в ―роман пунктиром‖, собственные проблемы каждого из персонажей оказываются составляющими системы проблем, имеющих отношение к жизни человечества в целом. На весьма ограниченном пространстве книги рассказов создается микромир, с его проблемами и заботами, которые, как выясняется, не чужды макромиру»332. Принцип объединения коротких самостоятельных рассказов в повесть, следуя традициям русской («Повести Белкина» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова) и американской литературы, использует и Довлатов: отдельные новеллы превращаются в главы повестей «Зона», «Компромисс», «Наши», «Чемодан», объединенные общим героем-рассказчиком. (В сборник «Уайнсбург, Огайо» Ш. Андерсона включены короткие истории и притчи, также имеющие общего рассказчика – газетного репортера.) Повествование как у Ш. Андерсона, так и у Довлатова («Зона», «Заповедник», «Филиал») отличается фрагментарностью: отдельные фрагменты текста 103 отделяются друг от друга чисто визуально – с помощью пробелов. Однако явилось ли использование этого приема Довлатовым вольным или невольным подражанием Ш. Андерсону, точно сказать невозможно. В одном из писем Довлатова к И. Ефимову, датированном 6 января 1989 г., имеется лишь указание относительно «Филиала»: «―Филиал‖ написан толчками, розановским… пунктиром»333. Это говорит о том, что Довлатов осознанно проводил параллель между собой и Розановым, а не Ш. Андерсоном. Сходными чертами поэтики Ш. Андерсона и Довлатова становятся отсутствие острого, занимательного сюжета, открытость финала. И эта традиция идет, прежде всего, от Чехова. По замечанию А.Г. Плотниковой, «в произведениях Чехова финал не означает конца жизни, конца некоего временного промежутка. Герои живут дальше, они вынуждены жить в сложившихся условиях, приспосабливаться к ним. Трагедия человеческого существования не завершается никогда, как не заканчивается сама жизнь в широком смысле. <…> Этой установки придерживается и Довлатов: финал произведения часто неожиданный, практически всегда – открытый…»334. Основные мотивы произведений Ш. Андерсона, как и в творчестве Довлатова, – мотив абсурдности мира и мотив одиночества человека в мире. В рассказе «Неразгоревшееся пламя» Ш. Андерсон показывает, как одиноки отец и дочь, как холодно относятся они друг к другу, хотя в душе взаимно испытывают нежные чувства. Смертельно больной отец, врач по профессии, решается на то, чтобы сказать дочери «о своей близкой смерти», при этом он говорит «холодным, спокойным тоном. Девушке казалось, что все имеющее отношение к ее отцу, должно быть холодным и спокойным»335. Слово «холодный» в рассказе повторяется несколько раз. Пациенты старого доктора, о которых он заботился в «тяжелые дни болезней и неудач» (с. 241), не считали его «холодным» (с. 241), однако, проявляя теплоту по отношению к посторонним людям, доктор так и не успел рассказать родной дочери о своей любви к ней. Мотив одиночества и непонимания другого самым близким человеком звучит и в довлатовских произведениях, например, в повести «Заповедник». Каждый диалог героя с будущей женой Татьяной лишь усугубляет их взаимонепонимание. Чем ближе становятся герои, тем меньше они понимают друг друга: «Как-то раз я водворил над столом фотографию американского писателя Беллоу. – Белов? – переспросила Таня. – Из ″Нового мира″? – Он самый, – говорю…» (2; 226). Довлатов использует прием, характерный для прозы Ш. Андерсона, но в то же время присущий русским прозаикам – Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, – прием многократного повторения одной и той же детали. Так, рассказывая о сложности человеческих отношений, автопсихологический герой подчеркивает такие черты своей жены, как спокойствие, молчаливость, равнодушие и покорность – эти характеристики переходят из одной повести в другую при воспроизведении трех разных вариантов истории женитьбы героя: «Она была молчаливой и спокойной. Молчаливой без напряжения и спокойной без угрозы. Это 104 было молчаливое спокойствие океана, равнодушно внимающего крику чаек…» («Заповедник») (2; 225); «А лицо спокойное, как дамба…» («Наши») (2; 366); «Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни…» («Чемодан») (3; 367). В рассказе Ш. Андерсона «Человек в коричневой куртке», в котором повествование ведется от 1 лица, герой пишет «историю деяний человеческих» (с. 245). Возлагая на себя такую ответственную миссию, он в то же время не способен наладить контакты даже с собственной женой: «Я не мог пробиться сквозь стену к своей жене» (с. 248). Он одновременно утверждает: «Я ничего не знаю о ней» (с. 247) и «я знаю малейшую ее мысль на протяжении всей ее жизни» (с. 247). Так автор показывает противоречивость человеческих представлений о мире и людях. Внутренний мир самого героя тоже непостижим, т.к. он не говорит «другим ни слова голосом своего ―я‖» (с. 248). В довлатовской главе «Поплиновая рубашка» из повести «Чемодан» есть похожий эпизод. Автор рассказывает о полной отчужденности жены и мужа: «Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю. Знала только, что пишу. Я знал о ней примерно столько же. <…> Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные» (3; 368 – 369). Но однажды герой-рассказчик, рассматривая семейный фотоальбом, обнаружил, что не знает не только своей жены, но и самого себя. Он не знал, насколько сильно любил жену, и понял это, когда увидел в ее альбоме собственную фотографию: «Минуты три я просидел не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел. Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально. Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит, – серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?.. У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты» (3; 372). В прозе Довлатова, как и в творчестве Ш. Андерсона, одним из основных принципов изображения внутреннего мира героя, его чувств и переживаний становится амбивалентность, двойственность (в этом видится влияние творчества Достоевского, открывшего для читателя психологию «подпольного» человека). Персонаж андерсоновского рассказа «Дверь ловушки», испытывая любовь к девушке, прогоняет ее, чтобы не создавать для нее тюрьмы, чем, в его представлении, является семья. Герой рассказа «Другая женщина» не знает, кого он любит: свою жену, которая стала для него «источником большой радости» (с. 211) или другую женщину, о которой думает по ночам, когда «воспоминание о ней остро охватывает» его «тело и душу» (с. 211). 105 В повести Довлатова «Филиал», рассказывая о первой любви автопсихологического героя, автор постоянно подчеркивает антитетичность его чувств: любовь к Тасе сочетается не только с боязнью потерять ее, но и с эгоистической любовью к самому себе. С одной стороны, Далматов «готов был драться за свою любовь…» (4; 84), с другой – «если все было хорошо, меня это тоже не устраивало. Я становился заносчивым и грубым. Меня унижала та радость, которую я ей доставлял. Это, как я думал, отождествляло меня с удачной покупкой. Я чувствовал себя униженным и грубил. Что-то оскорбляло меня. Что-то заставляло ждать дурных последствий от каждой минуты счастья» (4; 88). А в повести «Заповедник» повествование о любви героя к своей будущей жене пронизано иронией: «Но где же любовь? Где ревность и бессонница? Где половодье чувств? Где неотправленные письма с расплывшимися чернилами? Где обморок при виде крошечной ступни? Где купидоны, амуры и прочие статисты этого захватывающего шоу? Где, наконец, букет цветов за рубль тридцать?» (2; 226); «Как ни странно, я ощущал что-то вроде любви. Казалось бы – откуда?! Из какого сора?! Из каких глубин убогой, хамской жизни?! На какой истощенной, скудной почве вырастают эти тропические цветы?! Под лучами какого солнца?!» (2; 224). Ирония делает текст открытым и многозначным, зависимым от установки читателя. Пристального внимания заслуживает андерсоновский прием повторов. В отличие от чеховского приема дословного или почти дословного повторения одной фразы, Ш. Андерсон использует прием дословного или почти дословного повторения одного и того же фрагмента в различных частях текста. Иногда такой повтор выполняет функцию обрамления, как в рассказе «Братья», который включает две новеллы и начинается так: «Я в своем загородном доме. Теперь конец октября. Идет дождь. <…> В этот дождливый день листья дождем сыплются с деревьев, окаймляющих дорогу перед моим окном: желтые, красные, золотистые листья тяжело падают прямо на землю, дождь немилосердно прибивает их к ней. Им не дано вспыхнуть прощальным золотым блеском в небе. Хорошо, когда в октябре ветер уносит листья далеко-далеко по равнине. Они должны исчезать, танцуя» (с. 249). Последний абзац рассказа состоит из почти дословного повторения первых предложений: «Я сижу в своем загородном доме. На дворе дождь…». Затем в трех предложениях, играющих роль послесловия, автор повествует о судьбе своих персонажей, и в заключение – точное повторение приведенного выше фрагмента, изображающего осенний пейзаж. Повтор выполняет не только функцию композиционного приема, но и приобретает философское звучание: в жизни героев рассказа произошли большие перемены (у сумасшедшего старика умерла собачка, мастер с велосипедной фабрики убил свою жену), и только в природе все было по-прежнему, она оставалась по-тургеневски равнодушной к жизни людей. В рассказе «Семена» два андерсоновских героя – доктор и художник – говорят о себе одними и теми же словами: «Я хочу быть листком, который ветер носит по холмам. Я хочу умереть и вновь родиться, а я – лишь дерево, оплетен106 ное вьющимися растениями и медленно умирающее. Скажу вам, я устал от жизни и хочу очиститься. Я – любитель, робко пытающийся проникнуть в чужие жизни… Я устал и хочу очиститься. Я весь оплетен чем-то крадущимся, ползучим» (с. 197) – «Я устал и хочу очиститься. Я весь оплетен чем-то крадущимся, ползучим. Я хотел бы быть сухим и мертвым, как листок, уносимый ветром через безграничные водные пространства. Больше всего на свете я хотел бы быть чистым» (с. 203). Такой художественный прием, как повтор, занимает в прозе Довлатова особое место и представлен на разных уровнях. Как отмечает А.А. ВоронцоваМаралина, посвятившая этой теме отдельный параграф своей диссертации, «повторяются детали, характеристики, персонажи, зарисовки, мотивы, сюжеты, при помощи структурных повторов выстраивается композиция некоторых рассказов, повторяются различные элементы как в пределах одного текста, так и на межтекстовом уровне, создавая единый метатекст всей прозы или цикл циклов»336. Повторы определяют индивидуальность довлатовского стиля. Воронцова-Маралина объясняет эту стилевую черту «следованием переосмысленной традиции устного рассказа и строением прозы с использованием особого ритма»337, однако, нельзя не учитывать влияния литературной традиции, в частности, чеховской и андерсоновской. Таким образом, влияние творчества Ш. Андерсона на поэтику Довлатова очевидно, но необходимо учитывать, что на самого Андерсона большое влияние оказали русские писатели-классики. Н. Выгон, говоря, что «современным литературоведением убедительно доказан факт художественной преемственности в способе повествования и композиционных приемах Ш. Андерсона, учителя Фолкнера и Хемингуэя, по отношению к русской классической традиции: от ″Записок охотника″ Тургенева до рассказов Чехова», делает следующий вывод: «С. Довлатова, таким образом, можно считать наследником классической традиции по двум линиям сразу: прямой и ″боковой″» 338. Такой вывод еще более убедительно звучит при иллюстрации его конкретными примерами, что мы и попытались предпринять. 107 Глава 3. Диалог с современниками 3.1. Миф об Америке в творчестве В. Аксенова и С. Довлатова Годы, прожитые в Америке (с февраля 1979 г. – до дня смерти 24 августа 1990 г.), занимают особое место в творчестве Довлатова. Именно в США в 1980-е годы довлатовская проза получила широкую популярность: писатель выпустил двенадцать книг на русском языке, стал вторым после В. Набокова русским прозаиком, печатавшимся в журнале «Нью-Йоркер», был удостоен премии американского Пен-клуба, а в 1990 г. вошел в число двадцати наиболее престижных авторов США. (В Советском Союзе до 1989 г. Довлатов был известен лишь как репортер, работавший на студии радио «Свобода».) В Америке были написаны произведения, отразившие жизнь автора в СССР во времена «застоя» и ставшие неотъемлемой частью Ленинградского339 и Михайловского340 текстов русской культуры. Последняя повесть Довлатова «Филиал» (в 1987 г. она публиковалась в лос-анджелесском еженедельнике «Панорама», окончательный текст появился в журнале «Звезда» № 10 за 1989 г., а отдельное издание вышло в СССР через несколько недель после смерти автора в 1990 г.), которая в полной мере отразила, по выражению Ю. Дружникова, «сложные возможности свободы для несвободных людей»341, «вписывается» в так называемый американский текст русской литературы. Миф об Америке в сознании россиян и на страницах русской литературы имеет свою давнюю историю. Как утверждает А. Эткинд в исследовании, посвященном «истории, литературе и политике двух великих стран в течение двух веков», сравнение России и Америки, их народов, национальных характеров «настолько распространено, что интереснее следить не за тем, как оно попадало от одного автора к другому, но за тем, сколь разные функции оно выполняло у разных авторов»342. Одним из первых сходство между этими двумя странами обнаружил русский дипломат Павел Свиньин в начале XIX века, когда написал свой травелог «Американские дневники и письма (1811 – 1813)», основанный на идее, что «нет двух стран более сходных между собою, как Россия и Соединенные области»343. Утопическая идея о слиянии двух стран и двух культур витала во многих произведениях русских авторов от Чернышевского до Набокова. Но чаще Россия и Америка, их культура и образ жизни противопоставлялись, что было обусловлено стремлением каждой из двух держав иметь перед собой «образ Другого, выполняющего свою роль в игре сил и значений, которые определяют ее восприятие себя»344. В годы советской власти россияне проявляли к Америке как антиподу СССР особый интерес. По наблюдениям А. Эткинда, в ранний советский период именно Америка «оказалась излюбленным предметом писательских травелогов. Есенин и Маяковский, Пильняк и Эйзенштейн, Ильф и Петров путешествовали за океан и, как правило, публиковали полномасштабные отчеты об этих поездках. Другие, как Мариэтта Шагинян, предавались чистой фантазии. <…> Американские впечатления литераторов-попутчиков непременно заостряли чувство собственной идентичности, национальной или идеологической. Со- гласно итоговой формуле Маяковского, ―Я в восторге от Нью-Йорка, города, но […] у советских собственная гордость‖»345. Период оттепели 1960-х гг., дав русским читателям возможность приобщиться к произведениям американской литературы, привлекавшим особой раскованностью, лаконизмом, отсутствием тенденциозности и выходившим к тому же в блистательных переводах, породил у творческой молодежи стремление подражать американскому стилю жизни, уверенность в том, что, как выразились П. Вайль и А. Генис, «если утопии нет в России, то где-то (на Западе) она должна все-таки быть»346. Что касается отражения образа Америки в русской литературе 1960 – 1970-х гг., то в 1967 г. выходят путевые заметки В. Некрасова «По обе стороны океана», в которых автор восторженно пишет об Америке, где побывал в качестве туриста в 1960 году. Писателя поразило все: небоскребы, обилие магазинов, американские комфортабельные поезда, превосходные игрушки, кино, телевидение, музеи, огромный поток детективной литературы. В советской прессе заметки В. Некрасова, названного «туристом с тросточкой», получили отрицательный отзыв347: период оттепели с отставкой Н.С. Хрущева закончился и Америка по-прежнему считалась идеологическим врагом Советского Союза. Особняком стоит появившийся в 1976 г. в журнале «Новый мир» очерк В. Аксенова «Круглые сутки нон-стоп», в котором автор откровенно восхищается жизнью в США: аксеновские путевые записки, вышедшие тиражом в 175тыс. экземпляров, по замечанию А. Мулярчика, не вызвали тогда «особенно оживленных откликов»348. Обращает на себя внимание тот факт, что в период так называемого брежневского застоя, когда в советской печати многие темы были под запретом, а граждане СССР не могли себе позволить даже подумать о поездке в Соединенные Штаты, Аксенов старался пробудить читательское воображение: «Теперь я должен познакомить читателя с тем городом, куда я зову его воображение. Лос-Анджелес. Город Ангелов. Калифорнийцы называют его запросто Эл-Эй…»349; после рассказа о Лос-Анджелесе автор так же вдохновенно повествует о Нью-Йорке и Сан-Франциско. Многие слова, используемые в очерке: «супермаркет», «паркинг», «кампус», «гамбургер» и др. – были в то время незнакомы русским читателям. Мало того, некоторые подробности из жизни американцев, отраженные Аксеновым, были идеологически враждебны советскому обществу: «Топографический, эстетический, а может быть, и духовный центр перекрестка», по мысли автора, – «это безусловно… большая стеклянная закусочная, открытая двадцать четыре часа в сутки, нон-стоп». Жить в Америке, как показывает писатель, захватывающе интересно: «Я начинаю догадываться, как много жизни за этими тихими фасадами, в глубине кварталов, на холмах и в каньонах великого города, как много странной, быть может, и таинственной жизни». Автор подмечает, что для калифорнийцев, живущих интересно и полнокровно, типично, тем не менее, постоянное ожидание «чего-то еще». «Чего-то еще, чего-то еще.… Это, однако, не жадность, а готовность к чудесным поворотам судьбы». Аксенов пишет о поклонниках Кришны и о хиппи, о наркотиках, курении марихуаны и игральных автоматах, крутящихся рулетках, о существовании порногазет и газет для гомосексуалистов, об 109 отсутствии ограничений в одежде и канонов в моде, о неизвестной советским людям рекламе, о «царстве долларов», где все продается и все покупается, о зеркальных потолках гостиниц, о стремлении американцев, в которых живет «свободолюбивый пионерский дух», к свободе, об эмигрантских судьбах и о своей приверженности к американской литературе. Будучи гражданином СССР и советским писателем, автор открыто признается, что испытывает на себе влияние Воннегута и Олби «так же сильно, как влияние сосен, моря, гор, бензина, скорости, городских кварталов». Использование метризации в прозаическом тексте путевых записок свидетельствует об экстраординарности впечатлений, оставшихся у автора после прогулок по Сан-Франциско: «Луна уже висела. Залив еще рычал. Вода уже блестела. Пальмы уже трепетали. Память еще искала. Рука уже бродила. Луна еще висела. Залив уже молчал». Свою манеру письма Аксенов называет «ассоциативные размышления, недетерминированные». В очерке заметны приемы, характерные для аксеновской художественной прозы: метафоричность («Итак, вообразите мгновение. Дул сильный ветер, он продул это мгновение все насквозь и перелетел в следующее»); внимание к детали (пустая банка из-под пива «тихо, без всякого вызова катилась по асфальтовому скату и поблескивала с единственной лишь классической целью – завершить картину прозаика»); ирония – она используется по отношению к Москвичу, который ищет в Америке приключений («Типичное американское приключение» иногда именуется Аксеновым и по-английски: «Typical American Adventure»). Этот «пространный очерк» (А. Мулярчик) был допущен к печати, по всей видимости, лишь благодаря кратковременной разрядке международных отношений: в июле 1975 г., как упоминает Аксенов, «в космосе соединились серпасто-молоткастый и звездно-полосатый корабли». Отсутствие отрицательных отзывов на аксеновский очерк в период холодной войны можно расценить как стремление со стороны советской прессы не привлекать внимание читателей к беллетристике, совершенно не содержащей критики в адрес Америки. Ведь, как правило, страны Запада в произведениях русских литераторов эпохи позднего социализма представлены в качестве источников греха, разврата и наркомании. Так, А. Мулярчик отмечает: «Возьмем… какой-нибудь роман, затрагивающий ситуацию на Западе и принадлежащий перу одного из ведущих современных писателей, – ―Бессонницу‖ ли А. Крона, ―Выбор‖ Ю. Бондарева или ―Все впереди‖ В. Белова. Раз изображен Париж, так обязательно стриптиз и порнофильм, раз Нью-Йорк, то бурлеск, раз Стокгольм, то секс-шопы и секс-шоу»350. Однако, заметим, эти выводы являются не вполне справедливыми. Как российская, так и западная действительность того времени изображены в «Бессоннице» А. Крона (1977; издано в 1980) и в «Выборе» Ю. Бондарева (1980) вовсе не однозначно. А рассуждения одного из главных героев романа Ю. Бондарева приобретают философское звучание: какой бы выбор ни сделал человек, ему везде жить трудно – и в Москве, и за границей: «Все свободы – придуманная видимость, мираж. <…> Человеку плохо везде… В эти дни я походил по Москве, как по музею, – по магазинам, по улицам… Рая нет. Унылый мировой стандарт. Почему в Москве так рабски подражают Западу? <…> Нет ни рая, ни 110 родного угла… <…> Возможно, мы пылинки в потоке мировой судьбы. Вселенной… Страшная штука жизнь…»351 Новым этапом бытования мифа об Америке в русскоязычной литературе стали 1980-е годы – период изучения американской действительности писателями «третьей волны» «изнутри»: как известно, поток русских писателей, принявших тезис о Западе как прямой противоположности России (этот тезис лег в основу теории, которую Бродский, разместив «полюсы добра и зла по разным сторонам света», «определил как ―геополитическую детерминированность своей судьбы – концепцию деления мира на Восток и Запад‖»352), устремился именно в Америку. То, как по-разному отразился американский миф в творчестве русских писателей порубежной эпохи, наглядно показывает сопоставление произведений Аксенова и Довлатова. В своей книге «В поисках грустного бэби», созданной в 1984 – 1985 гг. и изданной в конце 1987 г. за границей одновременно на русском и английском языках, Аксенов, ставший к тому времени эмигрантом, уже пытается показать Америку без пристрастий и односторонности и отразить, по словам автора, «альтернативность американского образа жизни советскому социализму»353. Писатель говорит, с одной стороны, о трудностях эмиграции («Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны») и, с другой стороны, выражает свое представление о том, что СССР являет собой «отнюдь не ―новый мир‖, но мир отсталый». При этом «советский социализм», лишивший писателя родины, изображается, по определению М.Н. Везеровой, с помощью ироникоюмористическо-сатирических форм и приемов словоупотребления354. Однако не только ирония звучит по отношению к советской стране в аксеновском повествовании. Отмечая, что в годы второй мировой войны у граждан СССР сложилось мнение об Америке как о стране «сказочного богатства и щедрости», а «десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали… уверенности в ―похожести‖ русских и американцев», писатель обращается к традициям русской литературы, основанным на идее схожести двух стран. Столицы этих держав, по мнению Аксенова, достойны друг друга; не случайно он включает в свое повествование слова эмигранта, поездившего по всему миру: «…жить можно только в Нью-Йорке… Или в Москве. Но туда уже хода нет». Нью-Йорк – о нем автор пишет как о своеобразном рае для художника слова: «все… многонациональное варево, немыслимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантюр, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, – разве это не рай для писателя?» – соперничает с Вашингтоном, как в России Москва соперничает с Петербургом. А главное, Аксенов замечает, что сходство Америки и СССР проявляется и в ограничении свободы писателя: в Советском Союзе – партийными документами, а в США – законами коммерческого рынка. По-прежнему восторженно говоря о джазе, о любимых американских писателях, прежде всего, о Хемингуэйе, Стейнбеке, Фолкнере, а кроме того, об американской русистике (в частности, о К. Проффере и его жене), так много сделавшей для знакомства публики с русской литературой, Аксенов с грустью 111 отмечает, что его «сейчас не очень-то интересует современная американская литература. <… > Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза». В повести «В поисках грустного бэби» раскрываются особенности аксеновского характера – всегда чему-то сопротивляться: «Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения, я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома, будучи им ―почти‖, я все-таки временами почесываю себе башку: а не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство?» Аксенов видит отрицательные стороны американской жизни в бюрократизме чиновников, в огромных налогах, сложностях банковской жизни, в ухудшении сервиса, «наплевизме», обезличке, халтуре; с сожалением констатирует, что и «в русско-американской общине как в капле воды отражаются … многие гадости, привычные для большой России»: антисемитизм, невежество, ханжество. Находя в американском образе жизни не только положительные, но и отрицательные черты, автор считает, однако, что нельзя в советской прессе печатать одну лишь черную ложь о США, чтобы укрепить в сознании людей «знак Соединенных Штатов как извечного и окончательного врага». В 2004 г. Аксенов издает две новые книги о жизни в Америке: «Десятилетие клеветы (радиодневник писателя)» и «Американская кириллица». Если книга «Десятилетие клеветы (радиодневник писателя)» наполнена размышлениями о судьбе России, которую автор во всем противопоставляет Америке, то в книге «Американская кириллица», говоря о «практике романостроительства», Аксенов стремится показать, как американская среда (хронотоп) способствует созданию современных русских романов и что Америка, хотя «никто не дает аванса под ваш замысел»355, вдохновляет писателя на творчество. «Америка какоголибо романа может стать правомочным, а то и самым значительным героем произведения, в той же степени, как стали героями соответствующих произведений Петербург, Дублин и Берлин. …Читатель вступает с такой Америкой в особые не-познавательные, а сугубо творческие отношения… Такая Америка может внезапно появиться, как мгновенная вспышка, среди своего полного отсутствия. Так случилось, например, у Достоевского в ―Бесах‖, когда Кириллов ни с того ни с сего вдруг вспомнил Америку, где он бывал»356. Основной прием создания текста «Американской кириллицы» – прием автоинтертекстуализации. Книга содержит фрагменты из ранее написанных аксеновских произведений об Америке; эти фрагменты скрепляются вновь созданными текстами, в которых писатель размышляет о психологии творчества, рассказывает об истории создания своих произведений и о своей судьбе, неразрывно связанной с русской литературой. Таким образом, «Американская кириллица» причудливо сочетает в себе американские сюжеты с сюжетами из собственной жизни Аксенова (здесь и воспоминания о преподавании в американских университетах курсов «Современный роман: упругость жанра», «Модернизм и авангард в России начала XX века. Образы утопии», «Два столетия русского романа», и отражение личной трагедии в рассказе «Иван»), и сюжетами, подсказанными авторской фантазией. Так, например, в книгу входит фрагмент романа «Желток яйца» (1989), написанного Аксеновым по-английски 112 и переведенного впоследствии самим автором на русский язык. В романе используется вымышленный дневник Достоевского, в котором великий писатель якобы спорит с Марксом «о сути коммунизма и о природе человечества». Но главным героем «Яйца», по признанию Аксенова, становится Вашингтон: «Отвлекаясь от шутовской метафизики, я жаждал написать образ американской столицы, которая сама по себе является яйцом с тремя оболочками. <…> Перефразируя советскую банальность ―Москва – город герой‖, можно сказать ―Вашингтон – это город, литературный герой‖»357. Пытаясь в «Американской кириллице» подвести какие-то итоги и осмыслить свою творческую жизнь вдалеке от родины, Аксенов пишет: «Хоть мне и есть за что укорять Америку, мне есть и за что предложить ей совместную понюшку табаку. Так или иначе, она вошла густым коловоротом своих ярких пахучих красок в мои большие романы 80-х и 90-х годов»358. Намного сложнее складывалась жизнь в Америке у Сергея Довлатова. Если Аксенов приехал в эмиграцию уже известным автором, то писательская карьера Довлатова там только началась. При этом Довлатов, хотя и печатался в престижном американском журнале «Нью-Йоркер», постоянно боролся за выживание, испытывая денежные затруднения. О глубокой депрессии, о ностальгии рассказывают довлатовские письма к Т. Зибуновой и И. Ефимову. В своем выступлении «Как издаваться на Западе?» Довлатов отзывается о Нью-Йорке как о городе противоречий: «Этот город – серьезное испытание воли, характера, душевной прочности. Здесь у тебя нет ощущения гостя, приезжего, чужестранца. И нет ощущения дома, пристанища, жилья. Есть ощущение сумасшедшего корабля, набитого миллионами пассажиров. Где все равны…» (4; 371). Одними из первых, кто коснулся в своих эссе «Потерянный рай. Эмиграция: попытки автопортрета» (книга была издана в Америке в 1983 г.) и «Американа» (книга вышла в России в 1991 г.) проблемы, заключающейся в необходимости «отделить реальную Америку от Америки как риторической фигуры, от американского мифа»359, были П. Вайль и А. Генис. Авторы рассеяли «историческое заблуждение» о счастливой жизни в Америке, в плену которого они находились в 60-е годы, сделав следующие выводы: эмигранты не сумели приобрести «вместе с американским паспортом американской ментальности», они стали жить в Америке «по законам, вывезенным из России», отгородившись от окружающего «стенами из русских книг, русских приятелей, русской работы», т.е. построив гетто, но ведь, как отмечают Вайль и Генис, гетто – «тоже часть Америки»360. В повести Довлатова «Филиал» мысль о том, что Америка не является филиалом рая на земле, а больше напоминает филиал России, что американская жизнь так же абсурдна, как и советская, выражена достаточно четко. Автор приходит к следующему убеждению: где бы ни жил человек – в России или в Америке, – он везде сталкивается с абсурдной действительностью, недаром в интервью с Д. Глэдом писатель заявляет, что «ощущение надвигающегося абсурда, когда безумие становится более или менее нормальным явлением»361, связано не с местом, а со временем. Само слово «филиал» по отношению к 113 Америке появляется у Довлатова уже в 1983 г. в «Последней колонке» «Марша одиноких», повествующей о довлатовском опыте работы в качестве главного редактора газеты «Новый американец», когда он столкнулся в Америке с «вредоносной ординарностью», выступавшей «под маской безграничного антикоммунизма» (2; 488) и помешавшей изданию демократической газеты: «Америка – не филиал земного рая. И это – мое главное открытие на Западе… » (2; 487). Исторической основой повести «Филиал» является международная конференция «Третья волна: русская литература в эмиграции», проведенная в Южно-Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в марте 1981 года. Свое участие в этом событии Довлатов отразил в трех аспектах. Во-первых, как участник конференции, выступивший с докладом «Как издаваться на Западе?». Вовторых, как журналист – комментатор событий (работая репортером на радио, он передавал свои материалы о ходе заседаний и дискуссий; кроме того, уже позднее в газете «Новый американец» № № 67, 69, 73, 74 за 1981 год Довлатов напечатал несколько материалов под рубрикой «Из выступлений на конференции в Лос-Анджелесе», а в парижском журнале «Синтаксис» № 10 за 1982 год опубликовал очерк «Литература продолжается», где отразил свои впечатления от конференции). И, в-третьих, как писатель, предпринявший попытку демифологизации в художественном произведении – повести «Филиал» – мифа об Америке как о земном рае для писателя. Повесть Довлатова «Филиал», перекликаясь с его выступлением «Как печататься на Западе?» и очерком, рассказывающим о встречах в Лос-Анджелесе с А. Синявским, Э. Лимоновым, Н. Коржавиным, В. Некрасовым, В. Аксеновым и А. Гладилиным, продолжает многовековой спор между Россией и Америкой о свободе, а точнее, о свободе художника слова. Когда Довлатов жил в Советском Союзе, ему не хватало творческой свободы, он мечтал о ней: «…единственной целью моей эмиграции была свобода» (2; 488). Еще Алексис де Токвиль, сравнивая демократическую Америку и царскую Россию, утверждал: «В Америке в основе всякой деятельности лежит свобода, в России – рабство»362. Как известно, для Пушкина даже негативная свобода была недостижимым идеалом: государство считало, что оно вправе читать семейную переписку, вмешиваться в судебные споры и подвергать цензуре поэтические произведения. Ограничение свободы всегда приводило к ограничению пространства, отсюда свобода оказывалась всегда связанной и с пространственными перемещениями. Мечта о свободе привела Пушкина к замыслу побега за границу, когда это оказалось невозможным, он «убегал» в деревню, в самого себя. Но парадокс заключался вот в чем: те авторы, которым удалось уехать – Гоголь, Герцен, Тургенев, – испытывали ностальгию, желание знать реакцию на свои произведения русских читателей. Такую же тоску ощущали постреволюционные эмигранты. Времена менялись, а вопросы об отсутствии свободы творчества на родине и о том, для кого писать в эмиграции, оставались. В своем выступлении на конференции в Лос-Анджелесе Довлатовдокладчик развивает именно эту тему. «Дома нас страшно угнетала идеологическая конъюнктура»; «идеологическая конъюнктура – это трибунал», «это 114 верная гибель», ведь понятия «‖талантливая книга‖ – ―идеологически выдержанная книга‖ не совпадают никогда» (4; 373). В Америке, обретя творческую свободу, русский писатель сталкивается с другими проблемами: если в России «моделью публичной жизни» (А. Эткинд) вместо церкви стала литература, то в Америке, где религия всегда выполняла свою традиционную роль, «литература … не является… престижной областью» и «рядового автора… прокормить не может» (4; 372); «средний писатель», не имевший признания в Союзе, лишен его и на Западе. По мысли Довлатова, чтобы внести свой вклад в мировую литературу, «художник глубоко, безбоязненно и непредвзято» должен воссоздавать «историю человеческого сердца», потому что «национальное и общечеловеческое в творчестве живет параллельно» (4; 376 – 378). (В этом отношении взгляды Довлатова совпадают с позицией Пушкина, который, по замечанию С. Бойм, отдавал предпочтение общечеловеческому, а не национальному, недаром любимым пушкинским афоризмом было выражение Шатобриана: «Нет иного счастья, кроме счастья общих путей»363.) Про себя Довлатов говорит, что для него в Америке ничего не изменилось: он «стал тем, кем был и раньше… А именно русским журналистом и литератором» (4; 378). В повести «Филиал» автор развенчивает миф об абсолютной свободе творчества в Америке с помощью иронического принципа повествования – приема, который использовался Довлатовым ранее и в других произведениях. Писатель называет реально существующий в Нью-Йорке адрес радиостанции «Третья волна», где автопсихологический герой повести – Далматов – работает ведущим, вовсе не случайно, а для того, чтобы лишний раз убедить читателя в том, что речь идет именно об Америке. Радиостанция «помещается на углу Сорок девятой и Лексингтон. Мы занимаем целый этаж гигантского небоскреба ―Корвет‖. Под нами – холл, кафе, табачный магазин, фотолаборатория» (4; 9). «Мы вещаем на Россию… Наша контора расположена в центре Манхэттена» (4; 8). Довлатов показывает, что большой разницы между «советским» и «антисоветским» нет. Работа журналиста в СССР и работа журналиста в Америке очень похожи, и разговоры начальника с рядовым сотрудником в американской редакции почти не отличаются от административных указаний советскому репортеру. «Начальник Барри Тарасевич объяснил мне: – Я не говорю вам – что писать. Я только скажу вам – чего мы писать категорически не должны. <…> Не пишите, что Москва исступленно бряцает оружием. Что кремлевские геронтократы держат склеротический палец… Я перебил его: – На спусковом крючке войны? – Откуда вы знаете? – Я десять лет писал это в советских газетах. – О кремлевских геронтократах? – Нет, о ястребах из Пентагона» (4; 9). Используя свой опыт работы на родине, советский журналист без труда превращается в антисоветского. Не случайно автор размышляет на тему о том, как бы русские «расправились» с эмигрантами, если бы захватили Америку: 115 «– Вы, наверное, ожидаете смертной казни? И вы ее действительно заслуживаете… Но это слишком дорогое удовольствие… Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново – мы не располагаем такими средствами… Поэтому слушайте!.. Ты, Куроедов, был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом. Понял? – Слушаюсь! – отвечает Куроедов. – Ты, Левин, был советским писателем. Затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем. Ясно? – Слушаюсь! – отвечает Левин. – Ты, Далматов, был советским журналистом. Затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом. Не возражаешь? – Слушаюсь! – отвечает Далматов» (4; 10). Проявление абсурда автопсихологический герой увидел и в «загадочном распоряжении», пришедшем ему из главного офиса: «‖Сократить на двенадцать процентов количество авторских материалов‖. Я стал думать, что это значит. Число авторских материалов на радио было произвольным. <…> Что значит – двенадцать процентов от несуществующего целого? Вся эта история напомнила мне далекие армейские годы. Я служил тогда в лагерной охране. Помню, нарядчик сказал одному заключенному: – Бери лопату и копай! – Чего копать-то? – Тебе сказали русским языком – бери лопату и копай!.. – Да что копать-то? Что копать? – Не понимаешь? В крытку захотел? Бери лопату и копай!.. Самое удивительное, что заключенный взял лопату и пошел копать… Я поступил таким же образом. Продиктовал нашей секретарше ответный телекс: ―Количество авторских материалов сокращено на одиннадцать и восемь десятых процента‖. Затем добавил: ―Что положительно отразилось на качестве‖» (4; 68 – 69). Факты действительности в повести совмещаются с писательским вымыслом, среди героев – и реально существовавшие писатели (А. Синявский, В. Максимов), и вымышленные, за которыми угадываются прототипы. И. Сухих отмечает, что «путем элементарных фонетических сдвигов и замен профессор Серман (автор двух хороших статей о Довлатове) превращается в Шермана, литературовед Эткинд – в Эрдмана, правозащитники Шрагин и Литвинов – в Шагина и Литвинского, писатель Юз Алешковский – в Юзовского. В других случаях применяются семантические ассоциации. Поэт Наум Коржавин превращается авторской волей в Рувима Ковригина (корж – коврига), Андрей Синявский – в прозаика Белякова (синий – белый), автор романа ―Победа‖, старый писатель Панаев – это, конечно же, Виктор Некрасов с его повестью ―В окопах Сталинграда‖ (он отождествляется с поэтом, издателем ―Со116 временника‖, и по аналогии возникает фамилия его соредактора по журналу Ивана Панаева)»364. Однако реальные личности угадываются не только по эти приметам, а еще и потому, что за пять лет до написания «Филиала» Довлатов изобразил те же ситуации, что и в повести, а также воспроизвел реплики знаменитых авторов и назвал их настоящие имена и фамилии в очерке «Литература продолжается». Итак, главными действующими лицами довлатовской повести становятся люди пишущие и издающие. И живут они по тем же законам, что и в России: здесь, как отмечает Сухих, «есть почвенники и либералы, борьба самолюбий и кружков, гении и сумасшедшие… Причем на почве главным образом литературной, а не политической… Самый невинный случай – шарады поэта Абрикосова: ―Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючниковых, например, единицы? Огурцовы встречаются на каждом шагу, а где извини меня, Помидоровы?‖ Но кроме него сюда забредает отчаянная американка, подвергшаяся нападкам цензуры за роман ―Вернись, сперматозоид!‖, <…> робкий Роальд Маневич с рукописью романа ―Я и бездна‖, скромный скульптор Туровер, пишущий о самом себе эссе ―Микеланджело живет во Флашинге‖, неутомимый рабкор Лисицын-Фукс»365 – графоман, который преследует редактора Фогельсона по всему свету от Нарыма – Кемерова – Москвы – Израиля до Америки с вопросом: «Где же печататься рабочему человеку?» (4; 70). Последний сюжет Довлатов берет из имевшей место в жизни истории, рассказанной во время лос-анджелесской конференции Перельманом [позднее Перельман изложил ее в книге «Театр абсурда. Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров» (1984)], и доводит его до гротеска. Показав абсурдность жизни в Советском Союзе в произведениях «Зона», «Заповедник», «Компромисс», «Наши», «Чемодан», в своей последней повести «Филиал» Довлатов изображает абсурд жизни эмигрантов в Америке, хотя участники общественно-политической секции придуманного Довлатовым симпозиума «Новая Россия» говорят о том, что «эмиграция есть ―лаборатория свободы‖. Или там – ―филиал будущей России‖. Затем что-то о ―нашей миссии‖. Об ―исторической роли‖…» (4; 69). Автопсихологический герой Далматов комментирует: «По ходу конференции между участниками ее выявились не только разногласия. В отдельных случаях наблюдалось поразительное единство мнений. Все единодушно признали, что Запад обречен, ибо утратил традиционные христианские ценности. Все охотно согласились, что Россия – государство будущего, ибо прошлое ее ужасающе, а настоящее туманно. Наконец все дружно решили, что эмиграция – ее достойный филиал» (4;.115) (после этого предложения у Довлатова стоит необычный знак препинания – многоточие из 17 точек). Повесть «Филиал» имеет подзаголовок: «Записки ведущего». Так, уже названием Довлатов подчеркивает, что русские писатели-эмигранты вынуждены были зарабатывать себе на жизнь нелегкой работой радиожурналиста. По сло117 вам И. Толстого, «радио Свобода – действительно писательское радио. Свобода помогла выжить В. Аксенову, Арк. Белинкову, П. Вайлю, Вл. Войновичу, А. Галичу, А. Генису, С. Довлатову, В. Некрасову, Б. Парамонову, Иг. Померанцеву, Алексею Цветкову, Сергею Юрьенену»366. Довлатов был первым, кто затронул эту тему в художественном произведении, посвященном «третьей волне» эмиграции. [В выступлении «Как издаваться на Западе?» он замечал: «Положение русского литератора на Западе можно считать двойственным. Обстоятельства его жизни необычайно выигрышны. И наряду с этим – весьма плачевны. <…> Рядового автора литература прокормить не может… Все мои знакомые живы, все что-то пишут. Подрабатывают на радио ―Либерти‖» (4; 372 – 373)]. С довлатовской повестью перекликаются написанные позднее роман А. Гладилина «Меня убил скотина Пелл» (2001) и книга В. Аксенова «Десятилетие клеветы (радиодневник писателя)» (2004), горько и правдиво повествующие о работе русских писателей в качестве ведущих на западных радиостанциях. Однако, в отличие от Гладилина и Аксенова, именно Довлатову удалось показать не только историю жизни писателей-эмигрантов, но и «историю человеческого сердца». Рассказывая в «Филиале» о чувствах, переживаниях и фактах жизни автопсихологического героя (которые во многом совпадают с биографией самого Довлатова), автор стремится выполнить задачу, которая, по его мнению, является главной для художника слова. В противовес американскому мифу писатель выстраивает миф о вечности и святости первой любви. Ученые доказали, что вечная любовь действительно является мифом, т.к. с точки зрения биохимии влюбленные просто больны в результате дисбаланса гормонов. Когда любящие привыкают друг к другу, то гормональный баланс восстанавливается и влюбленность проходит. Американский антрополог Хелен Фишер указывает на единственную возможность избежать привыкания – на так называемый феномен «гравитации недоступности», который заключается в том, что, «чем больше препятствий на пути влюбленных, чем реже они видятся, тем дольше держится высокий уровень ―гормонов любви‖ в организме»367. Однако для ученых остается загадкой такой момент влюбленности, как ее избирательность, в которой, по сути, и проявляется свобода выбора. Поэты и писатели объясняют это явление неповторимостью личности любимого человека и продолжают писать о первой любви как о непреходящем чувстве. Довлатов был одним из таких писателей. Мир абсурда в «Филиале» противопоставлен чувству Далматова к Анастасии Мелешко – любви «до роковой черты» (4; 128). Встречая Тасю на симпозиуме после долгой разлуки, Далматов вспоминает юность и пытается еще раз осмыслить то, что не поддается осмыслению: «Тут я в который раз задумался – что происходит?! Двадцать восемь лет назад меня познакомили с этой женщиной. Я полюбил ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она – жестока, эгоцентрична и невнимательна. Университет я бросил из-за нее. В армии оказался из-за нее… 118 Все так. Откуда же у меня тогда это чувство вины перед ней? Что плохого я сделал этой женщине – лживой, безжалостной и неверной? Вот сейчас Таська попросит: ―Не уходи‖, и я останусь. Я чувствую – останусь. И даже не чувствую, а знаю. Сколько же это может продолжаться?! Сколько может продолжаться это безобразие?! И тут я с ужасом подумал, что это навсегда» (4; 127 – 128). С симпозиума Далматов дважды звонит домой и разговаривает со своими детьми, считая, что только это возвращает его «из царства абсурда в границы действительной жизни» (4; 126). Перед этим он вспоминает, как он когда-то давно, идя на призывной пункт, бесчисленное количество раз звонил Тасе изо всех телефонов-автоматов, которые попадались на его пути. Как всегда в мифе, мир разделен на две сферы: сакральную (священную) и профанную (реальную). В реальной жизни все абсурдно: необычные Тасины наряды, ее капризы, участие в «политическом эксперименте» – символических выборах лидера партийной оппозиции. Но чувство любви Далматова к Тасе, пронесенное через всю жизнь, остается святым и светлым, о чем свидетельствует признание: «Я тебя люблю» (4; 128). Повесть, рассказывающая об «истории человеческого сердца», оказывается многосмысленной. Переместившись из России на другой конец земного шара, автопсихологический герой Довлатова не смог убежать от себя и от прежних проблем – творческих и личных. Как видим, Аксенов и Довлатов, создавая – каждый по-своему – образ Америки, акцентировали свое внимание на разных сторонах сложной и противоречивой современной им действительности, что было обусловлено не только особенностями творческой индивидуальности этих двух писателей, но и различием жизненных судеб и обстоятельств: Довлатов жил в «русской Америке», а Аксенов – в русско-космополитической среде; Довлатов не дожил до падения социалистического режима в России, не узнал о своей писательской славе на родине, в отличие от Аксенова, который в апреле 1993 г. получил российский паспорт, обрел двойное гражданство, давшее возможность жить и в Америке, и в России. Отражая в своих произведениях отнюдь не однозначное отношение к Америке, Аксенов, тем не менее, считал, что жить среди людей разных рас, вероисповеданий, этнических особенностей можно интересно и плодотворно, что писатель должен быть своего рода посредником в передаче русского национального опыта американцам и, наоборот, американского опыта – русским368. Мысль Довлатова о том, что из Америки «можно бежать только на Лу369 ну» , – это продолжение герценовской мысли, выраженной в книге «С того берега», о невозможности реализации каких-либо утопий не только на родине, но и за океаном: бежать в поисках совершенного мира и гармонии некуда 370. Убеждение в том, что «Америка – не рай»371, выстрадано всей жизнью Довлатова-писателя в эмиграции. Довлатов-журналист делился своими размышлениями на эту тему с читателями на страницах своей редакторской колонки в газете «Новый американец» из номера в номер. А в одном из очерков, опубликованных в издании «Новый свет», он написал: 119 «Так что же нам делать? Любить. Потому что любовь – это рабство, которое выше свободы. Единственное, ради чего можно этой свободой пожертвовать Единственное, во имя чего можно лишиться свободы, – без колебаний»372. 3.2. Летопись «третьей волны»: перекличка произведений С. Довлатова, А. Гладилина, В. Аксенова В эссе «Летописец Брайтон-Бич», написанном вскоре после смерти Довлатова, Ю. Дружников отметил, что именно Довлатов «оказался одним из заметных летописцев третьей волны эмиграции семидесятых годов, той самой волны, которая выплеснула к подножию статуи Свободы его самого и оставила наедине с большой Америкой»373. За неполные двенадцать лет жизни в Америке писатель успел отразить в художественных и публицистических произведениях не только свои впечатления от жизни в Советском Союзе, но и сумел отозваться на все наиболее заметные события, касающиеся взаимоотношений в эмигрантской среде, затронуть важные, насущные проблемы, волновавшие творческих представителей «третьей волны»: трудности выживания в условиях эмиграции, отношение к родине, назначение художника слова. Не случайно для некоторых писателей «третьей волны» именно Довлатов, который, по словам А. Гладилина, из всех авторов-эмигрантов того времени «приобрел сейчас в России наибольшую известность»374, выступает в роли «сильного» автора, а его произведения – в роли «сильных» произведений, тексты которых становятся источниками интертекстуальных заимствований. Так, обращение к текстам произведений Довлатова в романе А. Гладилина «Меня убил скотина Пелл» (1991) выполняет, несомненно, конструктивную, текстопорождающую функцию. Посвящая роман светлой памяти своих друзей: «Александра Галича, Анатолия Кузнецова, Виктора Некрасова, Сергея Довлатова – русских писателей, которые умерли в эмиграции»375, – автор вступает в диалог, прежде всего, с Довлатовым и наполняет повествование аллюзиями и реминисценциями, отсылающими к некоторым фактам жизни Довлатова, к его выступлениям, публицистике и художественному творчеству. Первая реплика в литературном диалоге принадлежит Довлатову. Имя Гладилина он упоминает в очерке «Литература продолжается», опубликованном впервые в журнале «Синтаксис» (1982 , № 10): «После конференции я давал Гладилину интервью для ―Либерти‖. Гладилин спросил: – Что вас особенно поразило? Я ответил: – Встреча с Аксеновым и Гладилиным. Я не льстил и не притворялся. Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским376. С тенденцией к звездным маршрутам… Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллинн, увлекались джазом… Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями» (4; 282). 120 Ответ – признание Довлатову в симпатии – Гладилин дает в романе «Меня убил скотина Пелл»: «…приятно было убедиться, что, несмотря на обилие эмигрантской литературы, они [читатели-эмигранты] по-прежнему предпочитают книги Аксенова, Войновича, Владимова, Некрасова, а из новых – оценили Довлатова»377. Роман Гладилина продолжает тему, начатую Довлатовым в «Филиале», – о работе известного русского писателя на радио «Свобода». Повествование в романе «Меня убил скотина Пелл» ведется от имени журналиста Андрея Говорова. Вымышленные персонажи соседствуют на страницах романа с реальными – Василием Аксеновым, Виктором Некрасовым, Александром Галичем, Сергеем Довлатовым и другими. Эмигрантские журналы «Вселенная» и «Запятая» – это, конечно же, легко узнаваемые «Континент» и «Синтаксис». Горький хлеб эмиграции представлен в романе конкретными ситуациями. «Задачей моей книги было показать, как на благополучном Западе человек ломается, когда его лишают любимой работы, – пишет Гладилин в своих мемуарах. – Я прошел через это психологическое потрясение и решил, что его надо обязательно зафиксировать в литературе, рассказать со всеми подробностями»378. В романе много автобиографического, однако в размышлениях Говорова о своей судьбе угадываются парафразы из повести «Заповедник» и из довлатовских интервью. Рассказывая о придирках московских цензоров, Говоров констатирует: «… так продолжалось двадцать лет. Мои книги выходили в свет инвалидами – то без руки, то без ноги… Я должен был уезжать. Иначе оказался бы в тюрьме»379. Ср. у Довлатова: «Человек двадцать лет пишет рассказы. Убежден, что с некоторым основанием взялся за перо… Тебя не публикуют, не издают…» (2; 181 – 182); «Лет двадцать я более или менее регулярно писал и пытался печататься. Через какое-то время мне стало ясно, что мои рассказы не будут публиковаться в Советском Союзе. Затем… они оказались на Западе… На каком-то этапе возникла необходимость выбора между Нью-Йорком и тюрьмой» (из интервью Довлатова Д. Глэду) 380. У Гладилина: «…в России я был писателем и в эмиграцию уехал, чтобы писать свои книги!»381. У Довлатова: «…единственной целью моей эмиграции была свобода» (2; 488). Обосновывая свое решение уехать из Советского Союза, гладилинский герой использует название одной из повестей Довлатова – «Зона», – означавшее, что в СССР не было разницы между свободным человеком и заключенным: «…твоя страна, с ее нелепыми законами и жуткой идеологией, давно стала клеткой. Большой Зоной…»382. Однако Гладилин вслед за Довлатовым говорит о том, что и на Западе для русского писателя остается много неразрешимых проблем. С одной стороны, «жизнь во Франции не казалась раем, но была весьма привлекательной, особенно если вкалываешь и ни от кого не зависишь»383. [У Довлатова: «Америка – не филиал земного рая. И это – мое главное открытие на Западе… » (2; 487).] С 121 другой стороны – «На Западе свобода, бля, свобода и нет московских редакторов. И нет моих читателей»384; «Моя родина – это мой народ, русский язык, мои друзья… мои книги, которые я написал и которые здесь никому не нужны»385; «Эмиграция для русского писателя – трагедия. Эмигрируя, мы попадаем не в другую страну, а на другую планету»386. [Ср. у Довлатова: «Нью-Йорк – хамелеон… Отсюда можно эмигрировать только на Луну» (2; 482 – 483).] Автопсихологический герой Довлатова – Алиханов – представлял себе эмиграцию как смерть русского писателя вдали от родной страны и русскоязычных читателей. Об этом свидетельствует текст повести «Заповедник»: « – …Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы? – <…> Язык. На чужом языке мы теряем восемьдесят процентов своей личности. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит. <…> …Здесь мои читатели. А там… Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?» (2; 236); « – … Все уже решено. Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь… – Для русского писателя это – смерть. – Там много русских. – Это пораженцы. Скопище несчастных пораженцев. Даже Набоков – ущербный талант…» (2; 241). Гладилин приводит своего героя не просто к писательской смерти, а к смерти физической – к самоубийству, на которое Говоров решился после неожиданного и несправедливого увольнения из парижского бюро радио «Свобода». В романе «Меня убил скотина Пелл» отчетливо звучит мысль о трагичности жизни русского писателя в эмиграции: «Русского писателя можно убить, и это, увы, случалось не однажды»387. Так могло бы быть и с Довлатовым. В беседе с П. Нуйкиным в августе 2004 г. Гладилин рассказал о том, как жил Довлатов «на проклятом Западе»: «Ну, были какие-то небольшие литературные гонорары, что-то еще он для газет делал, но постоянный источник заработков у него был один – работа внештатником на радиостанции ―Свобода‖. Причем дважды его с радиостанции увольняли – не потому, что он Довлатов, а потому, что кто-то хрюкал язвительно, что надо сокращать бюджет, и, естественно, первым делом вылетали внештатники. Так получалось, что оба раза мне из Парижа удавалось вставить его обратно в нью-йоркское бюро. Но прокормить себя сам он бы не смог… Вот так вот, на грани нищеты жили тогда на Западе очень многие русские интеллигенты…»388. При изображении Америки Довлатов не отступает от своего принципа быть правдивым. Через повесть «Филиал» проходит «трассирующая мелодия абсурда» (И. Сухих)389: слова «абсурд», «абсурдный» повторяются в тексте 7 раз. Используя иронический принцип повествования, писатель рассказывает о безумных распоряжениях начальства радио «Свобода», о борьбе политических направлений в среде русских эмигрантов. А из публицистики Довлатова – его редакторских колонок – становится понятным, что помешало изданию организованной им демократической газеты. (Газета «Новый американец» просущест122 вовала чуть менее двух лет – с января 1980 по февраль 1982 года. Только с выходом в 2006 г. материалов газеты, опубликованных в книге «Речь без повода… или Колонки редактора»390, и публикации переписки Довлатова с В. Не391 красовым прояснилось, что причиной закрытия газеты «Новый американец» стало не только отсутствие необходимых материальных средств, но и раскол в среде русской эмиграции. В частности, как отмечает Е.Ю. Скарлыгина, главный редактор «Нового русского слова» – самой популярной русской газеты в Америке – Андрей Седых, боявшийся «конкуренции со стороны активной и ироничной молодежи, приехавшей из СССР»392, не только не поддержал вновь появившееся издание, но и отказался даже опубликовать условия подписки на него. Мало того, всем авторам «НРС» было объявлено: «‖Тем, кто содействует новой газете, печататься в ―НРС‖ запрещается!‖… В общем: либо – либо! Кто не с нами, тот против нас! Долой инакомыслящих, к стенке, на рею!»393 Таким образом, свою мечту о независимом издании, не уклоняющемся от критики, не боящемся острой полемики, предполагающем свободное высказывание разнообразных мнений, Довлатову удалось осуществить лишь на короткое время.) С текстами Довлатова перекликается текст гладилинского романа, в котором автор повествует о размежевании в парижской эмиграции, об интригах в бюро, о графоманстве, об идиотизме начальников («В нашей конторе постоянный открытый конкурс для начальственных идиотов со всей Америки»394), об их жестокости и меркантильности в случаях, когда решаются вопросы, подобные вопросу об увольнении таких сильных, талантливых литераторов, как Говоров. В повести Довлатова «Филиал» и романе Гладилина «Меня убил скотина Пелл» выведены одни и те же исторические личности – представители русской литературы: В. Некрасов (у Довлатова – Панаев), В. Аксенов, В. Максимов (у Гладилина – Самсонов) и другие. Так, характеризуя Марию Васильевну Розанову-Синявскую, Гладилин пишет: «…никто не мог предвидеть, какой фортель выкинет завтра… Марья Васильевна, более того, Марья Васильевна сама этого не знала»395. Чтобы понять, что означает цитата: «‖Вселенная‖ и ―Запятая‖ могли бы вообще годами не сталкиваться, пользоваться разными выходами, а для Марьи Васильевны был бы гарантирован персональный ход через печную трубу»396, – необходимо знать текст довлатовского очерка «Литература продолжается», в котором автор рассказывает о жене Синявского парижский анекдот: «Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает: – Вам завернуть или сразу полетите?..» (4; 275 – 276). Таким образом, текст романа Гладилина «Меня убил скотина Пелл» и тексты художественных и публицистических произведений Довлатова переплетаются и дополняют друг друга. В 2004 г. к литературному диалогу между Довлатовым и Гладилиным подключился В. Аксенов, написавший книгу «Десятилетие клеветы (радиодневник писателя)». И хотя, говоря о замысле своего произведения, Аксенов ссылается на Достоевского («…к концу XX века вдруг посетила меня самонадеянная литературная параллель. В семидесятых годах прошлого века Ф.М. Достоевский выпускал в виде своеобразного журнала свои записи, которые 123 впоследствии собрались в толстый том ―Дневник писателя‖. Что ж, почему бы и мне, следуя классическому примеру, не собрать эфирные летучки… не образовать… книжку под заголовком ―Радиодневник писателя‖»?»397), нельзя забывать о том, что повесть Довлатова «Филиал» была создана в форме записок писателя-радиожурналиста гораздо раньше, чем аксеновский «радиодневник». В свое время в очерке «Литература продолжается» Довлатов писал о признании писателей Гладилина и Аксенова на Западе: «тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий» (4; 284 – 285). Тем не менее и эти знаменитые писатели не избежали необходимости работать на западных радиостанциях. Сам же Аксенов отмечает: «Радиожурналистика – дело довольно естественное для писателя, особенно в эмиграции…»398. В книге Аксенова тексты его авторских радиопередач собраны по годам, эта хронология дает возможность проследить, что Довлатова и Аксенова в одно и то же время волновали одни и те же темы. Так, например, в первые годы после эмиграции писателей не оставляли мысли о путях развития литературы на родине. В «Заповеднике» (1983) автопсихологический герой Довлатова с иронией отзывается о творчестве своего современника, представителя соцреализма – провинциального графомана Потоцкого, в рассказах которого «содержимого не оказалось» (2; 182), с горечью говорит о прозе писателей-деревенщиков, с безнадежным унынием размышлявших о современной им русской жизни, но подчинявшихся ее законам. Довлатовский Алиханов подмечает характерные черты произведений советской эпохи: бессодержательность, идеологизированность, отсутствие индивидуального авторского стиля. В «скриптах», относящихся к 1983 г., Аксенов затрагивает те же темы: «Долг литераторов, указывает Литератор, состоит в том, чтобы бороться за подлинного героя, пламенного патриота и интернационалиста, убежденного в правоте идеалов коммунизма, и против унылых «вибрирующих» личностей, которые все еще проникают на страницы книг под видом литературных героев. Призыв этот читается недвусмысленно – литерАторы, зорче следите за литерБэторами и всякими там кое-какерами, а то они, чего доброго, хорошие книги напишут»399. «Аппаратчики оказались не лыком шиты, а задним умом крепки. Вместо того чтобы давить ―деревенщиков‖, то есть толкать к диссидентству, они их ловко приспособили, одарили всех государственными премиями, секретарскими титулами, большими тиражами, сделали это направление как бы гвардейским в советской литературе. Цель была более чем очевидна. При помощи ―деревенщиков‖ задавить празападные течения, вновь создать в России климат культурной изоляции»400. В отличие от Довлатова, показавшего в «Филиале», что жизнь в Америке по своей абсурдности ничем не отличается от российской жизни, в «радиодневнике писателя» Аксенов противопоставляет Америку России во всем: свобода и демократия – тоталитаризм, рынок – отсутствие рынка, развитая техника – техническая отсталость. Однако и Аксенов обмолвился насчет хаоса и абсурда, царивших на Западе: «В шестидесятые годы в Советском Союзе нас называли и мы называли себя ―левыми‖. Оказавшись в изгнании, мы вдруг увидели, что на 124 Западе многие люди, похожие на нас, не очень-то хотят развивать тему нашего изгнания, ибо теперь нас как бы причислили к ―правым‖. Эта экспозиция неплохо иллюстрирует царящую сейчас в мире неразбериху, терминологический, семантический, лингвистический, эстетический хаос. Параметры абсурдистского театра бодро распространяются повсюду. Мы-то думали, что Советский Союз – заповедное место для писателя-сатирика. Теперь можно вздохнуть с облегчением – и остальной мир в смысле вздора недалеко ушел»401. В словосочетании «заповедное место» угадывается намек на довлатовский «Заповедник», показанный автором как миниатюрная модель СССР. Имя Сергея Довлатова в «Десятилетии клеветы» не упоминается, но Аксенов, рассказывая о литературной жизни русских эмигрантов, говорит об «эйфории», возникшей в период создания журнала «Новый американец», о его полемике с газетой «Новое русское слово»402. (Ошибочно Аксенов называет довлатовскую газету журналом.) Интертекстуальные связи текстов романа Гладилина «Меня убил скотина Пелл» и «радиодневника» писателя Аксенова «Десятилетие клеветы» с произведениями Довлатова настолько обширны (например, перекличка в оценке Довлатовым, Гладилиным и Аксеновым творчества таких писателей, как В. Некрасов, В. Максимов, А. Солженицын, Э. Лимонов, В. Войнович, А. Галич), что это может стать темой для специального исследования. 3.3. Интертекстуальные связи повести С. Довлатова «Филиал» с повестью А. Битова «Сад» Повесть А. Битова «Сад» – одно из первых произведений писателя, датированное 1960 – 1963 гг. (опубликовано в 1966 г.). Повесть С. Довлатова «Филиал», наоборот, завершает творчество автора. Основой для сюжета и того, и другого произведения послужила история любви Сергея Довлатова и Аси Пекуровской. Этапы биографии Довлатова, в том числе и период, когда развивались события, о которых рассказывают битовская и довлатовская повести, подробно раскрыты в вышедших в начале 2009 г. воспоминаниях друзей и близких писателя, его однокурсников403. Пекуровская же посвятила этому времени книгу «Когда случилось петь С.Д. и мне. Сергей Довлатов глазами первой жены»404. Ася Пекуровская, ставшая прототипом героинь рассматриваемых повестей, родилась в Ленинграде в феврале 1940 г, закончила филфак ЛГУ и в 1973 г. эмигрировала в Америку, где живет по настоящее время. О том, как она была красива в молодости, ходят легенды. Анатолий Найман отмечает: Довлатов «был женат на красавице – настоящей, а не из тех, которых большее или меньшее число знакомых называют так по негласной договоренности. Когда они шли по Невскому, оглядывались все…»405. Необходимо представлять себе, каким был в то время сам Довлатов. Как вспоминает профессор филологического факультета СПбГУ Марианна Леонидовна Бершадская, перед Довлатовым «расступались» в узких коридорах фил125 фака: «подобное я еще раз наблюдала, пожалуй, лишь однажды: когда к нам на факультет зашел приехавший в Советский Союз Жерар Филип»406. Производя впечатление «человека, которому доступно все, чего он ни пожелает: любая дружба, любая ответная влюбленность, свобода, деньги, элегантный костюм, беспредельная сила…», пишет А. Найман, Довлатов, однако, был очень неудачливым, и в действительности «дела обстояли не так роскошно. Денег практически не было, влюблялись не только в него, друзьями становились, пусть на несколько дней, люди, которых он не знал по имени. Даже сила оказывалась достаточной лишь для перемещения в пространстве одного его могучего тела… »407. Так или иначе, реальные герои – Довлатов и Пекуровская – расстались. (Отношения между ними отразились во многих произведениях русской литературы второй половины XX – начала XXI вв.: не только в армейских стихах Довлатова, в вышеназванных повестях Битова и Довлатова и мемуарах Пекуровской, но и в стихах Е. Рейна408, а также в романе Ф. Чирскова «Маленький городок на окраине Вселенной»409.) Обе повести – и «Сад» Битова, и «Филиал» Довлатова – отражают трагичность чувства главного героя к своей возлюбленной. В короткой битовской повести Ася, главная героиня, старше главного героя – Алексея (автор чаще называет его «мальчиком») – на пять лет; она уже была замужем, когда встретилась с Алексеем. Алексей живет с матерью в ленинградской коммунальной квартире, учится в институте, он беден, а Асе постоянно нужны деньги. Алексей ради нее идет на воровство: он крадет облигации у своей тетки и у соседа, продает их и отдает деньги Асе, которая выкупает из ломбарда единственное приличное платье, чтобы встретить в нем Новый год. Уйдя от мужа, Ася снимает угол за пятнадцать рублей у подруги Нины (они живут втроем: Ася, Нина и ее дядя Сергей Владимирович – в одной комнате). Ася мечтает о своем доме, но Алексей не может привести ее в коммунальную квартиру. (Здесь автор отражает реальные факты: Сергей Довлатов вместе с матерью жил в огромной коммунальной квартире.) Алексей действительно ведет себя как мальчик: он боится ослушаться матери, иногда ему приходится врать ей, чтобы избежать разговоров про свою избранницу. Но битовский герой поражает читателя необыкновенной глубиной своих чувств. Не случайно маленькую повесть «Сад» А. Арьев называет «поэтическим переживанием разума»410. В саду, когда Алексей с Асей сидели вдвоем, «ощущение было прекрасным». Необычные ощущения молодого человека передаются с помощью несобственно-прямой речи: «В этом было как бы сознание того, что этот сад приснится через десять, двадцать, тыщу лет. Даже комунибудь другому приснится. Этот сад как-то на глазах стал прошлым. По всему этого сада не было вообще, он случился с ними – счастье, конечно, но лучше не задумываться об этом»411. Творческим достижением молодого тогда автора стало изображение неоднозначности чувств и героя, и героини. Сомневаясь в истинности чувств Аси (причина для этого действительно была: непонятно, почему был «разрушен» новогодний праздник вдвоем – то ли случайно, то ли специально), Алексей на все «вдруг посмотрел со стороны. Даже Асю он увидел со стороны, и она тот126 час отдалилась… Это, как на оптическом фокусе в популярном журнале: то видишь черное – и тогда одна фигура, то белое – и фигура совсем другая… Он не хотел в себе этого зрения не по чувству. Может, оно и умнее, но от него исчезает счастье – это уже знание какое-то – не хотелось этого знания…»412 (выделено Г.Д.). Герой Битова, «принизивший» себя во имя любви, шепчет в кровати, показавшейся ему «огромной»: «Какие мы все маленькие… Какие мы все мааленькие…» В финале повести он, листая неведомую ему книгу, натыкается на «свои» слова, никакими минутными переживаниями не вызванные: «„Господи! Какие мы все маленькие!‖ – воскликнул странный автор. „Это так! Это так!‖ – радовался Алексей»413. А. Арьев совершенно справедливо считает, что Алексей – при всей его склонности к рефлексии и мучительному самоанализу, при всей уязвимости – личность, радости никак не чуждая, натура полнокровная, цельная, завершенная в себе. Самый верный и естественный путь его развития – творческий. Автор повести «Сад» вернул отечественной прозе «маленького человека» – в его петербургском изводе – как магистрального литературного героя. (Считалось, что в русской литературе периода соцреализма «маленького человека», который был приравнен тогда к «обывателю» и «мещанину», не существовало.) Открытие Андрея Битова состояло в том, что он придал пушкинскомандельштамовской теме экзистенциальный, а не социальный статус. Во времена «развитого социализма» битовский «маленький человек» выглядит «антигероем». Он участник трагедии, внешнему миру не нужной и не видимой. Мучительные переживания свои Алексей испытывает на фоне контрастирующих между собой «белого неба» и «черной вороны». «Маленький человек» поднимается до постановки важнейших философских вопросов человеческого существования: вопроса необъяснимости для людей категории времени («в нем проклевывалось… чувство, что не только вот он живет самой полной жизнью, какой когда-либо жил, но и время все уносит от него эту жизнь»414 – выделено Г.Д.), а главное, вопроса: «откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же?»415. Финал повести остался открытым: читатель может только гадать, будут герои вместе или нет. Довлатовская же повесть рассказывает не только о зарождении чувства между главными героями – Далматовым и Тасей, но и о продолжении любовной истории: герои расстаются, а через много лет встречаются и вновь расстаются. Первая любовь Далматова показана через призму его воспоминаний. Между повестями «Сад» Битова и «Филиал» Довлатова наблюдается текстуальная перекличка, используются одни и те же детали. Похожи имена героинь (у Битова – Ася, у Довлатова – Тася); главный герой и того, и другого произведения – неуспевающий студент, старающийся сдать зачеты. У Довлатова: «…Я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего, таким образом, мне запомнились университетские коридоры. Я помню тесноту около доски с расписанием. Запах тающего снега в раздевалке» (4; 36). 127 У Битова: после несданной контрольной «тем же кружным путем спустился он в подвал раздевалки. Раздевалка была пуста, он вошел туда, пригнул голову, отчего у него всегда появлялось ощущение, что он очень высокий, хотя просто проход был очень низкий... Тут было тепло и уютно…»416. Оба героя увлекаются переводными произведениями западной литературы: Далматов читает книги английского писателя Честертона, а битовский Алексей – роман «Моби Дик, или Белый Кит» американского автора XIX века Германа Мелвилла. У Битова герои едут к Финскому заливу на электричке первого января, у Довлатова герои едут по той же дороге летом; дорога в обоих произведениях показана глазами молодого человека, обращающего внимание на каждую мелочь. Приехав в Ленинград, герои повести «Сад» сразу расстались: «Алексей даже провожать не пошел – время позднее, а завтра рано вставать»417. В «Филиале» автор показывает тоже необычное расставание: девушка села в такси, а Далматов поехал домой на трамвае. У Битова герои встречаются в саду (пусть выдуманном), у Довлатова – в парке. В битовской повести влюбленные остаются у подруги, живущей в коммунальной квартире, в довлатовской – «Тасина подруга жила на Кронверкской улице в дореволюционном особняке с балконами. У подруги была отдельная квартира» (4; 65). Герой «Филиала» был так же беден, как герой Битова: «Сначала я продал мою жалкую библиотеку, которая чуть ли не целиком умещалась на тумбочке в общежитии. Потом заложил шерстяной спортивный костюм и часы. Я узнал, что такое ломбард с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. <…> Я просыпался с ощущением беды… всерьез планировал ограбление ювелирного магазина… Занимая деньги, я не имел представления о том, как буду расплачиваться. В результате долги стали кошмаром моей жизни» (4; 78). Чтобы выразить амбивалентность чувств и переживаний своих героев, Довлатов обращается к цитированию стихотворных строк своего любимого поэта Мандельштама: Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты… (4; 94). Довлатовский герой мысленно вспоминает эти стихи дважды, осознание опыта для него становится синонимом несвободы. Далматов мучается чувством ревности, испытывает страх от мысли, что он может потерять Тасю, и в то же время ненависть к себе, вину перед Тасей и жалость ко всем бедным, больным, несчастным. «Я проклинал и ненавидел только себя. Все несчастья я переживал как расплату за собственные грехи» (4; 84). С одной стороны, Далматов «готов был драться за свою любовь…» (4; 84), с другой – «если все было хорошо, меня это тоже не устраивало. Я становился заносчивым и грубым. Меня унижала та радость, которую я ей доставлял. Это, как я думал, отождествляло меня с удачной покупкой. Я чувствовал себя униженным и грубил. Что-то оскорбляло меня. Что-то заставляло ждать дурных последствий от каждой минуты счастья» (4; 88). Фатальный характер любви Далматова и Таси подчеркивается упоминанием «Мифа о Сизифе» А. Камю. Чувства автопсихологического героя Дов128 латова неоднозначны, сложны, но они настолько сильны, что ставят Далматова в один ряд с героями русской классической литературы – с героями Пушкина, Лермонтова, Тургенева. «Филиал» – одно из самых любимых современной молодежью произведений о любви. Сам Довлатов в своем выступлении «Как издаваться на Западе?» признался, что именно его первая любовь давала ему вдохновение для творчества: «Лично я писал главным образом для моей бывшей жены. Пытаясь доказать ей, какого сокровища она лишилась» (4; 369). 3.4. Ориентация на приемы довлатовской поэтики в мемуаристике как форма манифестации мифа о Довлатове Тиражи книг Довлатова, изданных в России, уже в 2001 г. «перевалили за миллион»418, его произведения экранизируются и инсценируются, а сам писатель стал героем одного из самых молодых мифов в русской литературе. Действительно, судьба Сергея Довлатова (неизвестность на родине во время жизни и слава после смерти) повторяет универсальную архетипическую формулу, общую для разных культур всех времен и народов и названную Д. Кэмпбеллом мономифом: это история героя, который по своей воле или под влиянием некоей внешней силы покидает родную страну и проходит через серию чрезвычайных испытаний, в результате чего возвращается снова в свое общество, но уже в новой роли. Бытование довлатовского мифа основывается не только на интересе читателей к первичному тексту, представляющему совокупность созданных писателем произведений, но и на пристальном внимании к особому «вторичному» тексту, в котором фиксируются этапы биографии Довлатова, закрепляются легенды и слухи, касающиеся его судьбы, семьи, творчества. Поток создания «вторичных» текстов с момента смерти Довлатова (1990) по настоящее время не ослабевает. Свои мемуарные записки и эссе опубликовали в сборниках воспоминаний, на страницах российских журналов и газет или поместили в интернете более пятидесяти авторов – родственники и друзья писателя. Поддавшись «обаянию» довлатовского стиля и жанра, авторы воспоминаний словно «дописывают» Довлатова, пытаясь работать в той же манере, что и автор, о котором они повествуют. Подобно тому как Довлатов сделал основной темой своих произведений собственную жизнь, друзья и близкие, хотя и выносят в заглавие мемуаров фамилию Довлатова, рассказывают в основном о себе, в лучшем случае – о своем поколении, символом которого стал Довлатов. В связи с этим О.А. Кутмина пишет: «Критик Игорь Потапов в рецензии на филологический роман А. Гениса ―Довлатов и окрестности‖ даже намечает очертания нового жанра: ―Я и Довлатов‖. В тех книгах, где разговор в большей степени идет все-таки о Довлатове, подходит вариант ―Довлатов и я‖»419. Перечислим названия некоторых из этих воспоминаний, наиболее значительных по объему и содержанию: В. Алейников «Довлатов и другие» (2005), А. Пекуровская «Когда случилось петь С.Д. и мне. Сергей Довлатов глазами первой жены» (2001), Е. Рейн «Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы» (1997), И. Сабило «Человек, которого не было. За129 метки о С. Довлатове» (1996), В. Соловьев, Е. Клепикова «Довлатов вверх ногами. Трагедия веселого человека» (2001), Л. Штерн «Довлатов – добрый мой приятель» (2005). Как видим, авторы мемуаров о Довлатове используют прием, заимствованный у самого Довлатова, – прием интертекстуализации, позволяющий автору определить способ генезиса собственного текста, а читателю – углубить его понимание за счет установления многомерных связей с другими текстами. Так, заглавия мемуаров о Довлатове не только указывают на основной объект воспоминаний, что, по наблюдениям Н.А. Николиной420, является характерной чертой многих произведений автобиографического жанра, но и при помощи введенной в заглавие цитаты устанавливают межтекстовые связи с произведениями других авторов или с произведениями самого Довлатова. С интертекстуальностью заглавий (то есть с их свойством включать в себя смысловые элементы произведений, из которых заимствована цитата, и наложением одних ассоциативно-семантических структур на другие) связана их неоднозначность и во многих случаях многосмысленность всего произведения в целом. Чаще всего заглавие сигнализирует о жанре и выполняет функцию тематической доминанты текста. Так, заглавие мемуаров В. Алейникова «Довлатов и другие», прежде всего, называет тему воспоминаний. Кроме того, оно перекликается с заглавиями входящих в незаконченный цикл философскосоциальных пьес М. Горького «Егор Булычев и другие» и «Достигаев и другие». Мысль о том, что каждая эпоха дает своих героев, что их судьбы неразрывно связаны с социальными коллизиями определенного времени, звучит в книге Алейникова, начиная с предисловия: «Так и уходила, неминуемо, постепенно, так и отодвигалась куда-то назад, неумолимо, закономерно, – вся эпоха, в которой я жил, в которой любил я и мучился, радовался и грустил. Целая эпоха. Боже мой! Эпоха…»421. Сергей Довлатов – современник И. Бродского, Гл. Горбовского, М. Шемякина и других талантливых представителей неофициальной культуры – предстает в воспоминаниях Алейникова как герой 1960 – 1970-х годов, живший в предзакатный период советского государства – период нелегкий, когда многие творческие деятели из-за невозможности реализоваться на родине были вынуждены покинуть свою страну. Довлатов поставлен автором воспоминаний в один ряд с «другими» и в то же время противопоставлен им: его судьба оказалась более трагичной, чем у «других», ведь Довлатов не дожил до падения социалистического режима на родине, так и не узнал о своей писательской популярности в России, о которой всегда мечтал. Другой автор – И. Сабило – делает заглавием заметок о Довлатове слова, которые вынесены в заглавия сразу двух произведений самого Довлатова. «Человек, которого не было» – так называется детский рассказ Довлатова, опубликованный в советское время в сборнике «Дружба», выпущенном «Детгизом» в 1971 году. Когда Довлатов писал этот рассказ об иллюзионистах, вспоминает Сабило, он думал о «маленьком человеке» – об артисте цирка Карандаше – о том, насколько разным он был на сцене и в жизни. Довлатов понял, что либо на улице, либо в цирке «он – человек, которого нет»422. О другом произведении Довлатова под тем же названием, но предназначенном для постановки на сцене, 130 Сабило едва ли знал в момент написания своих заметок. О пьесе «Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана» стало известно лишь в 2001 году, когда завлит Псковского театра кукол Алексей Маслов, разбирая архив, нашел рукопись Довлатова (см. об этом параграф 1.2.). Довлатовская метафора, использованная в заглавии воспоминаний И. Сабило, воспринимается не однозначно. Во-первых, это заглавие отсылает, прежде всего, к произведениям самого Довлатова, основным мотивом которых является мотив игры, обмана, подмены. Во-вторых, хотя автор воспоминаний прежде, чем передать по памяти занимательные случаи из жизни Довлатова, его остроумные реплики, предупредил: «В своих заметках о Довлатове или, точнее, по поводу Довлатова, я не ―улучшал‖ и не ―ухудшал‖ его. Не давая никаких оценок и не особенно следя за хронологией, написал то, что запомнилось из наших с ним встреч и разговоров»423, – он все же понимал, как трудно мемуаристу быть объективным и не навязывать своих оценок, как трудно, а может быть, и совсем невозможно показать истинное лицо Довлатова. Попытку «сделать лучшую книгу»424 о Довлатове предпринимают его друзья В. Соловьев и Е. Клепикова. В заглавие их книги «Довлатов вверх ногами» (куда вошли воспоминания Соловьева «Довлатов на автоответчике», мемуары Клепиковой «Трижды начинающий писатель», повесть Соловьева «Призрак, кусающий себе локти» и фрагменты из книги «Портрет художника на пороге смерти», рассказывающие о другом признанном классике русского зарубежья – И. Бродском, связанном с Довлатовым довольно сложными отношениями) включен фрагмент цитаты из «Невидимой газеты» – второй части довлатовского «Ремесла»: «Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан. (Если верить, что земля действительно круглая.)» (3; 95). Объясняя название своей книги, авторы пишут: «Довлатовым сейчас удивить читателя невозможно. Разве что дать его вверх ногами. Он и сам писал: ―Пятый год хожу вверх ногами‖, имея в виду, правда, Америку – по отношению к России. …Значит, что и в России он ходил вверх ногами – по отношению к Америке. Так и прожил всю жизнь – вверх ногами. Отличное название для книжки: ―Довлатов вверх ногами‖. А подзаголовок – ―трагедия веселого человека‖»425. Используя довлатовский афоризм в качестве заглавия к своим воспоминаниям, чтобы привлечь к ним внимание читателей, Соловьев и Клепикова дают литературный портрет Довлатова, рассказывая в основном о его жизни в Америке, где осуществилась его мечта опубликовать свои произведения. В своих воспоминаниях «Довлатов – добрый мой приятель» Л. Штерн – человек, который дружил с Довлатовым в течение двадцати трех лет, т.е. времени достаточного для того, чтобы успеть узнать его достоинства и недостатки, – признается, что он так и остался для нее загадкой. Именно пушкинские строки, воспроизводимые в заглавии книги, послужили импульсом к текстопорождению: Довлатов для Штерн был, прежде всего, одним из самых близких и любимых друзей, которого она в своих мемуарах пыталась защитить от нападок других мемуаристов. 131 В отличие от рассмотренных нами выше мемуарных произведений, где введенный в заглавие интертекст выполняет текстопорождающую функцию и функцию введения текстов воспоминаний в широкий культурно-литературный контекст, в книге Е. Рейна «Мне скучно без Довлатова» заглавие становится еще и композиционной доминантой. Заголовочный комплекс произведения сразу вызывает определенные литературные ассоциации. Имя и фамилия автора указывают на одного из героев довлатовских литературных анекдотов, друга юности Довлатова – поэта Евгения Рейна. Название мемуаров «Мне скучно без Довлатова», имеющих подзаголовок «Новые сцены из жизни московской богемы», ассоциируется с названием пушкинской «Сцены из Фауста» и первой фразой Фауста, открывающей диалог Фауста с Мефистофелем и само это произведение: «Мне скучно, бес». Вспомним, что напечатанная впервые в «Московском вестнике» (1828 г., № 8) «Сцена из Фауста» Пушкина явилась совершенно оригинальной сценой, не имеющей соответствия никакому отрывку из «Фауста» Гете. Философский смысл пушкинского произведения заключается в мысли о суетности всего происходящего в жизни человека, о трагичности его существования: ни знания, ни слава, ни богатство, ни любовь, как вытекает из разговора Фауста с Мефистофелем, не приносят счастья. В книге «Мне скучно без Довлатова» Рейн дает картину духовной жизни целого поколения, рассказывая в стихах и прозе о себе и своих близких: о своей няне, о соседе по ленинградской коммунальной квартире, о петербургских поэтах 60 – 90-х годов XX века, об Анне Ахматовой, о своих друзьях – Л. Лосеве, И. Бродском, В. Аксенове, Е. Евтушенко. Довлатову автор посвящает не более десяти из трехсот страниц своих мемуаров. Однако построение книги тщательно продумано, причем именно заглавие является ее композиционной доминантой. Довлатовский образ становится сквозным образом – к нему автор обращается на страницах своей книги неоднократно. Открывает книгу поэма «Сорок четыре», посвященная памяти М.А. Кузмина; одна из глав поэмы – глава V – рассказывает о Довлатове. Здесь его портрет: «Стертые дерюжные брюки, / Какая-то блуза из Парижа, / солдатские ботинки…»426. Здесь краткий рассказ о его жизни, заканчивающийся строками: «Теперь уже не прилетит на «Panam» / Не доберется даже Аэрофлотом. / Неужели никогда, никогда больше?»427. В книгу воспоминаний входит также эссе Рейна «Мне не хватает Довлатова» (заглавие эссе перекликается с заглавием всей книги), опубликованное в журнале «Огонек» в 1995 г. и рассказывающее о «довлатовском театре», а именно об одной из «мизансцен замечательного иронического спектакля»428 – о том, как в Пушкинском заповеднике Сергей читал стихи Есенина вместо стихов Пушкина и никто из экскурсантов не заметил подмены (этот эпизод впервые описан в повести Довлатова «Заповедник»). Вторая новелла о Довлатове – «Не посягнем на тайну» – повествует о последней встрече Рейна с Довлатовым, о его литературном успехе в Америке, о том, что «главным в его жизни была эстетика»429. Евгений Рейн рассказывает о своем друге так, что становится понятно, почему после смерти Довлатова Рейну без него «скучно»: именно Довлатов был такой личностью, главной особенностью которой было постоянное стремление 132 играть в жизни, именно Довлатов обладал безукоризненным поэтическим вкусом, именно в нем и его произведениях соединялось, казалось бы, несоединимое – житейское и возвышенное. «Ироническая бравада, огромный человеческий опыт и чувствительность художника, который выстроил в душе шкалу высших ценностей, обращается к ним, опирается на них, и это не противоречит его собственному искусству, подчас сниженному к быту, ерническому, включающему в себя все тона и перипетии жизни. И, в конечном счете, проза Довлатова обращена к иерархии высшего – ответственности, судьбы, Божьего промысла»430. В этих рейновских словах звучит не только оценка довлатовского творчества, но и попытка определить то, о чем спорят пушкинские Фауст и Мефистофель, – человеческое предназначение, которое у Довлатова заключалось в стремлении к гармонии, в эстетизации действительности. Свои воспоминания Рейн строит с помощью аллюзий на довлатовские произведения. Так, названия глав, повествующих о различных случаях из жизни Рейна и его друзей, ассоциируются с названиями глав повести Довлатова «Чемодан», посвященной истории поколения, жившего в застойное время в СССР. Главы «Чемодана», как известно, рассказывают о ненужных вещах из гардероба автопсихологического героя, которые тот вывез, эмигрируя из Советского Союза, и с которыми связаны различные нелепые истории, в совокупности рисующие обстановку тотального жизненного абсурда. Главы так и называются: «Креповые финские носки», «Номенклатурные полуботинки», «Приличный двубортный костюм», «Офицерский ремень», «Куртка Фернана Леже», «Поплиновая рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». В мемуарах Рейна есть главы с такими названиями: «Шапка из поседевшего волчонка», «Розовая мужская замшевая сумка», «Два итальянских галстука». Перекличка этих глав с довлатовскими наблюдается не только в названии: каждая из них, как и в повести «Чемодан», посвящена абсурдной истории, произошедшей с автором воспоминаний. Таким образом, создавая автобиографическое произведение, Рейн рассчитывал привлечь к ней внимание читателей с помощью вынесенного в заглавие имени Довлатова, ставшего в 1990-е годы культовой фигурой и выделявшегося среди писателей «третьей волны» эмиграции своей известностью и популярностью в России. Соотнесение заглавия рейновской автобиографии с цитатой из пушкинской «Сцены из Фауста» свидетельствует о том, что книга воспоминаний претендует на философское осмысление и русской жизни второй половины XX века, и литературного процесса того времени (не случайно в книгу включены стихи, полемизирующие с бунинскими строками: «Нет в мире разных душ, / И времени в нем нет…» / Пожалуй, ты не прав, / классический поэт. <…> Я понимаю так, что время – не беда, / и будет время: все о времени поймем»431), и места творчества и личности Довлатова в этом процессе. Особенно «сложные отношения» между заглавием мемуаров и их содержанием возникают в автобиографическом произведении Аси Пекуровской. В предисловии, помещенном на суперобложке своей книги воспоминаний, автор обращает внимание читателей на «истоки» названия: «В 1998 году я закончила предлагаемую читателям книгу. Ее окончательное название ―Когда случилось 133 петь С.Д. и мне‖ рифмуется со строчкой из Б.Л. Пастернака ―Когда случилось петь Дездемоне…‖». Рассказывая о своей личной жизни и жизни Довлатова, его первая жена Пекуровская, по мнению автора предисловия Валерия Попова, старается раскрыть секрет, «из какого сора» появляются произведения гениев. Попов считает, что книга Пекуровской – это «‖выстрел‖, который, как в известной новелле Пушкина, долго откладывался»432, в ответ на довлатовскую повесть «Филиал», в которой, как пишет уже Пекуровская, «своенравный, нелепый и бессмысленный персонаж… по имени Тася… писался с меня»433. Действительно, книга воспоминаний Пекуровской «Когда случилось петь С.Д. и мне» перекликается с повестью Довлатова «Филиал». Пекуровская рассказывает о событиях юности, об отношениях с Довлатовым со своих позиций, считая, что в «Филиале» Довлатов отомстил ей за ее «равнодушие» к нему, за то, что у них не сложилась совместная жизнь. Но, думается, нельзя расценивать автобиографическое произведение Пекуровской в качестве ответного «выстрела» или желания взять, как выразилась Е. Клепикова, «реванш у мертвеца»434. Во-первых, по той причине, что книга воспоминаний Пекуровской – это, по сути, ее попытка разобраться в собственной судьбе, которая была связана с судьбой Довлатова – такой, с ее точки зрения, неоднозначной личности, в которой сочетались и талант к мифотворчеству, и театральность поведения, и стремление мистифицировать события, и гениальность. О субъективном характере мемуаров, об искажении в них достоверности фактов совершенно справедливо говорит сама Пекуровская: «О ком бы ни писал живой автор воспоминаний, он пишет прежде всего о живом себе, желая того или нет»435. Во-вторых, именно заглавие мемуаров, на происхождение которого автор специально обращает внимание, дает ключ к пониманию того, что Пекуровская предстает перед читателями не как героиня мстящая, а как героиня трагическая (подобно тому как автопсихологический герой Довлатова, умеющий любить возвышенно, является в «Филиале» лицом трагическим, а его любовь, препятствиями для которой становятся материальные трудности, болезненное самолюбие, ревность, носит фатальный характер). В стихотворении Пастернака «Уроки английского» (одного из самых любимых у Довлатова, о чем он писал Е. Скульской436), с первой строкой которого рифмуется название мемуаров Пекуровской, есть и другая строка: «Когда случилось петь Офелии…». Финальная строфа стихотворения объединяет двух шекспировских трагических героинь, которых только смерть освобождает от страсти, – короткое стихотворение тем самым возвышается до широкого обобщения. А поскольку раннее пастернаковское стихотворение стало своего рода предвосхищением своеобразного отношения поэта к шекспировской Офелии в будущем переводе «Гамлета», оно, кроме того, ассоциируется с образом Офелии в самой трагедии. Офелия, которую так и не понял принц, – это, в переводе Пастернака, символ чистоты и невинности. В своих воспоминаниях Пекуровская не мстит Довлатову, а пытается защитить себя и свое чувство, уязвленное ревностью и непониманием, возникавшими из-за желания обеих сторон лидерствовать, противостоять друг другу. Так заглавие помогает полностью переосмыслить текст произведения. 134 Таким образом, интертекст, введенный в заглавия воспоминаний о Сергее Довлатове, выполняет следующие функции: 1) текстопорождающую, 2) функцию введения мемуарных текстов в широкий культурно-литературный контекст, 3) функцию композиционной доминанты. Из интертекстуальности заглавий вытекает их многосмысленность и связанная с ней неоднозначная интерпретация самих произведений. Кроме того, использование уже в самих названиях воспоминаний интертекстуальных связей с произведениями Довлатова и с произведениями известных русских поэтов и писателей XIX – XX веков (вспомним, что интертекстуальность – одна из важнейших особенностей прозы самого Довлатова) становится своеобразной формой манифестации довлатовского мифа. 3.5. Модели довлатовского мифа в кинодокументалистике Миф о Довлатове бытует не только в мемуаристике, но и в средствах массовой информации, причем, в основном, именно в форме анекдотов о его частной жизни, которой уделяется гораздо больше внимания, чем осознанию вклада Довлатова в развитие русской литературы конца XX века, хотя мифологизация писателя подразумевает восприятие биографии и творчества как нерасторжимого единства – в этом должен выражаться специфический для мифологического сознания синкретизм слова и действия. Рядовые читатели находятся под влиянием мифов массового сознания, созданных с помощью СМИ и принесших «скандальную» славу писателю (здесь проявляется не только желание некоторых изданий обнародовать слухи, эпатирующие аудиторию, но и одна из функций средств массовой информации – функция аффилиации, приобщения к определенной группе, сопричастности с ней, стремление журналистов показать, что новый «кумир» – такой же, как все). Кроме того, помочь читателю объективно оценить место прозы Довлатова в литературном процессе порубежной эпохи мешает отсутствие как академических, так и популярных научных изданий о писателе, несмотря на то, что в отечественном довлатоведении на сегодняшний день насчитывается около двадцати диссертационных исследований, посвященных его творчеству. Несколько моделей довлатовского мифа, бытующего на страницах печатных изданий, было сконструировано именно мемуаристами – на основе сворачивания жизни писателя «до посиделок в кругу друзей», как выразился Я. Шенкман (он же указал и на одну из основных причин невероятного интереса к личности известного автора: «Довлатов работал на стыке документа с литературой, оттого и велик соблазн узнать, как было ―на самом деле ″»437) . В настоящее время миф о Довлатове стал активно манифестироваться с помощью одного из самых популярных и могущественных СМИ современности – телевидения, поскольку многие авторы мемуаров о Довлатове явились создателями или участниками документальных фильмов о нем. Так, первый полнометражный документальный фильм о Довлатове ―Мой сосед Сережа Довлатов‖ (2001) – не первое обращение писателя и журналиста В. Соловьева к личности и творчеству Довлатова. В интервью с М. Бузукашвили (Нью-Йорк), опубликован135 ном в журнале «Чайка» от 5 апреля 2002 г., В. Соловьев рассказывает об истории создания фильма: «Когда Сережа умер, я написал о нем некролог. И спустя год я как-то нажал на старый автоответчик, и комната огласилась голосами мертвецов. … Больше всего оказалось записей с голосом Сережи Довлатова. Минут на 20, наверное. <…> Я написал очерк с комментариями к этим записям. Очерк печатался и в Москве, и здесь, в Америке, и в Израиле. И я решил, что тема Довлатова для меня закрыта. К тому же у меня был рассказ, в котором в художественном преломлении был образ Сергея. Но потом я вернулся к этой теме, выступал по телевидению с рассказами о Довлатове и, в конце концов, все это превратилось в двухчасовой фильм с участием не только моим, но и вдовы Сережи Елены Довлатовой, с участием многих людей, которые хорошо знали Довлатова»438. В этом фильме, состоящем из девяти новелл, по признанию самого В. Соловьева, которому хотелось «дать домашний портрет человека, которого все знают по его прозе», много «интимных историй»439. Таким образом, и во «вторичных» текстах, и в документальном кино происходит «одомашнивание» (Я. Шенкман) писателя Довлатова. Многочисленными проявлениями ритуала почитания Довлатова, который, как это и положено, сопровождает довлатовский миф, был ознаменован 2007 год. Во-первых, в день рождения Довлатова, 3 сентября, в Петербурге на доме № 23 по ул. Рубинштейна, где писатель прожил с 1944 по 1975 гг., была открыта мемориальная доска. Во-вторых, в 2007 г. было создано три документальных фильма о Довлатове: «Жизнь нелегка… Сергей Довлатов» (реж. А.Шишков, Е.Якович), «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов» (в 2 ч.) (реж. М.Оленева, Е.Поротов), «Довлатов» (в 2 ч.) (сценарист и ведущий Л.Лурье). Фильм «Жизнь нелегка… Сергей Довлатов», в который включены записи голоса Довлатова на автоответчике и несколько документальных видеосъемок: Довлатов в роли Петра I, интервью Довлатова, снятое американским телевидением, где писатель рассказывает на английском языке о своей газете «Новый американец», и последнее интервью писателя летом 1990 г. в Нью-Йорке, – построен на воспоминаниях друзей и близких Довлатова. Начинается фильм со слов, читаемых за кадром: «Слава к нему пришла на следующий день после смерти. Да какая! Чем больше проходит времени, тем сильнее его любят. Писатель Довлатов – человек-легенда, человек-анекдот, человек-миф. Миф, созданный им самим и щедро поддержанный окружающими…» Далее следуют фрагменты воспоминаний тех авторов, которые уже рассказывали о Довлатове на страницах газет, журналов и книг: А. Наймана, И. Ефимова, И. Смирнова, А. Пекуровской, Л. Штерн, Т. Зибуновой, А. Гениса и др. Воспроизводятся основные этапы биографии Довлатова, дается его образ как личности весьма противоречивой: всегда веселый (Найман), всегда несчастный (С. Лурье), талантливый (И. Смирнов), «театральный» (Генис) человек. Основной акцент делается на пристрастии Довлатова к алкоголю: И.Ефимов рассказывает, как пьяного Довлатова не пустили на рейс самолета, Э. Неизвестный утверждает, что пьянство писателя было равнозначно самоубийству. Подчеркивая, что Довлатов был 136 очень популярен благодаря работе в газете «Новый американец» и на радио «Свобода», мемуаристы совсем не упоминают о довлатовском творчестве, о том, какие произведения были им написаны. Таким образом, создателями фильма делается попытка подвергнуть оценке преподносимую ими же в качестве мифа жизнь Довлатова, а не его прозу. Фильм «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов» имеет подзаголовок: «Истории и анекдоты в 2-х частях». Основой для него послужили видеоинтервью, сделанные в 1989 г. в Нью-Йорке режиссером Евг. Поротовым (1943 – 2006), и уникальные кадры из частных архивов. Создатели фильма: М. Оленева и продолжатель идеи своего отца Ег. Поротов – стремились к тому, чтобы зрители задумались над вопросами, как жили Довлатов и Бродский в Ленинграде в 1960 – 1970 гг., как пересекались судьбы этих личностей, ставших в настоящее время культовыми, на родине и в США. Фильм имеет большие преимущества по сравнению с другими за счет использования архивных довлатовских видеозаписей и аудиозаписей со стихами Бродского, читаемыми им самим. Однако устные рассказы о Довлатове его друзей – это по-прежнему манифестация таких моделей довлатовского мифа, в которых герой представлен пьяницей и неудачником (например, легенда о любовном треугольнике Довлатов – Пекуровская – Аксенов, рассказанная В. Уфляндом, или история о посещении Довлатовым и Поповым Аси во время ее болезни, воспроизведенная В. Поповым не только в фильме, но и неоднократно повторяемая в печатных мемуарных изданиях440). Двухчастный фильм «Довлатов» стал результатом начатой в 2004 г. работы над серией документальных телевизионных фильмов о С. Довлатове на петербургском 5-м канале. Вначале это были передачи в цикле «Культурный слой», рассчитанные на 26 минут. Затем были сняты два 44-минутных фильма (в рамках проекта «Живая история», разработанного Л. Лурье), которые были показаны в сентябре 2007 г. Принцип создания фильма тот же, что и у фильмовпредшественников: смонтированные в единое целое фрагменты интервью с друзьями и знакомыми писателя. Заслуга авторов заключается в стремлении воспроизвести как можно больше моментов биографии реального Довлатова, а не его автопсихологического двойника, изображенного в довлатовских произведениях. Список действующих в фильме лиц обширен (А. Арьев, В. Попов, М. Рогинский, Л. Кондратьева, Ел. Довлатова, Л. Штерн, В. Уфлянд, Я. Гордин, А. Добрыш, Е. Скульская, Т. Зибунова, Н. Антонова, Ж. Ковенчук, В. Герасимов, А. Генис, В. Топоров, Л. Лосев, Н. Аловерт и др.); интервью с ними были взяты в Санкт-Петербурге, Таллинне, Нью-Йорке, Бостоне и Дартмуте. (В 2009 г. по материалам этого фильма А. Ковалова и Л. Лурье составили и опубликовали книгу «Довлатов»). И все-таки биография писателя, прокомментированная ведущим и героями фильма, получилась мифологизированной. Л. Лурье предваряет показ киноленты мифологемой о том, что сама смерть Довлатова завершила его жизнь изящно и трагично, являясь чем-то вроде продолжения довлатовских произведений. В воспоминаниях друзей Довлатова звучат высказывания о том, что они не могли даже предположить, что тот станет известным писателем, что в СССР он был неудачником, находившим утешение 137 в пьянстве; зато американский период представлен исключительно триумфальным. В. Топоров называет Довлатова самым конвертируемым писателем, хотя тот не печатался до сорока лет, а Л. Лурье заканчивает фильм словами: «У Довлатова были все шансы спиться, затеряться в Америке, но он стал там самым крупным ленинградским писателем XX века». Следовательно, такой жанр телевидения, как документальное кино, способствует активному функционированию моделей мифа о Довлатове, которые можно свести к следующим формулировкам: 1) Довлатов – хороший писатель, но человек сомнительной нравственности (многоженец, хронический алкоголик); 2) Довлатов в среде ленинградских писателей, своих ровесников, был неудачником, аутсайдером, а вот в Америке ему невероятно повезло – там победы над хаосом следуют одна за другой. Бытование моделей мифа массового сознания, созданных СМИ, мешает объективному восприятию творчества талантливого русского писателя С. Довлатова. Вероятно, факты, приводимые в СМИ и воспоминаниях некоторых друзей Довлатова, не были вымышленными, но образ писателя, сконструированный исключительно с опорой на них, не вполне соответствует своему реальному прототипу. В связи с этим уместно привести слова И. Бродского из его эссе «Меньше единицы»: «Биография писателя – в покрое его языка»441, а не в байках, собранных из эпизодов частной жизни. Вспомним также слова А.С. Пушкина из письма, отправленного во второй половине ноября 1825 года из Михайловского в Москву П.А. Вяземскому: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. <…> Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе»442. 3.6. Проза С. Довлатова на сцене О драматургичности прозы Сергея Довлатова, о ее театральности критики и литературоведы заявили еще при жизни писателя. Не случайно одна из статей И. Сермана, опубликованная в «Гранях» в 1985 году и посвященная анализу довлатовских повестей «Зона», «Компромисс», «Наши», «Заповедник», а также одной из частей его «Записных книжек» – «Соло на ундервуде», так и называется: «Театр Сергея Довлатова». Чуть позднее в критическом разборе повести «Филиал» А. Арьев провозглашает, что довлатовский реализм – «это театрализованный реализм»443. Однако под театральностью произведений Довлатова И. Серман и А. Арьев подразумевают не одно и то же. Так, И. Серман обращает внимание, прежде всего, на постоянно звучащий во всех произведениях писателя мотив подмены – обмана – игры, обусловленный тем, что довлатовские персонажи живут в атмосфере «двоемирия – удивительного сочетания бюрократической окостенелости системы и – вопреки всему – биения живой мысли, нормальных человеческих чувств», в мире «перевоплощения»444. Приводя многочисленные убедительные примеры (в «Компромиссе» – компромиссы журналистской жизни; в «Зоне» – «представление», в 138 котором зеки – жертвы системы, созданной Лениным и Дзержинским, – не только говорят их монологами и репликами, но и полностью входят в их роли; в «Заповеднике» – подмена любви к Пушкину культом и т.д.), И. Серман делает вывод о том, что довлатовское повествование оборачивается театром, «где каждый играет не свою роль»445. А. Арьев же, говоря о «театрализованном реализме» Довлатова, имеет в виду особый способ авторского «анализа избранных житейских коллизий»446 (сочетание горестного и смешного – трагического и комического в изображении действительности), а также композиционные особенности его произведений, которые членятся «не на главы, а на абзацы, на микроновеллы. Как в чеховском театре, граница между ними – пауза»447. И Серман, и Арьев лишь затронули сценическую сторону эпических произведений Довлатова, не вдаваясь в ее подробный, глубокий анализ, однако жизнь доказала справедливость наблюдений критиков. Почти сразу же после смерти писателя и публикации его трехтомного собрания сочинений на родине (1994) многие театры России, а позднее – и ближнего зарубежья обратились к инсценировке довлатовской прозы. Пьесы созданы почти по всем его произведениям, хотя сам Довлатов вряд ли предназначал их для сцены. В Москве в МХТе им. А.П. Чехова с 1994 г. идет спектакль «Новый американец» (по мотивам таких известных повестей, как «Зона», «Заповедник» и «Филиал», а также «Записных книжек» Довлатова), в театре им. Моссовета – с 1998 г. – спектакль «Заповедник», в театре «Сфера» – с 1998 г. – «Не любовь, а судьба…» (по повести «Заповедник»). В мае 2010 г. в Театре-студии под руководством О. Табакова состоялась премьера спектакля «Wonderland-80» (по повести «Заповедник» «с незначительными вкраплениями из сказок г-на Льюиса Кэрролла», как отмечено в программе). В Санкт-Петербургском академическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской поставлен «Демарш энтузиастов» (моноспектакль, играемый одним актером – Александром Филиппенко), а в театре Вл. Малыщицкого – «Заповедник». Театр Сатиры на Васильевском в 2003 г. поставил спектакль «Играем Довлатова», а в 2009 г. премьерой спектакля «Заповедник» открыл свой новый сезон театр им. Ленсовета. Довлатова ставят в новосибирском драматическом театре «Старый дом» («Играем Довлатова» и «Записки нетрезвого человека» – по прозе С. Довлатова и А. Володина), в Народном театре г. Выборга («Полковник говорит – люблю» – по повести «Заповедник»), в театре «Слово» при Государственной филармонии Кузбасса («Заповедник»), в киевских театрах «Браво» («Иностранцы» – по повести «Иностранка») и «Черный квадрат» («Обреченные на счастье» и «Юбилейный мальчик» – по нескольким произведениям Довлатова), в провинциальном молодежном сормовском драмтеатре («Соло на ундервуде»), в Русском театре Эстонии («Большой человек в маленьком городе» – пьеса Елены Скульской, лично знавшей Довлатова). Режиссер и актер из Германии Владислав Граковский поставил и сыграл моноспектакль «Чемодан». Это далеко не полный перечень инсценировок по прозе Довлатова, главным качеством которой, по мнению постановщиков, является «сценичность и драматичность»448. 139 Факт взаимодействия художественных прозаических произведений с театром в посмертной судьбе Довлатова не случаен. Литературные персонажи повестей Довлатова, избегавшего обезличивающей типизации, являются не социальными типами, а актерами устроенного волей автора театра. Кроме того, известен и опыт создания Довлатовым произведений, предназначенных для постановки на сцене (см. об этом параграф 1.2. монографии). Правда, довлатовскую сказку «Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана», предназначенную для Псковского театра кукол, зрители увидели лишь через четверть века после ее написания. И, хотя критики отмечали: «пьеса добротная», но «с прозой Довлатова, тщательно отделанной, грамотно выстроенной, сравнивать как-то даже не хочется» (Алексей Белый) 449 , – спектакль шел с большим успехом. Сближает пьесу для театра кукол с поздней довлатовской прозой не только мотив обмана (школьник Минька Ковалев помогает разоблачить обман знаменитого циркового артиста, который выполнял свои затейливые трюки с исчезновениями с помощью своего братаблизнеца), но и многосмысленность, множественность способов оценок действий героев, приемы языковой игры. Уже в этой пьесе проявляются те элементы поэтики, которые определили в дальнейшем особенности творческой манеры Довлатова-прозаика. Постановка пьесы в 2003 году стала сенсацией: к этому времени Довлатов был одним из самых читаемых авторов в России и его слово звучало со сцен многих театров страны. Но «живучесть» прозаических произведений Довлатова на сцене объясняется не только «модой» на автора – она имеет и объективные причины, установить которые является нашей задачей. Почему так сценична проза Довлатова? Что роднит его эпические произведения с драмой? Прежде всего, проза Довлатова близка драматическим жанрам сознательным стремлением автора избежать однозначных оценок и характеристик своих героев, прямого анализа изображаемого, т.е. тяготением к объективному повествованию. Персонажи Довлатова, подобно чеховским драматическим героям, находятся в постоянном становлении. Но если при чтении произведения многоликость и многогранность довлатовских персонажей выявляется чаще всего с помощью интертекстуальных связей и возникающих на этой основе ассоциаций, то при сценическом воплощении произведений показать многозначность довлатовских текстов и осуществить сложную внутреннюю работу по их «додумыванию» зрителю помогают режиссерские находки. Проиллюстрируем это на примерах из повести «Заповедник», к которой чаще всего обращаются сценаристы и режиссеры. Так, прямое проявление авторского сочувственного отношения к герою повести «Заповедник» Михал Иванычу: «Миша – человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный…» (2; 198), – в прозаическом тексте сочетается с использованием интертекстуальных связей с поэмой Н.В. Гоголя «Мертвые души», что приводит к выводу об омертвении души довлатовского героя и вытеснению авторского оценочного слова, которое вступает в противоречие с языком художественных ассоциаций и уподоблений. Во время же сценического действия, когда Михал Иваныч в присутствии Тани еле дер140 жится на ногах, речь его бессмысленна и бессвязна (а Алиханов как раз в тот момент рассказывает Тане, что Михал Иваныч добрый и благородный), абсурдность положительной характеристики проявляется наиболее ярко: это одновременно и смешно, и нелепо, и страшно («Заповедник» в зале «Под крышей» театра им. Моссовета). Другой пример: в повести «Заповедник», противодействуя пушкинскому мифу, Довлатов, тем не менее, активно использовал «пушкинские начала» – черты стилистики и поэтики, восходящие к традициям Пушкина, и даже осмелился отождествить своего автопсихологического героя Алиханова («страшного халтурщика» и «гения» одновременно) с самим Пушкиным. Провести параллель между творчеством Пушкина и Довлатова при инсценировке «Заповедника» позволяют различные театральные приемы. Так, действие спектакля в театре им. Моссовета сопровождается музыкой М. Глинки «Я помню чудное мгновенье…», и наконец, появляется эпизод, когда спящему в гостинице Алиханову снится Пушкин: поэт ничего не говорит, только грозит пальцем. Ольга Анохина, которая заканчивала инсценировку «Заповедника» после гибели режиссера М. Зонненштраля, рассказывает: «…Можно поставить это с точки зрения алкоголя и советской свалки, а можно поставить с точки зрения заповедника и Пушкина, который к нам является. Это очень сильная придумка Зонненштраля – перевести один из внутренних монологов Алиханова в диалог с Пушкиным, который приходит к нему во сне. <…> Битов говорил, что Довлатов с Пушкиным похожи внутренним жестом. Зонненштраль – гениальный парень, потому что эта сцена дала камертон…»450. В роли Александра Сергеевича в этом эпизоде является актер, играющий в спектакле еще и роль «отпетого деревенского алкаша Толика» – в этом, по мысли постановщиков, «сценически» проявляется «мотив пушкинского сопротивления»451 повседневному советскому абсурду. В таком режиссерском решении заключается один из приемов отражения в спектакле довлатовской десакрализации официального мифа о Пушкине. Другой прием демифологизации – сатирическое изображение служителей Заповедника. Ольга Анохина, исполняющая роль Авроры (Авроре отданы реплики и другого экскурсовода – Галины Александровны), создает образ карикатурный: на голове взрослой женщины – бант, по своим манерам она выглядит придурковатой. В комедии «Не любовь, а судьба…» (поставленной по повести «Заповедник» Д. Ячевским под руководством Ек. Еланской на камерной сцене московского театра «Сфера», открытой в 2003 г. для осуществления экспериментальных спектаклей) на связь творчества и судеб Пушкина и Довлатова указывает такой прием, как включение в текст пьесы писем Пушкина к Наталье Николаевне. Играющий Алиханова нар. артист России Д. Ячевский читает пушкинские письма к жене, наполненные любовью, заботой, восхищением. Роли жены Алиханова Татьяны и Натальи Николаевны исполняет одна актриса – засл. артистка РФ Т. Филатова. Во время спектакля исполяются романсы А. Даргомыжского, Б. Шереметева, М. Глинки, П. Булахова, М. Яковлева на стихи Пушкина и Дельвига. 141 Внешнее сходство прозаического текста произведений Довлатова с текстом драматургическим – это вторая существенная черта, позволяющая довлатовской прозе жить на сцене. По наблюдениям А.Н. Неминущего, своеобразный «повествовательный минимализм» как одна из наиболее заметных отличительных особенностей прозы Довлатова реализуется именно в «системной лапидарности слова повествователя и диалогической по преимуществу структуре нарратива. Последнее объясняется множеством факторов, среди которых исследователи обоснованно называют общую авторскую установку и стирание границы между традициями и нормами письменной речи и ее устными вариантами. К этому можно добавить еще одно: многие персонажи Довлатова действуют в обстоятельствах, прямо диктующих необходимость диалогического общения, а, кроме того, социальный или профессиональный статус героев (участник застолья, журналист, экскурсовод) также провоцирует ситуацию повышенной коммуникативной активности»452. Однако, заметим, Довлатов (как и его автопсихологический герой) считает, что словесная коммуникация не всегда способна передать реальную сложность человеческих отношений, и диалог соседствует в довлатовском повествовании с «зоной молчания». Нередко герои лишь «жонглируют» словами, и полноценный акт понимания реализуется в сфере невербального контакта. «Подобная ущербность системы вербальных контактов персонажей… оборачивается тем не менее и некоторыми приобретениями. В случаях, когда адресат (коим может быть, естественно, и читатель) получает деформированные или недостаточно полные даже по меркам диалогической структуры вербальные сигналы, появляется объективная возможность ―считывания‖ информации как бы ―между строк‖»453. Этому в прозаическом повествовании нередко помогают комментарии автора, сопровождающие диалоги героев и указывающие на мимику и жесты персонажей, на характер произнесения реплик. На сцене открывается гораздо больше возможностей дать зрителям невербальную информацию о персонажах за счет выразительности действий, мимики, интонации, даже взглядов. Интересный ход придуман постановщиком К. Богомоловым в спектакле «Wonderland-80», чтобы показать, что значит в буквальном смысле «пить ведрами»: главный герой Борис и фотограф Валера Марков в ресторане «Витязь» переливают водку из бутылок в ведра, затем ведра, наполненные жидкостью, опрокидывают себе на головы и падают замертво. Эта немая сцена заменяет собой все монологи Маркова. А вот зрители спектакля «Не любовь, а судьба…» (театр «Сфера») действительно имеют возможность следить за блеском глаз актеров, ведь между актерами и зрителями отсутствуют барьеры: действие происходит не на сцене, а посредине комнаты, в которой размещаются и зрители (около 60 стульев), и декорации. Репертуар театра, по мнению критиков, рассчитан на женскую аудиторию, поскольку почти все спектакли имеют «чувственную направленность»454. В постановке же по Довлатову, имеющей, в отличие от повести, счастливый конец, явно звучит романтизация любовных переживаний: и жена Пушкина, и жена Алиханова (Т. Филатова) – это женщины любимые и любящие, на что указывают сияющие глаза, спокойное выражение лица. 142 Спектакли по прозе Довлатова держатся на монологах автопсихологического героя и многочисленных диалогах. Главное достоинство инсценировок – обилие в них довлатовских каламбуров. Часто в качестве реплик персонажей в спектаклях «Новый американец» (МХТ) и моссоветовском «Заповеднике» используются каламбуры и афоризмы-парадоксы из «Записных книжек», то есть примеры языковой игры заимствуются, переносятся из одного произведения в другое. Например, майор Беляева из «Нового американца» произносит фразу про красоту жены Сергея: «Я таких, признаться, даже в метро не встречала»,– афоризм взят из произведения «Соло на ундервуде» (4; 157). Иногда в текстах пьес появляются и недовлатовские каламбуры. В спектакле «Новый американец» Михал Иваныч, имея в виду, что в магазине спиртное продают до семи часов вечера, произносит фразу: «У них там три ноты: доси-ми». В спектакле театра «Сфера» «Не любовь, а судьба…» майор Беляев говорит Алиханову: «Не успеешь оглянуться, как сидишь… Наш адрес не дом и не улица – наш адрес Советский Союз…» Третья особенность довлатовской прозы, сближающая ее с драмой, – монтажное сцепление фрагментов текста, за счет чего он без труда разбивается на сцены. Так, повесть «Заповедник», например, можно представить в виде нескольких сцен: сцена в Луге, в Пскове, на турбазе в Пушкинских Горах, сцены в доме Михал Иваныча, сцены экскурсий и т.д. Такой принцип членения прозаических произведений Довлатова – на микроновеллы – позволяет включать их в своеобразный литературный монтаж, как это делает в своем моноспектакле «Демарш энтузиастов» петербургский актер А. Филиппенко, монтируя отрывки из «Заповедника», «Зоны», «Чемодана», «Записных книжек» Довлатова с миниатюрами М. Жванецкого, с отрывками из «Ожога» В. Аксенова, со стихами И. Бродского, Ю. Левитанского, Е. Евтушенко, с записями песен Б. Окуджавы, В. Высоцкого, со своими комментариями, отражая одновременно и абсурдную атмосферу советского времени, и сожаление по ушедшим годам молодости. Спектакль «Wonderland-80», поставленный К. Богомоловым в «Табакерке», отличается тем, что в одной театральной постановке соединены разноприродные тексты: текст довлатовского «Заповедника» и тексты о приключениях Алисы английского писателя XIX века Льюиса Кэрролла, пользующегося славой короля бессмыслицы, умевшего соединять несоединимое и разъединять неразрывное. Так же легко монтируются в одно целое отрывки из разных произведений самого Довлатова. Например, в двухактной пьесе Александра Марьямова «Новый американец», поставленной на Малой сцене МХТа Петром Штейном, «марьямовского» текста практически нет. Иногда это только 2 – 3 фразы, соединяющие довлатовские тексты, которые представлены в таком порядке: I акт (действие происходит в Советском Союзе) открывает отрывок из «Зоны» (замполит Хуриев объявляет зекам, что они будут репетировать спектакль «Кремлевские звезды»); параллельно с этим на «верхнем этаже» сцены идет другое действие: главный герой Сергей Далматов – его играет засл. артист РФ Дмитрий Брусникин – поднимается пьяный по лестнице и падает на ней, оставаясь 143 надолго в таком положении; затем – отрывок из «Заповедника»: Сергейэкскурсовод работает в Пушкиногорье. Сцены из «Зоны» (репетиция и само представление «Кремлевские звезды») перебиваются сценами из «Заповедника» на протяжении всего спектакля. Второй акт пьесы рассказывает о жизни Сергея в США, в нем воспроизводятся эпизоды из повести «Филиал». И хотя в повестях «Зона» и «Заповедник» главного героя зовут Борисом Алихановым, а в «Филиале» – Далматовым, автор пьесы «Новый американец» (свое название пьеса получила по названию газеты, которую Довлатов издавал в Нью-Йорке) за счет автобиографичности довлатовских произведений, тождественности его судьбы и судьбы автопсихологического героя объединяет несколько произведений в одну пьесу. Композиционные особенности довлатовских произведений позволяют при их инсценировке переставлять местами фрагменты текста. (Сам Довлатов в письме И. Ефимову от 10 июля 1982 г. относительно «Зоны» писал: «… можно любой отрывок, любое письмо выкинуть, а также соединить любой отрывок с любым, или любым письмом, в общем – тасовать и переставлять, как секционную мебель»455.) Например, действие спектакля «Заповедник» (театр им. Моссовета) начинается с воспроизведения эпизода, помещенного в конце повести: Алиханов в майке и в сандалиях на босу ногу лежит на полу, укрывшись одеялом. Во сне он разговаривает с дочерью: «Папа, тебя не печатают?» – «Давай я расскажу тебе сказку…». Звонит телефон, но, когда герой поднимает трубку, никто не отвечает. Стучат в дверь. Алиханов начинает вспоминать, с чего начался этот кошмар. Вспоминает о встрече с майором Беляевым. Эпизод встречи прерывается на середине, далее на сцене оживают воспоминания Алиханова о жизни в Заповеднике. Потом опять продолжается разговор с Беляевым. Сказку дочери Алиханов рассказывает в конце пьесы, когда приезжает в Вену (финал повести у Довлатова остается открытым; авторы же сценария следуют за биографией писателя и за его произведениями, рассказывающими об эмиграции). Многие эпизоды, некоторые сцены, реплики повторяются в этом спектакле по 2 раза – очень точно подмеченная черта поэтики Довлатова: такие повторы характерны для его прозаических текстов, входящих в единую циклическую структуру. Волей соавторов в пьесах не только переставляются местами фрагменты довлатовского текста, но заменяются и некоторые герои. В «Новом американце» А. Марьямова, например, отсутствуют такие персонажи, как Марков, Потоцкий, Митрофанов, Гурьянов. Многие реплики Маркова произносит в пьесе главный герой – Сергей. Вместо нескольких женщин-сотрудников Заповедника: Авроры, Галины Александровны, Марианны Петровны, Натэллы – в спектакле только одна героиня – Аврора, произносящая реплики за всех экскурсоводов и методистов, выведенных в повести. «Замены» персонажей осуществляются и в спектакле «Заповедник» (театр им. Моссовета): Леня Гурьянов, а не Алиханов проводит экскурсию, где читает стихи Есенина вместо пушкинских. Такой ход авторам инсценировок, видимо, подсказан самим Довлатовым, который в своих произведениях нередко повторяет определенную ситуацию или реплику, но меняет имена персонажей, попавших в эту ситуацию или произнесших эту репли144 ку. Смысловой акцент при заменах такого рода в текстах Довлатова перемещается с того, с кем происходит действие, на само действие. В отличие от повести «Заповедник», в пьесе А. Марьямова вместо мужчины – майора КГБ Беляева – появляется женщина; эту роль играет нар. артистка СССР Ия Савина. После выпивки Далматов и Беляева закусывают солеными огурцами из банки [ср. у Довлатова: «Закусили мы печеньем ―Новость‖» (2; 268)]. В конце сцены майор Беляева запела, чего нет в произведении у Довлатова. Но по эффекту это вполне соответствовало довлатовскому тексту, в котором эпизод заканчивается словами: «Я шел и думал – мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда…» (2; 269). Довлатовское повествование, несомненно, помогает постановщикам и в выборе декораций. Лаконичные описания окружающей обстановки напоминают ремарки в драматическом произведении: «Вокзал… грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы… вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами» (Луга) (2; 171 – 172); «Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет» (Псков) (2; 174); «На каждом шагу я видел изображения Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью ―Огнеопасно!‖ Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно» (Пушкинские Горы) (2; 185). Изображения с пушкинскими бакенбардами присутствуют в качестве декораций почти ко всем пьесам по повести «Заповедник». Проза Довлатова, за счет существования в ней подтекста, дает возможность каждому из режиссеров интерпретировать ее по-своему. Одно и то же довлатовское произведение в разных сценических толкованиях может восприниматься то как комедия, то как трагедия. Так, пьеса «Новый американец» А. Марьямова, несмотря на комизм эпизодов из «Зоны», наполнена пессимизмом. Основной мыслью I акта спектакля является мысль о том, что в СССР пьют все и именно в этом заключается трагедия советских людей. Главный герой пьесы, Сергей, ходит по сцене с бутылкой спиртного в руках и постоянно курит. Второй акт пьесы, рассказывающий о жизни Сергея в США, иллюстрирует мысль Довлатова о том, что абсурдна не только жизнь в СССР – абсурден весь мир. Но ведь в довлатовских текстах абсурдности мира противостоит душевный мир автопсихологического героя, его ценности: любовь к Пушкину, любовь к Тасе, любовь к семье. Передать это в спектакле не удалось. После просмотра экспериментального спектакля «Не любовь, а судьба…», поставленного в театре «Сфера», наоборот, у людей, уставших от однообразия будней и многообразия жизненных перипетий, поднимается настроение. Это лирическая комедия со счастливым концом. А вот режиссер В. Сенин, инсценировавший повесть «Заповедник» в театре им. Ленсовета, считает, что в довлатовском произведении «затронуты вещи, которые снова становятся актуальными. Настолько актуальными, что даже становится немного страшно о них говорить... Слова и обстоятельства повести Довлатова в современной ситуации не звучат уже смешно и безобидно. ―Запо145 ведник‖ – это история о человеке, который родился и вырос в своей стране, но почему-то не смог реализоваться в ней и принял решение об эмиграции. Создавались условия, в которых претворять в жизнь свои замыслы действительно было невозможно. Эта ситуация продолжается и сейчас: в современном российском обществе проблема реализации стоит очень остро…»456. Спектакль «Wonderland-80» К. Богомолова тоже не настраивает зрителей на оптимистический лад. В программе к спектаклю указан его жанр: это эпитафия Советскому Союзу. По словам режиссера, он соединил «Заповедник» Довлатова и произведения Л. Кэрролла об Алисе, «чтобы два непохожих друг на друга мира придавали спектаклю дополнительный объем, позволяли поразному интерпретировать каждый его фрагмент, создавая пространство для интеллектуальной игры»457. «Оказавшись напротив, они отражаются друг в друге, как зеркала. И возникает ощущение, что советская реальность в чем-то сродни кэрролловскому миру абсурда… Мы пытаемся превратить типично советский пейзаж в абсурдный, не бытовой»458, – сказал К. Богомолов в интервью с О. Романцовой. Таким образом, исключив часть довлатовского текста и включив фрагменты из сказок Кэрролла, постановщик вступает с Довлатовым в диалог. [В письме к А. Арьеву от 6 января 1989 г. Довлатов, как бы предвидя подобную ситуацию, писал относительно правки «Филиала»: «Вычеркнуть можешь что угодно, тем более, что ―Филиал‖ написан толчками, розановским (извини за сравнение) пунктиром, так что вычеркивать – одно удовольствие, и это меня сравнительно мало волнует, но если кто-то захочет что-либо вписать, то останови этого человека, и чем талантливее лицо, которое впишет в мой текст что-либо свое, тем это ужаснее. Теоретически, самое ужасное, если бы Достоевский что-то вписал в мое произведение»459.] Обращение режиссера к разнородным и разновременным текстам создает ощущение того, что действие спектакля происходит вне времени и пространства. Абсурд из категории жизненной переходит в категорию философскую. С одной стороны, передаются совершенно точные приметы советского времени: безысходное пьянство всего населения показано на фоне портрета Брежнева и популярных тогда песен Зыкиной, Пугачевой, песни «До свиданья, наш ласковый миша!» (приметы Олимпиады-80), хрестоматийно известных слов Ю. Гагарина: «Поехали!». С другой стороны – полная обезличенность и «потерянность» героев, которые представляются: «Борис такой-то» (Дмитрий Куличков), «Татьяна такая-то» (Олеся Ленская) и т.д. И, по мнению критиков, артистам, занятым в спектакле, «удается сыграть эту обезличенность, затерянность где-то ―между‖ (времен, стран, людей) и, в конце концов, полное непонимание того, кто же ты есть на самом деле. Когда человек снимает маску и вдруг обнаруживает, что лица-то уже нет, стерлось. Как у гэбиста Беляева (Алексей Золотницкий). И тогда он начинает стаскивать с себя форменную одежду, словно доставая на свет божий спившегося старичка с трясущимися руками, хлещущего водку стаканами и отправляющегося играть ―в команде молодости нашей‖, едва увидев хоккейную клюшку. А как виртуозно его правильные, затверженные речи накладываются на звучание заевшей пластинки…»460 146 С одной стороны, «река Волга» «течет», люди живут («а мне семнадцать лет», «а мне уж тридцать лет», «седьмой десяток лет»), «жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь», с другой – время останавливается. Попойка писателей в пушкиногорском ресторане «Лукоморье» отождествляется с чаепитием Шляпника и Мартовского Зайца. «Член эс эс писателей» (2; 238) Стасик Потоцкий (Алексей Комашко) поясняет: «Мы убили время. Здесь всегда шесть – время пить… чай». Эти слова отсылают зрителя к сказке «Алиса в стране чудес» – к ее седьмой главе («в которой пьют чай как ненормальные»), где рассказывается о том, как Алиса, Шляпа, Заяц и Соня пили чай, и о загадках времени, которое остановилось. «Старик-Время» почему-то обиделся на Шляпу: «Теперь он меня знать не желает! И с тех пор у нас всегда пять часов… У нас всегда время только пить чай!»461 (намек в сказке Кэрролла был понятен широкому кругу его соотечественников: в Англии действительно была традиция ежевечернего чаепития). О том, что время сдвигается, речь идет и во второй части кэрролловской дилогии (Черная Королева объясняет Алисе, которая проходит испытание на право называться Королевой: «У нас случаются такие недели, где что ни день, то пятница. По семь пятниц на неделе. А зимой и ночи, бывает, идут одна за другой. Сдвигаем семь ночей и греемся»462). И наконец, финальная сцена, в которой Белая Королева (Роза Хайруллина) учит героя, что жить надо задом наперед (вот королевский узник уже сидит в тюрьме, а преступление совершит только через две недели. «А может, он его вообще не совершит?» – изумляется Борис. – «Тем лучше!»), перекликается с теми страницами сказки Кэрролла, где Белая Королева учит Алису «жить обратно»: сначала Белая Королева перевязывает свой палец, потом истекает кровью, затем укалывает его булавкой. На примере Королевского Гонца, арестованного за преступление, «которое совершит в будущую среду»463, Королева доказывает, что это вполне логично: «– А вдруг он не совершит преступления? – ахнула Алиса. – Тем лучше для него… – … Но за что все-таки его посадили в тюрьму? – Сейчас объясню, – успокоила ее Королева. – Тебя когда-нибудь наказывали? – Иногда, – ответила Алиса. – Но ведь ПОСЛЕ того, как я что-нибудь натворю! – Лучше бы тебя наказывали ДО того, как ты провинишься…»464. С помощью аллюзий на Кэрролла пространство СССР 80-х годов (его аналогом в пьесе становится Пушкинский заповедник) вызывает ощущение обреченности и парадоксальности: время остановилось, но СЕГОДНЯ нет. (Белая Королева, обещая Алисе вознаграждение «деньгами пополам с вареньем», тут же рассказывает ей о царящем в Зазеркалье «порядке»: «СЕГОДНЯ варенье не выдается… У нас правило твердое: выдача варенья только ВЧЕРА или ЗАВТРА»465.) Создателям «Wonderland-80» удается свести к головоломке и сложные человеческие взаимоотношения. Так, в «Заповеднике» есть диалог Бориса с 147 Татьяной, где она рассказывает ему об одном художнике, по прозвищу Рыба, который повесился из-за того, что его картины не продавались. «–Хорошие картины? – Не очень. Сейчас он работает корректором. – Кто?! – вскричал я. – Рыба. Его удалось спасти. Сосед явился к нему за папиросами…» (2; 221) В постановке К. Богомолова эпизод, как Рыба бросается с крыши, показан несколько раз, и непонятно, остается художник жив или нет. (В программе к спектаклю этот герой обозначен: «Рыба в живом и мертвом виде»; его играет Андрей Фомин, исполняющий также роли фотографа Валерия Маркова и Зины, которая в пьесе заменяет друга Михал Иваныча – Толика.) В конце кэрролловской сказки «Алиса в Зазеркалье» как раз обыгрывается слово «рыба». На замечание Черной Королевы, что Алиса молчит как рыба, Алиса говорит невпопад: «– Я сегодня слышала столько стихов… И представьте себе, все стихи были о рыбах. Объясните, почему здесь только и толкуют о рыбах»466. В ответ Белая Королева предложила Алисе загадку в стихах – о рыбке, которая «не похожа на плотву и окуньков», в стихах же содержалась и отгадка: это устрица467. Пока Алиса ломала голову над поэтическим ребусом, «гости как ненормальные набросились на вино. Началось настоящее безобразие. Тот пытался напялить перевернутую рюмку на голову, будто шляпу, и слизывал струйки вина, сбегающие по щекам. Другой опрокинул графин и лакал прямо со скатерти. <…> На месте Королевы восседала Баранья Нога! А из суповой миски кто-то пропищал: ―Тут я!‖ Алиса краем глаза успела заметить довольную физиономию Королевы, которая – буль-буль! – скрылась в супе»468. Однако Алиса пробуждается от этих «чудесных превращений», названных автором «кутерьмой», «тарарамом», «кавардаком»469; в финале же спектакля «Wonderland-80» герой, наоборот, засыпает на груди у Белой Королевы. Критики отмечают, что спектакль рассказывает не только о 80-х гг. XX века, но и о сегодняшнем дне: в Пушкинских Горах «за Борисом присматривает очередной сотрудник КГБ, в порыве нежности целующий в животик какого-то малыша – точь-в-точь как нынешний премьер-министр»470. (В июле 2006 г. с помощью интернета весь мир увидел фотографию: В. Путин на Красной площади целует в живот пятилетнего Никиту Конкина, приехавшего вместе со своей бабушкой из г. Коломны на экскурсию.) «Wonderland-80» начинается чтением фрагмента из сказки «Алиса в стране чудес» в переводе Б. Заходера: «… Алиса ахнуть не успела, как полетелаполетела вниз, в какой-то очень, очень глубокий колодец. То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени вволю и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди»471. В колодец Алиса попала, ринувшись в нору за Белым Кроликом, у которого были настоящие ЧАСЫ. Первое представление спектакля состоялось в мае 2010 г., намек на то, что следующий год, 2011, – год Белого Кролика, заставляет зрите148 лей задуматься о времени настоящем, и происходит это, прежде всего, за счет аллюзий на философско-ироничный кэрролловский текст. Несмотря на то, что из всего множества пьес, поставленных по прозе Довлатова, мы затронули лишь те, что идут на сценах Москвы и Петербурга, можно заключить: спектакли по довлатовским произведениям, высокохудожественным и интеллектуальным, в которых горькая авторская рефлексия сочетается с юмором и эстетизмом, выгодно отличаются от спектаклей современного «демократизирующегося» театра, где основными приемами становятся эротические сцены, плоский, грубый юмор, где зритель сталкивается с той же действительностью, от которой старается отвлечься. И, с другой стороны, инсценировки по довлатовской прозе наглядно «высвечивают» особенности этой прозы: фрагментарность композиции, цикличность, ассоциативность и множественность смыслов. Стремление писателя к объективности изображения, лапидарность слова повествователя и преимущественно диалогическая структура повествования роднит прозу Сергея Довлатова с драматическими произведениями, наличие подтекста дает простор для режиссерского творчества. 149 Заключение В настоящей работе мы предприняли попытку анализа произведений С.Д. Довлатова в контексте традиций русской литературы XIX – XX веков, при этом в центре внимания находились неизученные, малоизученные и спорные вопросы довлатоведения. В монографии рассматриваются не только образцы зрелой («Заповедник», «Чемодан») и поздней («Филиал») прозы писателя, а также находившиеся в постоянной доработке в течение многих лет («Зона»), но и его ранние произведения доэмиграционного периода, в частности, поэтические опыты и одноименные рассказ и пьеса для детей – «Человек, которого не было». Исследование показывает, что литературный путь С. Довлатова, как в свое время у А.С. Пушкина, шел от стихов к прозе. Ранние довлатовские шутливые стихи и эпиграммы отмечены печатью русской литературной традиции. Комический эффект в них во многих случаях достигается за счет парафразирования произведений русской поэзии, что способствует созданию острых пуантов, вызывающих двойные ассоциации. А в стихотворении «Безмолвно по бульвару…» (начало 1960-х гг.) звучат мотивы городского песенного фольклора. Опыт написания эпиграмм впоследствии используется Довлатовым в работе над прозаическими жанрами, близкими к эпиграмме, – над фельетоном (1960 – 1970-е гг.), а затем – над литературным анекдотом (1980-е гг.). Армейские стихи Довлатова (1962 – 1963) связаны с его прозаическими произведениями на тематическом и мотивном уровнях. Кроме того, в стихах этого периода появляется близкий к автопсихологическому герою довлатовской прозы единый лирический герой. Работа над стихами, в которых автор стремился отразить плюралистическую природу реальности (остраненный взгляд на привычные явления, изображение трагического в ироническом ключе), предшествовала выработке Довлатовым-прозаиком принципов объективного повествования. Важную роль для творчества Довлатова сыграло его знакомство в конце 1960-х гг. со стихами Н. Олейникова. Довлатовская проза вобрала такие черты олейниковской поэзии, как ироничность и самоироничность, насыщенность ассоциациями, скрывающаяся за простотой формы смысловая сложность. Со стремлением к «гармонизации» прозы, к продолжению литературных традиций Пушкина – Серебряного века – Набокова связано проявление в довлатовской прозе элементов стихового начала. В 1971 г. в литературно-художественном сборнике «Дружба», издаваемом ленинградским отделением издательства «Детская литература», был опубликован рассказ Довлатова «Человек, которого не было», в котором впервые заявили о себе важнейшие мотивы довлатовского творчества: мотив подмены, обмана и мотив двойничества. Однако эти мотивы звучат здесь совершенно поиному, чем в более поздних произведениях: в раннем рассказе Довлатова речь идет не столько о двойственности человеческой натуры, как, например, в «Зоне», сколько о подавлении одной личности другой, о рабской психологии «маленького человека». Автор восстает против обмана, против двойничества. Так, 150 созданная в середине 1970-х гг. на основе детского рассказа «Человек, которого не было» одноименная пьеса заканчивается словами: «Нет двойников. Все это ложь! / Ни на кого ты не похож…» Авторская переделка рассказа для детей в драматургическое произведение стала немаловажным этапом в творчестве Довлатова. Сказка «Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана», подобно образцам драматургии классика отечественной детской литературы С.Я. Маршака – сказкам «Двенадцать месяцев» и «Горя бояться – счастья не видать», – построена на чередовании прозаических и стихотворных фрагментов. В пьесе проявляются элементы поэтики, которые впоследствии становятся отличительными чертами довлатовской прозы: многозначность названия, полифонизм оценок, юмор, ирония и языковая игра, интертекстуальность и автоинтертекстуальность. Послеэмиграционное творчество Довлатова отразило черты преемственности писателем творческого опыта русских классиков. Обладая незаурядной памятью, позволявшей Довлатову, по воспоминаниям родственников и друзей, помнить наизусть тексты многих литературных произведений, считая себя продолжателем традиций именно русской литературы, Довлатов осознанно и неосознанно использовал художественные приемы и принципы изображения действительности у таких писателей, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов. Так, одним из главных соответствий в творчестве Лермонтова и Довлатова является изображение образа времени, характеризующегося как застойное, и интерпретация главного героя довлатовской автопсихологической прозы как лишнего человека, осознающего абсурдность своего существования. Рецепция Гоголя в творчестве Довлатова проявляется в сочетании лирического и сатирического начал в прозаическом произведении, а также в использовании таких элементов поэтики, как карнавализация, амбивалентность в изображении явлений и образов, введение в повествование большого количества второстепенных персонажей, «игра» имен. Говоря о специфике смеха в произведениях Довлатова, необходимо отметить, что в них наблюдается причудливое переплетение «чистого комизма», иронии, «смеха сквозь слезы», карнавализованного смеха. Этот вывод, сделанный на основе тщательного анализа автопсихологических произведений Довлатова, позволяет изменить привычные представления о природе довлатовского смеха, который по сути своей является амбивалентным, тогда как исследователи обычно пишут о том, что герои Довлатова, как и сам автор, принимают окружающую его действительность бесстрастно, спокойно, просто – как «нормальную» (О. Богданова), что его смех обладает не сатирическим пафосом, а юмористическим (М. Вашукова). Однако общность довлатовской поэтики с поэтикой Гоголя и Достоевского свидетельствует о наличии в довлатовской прозе элементов сатиры. Обращение Довлатова к теме двойничества – одной из ведущих тем произведений Достоевского – сближает писателя со своим предшественником. Изображая психологию личности, живущей в условиях отчуждения от окру151 жающего мира, разрыва между идеалом и действительностью, Довлатов стремится раскрыть двойственность внутреннего мира человека, раздвоение его сознания («Зона»). С другой стороны, когда дело касается воссоздания «истории человеческого сердца» («Филиал»), Довлатов берет на вооружение тургеневские принципы поэтики, используя те же приемы изображения образа главного героя, что и Тургенев: фиксация эмоционально-романтических переживаний персонажа, выраженных с помощью внутренних монологов; созвучность пейзажа настроению и чувствам героя, использование «тайного» психологического анализа. Кроме того, для Довлатова, ориентированного, в первую очередь, на художественно-эстетический опыт Пушкина и продолжателя пушкинских традиций Чехова, важнейшим принципом художественности становится принцип объективной формы повествования. Писатель стремится к «множественному видению истины», к показу во всех явлениях их «диалектической антиномичности», стараясь избегать односторонности, открытого проявления авторского отношения к предмету изображения. В прозе Довлатова через интертекст обнаруживается подтекст – то, что так присуще драматическим произведениям Чехова, предполагающим самые различные интерпретации. Точные и неточные цитаты и реминисценции из пушкинских, лермонтовских, гоголевских, тургеневских, чеховских произведений, а также произведений Достоевского служат средством для неявно выраженной авторской оценки; с их помощью автор создает во многих случаях полифонизм оценок для характеристики героев (самооценка, оценка глазами других персонажей, оценка с помощью интертекста). Наконец, стремление писателя к объективности изображения, лапидарность слова повествователя, преимущественно диалогическая структура повествования, фрагментарность композиции роднят прозу Довлатова с драматическими произведениям. Режиссеры нашего времени с успехом ставят довлатовские произведения на сцене: наличие в них подтекста дает простор для режиссерского творчества. Важно и то, что, ведя диалог с классиками русской литературы, писатель отзывался на многие злободневные проблемы современной ему действительности, сумел отразить в своих произведениях пороки застойного периода социализма, был летописцем «третьей волны» эмиграции. Впоследствии довлатовская публицистика и повести «Зона», «Заповедник», «Филиал» стали источниками интертекстуальной «иррадиации» для романа А. Гладилина «Меня убил скотина Пелл»; «Записные книжки», «Заповедник», «Чемодан» – для мемуарной прозы Е. Рейна. 152 Библиографические ссылки и примечания Введение 1 О влиянии стиля С. Довлатова на прозу М. Веллера и А. Гениса см.: Рождественская О.О. Феномен постдовлатовского текста // Филологические штудии. Сб-к научн. трудов. Вып. 9. – Иваново, 2005. – С. 150 – 152. 2 Гришковец Е. Мой Довлатов / Что читать? – 2009. – № 3 / http: //www.community.livejournal.com›Chto_Chitat›4843662.html 3 См.: Выгон Н.С. Современная русская философско-юмористическая проза: проблемы генезиса и поэтики: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2000. – 44 с.; Вашукова М. В. Особенности восприятия и анализа философскоюмористической прозы 60 – 90-х гг. ХХ века в 11-м классе: на примере произведений C. Довлатова и Ф. Искандера: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - М., 2005. - 16 c. 4 http: //www. izvestia.ru›Новости›news253677 5 http://www.pln-pskov.ru/ 6 http: //www. gorod-ufa.com › ufa…rustyem…ob…sergeya…ufe.html Уфа 7 http: //www. rian.ru›Культура и шоу-бизнес›20101122/299500376.html 8 См. также: Генис А. Молоко, конечно, скисло, но… / Беседу вела Т. Вольтская // Лит. газета. – 1998. – № 23. – С. 10; Генис А. Довлатов и окрестности. Филологический роман. – М., 1999. – С. 175 – 183; Генис А. Пушкин // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 323 - 340. 9 Власова Ю.Е. Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: МГПУ, 2001. – 24 с. 10 Мотыгина Ж.Ю. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция поэтики: Дис. … канд. филол. наук. – Астрахань, 2001. – 175 с. 11 Дочева К.Г. Идентификация личности героя в творчестве Сергея Довлатова: Дис. … канд. филол. наук: – Орел, 2004. – 197 с. 12 Вейсман И.З. Ленинградский текст Сергея Довлатова: Дис. … канд. филол. наук. – Саратов, 2005. – 211 с. 13 Плотникова А.Г. Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д. Довлатова: Дис. … канд. филол. наук. – М. - С. 208. 14 Там же. – С. 78. 15 Там же. – С. 80. 16 Там же. – С. 81 – 82. 17 Там же. – С. 84. 18 Там же. – С. 66. 19 Там же. - С. 69. 20 Там же. – С. 69 – 70. 21 Там же. – С. 74. 22 Ким Хен Чон Книга С.Д. Довлатова «Наши» и традиция семейного романа: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – СПб., 2009. – С. 7 – 8. 153 Глава 1. 23 Плотникова А.Г. Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М. - С. 19. 24 Бродский И. О Сереже Довлатове // О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. – Нью-Йорк; Тверь, 2001. – С. 67. 25 Сухих И. Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 549. 26 Иванова С. Нелишний человек // О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. – Нью-Йорк; Тверь, 2001. – С. 93. 27 Куллэ В. Бессмертный вариант простого человека // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 486. 28 Мотыгина Ж.Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова: Монография. – Астрахань, 2006. – С. 23 - 25. 29 Орлицкий Ю.Б. Стиховое начало в прозе «третьей волны» // Литература «третьей волны»: Сб-к науч. статей. – Самара, 1997. – С. 44 - 54; Орлицкий Ю.Б. Присутствие стиха в «пушкинской» прозе конца XX века (А. Терц, А. Битов, С. Довлатов) // А.С. Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения. – Донецк, 1998. – С. 109 – 112. 30 Толстая Т. Кот и окрестности // Толстая Т. День: личное. – М., 2006. – С. 334. 31 Здесь мы приводим периодизацию творчества С. Довлатова, данную Ж.Ю. Мотыгиной. См.: Мотыгина Ж.Ю. Творческая индивидуальность Сергея Довлатова: Монография. – Астрахань, 2006. – С. 78 – 81. 32 См.: Мечик Д. С сыном наедине: Воспоминание о Сергее Довлатове. Неопубликованные письма писателя // Независимая газета. – 1992. – № 213 (4 ноября). – С. 5. 33 Довлатов С. Ремесло // Довлатов С. Собр. соч.: В 4 т. – СПб., 2004. – Т. 3. – С. 13. Далее цитаты приводятся по этому изданию – в скобках первая цифра обозначает том, вторая – страницу. 34 Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. – СПб.. 2009. – С. 19. 35 Там же. – С. 23. 36 См. об этом: Григорьева Е. «Сереже было виднее…» // Биография. – 2006. № 9. – С. 114. 37 Позднее в предисловии к публикации в журнале «Семь дней» рассказа Ф. Кафки «Приговор» С. Довлатов написал о появлении перекликающегося со словами П. Германа советского афоризма «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!»: «В конце шестидесятых годов художник Вагрич Бахчанян, в ту пору сотрудничавший в ―Литературной газете‖, произнес ядовитую шутку, которая с быстротой молнии (а точнее – с быстротой удачной шутки) облетела всю страну. Перефразируя слова известной песни, Бахчанян воскликнул: ―Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!‖» См.: Довлатов С. Записки чиновника // Довлатов С. Уроки чтения. Филологическая проза. – СПб., 2010. – С. 259. 38 Григорьева Е. «Сереже было виднее…» // Биография. – 2006. - № 9. – С. 117, 119. 154 39 См.: Гиллельсон М.И. Русская эпиграмма // Русская эпиграмма: XVIII – начало XX века. – Л., 1988. – С. 36. 40 http: //www.russianedu.ru › russia/news/view/593.html 41 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. – СПб., 2001. – С. 236 - 237. 42 См.: http://www.a-pesni.golosa.info/dvor/poulicehodila.htm 43 См. Неклюдов С.Ю.. «Цыпленок жареный, цыпленок пареный…» / http://www.ruthenia.ru 44 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. – СПб., 2001. – С. 235 - 237. 45 Там же. – С. 235. 46 Довлатов С. Армейские письма к отцу // Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 39. Далее цитируется по этому изданию, страница указана в скобках. 47 Довлатов С. Армейские письма к отцу // Звезда. – 1998. - № 5. – С. 122. 48 Хаит В. Истоки музыки. О письмах Сергея Довлатова отцу из армии // Вопросы литературы. – 2002. - № 3. – С. 277. 49 http: //www.politikhall.com/showtext.php… См. также: http: //www.aif.ru «Культура›…/33217 50 http: // www.komikz.ru 51 Довлатов С. Армейские письма к отцу // Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 118 – 121. 52 http: // www. rufolklor.narod.ru/chit.htm 53 Цит. по: Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. – СПб.. 2009. – С. 129. 54 Дубравин Я. С Довлатовым мы пили и писали песню / http://www.kppublish.ru/2002/11/30/readall.html 55 Довлатов С. Малоизвестный Довлатов: Сборник. – СПб., 1995. – С. 334. 56 Штерн Л. Довлатов – добрый мой приятель. – СПб., 2005. – С. 74. 57 Олейников А.Н. Примечания // Олейников Н. Стихотворения и поэмы. – СПб., 2000. - С. 219 – 220. 58 Штерн Л. Довлатов – добрый мой приятель. – СПб., 2005. – С. 73 - 74. 59 Олейников Н. Стихотворения и поэмы. – СПб., 2000. - С. 68. 60 Штерн Л. Довлатов – добрый мой приятель. – СПб., 2005. – С. 74. 61 Там же. – СПб., 2005. – С. 75. 62 Цит. по: Сапожникова Г. Довлатовский «шизофреник» стал бароном фон Бушем // Комс. правда. – 1998. – № 220 (24 ноября). – С. 4. 63 http: // www.dovlat-foto.narod.ru 64 Довлатов С. Малоизвестный Довлатов: Сборник. – СПб., 1995. – С. 496 - 497. 65 Зернова Р. Дачные соседи. Воспоминания о Сергее Довлатове // Русская мысль. – Париж, 1997. – № 4180. – С. 10. 66 Шкляринский А. Сто слепящих фотографий // Литературное обозрение. – 1998. - № 5 – 6. – С. 76. 67 Там же. – С 76 – 77. 155 68 Цит. по: Сапожникова Г. Довлатовский «шизофреник» стал бароном фон Бушем // Комс. правда. – 1998. – № 220 (24 ноября). – С. 4. 69 На самом деле стихотворение начинается со строк: «Когда случилось петь Дездемоне…». 70 Скульская Е. Перекрестная рифма: письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 152. 71 Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. – М., 2008. – С. 165. 72 Серман И. Гражданин двух миров // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 192. 73 Бонч-Осмоловская Т.Б. Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. – Самара, 2009. – С. 20. 74 Цит. по: Там же. – С. 21. 75 Волошина В. Другая жизнь Сергея Довлатова // Московские новости. - 1993. – № 44 (31 октября). – С. 1. 76 Довлатов С. Малоизвестный Довлатов: Сборник. – СПб., 1995. – С. 344. 77 Цит. по Бонч-Осмоловская Т.Б. Введение в литературу формальных ограничений. Литература формы и игры от античности до наших дней. Самара, 2009. – С. 22. 78 См.: Бродский И. Поэт и проза / http: // www. litru.ru 79 Как отмечает Л. Сальмон, «фельетон был ключевым звеном в процессе роста и развития юмористической литературы, которая образовывалась на протяжении веков, становясь сугубо гибридной, карнавализованной альтернативой серьезной, идеологизированной словесности. Такую альтернативу выбирали не писатели-минималисты, а глубокие философы-юмористы, которые страдали от мучительного экзистенциального «несоответствия» доминирующей культуре…» См.: Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. – М., 2008. – С. 168. 80 См.: Семьян Т.Ф. Визуальный облик прозаического текста. – Челябинск, 2006. – С. 78. 81 Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. – М., 2008. – С. 165. 82 Воронцова-Маралина А.А. Поэтика цикла Сергея Довлатова: «смысловые рифмы» (деталь, персонаж, мотив, сюжет) и их функция // «…Лучших строк поводырь, проводник просвещения, лучший читатель!»: Книга памяти А.М. Зверева. – М., 2006. – С. 344. 83 Орлицкий Ю.Б. Стиховое начало в прозе «третьей волны» // Литература «третьей волны»: Сборник научных статей. – Самара, 1997. – С. 46. 84 Библиографическая справка // Довлатов С. Малоизвестный Довлатов. – СПб., 1995. – С. 503. 85 Там же. 86 Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 150 – 151. 156 87 Сабило И. Человек, которого не было: Заметки о Сергее Довлатове // Аврора. – 1996. – № 11 – 12. – С. 56. 88 Там же. 89 Там же. – С. 56 – 57. 90 Довлатов С. Человек, которого не было // Дружба: Литературнохудожественный сборник. – Л., 1971. – С. 131. 91 Там же. – С. 132. 92 Там же. – С. 137. 93 Так же. – С. 138. 94 Цит. по: Попов В. Довлатов. – М., 2010. – С. 190. 95 Цит. по: Белый А. Сергей Довлатов: Я был и гением, и страшным халтурщиком / http: // www.pseudology.org/ 96 Скульская Е. Перекрестная рифма: письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С/ 146/ 97 Там же. – С. 151. 98 См. об этом: Моисеенко Ю. Возвращение человека, которого не было // Новая газета. – 2002. – № 80 (28 октября) / http: // www.Novayagazeta.ru 99 Довлатов С. Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана / http://www.sem40.ru/famous/pis30_6.htm/ 100 Довлатов С. Человек, которого не было. Пьеса для младших школьников с фокусами, но без обмана // Материалы архива Псковского театра кукол. 101 Там же. 102 Там же. 103 Там же. 104 Там же. 105 Там же. 106 Там же. 107 Там же. 108 Там же. 109 Там же. Глава 2. 110 Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. – М., 2008. – С. 9. 111 Перемышлев Е. [Рецензия на: Довлатов С. Записные книжки] // Октябрь. – 1993. - № 9. – С. 179. 112 Там же. 113 Кривулин В. Поэзия и анекдот // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 123. 114 Там же. 115 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 46. 116 Там же. – С. 47. (По данным Википедии, эта книга была издана в 1990 г. См.: / http: // www.ru.wikipedia.org›Довлатов 117 Там же. – С. 50, 49, 51. 157 118 Там же. – С. 57. Там же. – С. 52. 120 Там же. – С. 62. 121 Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 493. 122 Там же. – С. 502. 123 Власова Ю.В. Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Москва, 2001. – С. 15. 124 Неминущий А.Н. Жанровый ресурс анекдота в прозе С. Довлатова // Поэтика русской литературы: Сб-к статей. – М., 2009. – С. 335 – 341. 125 Вознесенская О.А. Проза Сергея Довлатова. Проблемы поэтики: Дис. … канд. филол. наук. – М., 2000. – С. 114. 126 Сальмон Л. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. – М., 2008. – С. 48. 127 Приведенная автором монографии гипотеза ученого-нейролога В.С. Рамачандрана, которая изложена в книге «Фантомы мозга» (1998) и которая сводится к тому, что «улыбка развивалась филогенетически как реакция расслабления от узнавания несостоятельности предполагаемой опасности», свидетельствует, что смех возникает нередко как реакция на миновавшую опасность. См.: Там же. – С. 53 128 Там же. – С. 9 – 10. 129 Там же. – С. 72 – 73. 130 Там же. – С. 95 – 96. 131 Там же. – С. 43. 132 Там же. – С. 35. Как поясняет Сальмон, «удачный процесс сублимирования обеспечивается успешным взаимодействием системы сознания и системы подсознания», на уровне которых действуют художественные приемы. По Фрейду, искусство способно «использовать… способность человека прибегать почти одновременно как к логике [на уровне сознания], так и к мифическому верованию [на подсознательном уровне]. Именно в переходе от одного пласта к другому можно постоянно возобновлять парадоксальность чувства» (там же). 133 Там же. - С. 33. 134 Там же. – С. 102. 135 Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 495. 136 См.: Семьян Т.Ф. Визуальный облик прозаического текста. – Челябинск, 2006. – С. 76 – 77. 137 Буренина Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века. – 2005. – С. 129. 138 См.: Курганов Е. Анекдот как жанр. – СПб., 1997. – С. 30, 34 – 35. 139 Довлатов С. На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья // Иностранная литература. – 1989. - № 3. – С. 246. 140 Вайль П. Без Довлатова // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. СПб., 2001. – С. 305. 119 158 141 Там же. Довлатов С. Речь без повода…или Колонки редактора. – М., 2006. – С. 175. 143 Скульская Е. Перекрестная рифма: Письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 152. 144 Чехов А.П. Письма // Чехов А.П. Полное собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. – М. , 1975. – Т. 2. – С. 155. 145 Скульская Е. Перекрестная рифма: Письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 153. 146 Сухих И. Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. - СПб., 2001. – С. 547. 147 Белинский В.Г. Герой нашего времени /Сочинение М. Лермонтова (1840) // Белинский В.Г Полное собр. соч.: В 13 т. – М., 1953 - 1959. – Т. 4. – С. 199. 148 Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. - Л., 1975. – С.158 – 267. 149 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. – М., Л., 1962. – Т. 4. – С. 339. Далее цитаты приводятся по этому изданию – в скобках римская цифра обозначает том, арабская – страницу. 150 Цит. по: Генис А. Довлатов и окрестности: Филологический роман. – М., 2004. – С. 158. 151 Фохт У.Р. Логика творчества. – М., 1975. – С. 157 – 158. 152 Серман И. Михаил Лермонтов: Жизнь в литературе: 1836 – 1841. – М., 2003. – С. 232. 153 См.: Мануйлов В.А. Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Комментарий. - Л., 1975. – С.8. 154 Жизни литературного образа лишнего человека в истории и русской литературе посвящена монография А.И. Журавлевой. См.: Журавлева А.И. Лермонтов в русской литературе: Проблемы поэтики. – М., 2002. – С. 213 – 226. 155 См.: Выгон Н.С. Проза Сергея Довлатова: к вопросу об эволюции героя в русской прозе XX века // Научн. труды Моск. гос. пед. ун-та им. В. Ленина. Серия: гуманитарные науки. Ч. 1. – М.,1994. – С. 18. 156 Усок И.Е. К спорам о художественном методе М.Ю.Лермонтова // К истории русского романтизма. – М, 1973. – С. 294. 157 Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы. - М., 2002. – С. 370. 158 Вайль П. Формула любви // Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». - СПб., 1999. – С. 185. 159 Буренина О. Предисловие. Что такое абсурд, или По следам Мартина Эсслина // Абсурд и вокруг. Сборник статей. – М., 2004. – С. 39 – 40. 160 Там же. 161 Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии: Сб-к статей. – Л., 1986. - С. 51. 162 Набоков В.В. Николай Гоголь // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. СПб., 2010. – С. 102. 163 Там же. – С. 103. 142 159 164 См.: Манн Ю.В. Поэтика Гоголя // Манн Ю.В..Творчество Гоголя: смысл и форма. – СПб., 2007. – С. 241. 165 Там же. 166 Там же. 167 Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». – Л., 1987. – С. 50. 168 См.: Манн Ю.В. Вариации к теме: традиции и параллели. // Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. – СПб., 2007. - С. 426 – 428. 169 Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». – Л., 1987. – С. 44. 170 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 164 – 165. 171 Гоголь Н.В. Невский проспект // Гоголь Н.В. Полное собр. соч. : В 14 т. – М., 1938. – Т. 3. – С. 12. Далее цитаты приводятся по этому изданию – в скобках римская цифра обозначает том, арабская – страницу. 172 Золотусский И.П. Гоголь. – М., 1979. – С. 211. 173 См.: Белоногова В.Ю. Выбранные места из мифов о Пушкине. – Нижний Новгород, 2003. – С. 97 – 100. 174 Серман И. Театр Сергея Довлатова // Грани. – 1985. – № 136. – С. 152. 175 Терц А. Прогулки с Пушкиным. – М., 2005. – С. 7. 176 Цит. по книге: Манн Ю. В поисках живой души. «Мертвые души»: Писатель – критика – читатель. - М., 1984. – С. 44 - 45. 177 См.: Гуминский В. / http: // www.rospisatel.ru/gumiskihtm.htm 178 Блок А. О назначении поэта // Блок А.А. Избранное. – М., 1996. – С. 237 – 238. 179 Лихоносов В.И. Элегия // Лихоносов В.И. Родные: Повести и рассказы. – М., 1980. – С. 435. 180 Там же. – С. 438. 181 Там же. – С. 423. 182 Там же. – С. 431. 183 Пушкин А.С. Поэту // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1963. – Т. 3. – С. 174. 184 Там же. – С. 435. 185 Там же. – С. 435 – 436. 186 Довлатов С. Конец прекрасной эпохи // Довлатов С. Уроки чтения: Филологическая проза. – СПб., 2010. – С. 296. 187 Набоков В.В. Николай Гоголь // Набоков В.В. Лекции по русской литературе. СПб., 2010. – С. 52. 188 Там же. 189 Там же. 190 Манн Ю. Поэтика Гоголя // Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. – СПб., 2007. - С. 168. 191 Боева Г.Н. Проявление авторской позиции в изображении города, или «ленинградский текст» Сергея Довлатова // Sciences and humanities: современное гуманитарное знание как синтез наук. – СПб., 2003. – С. 262. 160 192 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя // Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. – СПб., 2007. - С. 102. 193 Чекалова С. «Лживая, безжалостная, неверная» – «добрая, милая, славная» // Новый мир. – 1997. – № 4. – С. 220. 194 http: // www zibunova.narod.ru /zibmd1htm 195 Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. – М., 1981. - Т. 7. - С. 509 – 513. 196 Довлатов С. Выступление на международной конференции «Литература в эмиграции: третья волна» 16 мая 1981 года / Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. - М., 2006. – С. 252. 197 Там же. – С. 253. 198 Чехов А.П. Письма // Чехов А.П. Собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. – М., 1974 - 1982. – Т. 7. – С. 168. 199 Арьев А. История рассказчика // Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 8. 200 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.; СПб., 2005. – С. 133. 201 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – Там же. - С. 642. 202 См.: Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. - СПб., 2009. – С. 80. 203 Там же. – С. 66. 204 Там же. – С. 73. 205 Там же. – С. 106. 206 Шаталов С.Е. Проблемы поэтики И.С. Тургенева. - М., 1969. - С. 212. 207 Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. - М., 1981.- Т. 7. - С. 281. 208 Там же. – С. 282. 209 Батюто А.И. Тургенев-романист. - Л., 1972. – С. 205. 210 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. - М., Л, 1962. - Т. 4. – С. 135. 211 Тургенев И.С. Дым // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. - М., 1981.- Т. 7. - С. 159. 212 Скульская Е. Перекрестная рифма. Письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 153. 213 Арьев А. Наша маленькая жизнь / http://www.sergeidovlatov.com › books/arxew.html 214 Генис А. Довлатов и окрестности. – М., 2004. – С. 24. 215 Вайль П. Без Довлатова // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 305. 216 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. – С. 45 – 46. 217 Волошина В. Другая жизнь Сергея Довлатова // Московские новости. – 1993. - № 44 (31 октября). – С. 5. 218 Скульская Е. Перекрестная рифма. Письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 153. 161 219 Нечаев В. Довлатов и литературная ситуация в Питере конца 60-х и в 70-е годы. - Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба. - СПб.: "Звезда", 1999 / http://www.sergeidovlatov.com › books/nechaev.html 220 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 238 – 239. 221 Там же. – С. 236. 222 Там же. – С. 235. 223 Там же. 224 Там же. – С. 239. 225 Довлатов С. Уроки чтения. Филологическая проза. – СПб., 2010. – С. 26. 226 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 268. 227 Орлова Н.А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические механизмы и фольклорная парадигма: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Майкоп, 2010. – С. 25. 228 Достоевский Ф.М. Бобок // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 12. – С. 51. 229 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 211. 230 Достоевский Ф.М. Бобок // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 12. – С. 51. 231 Там же. 232 Там же. – С 52. 233 Там же. 234 Там же. 235 Там же. – С. 51. 236 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 193. 237 Достоевский Ф.М. Бобок // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 12. – С. 64. 238 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 266. 239 Там же. – С. 197. 240 Шафранская Э.Ф. Тема «Мертвого дома» в творчестве Сергея Довлатова: традиции и новаторство // Актуальные проблемы литературы: Комментарий к XX веку. Материалы межд. Конференции. Светлогорск 25 – 28 сентября 2000.г. – Калининград, 2001. – С. 128. 241 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 3. – С. 209. 242 Шафранская Э.Ф. Тема «Мертвого дома» в творчестве Сергея Довлатова: традиции и новаторство // Актуальные проблемы литературы: Комментарий к XX веку. Материалы межд. Конференции. Светлогорск 25 – 28 сентября 2000.г. – Калининград, 2001. – С. 127. 243 Там же. 244 Баринова Е.Е. Метатекст в постмодернистском литературном нарративе (А. Битов, С. Довлатов, Е. Попов, Н. Байтов): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Новосибирск, 2008. – С. 19. 245 Там же. – С. 4. 162 246 Довлатов С. Письма к Владимовым // Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 251. 247 Сергей Довлатов – Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. – М., 2001. – С. 132. 248 Воронцова-Маралина А.А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: Дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 2004. – С. 61 – 62. 249 Сергей Довлатов – Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. – М., 2001. – С. 159. 250 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 3. – С. 215. 251 Там же. – С. 228. 252 Шафранская Э.Ф. Тема «Мертвого дома» в творчестве Сергея Довлатова: традиции и новаторство // Актуальные проблемы литературы: Комментарий к XX веку. Материалы межд. Конференции. Светлогорск 25 – 28 сентября 2000.г. – Калининград, 2001. – С. 133. 253 См. об этом: Серман И. Театр Сергея Довлатова // Грани. – 1985. № 136. – С. 159 – 161. 254 См.: Шаламов В. Шоковая терапия // Шаламов В. Колымские рассказы: Кн. 1. – М., 1992. – С. 122 – 131. 255 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 3. – С. 232. 256 Шаламов В. Выходной день // Шаламов В. Колымские рассказы: Кн. 1. – М., 1992. – С. 110 – 111. 257 Там же. – С. 111. 258 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 3. – С. 480. 259 Шаламов В. Красный крест // Шаламов В. Колымские рассказ: Кн. 1.. – М., 1992. – С. 136 – 137. 260 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – СПб., 1994. – Т. 3. – С. 267. 261 Там же. – С. 387. 262 Ким Юн Кюн. Типология двойников в творчестве Ф.М. Достоевского и повесть «Двойник» (1846 / 1866): Дис. … канд. филол. наук. – М., 2003. – 185 с. / http://wwwlib.ua-ru.net»diss/cont/177941.html 263 Там же. 264 Там же. 265 Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Избр. ст.: В 3 т. – Таллинн, 1992. – Т. 1. – С. 227. 266 Владимирцев В.П. Наблюдения над троичной поэтикой Достоевского: правила, границы, подробности, общий смысл // Новые аспекты в изучении Достоевского: Сборник научных трудов. – Петрозаводск, 1994. – С. 50. 267 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 2000. – С. 71 – 118. 163 268 Ким Юн Кюн. Типология двойников в творчестве Ф.М. Достоевского и повесть «Двойник» (1846 / 1866): Дис. … канд. филол. наук. – М., 2003. – 185 с. / http://wwwlib.ua-ru.net»diss/cont/177941.html 269 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 216. 270 Серман И. Театр Сергея Довлатова // Грани. – 1985. - № 136. – С. 143. 271 См. об этом: Вашукова М. Особенности восприятия и анализа философскоюмористической прозы 60 – 90-х гг. XX века в 11 классе. (На примере произведений С. Довлатова и Ф. Искандера): Дис. канд. пед. наук. – М., 2005. – С. 109. 272 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. – С. 215. 273 См.: Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 32. 274 Ланин Б.Сергей Довлатов // Проза русской эмиграции (третья волна). – М., 1997. – С.103. 275 См.: Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Довлатов С. Последняя книга. - СПб., 2001. – С. 493. 276 Васильева В.Н. Чеховские традиции в рассказах Сергея Довлатова //Современная русская литература: Проблемы изучения и преподавания. Сб-к статей по материалам международной НПК. Пермский гос. пед. университет 2 – 4 марта 2005 г. В 2 ч. – Пермь, 2005. – Ч. 2. – С. 98. 277 Федотова Ю.В. А. Чехов и С. Довлатов: «тоска о лучшей жизни /\ Традиции в контексте русской культуры. Выпуск XIII: межвузовский сборник научных работ. – Череповец, 2006. – С. 91, 92. 278 Неминущий А.Н. В пространстве времени литературы: до Чехова – Чехов – после Чехова. - Daugavpils Universitates. Akademiskais apcads ―Saule‖, 2009. – С. 287. 279 Семкин А.Д. Почему Сергею Довлатову хотелось быть похожим на Чехова? //Международная научная конференция «А.П. Чехов и мировая культура: взгляд из XXI века». – М., 2010. – С. 103. 280 Пушкин А.С. Капитанская дочка // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1964. – Т. 6. – С. 477. 281 Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1964. – Т. 7. – С. 550. 282 Чехов А.П. Письма // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. – М., 1976. – Т. 3. – С. 11. 283 Агеев А. Конспект о кризисе // Литературное обозрение. – 1991. № 3. – С. 18. 284 Толстая Е. Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880 – начале 1890-х годов. – М., 2002. - С. 201. 285 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 217. 286 Полоцкая Э. А.П. Чехов: Движение художественной мысли. – М., 1979. – С. 300. 287 Катаев В.Б. Сложность простоты: Рассказы и пьесы Чехова. – М., 1998. – С.31. 288 Абдуллаева З. Жизнь жанра в пьесах Чехова // Вопросы литературы. – 1987. – № 4. – С. 161. 164 289 Арьев А. Синеглазая мишень // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 290. 290 Ахматова А. Тайны ремесла // Ахматова А.Сочинения: В 2 т.– М., 1996. – Т.1. – С. 277. 291 Есенин С. Не жалею, не зову, не плачу… // Есенин С. Собр. соч.: В 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 125. 292 Новичкова Т.А. Эпос и миф. – СПб., 2001. – С. 190. 293 Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М., 1957. – С.200. 294 Там же. – С. 201. 295 См.: Доброзракова Г.А. Способы манифестации вторичного пушкинского мифа в повести С. Довлатова «Заповедник» // Доброзракова Г.А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове: Проблемы морфологии и стилистики. – Самара, 2008. – С. 115 – 143. 296 Сергей Довлатов – Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. – М., 2001. – С. 259. 297 Скрябина Т. От парадокса к трюизму, или Восстановление нормы. Проза Сергея Довлатова / http: // wwwlit.1september.ru/urok/index.php?SubjectID... 298 Анастасьев Н. «Слова – моя профессия»: O прозе С. Довлатова // Вопросы литературы. – 1995. - № 1. – С. 14. 299 Чехов А.П. Вишневый сад // Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. – М., 1978. – Т. 12. – С. 216. 300 Там же. – С. 221. 301 Там же. – С. 226. 302 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. – М., Л., 1962. – Т. 4. – С. 358. 303 Гейченко С. Пушкиногорье. – М., 1981. – С. 10. 304 Гейченко С. У Лукоморья: Рассказывает хранитель Пушкинского заповедника. – Л., 1977. – С. 15. 305 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. – М., Л., 1962. – Т. 4. – С. 404 – 405. 306 Генис А. Пушкин // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. – С. 333. 307 Веллер М. Кухня и кулуары // Не ножик не Сережи не Довлатова. – М., 2007. – С. 246. 308 См.: Сухих И. Сергей Довлатов: время, мест, судьба. – СПб., 1996. – 384 с.; Вейсман И.З. «К вопросу об интертекстуальности в прозе С. Довлатова» // Филологические этюды. Сб-к научных статей молодых ученых. Вып. 4. – Саратов, 2001. – С. 63 – 64. 309 См.: Сухих И. Сергей Довлатов: время, мест, судьба. – СПб., 1996. – С. 191 – 203. 310 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. – С. 867. 165 311 Шевченко Е.С. «Театрализованный реализм» С. Довлатова // Литература и театр: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Л.А. Финка. – Самара, 2006. – С. 269. 312 Сухих И. Сергей Довлатов: время, мест, судьба. – СПб., 1996. – С. 194. 313 Там же. 314 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. – М., 2006. – С. 355. 315 Там же. – С. 108 – 109. 316 Довлатов С. На анкету «ИЛ» отвечают писатели русского зарубежья // Иностранная литература. – 1989. – № 3. – С. 246. 317 Бродский И. Большая книга интервью. – М., 2000. – С. 447. 318 Там же. – С. 456. 319 Довлатов С. Блеск и нищета русской литературы // Довлатов С. Собр. соч.: В 4 т. - СПб., 2004. – Т. 4. – С. 361. 320 Сухих И. Проблемы поэтики Чехова. – СПб., 007. – С. 110. 321 Сухих И. Сергей Довлатов: время, мест, судьба. – СПб., 1996. – С. 203. 322 Шевченко Е.С. «Театрализованный реализм» С. Довлатова // Литература и театр: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Л.А. Финка. – Самара, 2006. – С. 270. 323 См.: Власова Ю.Е. Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: МГПУ, 2001. – С. 20 – 21; Мотыгина Ж.Ю. С. Довлатов: Творческая индивидуальность, эволюция поэтики: Дис. … канд. филол. наук. – Астрахань, 2001. – С. 31. 324 История рассказчика. (Интервью с С. Довлатовым) // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. – СПб., 2001. – С. 565. 325 Там же. – С. 564. 326 Там же. – С. 562. 327 Бродский И. О Сереже Довлатове // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. – СПб., 2001. – С. 299. 328 История рассказчика. (Интервью с С. Довлатовым) // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. – СПб., 2001. – С. 559. 329 Сергей Довлатов – Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. – М., 2001. – С. 323. 330 Цит. по: Кандель Б. Шервуд Андерсон // Андерсон Ш. Рассказы. – М.; Л., 1959. – С. 10 – 11. 331 История рассказчика. (Интервью с С. Довлатовым) // Довлатов С. Последняя книга: Рассказы, статьи. – СПб., 2001. – С. 554 – 555. 332 Власова Ю.Е. Жанровое своеобразие рассказов С. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: МГПУ, 2001. – С. 20. 333 Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 337. 334 Плотникова А.Г. Традиции русской классической литературы в творчестве С.Д. Довлатова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М. - С. 83. 335 Андерсон Ш. Рассказы. – М.; Л., 1959. – С. 226. Далее цитаты приводятся по этому изданию. 166 336 Воронцова-Маралина А.А. Проза Сергея Довлатова: поэтика цикла: Дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 2004. – С. 140. 337 Там же. 338 Выгон Н.С. Проза Сергея Довлатова. К вопросу об эволюции героя в русской прозе ХХ века // Научные труды Моск. пед. гос. ун-та им. Ленина. Сер.: Гуманитарные науки. – М., 1994. – Ч. 1. – С. 19. Глава 3. 339 См.: Вейсман И.З. Ленинградский текст Сергея Довлатова: Дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – Саратов, 2005. – 211 с. 340 См.: Доброзракова Г.А. Повесть С. Довлатова «Заповедник» как часть Михайловского текста и пушкинского мифа // Доброзракова Г.А. Мифы Довлатова и мифы о Довлатове: Проблемы морфологии и стилистики. – Самара, 2008. – С. 64 – 114. 341 Дружников Ю.Летописец Брайтон-Бич (Воспоминания о Сергее Довлатове) / http: // www bookz.ru/authors/drujnikov-urii/letopisets.html 342 Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. – М., 2001. – С. 5. 343 Там же. – С. 19. 344 Там же. – С. 7. 345 Там же. – С. 142. 346 Вайль П., Генис А. Американа. – М., 1991. – С. 9. 347 См.: Мулярчик А. В поисках грустного бэби: Америка глазами русского писателя-эмигранта // Новое время. – 1988. - № 48. – С. 46. 348 Там же. 349 Аксенов В. Круглые сутки нон-стоп / http: www/ litru.ru. В дальнейшем цитаты приводятся по электронному изданию. 350 Мулярчик А. В поисках грустного бэби: Америка глазами русского писателя / Новое время. – 1988. – № 48. – С. 46. 351 Бондарев Ю. Выбор // Бондарев Ю. Берег. Выбор. Игра. Романы. – М., 1988. – С. 539 – 540. 352 См.: Вайль П., Генис А. Американа. – М., 1991. – С. 8 – 9.. 353 Аксенов В. В поисках грустного бэби / http: www/ litru.ru. В дальнейшем цитаты приводятся по электронному изданию. 354 Везерова М.Н. Речевые приемы иронии, юмора в романе Василия Аксенова «В поисках грустного бэби» // Василий Аксенов: Литературная судьба. – Самара, 1994. – С. 142. 355 Аксенов В. Американская кириллица. – М., 2004. – С. 33. 356 Там же. – С. 270. 357 Там же. – С. 164. 358 Там же. – С. 520.. 359 Вайль П., Генис А. Американа. – М., 1991. – С. 9.. 360 Там же. – С. 5, 10. 167 361 Глэд Д. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. – М., 1991. – С. 93. 362 Цит. по: Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. – М., 2001. – С. 6. 363 См.: Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. – М, 2002. – С. 66. 364 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 217. 365 Там же. – С. 218. 366 http: // www svoboda 367 См.: Лебедушкина О. / http: // www 1001.vdv.ru /arc /1septembe/issue179 368 За выдающийся вклад в русско-американскую культуру и развитие культурных отношений между Россией и США Аксенов стал лауреатом премии «Либерти». Премия, учрежденная в 1999 г. тремя известными культурными деятелями, выходцами из России – художником Г. Брускиным, музыковедом С. Волковым и писателем А. Генисом, – утверждает две важнейшие идеи: 1) художник может творить, находясь вдалеке от своего отечества; 2) русская культура (равно как и другая культура) способна развиваться трудами «граждан мира», живущих за пределами своей страны, и, в свою очередь, американская культура (точно так же, как и любая другая культура) может обогащаться за счет творчества авторов-эмигрантов. 369 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. - М., 2006. - С. 58. 370 См.: Арустамова А.А. Русско-американский диалог XIX века: историколитературный аспект: монография. – Пермь, 2008. – С. 247 – 250. 371 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. - М., 2006. – С. 174. 372 Там же. – С. 318. 373 Дружников Ю.Летописец Брайтон-Бич (Воспоминания о Сергее Довлатове) / http: // www bookz.ru/authors/drujnikov-urii/letopisets.html 374 http: // www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article. Гладилин А.Т. Меня убил скотина Пелл. – М., 2001. – С. 7. 376 Первая повесть А. Гладилина, опубликованная в журнале «Юность» в 1956 г. и принесшая автору известность, называлась «Хроника времен Виктора Подгурского, составленная из дневников, летописей, исторических событий и воспоминаний современников». 377 Гладилин А.Т. Меня убил скотина Пелл. – М. 2001. – С. 229. 378 Гладилин А.Улица генералов: Попытка мемуаров. – М., 2008. – С. 220. 379 Гладилин А.Т. Меня убил скотина Пелл. – М. 2001. – С. 227. 380 Глэд Д. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. – М., 1997. – С. 84. 381 Гладилин А.Т. Меня убил скотина Пелл. – М. 2001. – С. 227. 382 Там же. – С. 290. 383 Там же. – С. 8. 384 Там же. – С. 228. 385 Там же. – С. 289. 375 168 386 Там же. – С. 264. Там же. – С. 78. 388 http: // www.kultura-portal.ru/tree/cultpaper/article. Позднее А. Гладилин написал об этом в своих мемуарах. См.: Гладилин А.Улица генералов: Попытка мемуаров. – М., 2008. – С. 211 – 212. 389 Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. – СПб., 1996. – С. 224. 390 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. - М., 2006. - 432 с. 391 Переписка Сергея Довлатова с Виктором Некрасовым. Публикация Елены Довлатовой // Звезда. – 2006. – № 9. – С. 91 – 101. 392 Скарлыгина Е.Ю. Сергей Довлатов – редактор «Нового американца»: К истории отношений С. Довлатова с А. Седых («НРС») и В. Максимовым («Континент») // Довлатовские чтения: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Уфа, 2007. – С. 13. 393 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора. - М., 2006. - С. 159. 394 Гладилин А.Т. Меня убил скотина Пелл. – М. 2001. – С. 227. 395 Там же. – С. 163 – 164. 396 Там же. – С. 217. 397 Аксенов В. Десятилетие клеветы (радиодневник писателя). – М., 2004. – С. 11. 398 Там же. – С. 23. 399 Там же. – С. 66. 400 Там же. – С. 69 – 70. 401 Там же. – С. 72. 402 Там же. – С. 374 – 375. 403 Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. – СПб., 2009. – 441 с. 404 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. Сергей Довлатов глазами первой жены. – СПб., 2001. – 432 с. 405 Там же. – С. 84. 406 Там же. – С. 69. 407 Там же. – С. 84. 408 См.: Рейн Е. «Забавно, что наша свадьба…» // Рейн Е. Мне скучно без Довлатова. – СПб., 1997. – С. 143 – 144. 409 Чирсков Ф. Маленький городок на окраине Вселенной // Чирсков Ф. Маленький городок на окраине Вселенной. Роман. Рассказ. Стихи. – СПб., 2007. – С. 15 – 190. 410 http://www.zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=758/ 411 Битов А. Сад // Битов А. Образ жизни. – М., 1972. – С. 53. 412 Там же. – С. 51. 413 Там же. – С. 69. 414 Там же. – С. 56. 415 Там же. – С. 70. 416 Там же. – С. 31. 417 Там же. – С. 60. 387 169 418 Михайличенко Б. Вполне неторжественно // Московские новости. – 2001. № 36. – С. 18. 419 Кутмина О.А. Документально-мемуарный образ Сергея Довлатова в книге В.Л. Соловьева и Е. Клепиковой «Довлатов вверх ногами» // Довлатовские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа, 2007. – С. 42. 420 Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы. – М., 2002. – С. 21. 421 Алейников В. Довлатов и другие. – М., 2006. – С. 4. 422 Сабило И. Человек, которого не было: Заметки о Сергее Довлатове // Аврора. – 1996. – № 11 – 12. – С. 56. 423 Сабило И. Человек, которого не было // Аврора. – 1996. - № 11 – 12. – С. 55. 424 Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами: Трагедия веселого человека. – М., 2001. – С. 26. 425 Там же. – С. 25. 426 Рейн Е. Мне скучно без Довлатова. – СПб., 1997. – С. 12. 427 Там же. – С. 13 – 14. 428 Там же. – С. 35. 429 Там же. – С. 187. 430 Там же. – С. 37. 431 Там же.. – С. 146. 432 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. – СПб., 2001. – С. 7. 433 Там же. - С. 29. 434 Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами: Трагедия веселого человека. – М., 2001. – С. 23. 435 Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. – СПб., 2001. – С. 79. 436 Скульская Е. Перекрестная рифма: письма Сергея Довлатова // Звезда. – 1994. - № 3. – С. 152. 437 Шенкман Я. Одомашнивание писателя / http: // www.club366.ru/articles/80919_.shtml 438 Бузукашвили М. Интервью с Владимиром Соловьевым / http: // www.chayka.org/oarticle.php?id=474 439 Там же. 440 См.: Попов В. кровь – единственные чернила // Довлатов С. Последняя книга. – СПб., 2001. - С. 395; Попов В. Довлатов. – М., 2010. – С. 195. 441 Бродский И. Меньше единицы // Бродский И. Поклониться тени. Эссе. СПб., 2001. – С. 69. 442 Пушкин А.С. Письма, 1815-1830 // Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. – М., 1962. - Т. 9. - С. 215. 443 Арьев А. Театрализованный реализм. О повести Сергея Довлатова «Филиал» // Звезда. – 1989. – № 10. – С. 20. 444 Серман И. Театр Сергея Довлатова // Грани. – 1985. – № 136. – С. 158 – 159, 162. 445 Там же. – С. 161. 170 446 Арьев А. Театрализованный реализм. О повести Сергея Довлатова «Филиал» // Звезда. – 1989. – № 10. – С. 20. 447 Там же. 448 http: // www newsoffice.ru / archives / 572. 449 http: // www pseudology.org / Dovlatov / Memuary / Khalturschik.htm 450 http: www. svoboda.org / programs /cicles / hero 451 http: www. ug.ru 452 Неминущий А.Н. Структура диалога и «зона молчания» в прозе С. Довлатова // Современная русская литература: Проблемы изучения и преподавания. Сб-к статей по материалам Международной научно-практической конференции. Пермский гос. пед. ун-т 2 – 4 марта 2005 г.: В 2 ч. – Пермь, 2005. – Ч. 1. – С. 129. 453 Там же. 454 http: // www.selavi.ru / pressa / text /al_sfera.htm 455 И. Ефимов Эпистолярный роман. – М., 2001. – С. 178. 456 http: // www. lensov-theatre.spb.ru/content/view/468/ 457 Романцова О. Кэрролловская Алиса отправится из Зазеркалья в заповедник Довлатова / http:// GZT. RU. – 7 – 05 - 2010. 458 Там же. 459 Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни: Письма к родным и друзьям. – СПб., 2003. – С. 337. 460 Алпатова И. Герой обиженного времени // Культура. - 3.- 06.- 2010 // http: /www.smotr.ru › 2009/2009_tabakov_wonderland.htm 461 Кэрролл Л.Алиса в стране чудес / Кэрролл Л.Алиса в стране чудес. Карел Чапек Большая кошачья сказка / пересказал Б. Заходер. – М., 2007. – С. 146. 462 Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье // Кэрролл Л. Приключения Алисы/ пер. с англ. Д. Тенниела. – М., 2006. – С. 295. 463 Там же. – С. 222. 464 Там же. – С. 223. 465 Там же. – С. 221 – 222. 466 Там же. – С. 303. 467 Там же. – С. 304. 468 Там же. – С. 304 – 307. 469 Там же. – С. 307. 470 Шендерова А. Wonderland-80: страна чудес // Ваш досуг. – 12.- 05. - 2010 // http: // www.smotr.ru › 2009/2009_tabakov_wonderland.htm 471 Кэрролл Л.Алиса в стране чудес / Кэрролл Л.Алиса в стране чудес. Карел Чапек Большая кошачья сказка / пересказал Б. Заходер. – М., 2007. – С. 21. 171 Издание подготовлено в авторской редакции 172