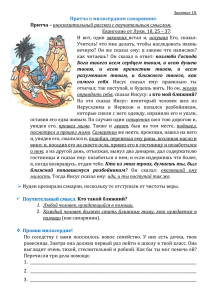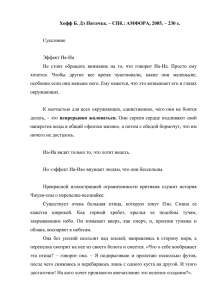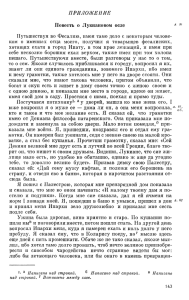Эрнест Хэмингуэй ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ АФРИКИ РАССКАЗЫ
advertisement
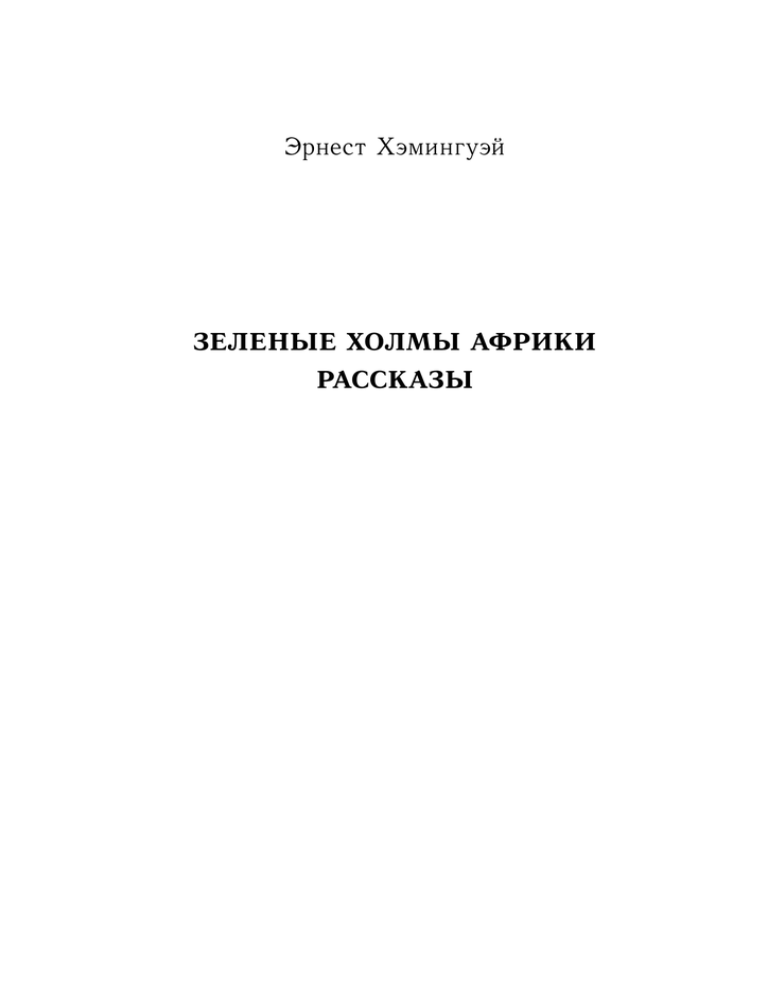
Эрнест Хэмингуэй ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ АФРИКИ РАССКАЗЫ Зеленые холмы Африки Перевод Н.Волжиной и В.Хинкис Э.Хемингуэй. С.соч., т.2, М., Художественная литература, сс. 289–484 OCR: Проект “Общий Текст” TextShare.da.ru ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 3 Предисловие автора В отличие от большинства книг, здесь нет ни одного вымышленного героя или события. Если кто-либо из читателей сочтет, что я не уделил любви подобающего места, то этот читатель или читательница вольны наделить героев моей повести теми чувствами, которые сами испытывали бы на их месте. Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу, чтобы выяснить, может ли такое правдивое изображение событий одного месяца, а также страны, в которой они происходили, соперничать с творческим вымыслом. Часть первая. Охота и разговоры Глава первая Когда грузовик впервые дал знать о себе, мы сидели в укрытии, которое охотники племени вандеробо соорудили из веток и сучьев поблизости от солонца. Сначала звук возник где-то очень далеко, и никто из нас не мог определить, что это такое. Потом он стих, и мы решили, что нам просто померещилось, а может, это ветер шумел. Потом звук стал медленно нарастать, уже не оставляя у нас никаких сомнений, становился все громче и громче, и наконец с оглушительными выхлопами, с перебоями невыносимо тарахтящего мотора грузовик прошел позади нашего укрытия и дальше по дороге. Один из двух охотников, с повадками трагика, встал. — Все пропало, — сказал он. Я приложил палец к губам и знаком велел ему сесть. — Все пропало, — снова сказал он и широко развел руками. Мне он никогда не нравился, а теперь и подавно. — Подожди, — шепнул я. М’Кола покачал головой. Я посмотрел на его голый черный затылок, а он повернулся вполоборота в мою сторону, так что мне стали видны редкие, как у китайца, усы в уголках его губ. — Плохо, — сказал он. — Хапана м’узури. — Подождем еще немножко, — сказал я ему. Он снова опустил голову, чтобы ее не было видно над сухими ветками, и мы торчали в пыльной яме до сумерек, когда на моей винтовке уже нельзя было различить прицел; но антилопы так и не появились. Трагик нетерпеливо ерзал, ему не сиделось на месте. Незадолго перед тем, как исчезнуть последнему свету, он шепнул М’Кола, что в такой темноте стрелять нельзя. — Молчи, — сказал ему М’Кола. — Бвана1 может стрелять, когда ты совсем ничего не видишь. Второй следопыт, грамотный, снова продемонстрировал нам свою грамотность, нацарапав острой веточкой у себя на ноге, как его зовут, — Абдулла. Я не выразил при этом особого восторга, а М’Кола с каменным выражением лица посмотрел на буквы, выведенные на черной коже. Тогда охотник той же веточкой зачеркнул написанное. Наконец я в последний раз проверил прицел, пользуясь остатками света, и убедился, что ничего не видно, даже если широко раздвинуть ветки. М’Кола наблюдал за мной. — Плохо, — сказал я. — Да, — подтвердил он на языке суахили. — Поедем в лагерь? — Да. 1 Бвана — господин (на языке суахили) (здесь и далее — прим. перев.). 5 6 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ Мы встали, вылезли из ямы и, ступая по твердому песку, ощупью пробираясь между деревьями, ныряя под ветки, вышли к дороге. Машина ждала нас за милю от укрытия. Когда мы поравнялись с ней, шофер Камау включил фары. Грузовик все испортил. В то утро мы оставили свою машину на дороге и, соблюдая всяческую осторожность, пошли к солонцу. Накануне выпал дождь, но не настолько сильный, чтобы затопить его, а солонец этот представлял собой всего лишь прогалину среди деревьев, с глубоко протоптанной по кругу землей и с ямками по краям, где животные вылизывали соль, и там мы видели свежие, в форме удлиненного сердечка, следы четырех довольно крупных самцов куду, приходивших полизать соль минувшей ночью, и много таких же свежих следов менее крупных антилоп. И еще следы носорога, который, судя по отпечаткам копыт и по растоптанной куче соломистого помета, навещал это место каждую ночь. Наше укрытие было вырыто на расстоянии выстрела из лука от прогалины, и, сидя там в мусоре и в золе, привалившись спиной к откосу ямы, втянув голову в плечи, подняв колени к самому подбородку и глядя прямо перед собой сквозь сухую листву и тонкие ветки, я увидел, как небольшой самец вышел из кустарника к прогалине, где была соленая земля, и стал там — серый красавец с могучей шеей, с витками рогов, поблескивающих на солнце. И я прицелился ему в грудь, но не выстрелил, боясь распугать более крупных куду, которые, конечно, придут сюда в сумерках. Но самец услышал приближение грузовика задолго до того, как услышали мы, и метнулся в чащу, и все живое, что бродило в кустарнике на равнине или спускалось с невысоких холмов к деревьям, туда, где соль, — все замерло, услышав этот тарахтящий, лязгающий звук. Они придут сюда потом, в темноте, но тогда уже будет поздно. И вот, проезжая в машине по песчаной дороге, видя, как огни фар выхватывают из темноты глаза ночных птиц, которые, раскорячившись, сидели на песке и в страхе бесшумно взмывали вверх чуть ли не из-под самых колес, глядя на костры переселенцев, весь день тянувшихся по этой дороге на запад из голодных мест, что лежали впереди нас, уперев винтовку прикладом в носок башмака, а ствол придерживая сгибом левой руки, наливая виски из зажатой между колен бутылки в алюминиевый стаканчик и в темноте подавая его через плечо М’Кола, чтобы он подлил туда воды из фляги, потягивая виски — первую порцию за день, самую вкусную, какая только может быть, — провожая глазами проносящийся в темноте густой кустарник, чувствуя прохладу ночного ветерка и вбирая ноздрями чудесный запах Африки, — я был совершенно счастлив. Потом впереди показался большой костер, и когда мы поравнялись с ним и проехали мимо, я успел разглядеть стоявший у дороги грузовик. Я велел Камау остановиться и подать назад и, въехав задним ходом в круг света от костра, мы увидели возле поднятого капота грузовика толпу туземцев и среди них невысокого кривоногого человека в тирольской шляпе, коротких кожаных штанах и в рубашке с открытым воротом. — Помощь не требуется? — спросил я его. — Нет, — ответил он. — Разве что вы механик. Эта штука не в ладах со мной. Меня ни одна машина не любит. — Может, регулятор зажигания барахлит? Когда вы проезжали мимо нас, было похоже по стуку в моторе, что с зажиганием неладно. — Боюсь, как бы хуже не было. Судя по стуку, дело совсем дрянь. — Если вы доберетесь до нашей стоянки, там у нас механик. ГЛАВА ПЕРВАЯ 7 — А это далеко? — Миль двадцать. — Утром попробую. Сейчас, когда он при последнем издыхании, страшно гнать его дальше. Это он из ненависти ко мне решил совсем испустить дух. Хотя я его тоже ненавижу. Но если я умру, он от этого не расстроится. — Хотите выпить? — Я протянул ему бутылку. — Моя фамилия Хемингуэй. — Кандиский, — сказал он и поклонился. — Хемингуэй — я где-то слышал это имя. Но где? Где я его слышал? А-а! Dichter. Есть такой поэт — Хемингуэй. Знаете? — Где вы его читали? — В “Квершнитте”. — Да, это я. — Мне польстили его слова. “Квершнитт” — немецкий журнал, поместивший несколько моих довольно-таки похабных стихотворений и один большой рассказ задолго до того, как мне удалось продать что-либо в Америке. — Вот странно! — сказал человек в тирольской шляпе. — Слушайте, а какого вы мнения о Рингельнаце? — Великолепно пишет. — Так. Рингельнац вам нравится. Прекрасно. А что вы скажете о Генрихе Манне? — Плохой писатель. — Вы так думаете? — Во всяком случае, читать его я не в состоянии. — Плохой, плохой писатель. Я вижу, у нас с вами вкусы сходятся. Что вы здесь делаете? — Охочусь. — Неужели слоновая кость? — Нет. Куду. — И чего это люди охотятся на куду? Вот вы интеллигентный человек, поэт — и стреляете куду! — Мне пока еще ни одного не удалось подстрелить, — сказал я. — Но мы десятый день за ними гоняемся. И сегодня нам повезло бы, если б не ваш грузовик. — Мой злосчастный грузовик! Нет, охотиться надо не меньше года. К концу этого срока вы всего настреляете и на вас нападет раскаяние. Охота на какогонибудь одного зверя — нелепость. Зачем вам это? — Мне так нравится. — Ну, если нравится! Скажите мне откровенно, как вы относитесь к Рильке? — Я читал только одну его вещь. — Какую? — “Корнет”. — Ну и как, понравилось? — Да. — А меня она раздражает. Снобизм чистейшей воды. Валери — да. Валери я понимаю, хотя у него снобизма тоже хоть отбавляй. Значит, слонов вы не убиваете — и то хорошо. — Я бы убил какого побольше. — А как побольше? 8 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Так, чтобы бивни потянули фунтов на семьдесят. Но поменьше тоже годится. — Я вижу, мы не во всем с вами сходимся. Но как приятно познакомиться с представителем блестящей плеяды прежнего “Квершнитта”. Расскажите о Джойсе — какой он? Купить “Улисса” я не мог — слишком дорого. Синклер Льюис — чепуха. Его книги я покупал. Нет, нет! Вы лучше завтра мне все расскажете. Ничего, если я остановлюсь где-нибудь поближе к вам? Вы с друзьями? Белый охотник при вас есть? — С женой. Мы будем очень рады. Да, один белый охотник. — Почему же он сейчас не с вами?. — Он считает, что на куду надо охотиться в одиночку. — На них лучше совсем не охотиться. Кто он? Англичанин? — Да. — Самый что ни на есть?.. — Нет. Очень милый. Он вам понравится. — Ну, поезжайте. Я и так вас задержал. Может, завтра увидимся. Все-таки это очень странно, что мы с вами встретились здесь. — Да, — сказал я. — Посоветуйтесь с нашим механиком. Все, что от нас зависит, сделаем. — Всего хорошего, — сказал он. — Счастливого пути. — Всего хорошего, — сказал я. Мы поехали дальше, и я увидел, как он пошел к костру, махая туземцам рукой. Я не спросил его, зачем ему понадобилось двадцать туземцев и куда он едет. Собственно говоря, я ни о чем его не расспрашивал. Расспрашивать людей — не в моих привычках, а в тех местах, где я рос, это считается невежливым. Но здесь белые не встречались нам уже недели две, с тех самых пор, как мы выехали из Бабати к югу, и вдруг столкнуться с таким человеком на дороге, где обычно встречаешь только переселенцев из голодных мест да разве какого-нибудь индийского торговца, и чтобы этот белый в тирольском костюме, ни дать ни взять карикатура Бенчли, знал твое имя, назвал тебя поэтом, читал “Квершнитт”, восхищался Иоахимом Рингельнацем и завел с тобой разговор о Рильке, — это была чистейшая фантастика. И вот в довершение этой фантастики автомобильные фары освещают впереди на дороге три высокие конические дымящиеся кучи. Я велел Камау остановиться, и, резко затормозив, мы чуть не наехали на них. Они были в два-три фута вышиной, я тронул одну — она была еще теплая. — Тембо, — сказал М’Кола. Это был помет слонов, которые только что пересекли здесь дорогу, и в холодном вечернем воздухе от куч шел пар. Через несколько минут мы подъехали к лагерю. А наутро я встал еще до зари и поехал на другой солонец. Пробираясь меж деревьев, мы увидели самца куду: с лаем, очень похожим на собачий, но более высоким и гортанным, он кинулся прочь, сначала бесшумно, а потом, когда отбежал подальше, — с треском ломая кусты, и больше мы его не видели. Нечего было и мечтать подойти к солонцу незаметно. Деревья обступали его со всех сторон, и тут уж сами животные как бы оказывались в засаде, а охотник вынужден был подбираться к ним по открытому месту. Пришлось бы красться в одиночку, ползком, да и то дальше чем с двадцати шагов стрелять было нельзя — мешали густые ветви. ГЛАВА ПЕРВАЯ 9 Конечно, за кордоном деревьев место для укрытия превосходное — ведь куду, чтобы выйти на солонец, должны пройти по открытой прогалине добрых двадцать пять ярдов. Но мы проторчали там до одиннадцати, — и никакого толку. Мы тщательно разровняли ногами землю вокруг солонца, чтобы назавтра сразу увидеть свежие следы, и вернулись на дорогу, до которой было около двух миль. Горький опыт научил антилоп приходить на солонец только ночью и покидать его до рассвета. Один самец замешкался, но утром мы спугнули его, что лишь осложнило дело. Вот уже десять дней выслеживали мы крупных антилоп-куду, а я еще ни разу не видел взрослого самца. Оставалось всего три дня, потому что с юга, из Родезии, надвигались дожди, и, чтобы не застрять здесь, мы должны были доехать, по крайней мере, до Хандени, прежде чем они начнутся. Мы назначили себе крайний срок — 17 февраля. По утрам проходило не менее часа, прежде чем хмурое, взъерошенное небо очищалось от туч, и мы ощущали неуклонное приближение дождей так явственно, словно чья-то невидимая рука отмечала их путь на синоптической карте. Погоня за зверем, на которого ты давно и страстно мечтаешь поохотиться, хороша, когда впереди много времени и каждый вечер после состязания в хитрости и ловкости возвращаешься хоть и ни с чем, но в приятном возбуждении, зная, что это только начало, что удача еще улыбнется тебе и желанная цель будет достигнута. Иное дело, когда времени в обрез, и если сейчас не убьешь куду, то, быть может, никогда не убьешь его, а то и не увидишь ни разу. Нет, это уже не охота! Тут охотник оказывается в положении тех юношей, которых родители посылают на два года в Париж, чтобы за это время они стали известными писателями или художниками, в случае же неудачи они бывают вынуждены вернуться домой и заняться тем же, чем их отцы. Настоящий охотник бродит с ружьем, пока он жив и пока на земле не перевелись звери, так же как настоящий художник рисует, пока он жив и на земле есть краски и холст, а настоящий писатель пишет, пока он может писать, пока есть карандаши, бумага, чернила и пока у него есть о чем писать, — иначе он дурак и сам это знает. Но сейчас время года было неподходящее, да и денег у нас оставалось мало, так что занятие, которое могло бы доставлять мне каждый день массу удовольствия независимо от результатов, обращалось в то, что в жизни всего неприятнее, — необходимость делать что-либо наспех, в немыслимо короткий срок. Я встал за два часа до рассвета, помня, что у меня в запасе всего три дня, и теперь, около полудня, подъезжая к лагерю, уже изрядно нервничал. А там под тентом сидел Кандиский в своих тирольских штанах и оживленно болтал. Я успел совершенно забыть о нем. — Хэлло! Хэлло! — приветствовал он меня. — Не было удачи? Ничего не вышло? Где же куду? — Фыркнул разок и удрал, — ответил я. — Добрый день, дорогая! Жена улыбнулась. Она все время тревожилась за меня. Она и Джексон, которого мы называли “Старик”, с рассвета напряженно прислушивались, ожидая моего выстрела. Прислушивались даже после того, как приехал гость; прислушивались, когда писали письма, когда читали, и все время, пока Кандиский болтал. — И вы его не убили? 10 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Нет. Он больше не показывался. Я заметил, что Старик тоже встревожен и мрачен. Видно, гость был не из молчаливых. — Выпейте пива, полковник, — обратился он ко мне. — Мы спугнули одного, — продолжал я. — Стрелять было нельзя. Там уйма следов. Но мы ждали напрасно. Ветер мешал. Спросите у проводников, если не верите. — Я уже говорил полковнику Филипсу, — вмешался Кандиский, приподняв со стула свой обтянутый кожаными штанами зад и закидывая одну голую волосатую ногу на другую, — нельзя вам здесь задерживаться! Поймите, надвигаются дожди. Когда они начнутся, местность станет непроходимой на двенадцать миль вокруг. Это безумие. — Да, он говорил это, — подтвердил Старик. — Кстати, — это относилось к Кандискому, — называйте меня просто мистер Филипс. Военные звания у нас в ходу вместо прозвищ. Если вы сами полковник, не обижайтесь на нас. — Затем Старик повернулся ко мне. — Плюньте на солонцы. Перестаньте туда ездить, и вы добудете куду в два счета. — Конечно, эти солонцы — одна морока, — согласился я. — Все кажется, что вот-вот подвернется удобный случай. — Попытайте счастья на холмах. — Ладно, попробую. — В конце концов, на что вам убивать куду? — спросил Кандиский. — Не принимайте этого так близко к сердцу. Велика важность! За год можно настрелять штук двадцать. — Об этом, пожалуй, лучше не заикаться в охотничьей инспекции, — заметил Старик. — Вы меня не поняли, — возразил Кандиский. — Я говорю только, что это возможно. Но, разумеется, никто не захочет сделать такое. — Да, конечно, — согласился Старик. — В стране куду это нетрудно: чаще всего здесь встречаются крупные антилопы именно этой породы. Но когда они нужны, их нет. — А я вот не признаю охоты, — сказал Кандиский. — Почему бы вам не поинтересоваться лучше туземцами? — Мы ими интересуемся, — заверила его моя жена. — Право же, они прелюбопытный народ! Вот послушайте... — И Кандиский начал что-то ей рассказывать. — Знаете, в чем беда? Когда я охочусь на холмах, меня мучает мысль, что эти твари внизу, на солонце, — сказал я Старику. — Самки сейчас в холмах, но самцы вряд ли с ними. Приходишь на солонец вечером и видишь следы! Они были на этом треклятом месте! По-моему, они ходят туда во всякое время дня. — Возможно. — Я уверен, что там попадаются все новые самцы. Вероятно, они приходят на солонец раз в несколько дней. Некоторые, безусловно, уже пуганые: ведь Карл убил одного. Если бы он хоть уложил его с первого выстрела, а не гонялся за ним по всей округе! Бог мой, хоть бы раз он уложил зверя с первого выстрела! Ну, да ничего, придут другие куду. Остается только ждать: не могли же все они пронюхать о нас. А все-таки Карл здорово испортил нам охоту здесь. ГЛАВА ПЕРВАЯ 11 — Он всегда так волнуется, — заметил Старик. — Но он славный малый. Помните, как ловко он уложил леопарда? Лучшего выстрела и желать нельзя. Подождем, пусть антилопы успокоятся. — Правильно. Я на него и не сержусь. — А не засесть ли вам у солонца на весь день? — Ветер, черт бы его побрал, начал кружить и разнес наш запах во все стороны. Что толку теперь там сидеть? Разве что наступит затишье. Сегодня Абдулла захватил ведро золы. — Да, я видел. — Подобрались мы к солонцу, там ни ветерка, и уже совсем рассвело — можно было стрелять. Абдулла все время подбрасывал золу, проверял, нет ли ветра. Я велел туземцам остановиться и вдвоем с Абдуллой двинулся вперед. Мы шли очень тихо. На мне были башмаки на войлочной подошве, а почва там черная и рыхлая. Но все-таки мы спугнули этого проклятущего куду уже в пятидесяти шагах. — А уши у куду вам ни разу не удалось разглядеть? — Уши? Если бы мне удалось разглядеть уши какой-нибудь из этих подлых тварей, она была бы уже освежевана. — Да, подлые твари! — согласился Старик. — Не по вкусу мне охота на солонцах. Куду вовсе не так уж хитры, как нам кажется. Но вы охотитесь на них там, где они всегда настороже: ведь их стреляют на солонцах, с тех пор как эти солонцы существуют. — Это мне и любо, — ответил я. — Я готов охотиться здесь хоть целый месяц. Что может быть лучше засады? Не надо бегать, потеть. Сидишь себе, ловишь мух да скармливаешь их муравьиным львам. Благодать! Только вот время... — В том-то и беда. Времени мало. — Так вот, — говорил между тем Кандиский моей жене, — вы непременно должны посмотреть эти большие “нгомы”, пляски на празднествах туземцев. Это самые настоящие национальные танцы. — Послушайте, — сказал я Старику. — Второй солонец, где я был вчера вечером, — самый надежный, только уж очень близко от этой вонючей дороги... — Если верить следопытам, туда ходят одни мелкие куду. И потом — это слишком далеко. Восемьдесят миль в оба конца. — Знаю. Но ведь мы видели там следы четырех крупных самцов. Уверяю вас, если бы не вчерашний грузовик... А не засесть ли мне там сегодня с вечера? Просижу всю ночь и утро, а потом плюну на этот солонец. Там побывал еще и огромный носорог. Во всяком случае, следы мы видели огромные. — Ну что ж, — согласился Старик. — Может, заодно убьете и носорога. — Старик ненавидел всякое бессмысленное убийство — и убийство, совершаемое между прочим, ради эффекта, и убийство ради убийства, — мирясь с ним лишь тогда, когда страсть охотника сильнее отвращения к смерти или охотник этот стремится завоевать пальму первенства. И я видел, что он предлагает мне убить носорога только для того, чтобы сделать мне приятное. — Я не стану убивать его, разве что он окажется очень уж хорош, — пообещал я. — Ладно, убейте шельмеца, — расщедрился Старик. — Эх, Старик... 12 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Да, убейте его. Вам доставит удовольствие расправиться с ним в одиночку. Рог вы сможете продать, если он вам не нужен. У вас ведь лицензия еще на одного носорога. — Ну что? — вмешался Кандиский. — Разработали план кампании? Сговорились, как перехитрить бедных зверей? — Да, — сказал я. — А как ваш грузовик? — Грузовик отслужил свое, — ответил австриец. — И знаете, я даже рад этому. Слишком многое с ним связано. Грузовик — это все, что осталось от моей “шамбы”. Теперь у меня ничего нет, и жить стало куда проще. — Что значит “шамба”? — спросила моя жена. — Уж сколько времени слышу это слово. Но я почему-то стесняюсь спрашивать, что означают всякие местные слова. — Шамба — это плантация, — пояснил Кандиский. — От моей ничего не осталось, кроме грузовика. На нем я последнее время возил рабочих на шамбу одного индийца. Это очень богатый индиец, он выращивает сизаль. Я служу у него управляющим. Индийцы, знаете ли, умеют извлекать прибыль из сизалевых плантаций. — И вообще из чего угодно, — сказал Старик. — Да. Там, где нас неизбежно ждет неудача, где мы попросту умерли бы с голоду, они наживаются. Но этот индиец интеллигентный человек. Он меня ценит. Я для него воплощение европейской организованности. Вот сейчас я организовал набор местных рабочих и еду домой. Это дело долгое. Надо произвести впечатление. Я три месяца не виделся с семьей. Зато теперь организация организована. Я мог бы с таким же успехом управиться за неделю, но впечатление было бы уже не то. — А где ваша жена? — спросила его моя жена. — Она с дочерью ждет меня дома, на плантации, где я работаю управляющим. — Она вас очень любит? — спросила моя жена. — Наверно, любит, иначе она давным-давно ушла бы от меня. — А сколько лет вашей дочери? — Четырнадцатый год. — Чудесно иметь дочь. — Вы даже не представляете себе, до чего чудесно. Она мне будто вторая жена. Понимаете, моя жена наперед знает все мои мысли, слова, мнения, все, что я могу сделать, и чего не могу, и на что я способен, — словом, решительно все. И я тоже знаю о своей жене все. А теперь в семье есть новое существо, незнакомое и ничего обо мне не знающее, любящее меня в неведенье и чуждое нам обоим. Такое чудесное существо, свое и в то же время чужое, благодаря ей все наши разговоры... как бы это сказать? Словно бы... как это называется... ну, вот у вас... у вас обоих... в общем... будто каждый день получаешь приправу из томатного кетчупа Хейнца. — Это прекрасно, — сказал я. — Книги у нас есть, — сказал Кандиский. — Покупать новинки мне теперь не по карману, но побеседовать друг с другом мы всегда можем. Говорить, обмериваться мыслями — это так интересно. Мы дома все обсуждаем. Решительно все. У нас широкие интересы. Раньше, когда у меня была шамба, я выписывал ГЛАВА ПЕРВАЯ 13 “Квершнитт”. Это давало нам чувство причастности, принадлежности к блистательной плеяде людей, сплотившихся вокруг “Квершнитта”, людей, с которыми мы хотели бы общаться, если бы такая возможность зависела только от нашего желания. Вы-то сами знакомы с этими людьми? Вы, наверно, с ними встречались? — Кое с кем встречался, — сказал я. — С одними в Париже. С другими в Берлине. Мне не хотелось разбивать иллюзии этого человека, и я не стал вдаваться в подробности об этих блистательных людях. — Великолепный народ, — солгал я. — Как я вам завидую, что вы их знаете, — сказал Кандиский. — А кто, по-вашему, самый великий писатель Америки? — Мой муж, — сказала моя жена. — Нет, это в вас семейная гордость говорит. А в самом деле, кто? Уж конечно, не Эптон Синклер и не Синклер Льюис. Кто ваш Томас Манн? Кто ваш Валери? — У нас нет великих писателей, — сказал я. — Когда наши хорошие писатели достигают определенного возраста, с ними что-то происходит. Я мог бы объяснить, что именно, но это длинный разговор, и вам будет скучно слушать. — Нет, объясните, очень вас прошу, — сказал он. — Я обожаю такие разговоры. Это лучшее, что есть в жизни. Когда работает ум. Это вам не куду убивать. — Вы еще не услышали от меня ни слова, — сказал я. — Но предвкушаю заранее. Выпейте пива, это развяжет вам язык. — Он у меня и без того развязан, — сказал я. — До безобразия развязан. Но вы-то сами почему не пьете? — Я вообще не пью. Это не на пользу интеллекту. Это не нужно. Но рассказывайте же. Прошу вас. — Ну, так вот, — сказал я. — У нас в Америке были блестящие мастера. Эдгар По — блестящий мастер. Его рассказы блестящи, великолепно построены — и мертвы. Были у нас и мастера риторики, которым посчастливилось извлечь из биографий других людей или из своих путешествий кое-какие сведения о вещах всамделишных, о настоящих вещах, о китах, например, но все это вязнет в риторике, точно изюм в плум-пудинге. Бывает, что такие находки существуют сами по себе, без пудинга, тогда получается хорошая книга. Таков Мелвилл. Но те, кто восхваляет Мелвилла, любят в нем риторику, а это у него совсем неважно. Такие почитатели вкладывают в его книгу мистичность, которой там нет. — Так, — сказал Кандиский. — Понимаю. Но риторика — это плод работы интеллекта, плод его способности работать. Риторика — это голубые искры, которыми сыплет динамо-машина. — Да, бывает. Но бывает и так, что голубые искры искрами, а что двигает динамо-машина? — Понятно. Продолжайте. — Не помню, о чем я говорил. — Ну, ну! Продолжайте. Не прикидывайтесь дурачком. — Вам приходилось когда-нибудь вставать до рассвета и... — Каждый день в это время встаю, — сказал он. — Продолжайте. 14 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Ну, ладно. Были у нас и другие писатели. Те писали точно колонисты, изгнанные из Старой Англии, которая никогда не была им родной, в Англию новую, и эту новую Англию они пытались здесь создать. Превосходные люди — обладатели узкой, засушенной, безупречной мудрости унитариев. Литераторы, квакеры, не лишенные чувства юмора. — Кто же это? — Эмерсон, Готорн, Уиттьер и компания. Все наши классики раннего периода, которые не знали, что новая классика не бывает похожа на ей предшествующую. Она может заимствовать у того, что похуже ее, у того, что отнюдь не стало классикой. Так поступали все классики. Некоторые писатели только затем и рождаются, чтобы помочь другому написать одну-единственную фразу. Но быть производным от предшествовавшей классики или смахивать на нее — нельзя. Кроме того, все эти писатели, о которых я говорю, были джентльменами или тщились быть джентльменами. Они были в высшей степени благопристойны. Они не употребляли слов, которыми люди всегда пользовались и пользуются в своей речи, слов, которые продолжают жить в языке. В равной мере этих писателей не заподозришь в том, что у них была плоть. Интеллект был, это верно. Добропорядочный, сухонький, беспорочный интеллект. Скучный я завел разговор, но ведь вы сами меня об этом просили. — Продолжайте... — В те годы был один писатель, который считается по-настоящему хорошим, — это Генри Тopo. Сказать о нем я ничего не могу, потому что все еще не удосужился прочесть его книги. Но это ровно ничего не значит, потому что натуралистов я вообще могу читать только в том случае, если они придерживаются абсолютной точности и не впадают в литературщину. Натуралистам следует работать в одиночку, а их открытия должен обрабатывать кто-нибудь другой. И писателям следует работать в одиночку. Писатели должны встречаться друг с другом только тогда, когда работа закончена, но даже при этом условии не слишком часто. Иначе они становятся такими же, как те их собратья, которые живут в Нью-Йорке. Это черви для наживки, набитые в бутылку и старающиеся урвать знания и корм от общения друг с другом и с бутылкой. Роль бутылки может играть либо изобразительное искусство, либо экономика, а то экономика, возведенная в степень религии. Но те, кто попал в бутылку, остаются там на всю жизнь. Вне ее они чувствуют себя одинокими. А одиночество им не по душе. Они боятся быть одинокими в своих верованиях, и ни одна женщина не полюбит их настолько, чтобы в ней можно было утопить это чувство одиночества, или слить его с ее одиночеством, или испытать с ней то, рядом с чем все остальное кажется незначительным. — Ну, а как же все-таки Тopo? — Надо вам самому прочитать его. Когда-нибудь, может, и я прочту. “Когданибудь” можно сделать почти все, что хочешь. — Выпей еще пива. Папа. — Давай. — Ну, а про хороших писателей? — Хорошие писатели — это Генри Джеймс, Стивен Крейн и Марк Твен. Не обязательно в таком порядке. Для хороших писателей никаких рангов не существует. — Марк Твен юморист. А других я что-то не знаю. ГЛАВА ПЕРВАЯ 15 — Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется “Гекльберри Финн”. Если будете читать ее, остановитесь на том месте, где негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец.. Все остальное — чистейшее шарлатанство. Но лучшей книги у нас нет. Из нее вышла вся американская литература. До “Гекльберри Финна” ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось. — А те, другие? — У Крейна есть два замечательных рассказа: “Шлюпка” и “Голубой отель”. “Голубой отель” лучше. — А что с ним было потом? — Он умер. И это не удивительно, потому что он умирал с самого начала. — А остальные двое? — Те дожили до преклонного возраста, но мудрости у них с годами не прибавилось. Не знаю, чего им, собственно, не хватало. Ведь мы делаем из наших писателей невесть что. — Не понимаю. — Мы губим их всеми способами. Во-первых, губим экономически. Они начинают сколачивать деньгу. Сколотить деньгу писатель может только волею случая, хотя в конечном результате хорошие книги всегда приносят доход. Разбогатев, наши писатели начинают жить на широкую ногу — и тут-то они и попадаются. Теперь уж им приходится писать, чтобы поддерживать свой образ жизни, содержать своих жен, и прочая, и прочая, — а в результате получается макулатура. Это делается отнюдь не намеренно, а потому, что они спешат. Потому, что они пишут, когда им нечего сказать, когда вода в колодце иссякла. Потому, что в них заговорило честолюбие. Раз изменив себе, они стараются оправдать эту измену, и мы получаем очередную порцию макулатуры. А бывает и так: писатели начинают читать критику. Если верить критикам, когда те поют тебе хвалы, приходится верить и в дальнейшем, когда тебя начинают поносить, и вот ты теряешь веру в себя. Сейчас у нас есть два хороших писателя, которые не могут писать, потому что они начитались критических статей и изверились в себе. Не брось они работать, у них иногда получались бы хорошие вещи, иногда не очень хорошие, а иногда и просто плохие, но то, что хорошо, — осталось бы. А они начитались критических статей и думают, что им надо создавать только шедевры. Такие же шедевры, какие, по словам критиков, выходили раньше из-под их пера. Конечно, это были далеко не шедевры. Просто очень неплохие книги. А теперь эти люди совсем не могут писать. Критики обрекли их на бесплодие. — А кто это такие? — Имена вам ничего не скажут, но, может быть, за это время они написали что-нибудь новое, опять испугались и опять страдают бесплодием. — Что же все-таки происходит с американскими писателями? Выражайтесь точнее. — Видите ли, о прошлом я ничего не могу рассказать, в те времена меня на свете не было, но в наши дни с писателями бывает всякое. В определенном возрасте писатели-мужчины превращаются в суетливых бабушек. Писательницы становятся Жаннами д’Арк, не отличаясь, однако, ее боевым духом. И те и другие мнят себя духовными вождями. Ведут ли они кого-нибудь за собой или нет — это не важно. Если последователей не находится, их выдумывают. 16 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ Тем, кто зачислен в последователи, никакие протесты не помогут. Их обвинят в предательстве. А, черт! Чего только не случается у нас с писателями! Но это еще не все. Есть и такие, кто пытается спасти душу своими писаниями. Это весьма простой выход. Других губят первые деньги, первая похвала, первые нападки, первая мысль о том, что они не могут больше писать, первая мысль, что ничего другого они делать не умеют, или же, поддавшись панике, они вступают в организации, которые будут думать за них. А бывает, что писатель и сам не знает, что ему нужно. Генри Джеймсу нужно было разбогатеть. Ну и, конечно, богатства он не увидел. — А вы? — У меня много других интересов. Жизнью своей я очень доволен, но писать мне необходимо, потому что, если я не напишу какого-то количества слов, вся остальная жизнь теряет для меня свою прелесть. — А что вам нужно? — Мне нужно писать — и как можно лучше, и учиться в процессе работы. И еще я живу жизнью, которая дает мне радость. Жизнь у меня просто замечательная. — Охота на куду? — Да, охота на куду и многое другое. — А что — другое? — Много чего — разное. — И вы знаете, что вам нужно? — Да. — Значит, вам действительно доставляет удовольствие делать то, что вы делаете сейчас, — такая чепуха, как охота на куду? — Не меньше, чем посещение Прадо. — По-вашему, одно стоит другого? — И то и другое мне необходимо. Не говоря обо всем прочем. — Ну конечно, иначе и быть не может. Но неужели это действительно что-то дает вам? — Дает. — И вы знаете, что вам нужно? — Безусловно. И то, что мне нужно, я получаю. — Но это стоит денег. — Деньги я всегда заработаю, и кроме того, мне здорово везет. — Значит, вы счастливы? — Да, пока не думаю о других людях. — Значит, о других вы все-таки думаете? — Да, конечно. — Но ничего для них не делаете? — Ничего не делаю. — Совсем ничего? — Ну, может, так, самую малость. — А как вы считаете — ваша писательская работа стоит того, чтобы ею заниматься, может она служить самоцелью? — Да, конечно. — Вы в этом уверены? — Абсолютно. ГЛАВА ПЕРВАЯ 17 — Такая уверенность, должно быть, очень приятна. — Да, очень приятна, — сказал я. — Это единственное, что приятно в писательской работе без всяких оговорок. — Беседа принимает весьма серьезный оборот, — сказала моя жена. — Это очень серьезная тема. — Вот видите, есть же такие вещи, к которым он относится серьезно, — сказал Кандиский. — Я ведь знал, что для него существуют и другие серьезные проблемы, помимо куду. — Почему сейчас все стараются обойти этот вопрос, отрицают его важность, доказывают, что здесь ничего не добьешься? Только потому, что это очень трудно. Для того чтобы это стало осуществимо, требуется наличие слишком многих факторов. — О чем это вы? — О том, как можно писать. О том уровне прозы, который достижим, если относиться к делу серьезно и если тебе повезет. Ведь есть четвертое и пятое измерения, которые можно освоить. — Вы так думаете? — Я это знаю. — А если писатель достигнет этого, тогда что? — Тогда все остальное уже не важно. Это самое значительное из всего, что писатель способен сделать. Возможно, он потерпит неудачу. Но какой-то шанс на успех у него есть. — По-моему, то, о чем вы говорите, называется поэзией. — Нет. Это гораздо труднее, чем поэзия. Это проза, еще никем и никогда не написанная. Но написать ее можно, и без всяких фокусов, без шарлатанства. Без всего того, что портится от времени. — Почему же она до сих пор не написана? — Потому что для этого требуется наличие слишком многих факторов. Вопервых, нужен талант, большой талант. Такой, как у Киплинга. Потом самодисциплина. Самодисциплина Флобера. Потом нужно иметь ясное представление о том, какой эта проза может быть, и нужно иметь совесть, такую же абсолютно неизменную, как метр-эталон в Париже, для того чтобы уберечься от подделки. Потом от писателя требуется интеллект и бескорыстие, и самое главное — умение выжить. Попробуйте найти все это в одном лице при том, что это лицо сможет преодолеть все те влияния, которые тяготеют над писателем. Самое трудное для него, — ведь времени так мало, — это выжить и довести работу до конца. Но мне бы хотелось, чтобы у нас был такой писатель и чтобы мы могли прочесть его книги. Ну как? Поговорим о чем-нибудь другом? — Нет, мне очень интересно вас слушать. Я, разумеется, не со всем могу согласиться. — Ну, разумеется. — А что, если выпить чего-нибудь покрепче? — спросил Старик. — Думаю, поможет? — Нет, вы сначала скажите, что именно, что конкретно губит писателей. Мне надоел этот разговор, превращавшийся в интервью. Ладно, интервью так интервью, и поскорее кончим. Необходимость облекать в закругленные предложения тьму всего совершенно неуловимого, да еще до завтрака, это черт знает что. 18 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Политика, женщины, спиртное, деньги, честолюбие. И отсутствие политики, женщин, спиртного, денег и честолюбия, — глубокомысленно проговорил я. — Теперь действительно все проще простого, — сказал Старик. — Спиртное. Вот чего я не понимаю. Вот что всегда казалось мне бессмысленным. По-моему, пить — это слабость характера, и больше ничего. — Так завершаешь день. В этом есть много хорошего. Вам никогда не хотелось сменить свои воззрения? — Давайте выпьем, — сказал Старик. — М’Венди! Старик если и пил перед завтраком, так только по ошибке, и я понял, что он хочет прийти мне на помощь. — Давайте все выпьем, — сказал я. — Я непьющий, — сказал Кандиский. — Пойду лучше принесу из своего грузовика свежего масла к завтраку. Оно у меня только что из Кандоа, несоленое. Прекрасное масло. А вечером угощу вас десертом по-венски. Мой повар научился его готовить. Он ушел, а моя жена сказала: — Откуда в тебе столько глубокомыслия? И что это за женщины? Как это прикажешь понимать? — Какие женщины? — Ты говорил про женщин. — А ну их к черту, — сказал я. — Это те самые, с которыми путаешься, когда бываешь в подпитии. — Ах, вот чем ты тогда занимаешься! — Да не-ет. — Я в подпитии ни с кем не путаюсь. — Ладно, чего там, — сказал Старик. — Допьяна никто из нас еще не напивался. Ну и болтун этот тип! — Когда начинает говорить бвана М’Кумба, тут не больно разболтаешься. — Меня схватила словесная дизентерия, — сказал я. — А как быть с грузовиком? Сможем мы его вытянуть, не загубив собственного? — Отчего же, конечно, сможем, — сказал Старик. — Когда наш вернется из Хандени. В то время как мы, сидя под зеленым тентом в тени развесистого дерева и наслаждаясь прохладным ветром, уплетали свежее масло, отбивные из газельего мяса с картофельным пюре, зеленую кукурузу и консервированные фрукты, Кандиский объяснял нам, почему здесь столько переселенцев из Восточной Индии. — Видите ли, во время войны сюда были переброшены индийские войска. Из Индии их пришлось удалить, так как власти боялись нового мятежа. Ага-хану2 было обещано, что, поскольку индийцы воевали в Африке, они получат право свободно селиться здесь и приезжать по делам. Нарушить обещание уже нельзя, и теперь индийцы почти начисто вытеснили отсюда европейцев. Они здесь денег не тратят и все отсылают в Индию. Сколотят капиталец и возвращаются на 2 Ага-хан — титул главы влиятельной мусульманской секты исмаилитов в Индии. Здесь речь идет об ага-хане Султане-Мухаммеде, поддерживавшем англичан. ГЛАВА ПЕРВАЯ 19 родину, а вместо них приезжают их бедные родственники, чтобы продолжать грабить страну. Старик слушал молча. Он никогда не позволял себе за столом вступать в спор с гостем. — Это все ага-хан, — продолжал Кандиский. — Вы американец. Вы представления не имеете обо всех этих махинациях. — Вы воевали под начальством фон Леттова?3 — спросил Старик. — С самого начала и до конца. — Он был храбрый человек, — заметил Старик. — Я преклоняюсь перед ним. — Вы тоже воевали? — спросил Кандиский. — Да. — Ну, а я невысокого мнения о фон Леттове, — сказал Кандиский. — Да, он сражался, и сражался лучше других. Когда мы нуждались в хинине, он приказывал отбить медикаменты у противника. Провиант и снаряжение добывал так же. Но потом он перестал заботиться о солдатах. После войны я попал в Германию: ездил туда хлопотать о возмещении убытков. “Вы австриец, — сказали мне. — Обратитесь к австрийским властям”. Я поехал в Австрию. “Зачем же вы воевали? — спросили меня там. — Нас это не касается. А если завтра вам вздумается поехать на войну в Китай? Это ваше личное дело. Мы ничем не можем вам помочь”. “Но ведь я пошел на войну из патриотизма, — возражал я с дурацким упорством. — Я воевал, где было возможно, потому что я австриец и знаю свой долг”. — “Ну что ж, — ответили мне. — Это похвально. Но мы не можем оплачивать ваши благородные порывы”. Меня долго посылали от одного к другому, но я так ничего и не добился. Все же я очень люблю Африку: я здесь все потерял, но у меня есть то, чего нет ни у кого в Европе. Мне здесь все интересно! Туземцы, их язык... У меня много тетрадей с записями. И, кроме того, я чувствую себя здесь настоящим королем. Это очень приятно. Просыпаюсь утром, протягиваю ногу, и бой надевает на нее носок. Потом протягиваю вторую ногу, и он надевает второй носок. Я вылезаю из-под москитной сетки, и мне тут же подают штаны. Разве это не роскошная жизнь? — Да, конечно. — Когда вы приедете сюда снова, мы станем путешествовать и изучать жизнь туземцев. И совсем не будем охотиться, разве только для пропитания. Глядите, я покажу вам один местный танец и спою песню. Пригнувшись, то вскидывая, то опуская локти и согнув колени, он, подпевая, засеменил вокруг стола. Получилось в самом деле очень мило. — Это лишь один танец из тысячи. Ну а теперь я пойду. Вам надо поспать. — Это не к спеху. Посидите. — Нет. Ложитесь спать. Я тоже прилягу. Масло я возьму, чтобы оно не растаяло от жары. — Увидимся за ужином, — сказал Старик. — А теперь спите. До свидания. Когда он ушел. Старик сказал: — Я не верю тому, что он наболтал тут про ага-хана. — Однако это похоже на правду. 3 Пауль фон Леттов-Форбек — немецкий генерал, командовавший во время первой мировой войны германскими войсками в Восточной Африке. 20 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Конечно, он обижен. Ничего нет удивительного. Фон Леттов был дьявол, а не человек. — Он очень умен, этот австриец, — сказала моя жена, — и так хорошо говорит о туземцах. А вот об американских женщинах он очень плохого мнения. — Я тоже, — отозвался Старик. — В общем, этот парень молодчина... А вам, пожалуй, и в самом деле не мешает вздремнуть. Ведь выезжать придется около половины четвертого. — Да. Велите разбудить меня. Моло поднял заднюю полу палатки, подпер ее палками, чтобы было больше воздуха, и я улегся с книгой. Свежий ветерок врывался внутрь, под нагретую парусину. Когда я проснулся, пора было ехать. По небу плыли темные тучи, и было очень жарко. Проводники упаковали в ящик из-под виски жестянки с консервированными фруктами, пятифунтовый кусок жареного мяса, хлеб, чай, небольшой чайник, несколько банок сгущенного молока и четыре бутылки пива. Кроме того, они прихватили брезентовый мешок с водой и подстилку, которая должна была заменить нам тент. М’Кола положил в машину двустволку. — Не спешите возвращаться, — сказал Старик. — Мы будем терпеливо ждать. — Хорошо. — Наш грузовик доставит этого славного малого в Хандени. А своих людей он отправит вперед пешком. — Вы уверены, что машина не подведет? Надеюсь, вы делаете это не только потому, что Кандиский — мой знакомый? — Надо же помочь ему выбраться. Грузовик вернется к вечеру. — А Мемсаиб все еще спит, — сказал я. — Может быть, она захочет прогуляться и пострелять цесарок? — Я здесь, — отозвалась моя жена. — Не беспокойся о нас. Ох, как мне хочется, чтобы охота сегодня была удачна! — До послезавтра не высылайте людей на дорогу искать нас, — сказал я. — Если найдем подходящее место, мы задержимся. — Ну, счастливого пути! — Счастливо оставаться, дорогая. До свидания, мистер Джексон. Глава вторая Мы покинули свой тенистый лагерь и по дороге, которая змеилась, точно песчаная река, двинулись вслед за вечерним солнцем на запад мимо густой чащи кустарника, подступавшей к самой обочине, мимо невысоких бугров, то и дело обгоняя группы людей, шедших на запад. Одни совершенно голые, если не считать тряпки, стянутой узлом на плече, несли луки и колчаны со стрелами. Другие были вооружены копьями. Те, кто побогаче, прикрывались от солнца зонтиками, а белая ткань, служившая им одеждой, ниспадала широкими складками; женщины брели следом, нагруженные горшками и сковородками. Впереди словно плыли в воздухе тюки и связки шкур на головах туземцев. Все эти люди бежали от голода. Я выставил ноги из кабины, подальше от нагретого мотора, надвинул на лоб шляпу, заслонив глаза от яркого солнца, и глядел из-под ее полей на дорогу, на ГЛАВА ВТОРАЯ 21 путников, внимательно следил за просветами в кустарнике, чтобы не прозевать какого-нибудь зверя, а машина тем временем шла все дальше на запад. В одном месте кустарник был выломан, и мы увидели на полянке трех небольших самок куду. Серые, брюхастые, с маленькими головами на высоких шеях и длинными ушами, они стремглав кинулись прочь и скрылись в чаще. Мы вылезли из машины и осмотрели все вокруг, но следов самца найти не удалось. Чуть подальше стая быстроногих цесарок пересекла дорогу, они бежали, как рысаки, высоко вскинув неподвижные головы. Когда я выскочил из машины и кинулся за ними, они взмыли в воздух, плотно прижав ноги к грузным телам, хлопая короткими крыльями, и с громкими криками полетели к лесу. Я выстрелил дуплетом, и две птицы тяжело плюхнулись на землю. Они еще отчаянно трепыхались, но тут подоспел Абдулла и, по мусульманскому обычаю, отрезал им головы, чтобы мясо можно было есть правоверным. Он положил цесарок в машину, где сидел М’Кола, смеясь благодушным старческим смехом надо мной и над глупостью всех, кто стреляет птиц; так он смеялся всякий раз при моих постыдных промахах, которые очень его потешали. Хотя сегодня я не промахнулся, он все же и тут нашел повод для шуток и веселья, как и тогда, когда мы убивали гиену. М’Кола смеялся всякий раз, видя, как падает убитая птица, а уж если я промазывал, он просто надрывался от смеха и отчаянно тряс головой. — Спросите у него, какого черта он гогочет? — сказал я однажды Старику. — Что ему смешно? — Бвана, — ответил М’Кола и затряс головой. — И птички. — Это вы кажетесь ему смешным, — объяснил Старик. — Ну, ладно, пусть я смешон. Однако он меня порядком злит. — Вы кажетесь ему очень смешным, — повторил Старик. — А вот мы с Мемсаиб никогда не стали бы над вами смеяться. — Стреляйте теперь сами. — Ну нет, ведь ты признанный истребитель птиц. Ты же сам себя признал, — сказала Мемсаиб. Так моя охота на птиц стала у нас поводом для шуток. Если выстрел был меткий, М’Кола насмехался над птицами, тряс головой, хохотал и руками показывал, как птица перевернулась в воздухе. Но стоило мне промахнуться, как мишенью его насмешек становился уже я. М’Кола ничего не говорил, только смотрел на меня и корчился от смеха. Лишь гиены казались ему забавнее. Очень смешила его гиена, когда она среди бела дня бежала по равнине вприпрыжку, бесстыдно волоча набитое брюхо, а если ей всаживали пулю в зад, делала отчаянный скачок и летела вверх тормашками. М’Кола хохотал, когда гиена останавливалась вдалеке, около соленого озера, чтобы оглянуться назад, и, раненная в грудь, валилась на спину, вверх набитым брюхом и всеми четырьмя лапами. А сколько смеха вызывал этот отвратительный остромордый зверь, когда выскакивал из высокой травы в десяти шагах от нас! Гремел выстрел, и гиена начинала вертеться на месте и бить хвостом, пока не испускала дух. М’Кола забавлялся, глядя, как гиену убивали почти в упор. Ему доставляли удовольствие веселое щелканье пули и тревожное удивление, с которым гиена вдруг ощущала смерть внутри себя. Еще занятнее было, когда в нее стреляли издали, и она, словно обезумев, начинала кружиться на месте в знойном мареве, висевшем над равниной, кружиться с молниеносной быстротой, означавшей, 22 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ что маленькая, никелированная смерть проникла в нее. Но самая бурная потеха для М’Кола — при этом он начинал махать руками, тряс головой, хохотал и отворачивался, словно стыдясь за подстреленного зверя, — истинный разгар веселья начинался после настоящего мастерского выстрела, когда гиена, раненная на бегу в заднюю часть туловища, начинала бешено кружиться, кусая и терзая собственное тело до тех пор, пока у нее не вываливались внутренности, а тогда она останавливалась и жадно пожирала их. — Физи, — говорил в таких случаях М’Кола и тряс головой, насмешливо сокрушаясь по поводу того, что на свете существуют такие мерзкие твари. Физи, гиена, двуполая самоубийца, пожирательница трупов, гроза маток с телятами, хищница, перегрызающая поджилки, всегда готовая вцепиться в лицо спящему человеку, с тоскливым воем неотступно следует за путниками, вонючая, противная, с отвислым брюхом и крепкими челюстями, легко перекусывает кости, которые не по зубам и льву, рыщет по бурой равнине, то и дело оборачивая назад свою наглую морду, противную, как у дворняжки. Подстреленная из маленького манлихера, она начинает крутиться на месте — жуткое зрелище! “Физи, — смеялся М’Кола, стыдясь за гиену, и тряс своей черной лысой головой. — Физи. Сама себя жрет. Физи”. Гиена вызывала у него злорадные, а птицы — безобидные шутки. Мое виски тоже давало повод для шуток. В этом М’Кола был неистощим. О некоторых его выходках я расскажу позднее. Магометанство и все прочие религии также были предметом веселых насмешек. Чаро, мой второй ружьеносец, был серьезный и очень набожный человечек. Весь рамадан он не позволял себе до заката даже собственную слюну глотать и, когда солнце начинало клониться к горизонту, напряженно глядел на запад. Он носил при себе бутылку с чаем, то и дело трогал ее пальцами и поглядывал на солнце, а М’Кола исподтишка наблюдал за ним, притворяясь, будто смотрит в сторону. Тут уж смех приходилось сдерживать: то было нечто такое, над чем нельзя смеяться открыто, и М’Кола в сознании своего превосходства только удивлялся человеческой глупости. Магометанство здесь в моде, и те наши проводники, которые принадлежали к высшим сословиям, все были магометанами. Это считалось признаком знатности, давало веру в могущественного бога и ставило человека выше других, а ради этого стоило раз в год поголодать немного и мириться с некоторыми запретами в отношении еды. Я это понимал, а М’Кола не понимал и не одобрял. Он наблюдал за Чаро с тем безразличным выражением, которое появлялось на его лице всякий раз, когда дело касалось вещей, ему чуждых. Чаро умирал от жажды, но, преисполненный благочестия, терпеливо ждал, а солнце заходило ужасно медленно. Как-то я взглянул на красный шар, висевший над деревьями, подтолкнул Чаро локтем, я он улыбнулся в ответ. М’Кола торжественно протянул мне флягу с водой. Я отрицательно покачал головой, а Чаро снова улыбнулся. М’Кола сохранял безразличие. Наконец солнце село, и Чаро с жадностью припал к бутылке, его кадык заходил вверх и вниз. М’Кола поглядел на него и отвернулся. Раньше, до того как мы подружились, М’Кола совершенно не доверял мне. Что бы ни произошло, он замыкался в своем безразличии. В то время Чаро нравился мне куда больше. Мы понимали друг друга, когда речь шла о религии; Чаро восхищался моей меткой стрельбой, всегда жал мне руку и улыбался, когда мне удавалось подстрелить какую-нибудь редкую дичь. Это тешило мое ГЛАВА ВТОРАЯ 23 самолюбие и было очень приятно. М’Кола же считал мои первые успехи случайными. Мы еще не добыли тогда ничего стоящего, и М’Кола, собственно говоря, не был моим ружьеносцем. Он был ружьеносцем мистера Джексона Филипса, а со мной охотился временно. Я его совершенно не интересовал. Он относился ко мне с полнейшим равнодушием, а к Карлу — с вежливым презрением. По-настоящему он любил только “Маму”, мою жену. В тот вечер, когда был убит первый лев, мы возвращались в полной темноте. Охота получилась не очень удачная, так как произошла путаница. Мы условились заранее, что первый выстрел сделает Мама. Но поскольку все мы охотились на льва впервые, а время было позднее, слишком позднее для такой охоты, то после первого попадания каждый имел право стрелять сколько угодно. Это было разумно: солнце уже садилось, и если бы раненый лев ушел в чащу, дело не обошлось бы без хлопот. Помню, каким желтым, большеголовым и огромным показался мне лев рядом с низкорослым деревцем, похожим на садовый куст, и когда Мама, вскинув винтовку, опустилась на одно колено, я с трудом удержался, чтобы не посоветовать ей сесть и прицелиться получше. Затем грянул короткий выстрел из манлихера, и зверь побежал влево легко и неслышно, как огромная кошка. Я выстрелил из спрингфилда, зверь упал, завертелся, я снова выстрелил — слишком поспешно — и пуля подняла около него облачко пыли. Теперь лев лежал, распростершись на брюхе; солнце едва успело коснуться макушек деревьев и вокруг зеленела трава, когда мы приблизились, точно карательный отряд, с винтовками наготове, не зная, убит лев или только оглушен. Подойдя совсем близко, М’Кола швырнул в него камнем. Камень угодил льву в бок, и по тому, как он ударился о неподвижную тушу, можно было заключить, что хищник мертв. Я был уверен, что Мама не промахнулась, но обнаружил только одно пулевое отверстие в задней части туловища, под самым позвоночником; пуля прошла почти навылет и застряла в груди. Кусочек свинца нетрудно было нащупать под шкурой, и М’Кола, сделав надрез, извлек его. Это была четырнадцатиграммовая пуля от моего спрингфилда, она-то и поразила зверя, пробив легкие и сердце. Я был так удивлен тем, что лев просто-напросто свалился мертвым от выстрела, тогда как мы ожидали нападения, геройской борьбы и трагической развязки, что чувствовал скорее разочарование, чем радость. Это был наш первый лев, мы не имели никакого опыта и ожидали совсем иного. Чаро и М’Кола пожали руку Маме, а затем Чаро подошел и мне тоже пожал руку. — Хороший выстрел, бвана, — сказал он на суахили. — Пига м’узури. — Вы не стреляли, Карл? — спросил я. — Нет. Вы опередили меня. — А вы. Старик? — Тоже нет. Вы бы услышали. — Он открыл затвор и вынул два патрона сорок пятого калибра. — Я, конечно, промахнулась, — сказала Мама. — А я был уверен, что это ты застрелила его. Да и сейчас так думаю, — возразил я. — Мама попала в него, — сказал М’Кола. — А куда именно? — спросил Чаро. — Попала, — твердил свое М’Кола. — Попала. 24 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОХОТА И РАЗГОВОРЫ — Нет, это вы уложили его, — сказал мне Старик. — Ей-богу, он свалился, как кролик. — Мне просто не верится. — Мама пига, — сказал М’Кола. — Пига симба. Когда мы подошли к лагерю и в темноте увидели костер, М’Кола внезапно разразился потоком быстрых певучих слов на языке вакамба, закончив словом “симба”. Кто-то в лагере издал короткий ответный крик. — Мама! — закричал М’Кола. Затем опять последовала длинная певучая фраза. И снова: — Мама! Мама! Из темноты появились все носильщики, повар, свежевальщик, слуги и старший проводник. — Мама! — орал М’Кола. — Мама пига симба! Туземцы приплясывали, отбивая такт ладонями, и гортанно выкрикивали что-то, — из глубины их груди вылетали возгласы, похожие на львиный рык, и означали они примерно вот что: “Ай да Мама! Ай да Мама! Ай да Мама!” Быстроглазый свежевальщик поднял Маму на воздух, великан-повар и слуги подхватили ее, остальные сгрудились вокруг, стараясь хотя бы поддержать ее, и все, приплясывая, обошли вокруг костра и направились к нашей палатке, распевая: — Ай да Мама! Ха! Ха! Ха! Ай да Мама! Ха! Ха! Ха! — Они исполняли танец и песню о льве, подражая его глухому, одышливому рыку. У палатки они опустили Маму на землю, и каждый застенчиво пожал ей руку, причем проводники говорили: “М’узури, Мемсаиб”, — а М’Кола и носильщики: “М’узури, Мама”, с большим чувством произнося последнее слово. Позже, когда мы сидели на стульях у костра и пили. Старик сказал моей жене: — Этого льва застрелили вы. М’Кола убьет всякого, кто вздумает утверждать, будто это не так. — Знаете, у меня такое настроение, словно и вправду его застрелила я, — ответила она. — А случись это на самом деле, я бы возгордилась невероятно. Ну до чего же приятно чувствовать себя победительницей! — Милая, добрая Мама, — сказал Карл. — Я уверен, что именно ты застрелила его, — подхватил я. — О, не будем больше говорить об этом! До чего же мне приятно уже одно то, что все так думают. Вы знаете, дома меня никогда не носили на руках. — Все американцы плохо воспитаны, — заметил Старик. — Ужасно некультурный народ. — Мы отвезем вас на острова Ки-Уэст, — сказал Карл. — Милая добрая Мама. — Ну, поговорим о чем-нибудь другом, — попросила она. — Я слишком растрогана. Мне следовало бы щедро вознаградить их, не правда ли? — Они и не думали об этом, — отозвался Старик. — Но, пожалуй, хорошо бы дать им что-нибудь по случаю торжества. — О, мне хочется дать каждому много денег, — сказала Мама. — Ах, до чего же приятно слыть победительницей. — Милая, добрая Мама, — промолвил я. — Но ты же в самом деле убила льва. ГЛАВА ВТОРАЯ 25 — Неправда, зачем ты меня обманываешь! Предоставь мне просто наслаждаться триумфом. Да, М’Кола все-таки долгое время меня недолюбливал. Пока лицензия Мамы не была использована, он всюду следовал за нею, а на нас смотрел как на людей, которые только мешают ей охотиться. Когда же ее лицензия кончилась и она перестала ходить на охоту, его привязанность к ней ослабела. Потом мы начали гоняться за куду, и Старик всякий раз оставался в лагере, посылая Чаро с Карлом, а М’Кола со мной, и потому М’Кола утратил к нему прежнее уважение. Разумеется, лишь на время. М’Кола был ружьеносцем Старика, а чувства его к нам часто менялись и лишь после долгих совместных скитаний могли стать более или менее прочными. Так или иначе, с началом совместной охоты в наших отношениях произошла какая-то перемена. Часть вторая. Начало охоты Глава третья Дело было еще в то время, когда с нами охотился Друпи. Вскоре после того, как я, оправившись от болезни, вернулся из Найроби, мы с Друпи пешком пошли в лес охотиться на носорогов. Друпи был настоящий дикарь, красавец с тяжелыми веками, почти совсем прикрывавшими глаза, наделенный своеобразной грацией, прекрасный охотник и непревзойденный следопыт. На вид ему было лет тридцать пять, и вся его одежда состояла из куска ткани, стянутого узлом на плече, да подаренной кем-то фески. Он никогда не расставался с копьем. М’Кола носил старый армейский френч цвета хаки с двумя рядами пуговиц — френч этот был первоначально предназначен для Друпи, но тот долго пропадал где-то и поэтому остался ни с чем. Старик дважды привозил Друпи этот подарок, и, наконец, М’Кола сказал: “Отдай мне”. Френч отдали ему, и с тех пор М’Кола постоянно носил его. Этот френч, пара коротких штанов, пушистая шерстяная шапочка и вязаный свитер, который он надевал, когда стирал френч, составляли весь гардероб старого охотника до тех пор, пока он не завладел моей непромокаемой курткой. Обут он был в сандалии, вырезанные из старых автомобильных покрышек. Ноги у М’Кола были стройные, красивые, с крепкими лодыжками, как у Бейба Рута4, и, помню, велико было мое удивление, когда он снял френч и обнажил дряблое, старческое тело. Оно имело такой же вид, как на фотографиях Джефриза и Шарки в пожилом возрасте, — уродливые вялые бицепцы и впалая грудь. — Сколько лет М’Кола? — спросил я у Старика. — Должно быть, за пятьдесят. У него в туземной резервации взрослые дети. — А какие у него дети? — Никудышные бездельники. Он не умеет держать их в руках. Мы пробовали взять одного в носильщики, но он ни к чему не пригоден. М’Кола не завидовал Друпи. Он понимал, что Друпи не чета ему: более искусный охотник, ловкий и находчивый следопыт и, за что ни возьмется, все делает мастерски. М’Кола, как и мы, восхищался Друпи и никогда не забывал, что получил его френч, что был носильщиком, прежде чем стал ружьеносцем и начал новую жизнь; он считал, что мы с ним охотимся как равные, а Друпи командует всеми. То была славная охота. В первый же день мы ушли за четыре мили от лагеря по глубокому следу носорога, который тянулся среди травянистых холмов меж деревьями, такой прямой и ровный, словно проложенный по линейке, и глубиной в добрый фут. Когда он затерялся в ложбине между холмами, похожей на сухую оросительную канаву, мы, обливаясь потом, вскарабкались на невысокий, 4 Бeйб Рут — известный в свое время американский бейсболист. 27 28 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ но крутой пригорок, сели там отдохнуть, прислонившись к скату, и стали осматривать местность в бинокль. Красивая зеленая равнина у подножия лесистой горы была усеяна холмами и изрезана руслами нескольких рек, бравших свое начало в лесной чаще на горе. Местами лес спускался к самому подножию, — и где-нибудь там, на опушке, следовало ожидать появления носорога. В стороне от лесистой горы взору открывались речные русла, и цепь отлогих холмов переходила в равнину, поросшую бурой, выжженной солнцем травой, а еще дальше темнела долина Рифт-Велли и поблескивало озеро Маньяра. Мы лежали на холме и зорко следили, не покажется ли носорог. М’Кола расположился пониже, а Друпи на противоположном скате присел на корточки и вглядывался в даль. С востока тянул прохладный ветерок, и по высокой траве пробегали зеленые волны. По небу плыли белые облака, а высокие деревья на склоне горы росли так тесно и листва у них была такая густая, что казалось, можно шагать прямо по кронам. За горой было ущелье, а дальше — снова гора, вся синяя от одевавшего ее леса. До пяти часов все было спокойно. Затем невооруженным глазом я разглядел вдали какую-то точку, которая двигалась по краю долины к темной полосе леса. В бинокль было уже ясно видно, что это носорог, весь красный в лучах закатного солнца. Он бежал быстро, и в его движениях было что-то, напоминавшее повадки водяного жука. За ним из лесу вышли еще три носорога, темные в тени деревьев, и двое из них возле группы кустов вступили в бой, угрожающе нагнув головы. На таком расстоянии они казались крохотными, и пока мы разглядывали их в бинокль, стало смеркаться. Мы не успели бы до темноты спуститься с холма, пересечь долину, взобраться по крутому горному склону и подойти к носорогам на выстрел. Поэтому мы осторожно спустились вниз и, нащупав ногами след, шли по этому глубокому следу, который петлял среди темных холмов, до тех пор пока меж деревьев не блеснул огонь лагерного костра. Весь вечер мы не могли успокоиться, потому что видели сразу трех носорогов, а рано утром, во время завтрака, явился Друпи и сообщил, что на опушке, менее чем в двух милях от лагеря, пасется стадо буйволов. Мы поспешили туда, еще ощущая во рту вкус кофе и лососины, полные того утреннего возбуждения, от которого сильнее бьется сердце. Туземец, которому Друпи поручил следить за буйволами, указал нам место, где они пересекли глубокий овраг и выбрались на лесную поляну. По его словам, в стаде было больше десятка голов и среди них два крупных самца. Мы бесшумно зашагали по звериным тропам, раздвигая лианы; то и дело попадались следы, горки свежего помета, но, хотя мы все дальше углублялись в лес (слишком густой, а потому неудобный для охоты) и сделали большой круг, буйволов нигде не было и в помине. В одном месте мы услышали крики клещеедов, увидели, как они взлетели, — и только. В лесу было много носорожьих следов, кучами лежал похожий на солому помет, но нам попадались лишь зеленые лесные голуби да обезьяны. Когда мы выбрались на опушку, до пояса мокрые от росы, солнце стояло уже высоко. День выдался жаркий, ветер еще не поднялся, и мы понимали, что все носороги и буйволы, которые ночью выходили из лесу, теперь забились в глухую чащу и отдыхают в холодке. Спутники мои возвратились в лагерь, где оставались Старик и М’Кола. Я вспомнил, что у нас кончилось мясо, и решил вдвоем с Друпи обойти окрестность в надежде добыть что-нибудь. Я уже совсем оправился после дизентерии, ГЛАВА ТРЕТЬЯ 29 и для меня было наслаждением бродить среди невысоких холмов, просто так бродить, не зная, что попадется на пути, а при случае и поохотиться, добыть мяса. Кроме того, мне нравился Друпи, нравилось смотреть, как он ходит. Он шагал вразвалку, легко переставляя ноги, а я любовался им, ощущал траву под мягкими подошвами башмаков да приятную тяжесть ружья, которое сжимал за шейку приклада, положив ствол на плечо; я обливался потом под горячим солнцем, быстро высушившим росу на траве, но скоро повеял ветерок. Казалось, мы идем по запущенному саду где-нибудь в Новой Англии. Я чувствовал, что опять могу стрелять метко, и с нетерпением ждал случая показать Друпи свое искусство. С пригорка мы увидели в какой-нибудь миле от себя двух конгони5, казавшихся желтыми на фоне холма, и я знаком дал понять Друпи, что намерен следовать за ними. По пути в лощине мы спугнули водяных козлов — самца и двух самок. Я знал, что водяной козел — единственная местная дичь, которая не годится в пищу, к тому же в моей коллекции был уже экземпляр получше. Помня об этом и о его несъедобном мясе, я держал козла под прицелом, пока он уносил ноги, да так и не выстрелил. — Не стреляешь куро? — спросил Друпи на суахили. — Думи сана — хороший зверь! Я попытался объяснить ему, что уже убил раньше козла получше этого, но его мясо невозможно было есть. Друпи усмехнулся. — Пига конгони м’узури. “Пига” — выразительное словечко. Оно звучит точно так, как команда “пали!” или возглас “попал!”. А слово “м’узури”, означающее “хорошо”, “здорово”, “лучше”, долгое время вызывало в моей памяти только название одного из наших штатов, и часто во время переходов я составлял мысленно суахильские фразы со словами “Арканзас” и “М’усури”. Теперь это слово уже не поражало слуха, оно стало для меня привычным, так же как простыми и привычными стали другие слова этого языка, а вытянутые мочки ушей, племенные шрамы и копья воинов не казались больше странными или безобразными. Напротив, теперь я находил эти племенные шрамы и татуировку естественными и даже красивыми, и сожалел, что у меня их нет. Все мои шрамы никуда не годились: они имели неправильную и расплывчатую форму — просто-напросто самые обыкновенные рубцы. Один красовался у меня на лбу, и меня до сих пор еще иногда спрашивают, не стукнулся ли я обо что-нибудь головой. А у Друпи были эффектные шрамы на шее и другие, симметричные, на груди и животе. Один мой нарост казался мне подходящим, очертаниями напоминая рождественскую елку, но он находился на подошве правой ноги, никому не был виден, и только носки мои из-за него протирались особенно быстро... Я как раз об этом размышлял, когда мы спугнули чету болотных антилоп. Они отбежали шагов на шестьдесят, но остановились под деревьями, и как только стройный, грациозный самец повернулся, я выстрелил и угодил ему в бок чуть пониже лопатки. Он подскочил и пустился наутек. — Пига. — Друпи улыбнулся. Мы оба слышали, как ударила пуля. — Куфа, — сказал я. — Он убит. 5 Конгони — крупная антилопа, распространенная в Восточной Африке. 30 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ Когда мы подошли к антилопе, лежавшей на боку, сердце ее все еще сильно билось, хотя, судя по всему, она была мертва. Друпи не захватил охотничьего ножа, у меня же был с собой только перочинный ножик. Я нащупал сердце около передней ноги, чувствуя, как оно трепещет под шкурой, всадил туда лезвие ножа, но он оказался слишком коротким и только слегка оттолкнул сердце. Я ощущал под пальцами горячий и упругий комок, в который уперлось лезвие, повернул нож, ощупью перерезал артерию, и горячая кровь заструилась по моей руке. Затем я начал потрошить антилопу перочинным ножом, все еще стараясь произвести впечатление на Друпи, аккуратно извлек печень и, отделив желчный пузырь, положил печень на траву, а рядом с ней почки. Друпи попросил у меня нож. Теперь и он захотел показать себя. Он искусно вскрыл и вывернул наизнанку желудок, выбросил из него траву, хорошенько встряхнул, затем положил туда печень и почки и, срезав ножом прутик с дерева, под которым лежала антилопа, скрепил им желудок, так что получился удобный мешочек. Затем вырезал палку, подвесил на нее мешочек и перекинул палку через плечо — точно так во времена моего детства носили свои пожитки в носовом платке американские бродяги, изображенные на рекламе мозольного пластыря “Блю Джей”. Это был отличный способ, и я уже предвкушал, как покажу его когда-нибудь Джону Стейбу в Вайоминге, а он будет улыбаться, как всегда, стесняясь своей глухоты (когда раздавался рев быка, в Джона приходилось швырять камешками, чтобы он остановился), и обязательно скажет: “Ей-богу, Эрнест, это здорово!” Друпи передал мне палку, скинул кусок материи, заменявшей ему одежду, обвязал им тушу антилопы и взвалил ее себе на спину. Я хотел помочь ему и знаками предложил срезать сук, подвесить на него антилопу и нести тушу вдвоем, но Друпи отказался. Так мы и шли, — я с мешочком из антилопьего желудка на плече и с ружьем за спиной, а Друпи, весь потный, впереди, шатаясь под тяжестью туши. Я уговаривал его подвесить антилопу на дерево и потом прислать за нею носильщиков. Мы положили было тушу в развилину старого дерева, но Друпи, сообразив, что я готов уйти и бросить добычу только из страха, как бы он не надорвался, снова взвалил ношу на плечи, и мы поплелись к лагерю, где бои, сидевшие вокруг костра, встретили нас дружным хохотом при виде мешочка, болтавшегося у меня за спиной. Вот такая охота была мне по душе! Пешеходные прогулки вместо поездок в Автомобиле, неровная, труднопроходимая местность вместо гладких равнин — что может быть чудеснее! Я перенес тяжелую болезнь и теперь с наслаждением ощущал, как силы мои восстанавливаются с каждым днем. За время болезни я очень исхудал, изголодался по мясу, а теперь мог есть все без разбору. Каждый день под горячими лучами солнца я обливался потом, теряя таким путем всю жидкость, которую вечером, у костра, выпивал в обществе друзей, а в жаркую дневную пору я лежал с книгой в тени, овеваемый ветерком, радуясь, что не нужно ничего писать и в четыре часа мы снова пойдем на охоту. Я даже писем никому не писал. Единственный человек — не считая детей, — который мне по-настоящему дорог, был здесь со мной, и мне не хотелось делиться впечатлениями этой чудесной жизни с теми, кто был где-то далеко; хотелось просто жить, радоваться, испытывать блаженную усталость. Я гордился меткостью своей стрельбы, верил в себя, и мне было так хорошо и легко, — право же, ГЛАВА ТРЕТЬЯ 31 переживать все это самому куда приятнее, чем знать об этом только понаслышке. В начале четвертого мы тронулись в путь, чтобы к четырем добраться до холма. Но было уже почти пять, когда мы наконец увидели первого носорога: неуклюже покачиваясь на своих коротких ногах, он перевалил через гребень холма почти там же, где мы увидели его накануне, и скрылся в лесу неподалеку от того места, где вчера у нас на глазах дрались два носорога. Спустившись с холма, мы пересекли заросшую лощину и двинулись по крутому горному склону к акации с желтыми цветами, служившей нам ориентиром. Борясь с ветром, я старался идти как можно медленнее, не теряя из виду дерева, и заткнул носовой платок под шляпу, чтобы пот не заливал очки. Я знал, что, быть может, через секунду придется стрелять, и нарочно шел медленно, чтобы не вызвать сердцебиения. На охоте по крупному зверю, если охотник умеет стрелять и видит, куда стрелять, не может быть промаха, разве что стрелок запыхался от бега, либо только что вскарабкался на крутой склон, либо очки его разбились или запотели, а у него не нашлось тряпки или бумаги, чтобы их протереть. Очки вообще доставляли мне кучу хлопот, и я носил при себе четыре носовых платка, перекладывая их из одного кармана в другой, когда они намокали от пота. Мы осторожно приблизились к акации с желтыми цветами, словно к выводку перепелок, перед которым собака сделала стойку. Однако носорога там уже не оказалось. Мы обшарили всю опушку, видели множество следов и свежего помета, а носорога не было. Солнце уже садилось, начинало смеркаться, а мы все бродили по лесистому склону в надежде встретить зверя на какой-нибудь прогалине. Когда в темноте стрелять стало почти невозможно, Друпи вдруг остановился и припал к земле. Опустив голову, он рукой указывал куда-то вперед. Мы подползли к нему и увидели двух носорогов, большого и маленького, — они стояли по грудь в кустарнике, отделенные от нас небольшой долиной. — Самка с детенышем, — прошептал Старик. — Стрелять нельзя. Дайте-ка мне разглядеть ее por. — И он взял у М’Кола бинокль. — Видит она нас? — спросила Мама. — Нет. — Далеко до них? — Шагов пятьсот. — Боже, какая крупная! — сказал я шепотом. — Да, крупная самка, — подтвердил Старик в радостном возбуждении. — Интересно, куда девался самец? Слишком темно, стрелять можно, только если столкнемся нос к носу. Носороги, повернувшись к нам задом, мирно щипали траву. Мне кажется, эти животные никогда не ходят. Они либо бегут, либо стоят на месте. — Отчего они такие красные? — спросила Мама. — Вывалялись в глине, — пояснил Старик. — Надо торопиться, пока еще не совсем стемнело. Солнце уже село, когда мы выбрались из леса и увидели внизу тот холм, откуда накануне наблюдали за носорогами в бинокль. Вместо того чтобы спуститься, пересечь лощину и выйти к лагерю прежней дорогой, нам неожиданно взбрело в голову пройти лесной опушкой прямо по горному склону. И вот в 32 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ темноте, придерживаясь намеченного пути, мы двинулись через глубокие предательские ущелья, издали похожие на рощицы, скользили, цеплялись за лианы, спотыкались, карабкались и снова скользили все ниже и ниже, потом опять с невероятными усилиями взбирались по круче, а лес был полон ночных шорохов, слышалось рычание леопарда, который охотился на бабуинов; я боялся змей и со страхом прикасался в темноте к каждому подозрительному корню или ветке. На четвереньках мы одолели два глубоких ущелья, а затем при свете луны перевалили через длинный и невероятно крутой отрог, на который взбирались, цепляясь за камни, подтягиваясь, цепляясь и снова подтягиваясь, черепашьим шагом, смертельно усталые, с трудом неся тяжелые ружья. Наверху мы вздохнули с облегчением. Перед нами расстилалась долина, озаренная лунным светом; потом мы снова шли вниз, вверх и напрямик через невысокие холмы; мы изнемогали от усталости, но впереди уже показались огни, а там наконец и лагерь. И вот я уже сижу у костра, зябко поеживаясь от вечернего холодка, и попиваю виски с содовой в ожидании, пока брезентовая ванна наполнится на одну четверть горячей водой. — Купати, бвана. — Черт побери, никогда не смогу больше охотиться на горных баранов, — говорю я. — А я и раньше не могла, — отзывается жена. — Это вы все меня заставляли. — Ну, ну, ты лазаешь по горам почище любого из нас! — Как вы думаете. Старик, сможем мы опять когда-нибудь охотиться на них? — Не знаю, — отозвался Старик. — Все зависит от обстоятельств. — Противнее всего езда на этих ужасных машинах. — Если б мы каждый вечер совершали такой переход, мы незаметно для себя прошли бы весь путь за какие-нибудь трое суток. — Конечно. Но я не перестану бояться змей, даже если целый год буду каждый вечер совершать такие прогулки. — Это пройдет со временем. — Ну, нет. Я боюсь их панически. Помните, что со мной было, когда вы стояли за деревом, а я, не видя вас, наткнулся на вашу руку? — Еще бы, — ответил Старик. — Вы отскочили на добрых два шага. Вы действительно так боитесь змей или только притворяетесь? — Ужасно боюсь. С детства. — Что это с вами сегодня? — спросила моя жена. — Почему вы не рассуждаете о войне? — Мы слишком устали. А вы были на войне, Старик? — Какой из меня вояка, — ответил он. — Куда же запропастился этот парень с нашим виски? — И, дурачась, он позвал тоненьким фальцетом: — Кэйти! Эй, Кэйти-и! — Купати, — тихо, но настойчиво повторил Моло. — Я устал. — Мемсаиб, купати, — произнес Моло с надеждой. — Сейчас иду, — сказала Мама. — А вы допивайте быстрее виски. Я проголодалась. — Купати, — сурово сказал Кэйти Старику. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 33 — Сам купати, — буркнул Старик. — Не приставай! Кэйти отвернулся, и в свете костра на его лице мелькнула улыбка. — Ну, ладно, ладно, — сказал Старик. — Хотите выпить? — обратился он ко мне. — Выпьем по стаканчику, — отозвался я, — а потом будем “купати”. — Купати, бвана М’Кумба, — сказал Моло. Мама подошла к огню в своем голубом халатике и высоких сапогах, защищающих от москитов. — Что же вы? — сказала она. — Ступайте скорее. После купанья выпьете еще. Здесь отличная, теплая илистая вода. — Вот пристали с этим купаньем, — пожаловался Старик. — Помнишь, когда мы охотились на горных баранов, у тебя слетела шляпа и чуть не упала прямо на одного из них? — спросил я у Мамы, так как под действием виски вспомнил Вайоминг. — Ступай-ка лучше в ванну, — ответила она. — А я пока выпью стаканчик. На другое утро мы встали чуть свет, позавтракали и вышли на охоту. Обшарили опушку и глубокие долины, где Друпи перед восходом солнца видел буйволов, но их уже и след простыл. После долгих поисков мы вернулись в лагерь и решили послать грузовики за носильщиками, а затем пешком двинуться туда, где в русле реки, бравшей начало на горном склоне, рассчитывали найти воду, — это было чуть подальше того места, где произошла накануне наша встреча с носорогами. Неподалеку от горы мы хотели разбить лагерь и оттуда обследовать новые места на краю леса. Грузовики должны были привезти Карла, который охотился на куду отдельно от нас. Его там, кажется, одолела хандра, или отчаяние, или то и другое вместе, и надо было его выручать; на следующий день ему предстояло отправиться в Рифт-Велли, чтобы добыть мяса и поохотиться на сернобыка. А если бы мы выследили хорошего носорога, то сразу дали бы ему знать. В пути решено было стрелять только при встрече с носорогами, чтобы не распугать их заранее. А между тем наши мясные запасы подходили к концу. Носороги, видимо, очень пугливы, а я еще в Вайоминге убедился, что все пугливые звери покидают удобные для охоты места — небольшую долину или гряду холмов — после первых же выстрелов. Старик посоветовался с Друпи, мы разработали план действий и отправили Дэна на грузовиках вербовать носильщиков. К вечеру грузовики привезли Карла, все его снаряжение и сорок мбулусов, красивых туземцев, во главе со спесивым вождем — единственным обладателем пары коротких штанов. Карл осунулся, побледнел, в глазах появилось усталое выражение, почти отчаяние. Он провел на охоте восемь дней, упорно выслеживая антилоп в холмах, лишенный возможности перекинуться с кем-либо хоть словом по-английски, и за все время видел только двух самок куду да спугнул одного самца, не успев подойти к нему на выстрел. Проводники уверяли, что видели и второго самца, но Карл решил, что это конгони, или вообразил, будто они сказали ему, что это конгони, и не выстрелил. Он был очень раздражен, сердился на своих помощников, — словом, охота была неудачна. — Я не видел у него рогов. Не верю, что это был самец, — твердил Карл. Охота на куду была теперь его больным местом, и мы поспешили переменить тему. — Там, в долине, он убьет сернобыка и успокоится, — решил Старик. — Неудача расстроила ему нервы. 34 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ Карл одобрил план, по которому мы должны были перейти на новое место, а он — отправиться на добычу мяса. — Будь по-вашему, — сказал он. — Я на все согласен. — Он постреляет немного и воспрянет духом, — промолвил Старик. — Мы убьем носорога. А потом — вы. Тот, кто убьет первого, может отправиться на равнину за сернобыком. А быть может, сернобык попадется вам завтра же, когда пойдете добывать мясо. — Будь по-вашему, — повторил Карл. Он с горечью думал о тех восьми днях, когда карабкался по холмам под палящим солнцем, выходил на охоту чуть свет, возвращался вечером, преследовал зверей, чье суахильское название ему никак не удавалось запомнить, пользовался услугами следопытов, которым не доверял, обедал в одиночестве, не имея с кем слова сказать, тосковал о жене, от которой его отделяло девять тысяч миль и три месяца разлуки, и думал, думал без конца: как там его собака и как там на службе, и будь они все неладны, эти звери, куда они попрятались, и неужели он промахнулся, когда стрелял, нет, не может этого быть, в ответственный момент невозможно промахнуться, просто невозможно, в это он свято верил... ну, а вдруг он от волнения все-таки промахнулся? И писем все нет и нет... Но проводник ведь сказал тогда, что это конгони, ну конечно, все они так сказали, он точно помнит. Однако в разговоре с нами Карл ни словом не обмолвился насчет этого, а сказал только: “Будь по-вашему”, — довольно безнадежным тоном. — Эй, дружище, не унывайте! — Я и не унываю. С чего вы это взяли? — Выпейте виски. — Не хочу виски. Хочу антилопу. Позже Старик заметил: — А я-то думал, что он вполне справится сам, если никто не будет подгонять и тормошить его. Ну, да все наладится. Он молодчина. — Нужно, чтобы кто-нибудь точно указывал ему, что делать, но не раздражал его, — сказал я. — Для него самое мучительное — стрелять на глазах у других. Он человек скромный, не то что я. — Он уложил леопарда прекрасным выстрелом, — заметил Старик. — Двумя, — поправил я. — И второй был не хуже первого. Черт возьми, он отличный стрелок. Любому из нас даст сто очков вперед. Но он нервничает, а я все время подгоняю его и только еще больше расстраиваю. — Да, иногда вы слишком к нему суровы, — заметил Старик. — Но ведь он же меня знает. И знает, как я к нему отношусь. Он не обижается. — И все же, по-моему, из него выйдет толк, — сказал Старик. — Главное — надеяться на себя. Ведь глаз у него верный. — Еще бы, он убил лучшего буйвола, лучшего водяного козла и лучшего льва, — отозвался я. — Ему грех жаловаться. — Лучшего льва убила Мемсаиб. Тут не может быть двух мнений. — Рад это слышать. Но и Карл убил великолепного льва и крупного леопарда. Вся его добыча — первый сорт. Впереди еще масса времени. Ему нечего огорчаться. Чего же он ходит как в воду опущенный? — Давайте выйдем завтра спозаранку, чтобы добраться до места, прежде чем станет слишком жарко для маленькой Мемсаиб. — Она бодрее всех нас. ГЛАВА ТРЕТЬЯ 35 — Она прелесть. Ходит за нами, как маленький терьер. Днем мы с холмов долго обозревали местность в бинокль, но не увидели ничего интересного. После ужина все сидели в палатке. Мама была возмущена, что ее сравнили с терьером. Если уж походить на собаку, — что ей вовсе не улыбалось, — она предпочла бы поджарую, длинноногую овчарку, породистую и красивую. Мужество Мамы было так естественно, в нем было столько непосредственности, что она даже не думала об опасности; кроме того, от опасностей нас оберегал Старик, а к нему она питала безграничное доверие и откровенно обожала его. Старик был для нее идеалом мужчины, — храбрый, великодушный, умный и не лишенный чувства юмора, чуткий и терпимый, он никогда не выходил из себя, не хвастал, не жаловался — разве что в шутку, — любил выпить, как и положено настоящему мужчине, и, по ее мнению, был очень красив. — Как по-твоему. Старик красивый? — Нет, — ответил я. — Друпи, вот кто красавец. — Друпи прелесть. Но неужели ты действительно считаешь, что Старик некрасив? — Ей-богу. По-моему, он не хуже всякого другого, но будь я проклят, если он красив. — А по-моему, он прекрасен. Но ты ведь знаешь, какие чувства я к нему испытываю, правда? — Конечно. Я и сам люблю этого бродягу. — И все же, по-твоему, он некрасив? — Нет. Я помолчал. — А тебе кто нравится? — Бельмонте и Старик. И ты. — Ты слишком уж пристрастна, — сказал я. — Ну, а из женщин? — Гарбо. — Теперь уж ее красавицей не назовешь. Другое дело — Джози. И Марго. — Да, конечно. Я знаю, что я некрасива. — Ты чудесная. — Поговорим лучше о мистере Дж. Ф. Мне не нравится, когда ты называешь его Стариком. Это неуважительно. — Мы с ним без церемоний. — Да, но я-то его очень уважаю. Он замечательный человек, правда? — Конечно, и ему не приходится читать книжонки мерзкой бабы, которой ты помог напечататься, а она в благодарность тебя же сопляком обзывает. — Она просто ревнивая злюка. Не надо было тебе помогать ей. Некоторые люди этого не прощают. — Понимаешь, досадно, что она весь свой талант разменяла на злобу, пустую болтовню и саморекламу. Дьявольски досадно, ей-богу. Досадно, что ее не раскусишь, покуда она не отправится на тот свет. И знаешь, что забавно, — ей никогда не удавались диалоги. Получалось просто ужасно. Она научилась у меня и использовала это в своей книжке. Раньше она так не писала. С тех пор она уже не могла мне простить, что научилась этому у меня, и боялась, как бы читатели не сообразили, что к чему, вот и напустилась на меня. Просто смех и грех. Но право же, 36 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ она была чертовски мила, покуда не начала задирать нос. В то время она тебе понравилась бы, я уверен. — Может быть, только вряд ли, — сказала Мама. — Но ведь нам хорошо здесь, правда? Вдали от всех этих людей. — Дьявольски хорошо, провалиться мне на месте. Каждый год нам бывает хорошо, сколько помню. — Но разве мистер Дж. Ф. не чудо? Ну скажи сам. — Да. Настоящее чудо. — Ах, как я рада, что ты это признал. Бедный Карл. — Почему бедный? — Он тут без жены. — Да, — согласился я. — Бедный Карл. Глава четвертая И вот утром мы опять зашагали вниз и вверх впереди носильщиков, спустились под уклон, пересекли холмы и лесистую долину, потом долго поднимались на взгорье, заросшее травой, такой высокой, что сквозь нее трудно было пробираться, и все дальше, дальше отдыхая иногда в тени деревьев, потом снова то под уклон, то в гору, теперь уже все время —сквозь высокую траву, которую приходилось приминать, чтобы проложить по ней путь, и все это под палящими лучами солнца. Шли мы гуськом, обливаясь потом; Друпи и М’Кола были увешаны сумками, флягами с водой и фотокамерами, не считая двух тяжелых винтовок, у меня и у Старика тоже были винтовки, а Мемсаиб шла, стараясь перенять походку Друпи, свою широкополую шляпу сдвинув набекрень, и такая счастливая, что она с нами, такая довольная, что сапоги у нее не жмут; и вот все пятеро мы подошли наконец к колючей заросли над ущельем, которое тянулось от горного кряжа к ручью, прислонили винтовки к стволам деревьев, а сами нырнули в густую тень и легли там на землю. Мама достала книги из сумки, и они со Стариком стали читать, а я спустился вниз по ущелью к ручейку, который бежал с горного склона, нашел там свежие львиные следы и множество ходов, промятых носорогами в высокой, выше головы, траве. Взбираться обратно вверх по песчаному склону ущелья было жарко, и, одолев подъем, я с удовольствием уселся под деревом, прислонился к нему спиной и открыл “Севастопольские рассказы” Толстого. Книга эта очень молодая, в ней есть прекрасное описание боя, когда французы идут на штурм бастионов, и я задумался о Толстом и о том огромном преимуществе, которое дает писателю военный опыт. Война одна из самых важных тем, и притом такая, когда труднее всего писать правдиво, и писатели, не видавшие войны, из зависти стараются убедить и себя и других, что тема эта незначительная, или противоестественная, или нездоровая, тогда как на самом деле им просто не пришлось испытать того, чего ничем нельзя возместить. Потом “Севастопольские рассказы” навели меня на воспоминания о Севастопольском бульваре в Париже, о том, как я ездил по нему на велосипеде, под дождем возвращаясь домой из Страсбурга, и какие скользкие были трамвайные рельсы, и каково ехать людной улицей под дождем по маслянистоскользкому асфальту и булыжной мостовой, и о том, как мы чуть было не поселились тогда на бульваре Тампль, и я вспомнил ту квартиру — обстановку и обои, — но вместо нее мы сняли верх домика на улице Нотр-Дам де Шан во дворе, где была лесопилка (и внезапное взвизгивание пилы, запах опилок, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 37 каштан, поднимавшийся над крышей, и сумасшедшая в нижнем этаже), и как весь тот год нас угнетало безденежье (рассказы, один за другим возвращались обратно с почтой, которую опускали в отверстие, прорезанное в воротах лесопилки, и в сопроводительных записках редакции называли их не рассказами, а набросками, анекдотами, contes6 и т. д. Рассказы не шли, и мы питались луком, и пили кагор с водой), и я вспомнил о том, как хороши были фонтаны на площади Обсерватории (переливчатая рябь на бронзовых конских гривах, бронзовых торсах и плечах — зеленых под сбегающими по ним струйками), и о том, как в Люксембургском саду, где кратчайший переход на улицу Суффло, поставили бюст Флобера (того, в кого мы верили, кого любили, не помышляя о критике, — Флобера, теперь грузного, высеченного из камня, как и подобает кумиру). Он не видел войны, но он видел революцию и Коммуну, а революция — это еще лучше, если не становишься фанатиком, потому что все говорят на одном языке, и гражданская война лучшая из войн для писателя — наиболее совершенная. Стендаль видел войну, и Наполеон научил его писать. Он учил тогда всех, но больше никто не научился. Достоевский стал Достоевским потому, что его сослали в Сибирь. Несправедливость выковывает писателя, как выковывают меч. Я подумал, а что, если бы Тома Вулфа сослали в Сибирь или на остров Тортугас, сделало бы это из него писателя, послужило бы это тем потрясением, которое необходимо, чтобы избавиться от чрезмерного потока слов и усвоить чувство пропорции? Может быть, да, а может, и нет. Он всегда казался грустным, как Карнера. Толстой был маленького роста. Джойс — среднего, и он довел себя до слепоты. И в тот последний вечер я пьяный, и рядом Джойс, и строчка из Эдгара Кине, которую он все твердил: “Fraiche et rose comme au jour de la bataille”7. Нет, я, кажется, путаю. А когда, бывало, встретишься с ним, он подхватывает разговор, прерванный на полуслове три года назад. Приятно было видеть в наше время большого писателя. Мне нужно было только одно: работать. Я не особенно задумывался над тем, как это все получится. Я уже больше не принимал всерьез свою собственную жизнь; жизнь других людей — да, но не свою. Другие стремились к тому, к чему я не стремился, но я все равно своего добьюсь, если буду работать. Работа — вот все, что было нужно, она всегда давала мне хорошее самочувствие, а жизнь — моя, черт возьми, жизнь в моих руках, и я буду жить, где и как вздумается. Здесь, где я живу сейчас, мне очень хорошо. Небо в Африке лучше, чем в Италии. Черта с два — лучше! Самое лучшее небо — в Италии, в Испании и в северном Мичигане осенью, и осенью же над Мексиканским заливом. Небо есть и лучше здешнего, но лучшей страны нет нигде. Сейчас я хотел только одного: вернуться в Африку. Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней. И, глядя со дна ущелья сквозь туннель, образуемый деревьями, на небо и белые облака, бежавшие по ветру, я так любил эту страну, что был счастлив, как бываешь счастлив после близости с женщиной, которую любишь по-настоящему, когда, опустошенный, чувствуешь, что это готово опять нахлынуть на тебя, и вот уже нахлынуло, и ты никогда не сможешь обладать всем целиком, но то, что есть, это твое, а тебе хочется больше и больше — хочется обладать этим 6 7 Сказки (франц.). Свеж и румян, как в день сраженья (франц.). 38 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ всем, в этом быть, и жить этим, и снова познать обладание, которое длится вечность — бесконечную, внезапно обрывающуюся вечность; и время идет тихо, иной раз так тихо, что кажется, оно совсем остановилось, и потом, уже после, ты вслушиваешься, пришло ли оно снова в движение, а оно все медлит и медлит. Но чувства одиночества у тебя нет, потому что, если ты любил ее радостно и без трагедий, она будет любить тебя всегда; кого бы она ни любила, куда бы ни ушла, тебя она любит больше всех. И если ты любил в своей жизни женщину или страну, считай себя счастливцем, и хотя ты потом умрешь, это ничего не меняет. Сейчас, живя в Африке, я с жадностью старался взять от нее как можно больше — смену времен года, дожди, когда не надо переезжать с места на место, неудобства, которыми платишь, чтобы ощутить ее во всей полноте, названия деревьев, мелких животных и птиц; знать язык, иметь достаточно времени, чтобы во все это вникнуть и не торопиться. Всю жизнь я любил страны: страна всегда лучше, чем люди. Я могу чувствовать привязанность одновременно только к очень немногим людям. Жена моя спала. На нее, спящую, было приятно смотреть — она свернулась клубком, как зверек, и в ее спокойном сне не было и следа той безжизненной неподвижности, которую я замечал у спящего Карла. Старик тоже спал спокойно, но я чувствовал, что душе его тесно в теле. Тело словно уже не было ему впору. С годами оно изменилось, приобрело новые формы — местами раздалось вширь, утратив прежние линии, местами обрюзгло, под глазами появились мешки, но душой он остался молодым, стройным, статным и крепким, как в те дни, когда близ Вами преследовал львов. И теперь, спящий, он представлялся мне таким, каким Мама видела его всегда. М’Кола и во сне оставался обыкновенным пожилым человеком без прошлого и без загадок. Друпи не спал. Он сидел на корточках и высматривал наших носильщиков. Мы увидели их издалека. Сначала над высокой травой показались ящики, потом вереница голов, потом носильщики спустились в лощину, и уже только кончик копья кое-где поблескивал на солнце, потом они поднялись на взгорье, и я увидел приближавшуюся цепочку людей. Они забрали было слишком влево, но Друпи помахал им рукой. Когда они подошли и стали разбивать лагерь. Старик предупредил их, что шуметь нельзя; мы удобно расположились под тентом и беседовали в ожидании обеда. После обеда пошли на охоту, но вернулись ни с чем. Наутро отправились снова, но не встретили ни одного зверя, вечером — тот же результат. Это были увлекательные, но бесплодные прогулки. Ветер упорно дул с востока, а местность пересекали короткие гряды холмов, подступавшие к самому лесу, и стоило перевалить через них, как ветер донес бы до животных наш запах, и они были бы предупреждены об опасности. Заходившее солнце слепило глаза, а когда оно наконец садилось за холмами на западе, все окутывала густая непроглядная тень в тот самый час, когда носороги обычно выходят из леса: таким образом, вся полоса к западу от лагеря бывала по вечерам потеряна для охоты, а в других местах ничего не попадалось. Носильщики, посланные к Карлу, вернулись обратно с мясом — они притащили разрубленные на части пыльные туши газелей и антилоп-гну. Солнце высушило мясо, и носильщики радовались, ползали вокруг костров и поджаривали его на прутьях. Старик недоумевал, куда запропастились носороги. С каждым днем они попадались все реже, и мы гадали, в чем дело: то ли в полнолуние они пасутся по ночам и возвращаются в лес до рассвета, то ли почуяли нас, или услышали шум, или ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 39 просто они так пугливы и прячутся в глубине леса. Я строил различные догадки, а Старик критиковал их с присущим ему остроумием, иногда выслушивая их лишь из вежливости, иногда же с интересом — как, например, догадку насчет полнолуния. Мы легли спать рано, ночью прошел дождь, вернее, не дождь, а короткий ливень с гор, а наутро мы встали до рассвета, перевалили через высокую гряду над нашим лагерем, спустились в долину реки и взобрались на крутой противоположный берег, откуда как на ладони видны были холмы и опушка леса. Над нашими головами пролетело несколько диких гусей, но еще не настолько рассвело, чтобы можно было ясно видеть опушку в бинокль. В разных местах, на вершинах трех холмов, сидели наши дозорные, и мы ждали, пока рассеется мгла и станут видны их сигналы. Вдруг Старик воскликнул: “Поглядите-ка на этого шельмеца!” — и велел М’Кола подать ружья. М’Кола запрыгал по склону, а мы увидели на другом берегу ручья, прямо против нас, носорога, бежавшего рысью. Вот он ускорил бег и, срезая угол, повернул к воде. Он был бурый, с большим рогом, и в его стремительных, точных движениях не было ничего тяжеловесного. Я задрожал от волнения. — Он перейдет ручей, — сказал Старик. — Вот будет отличная мишень!.. М’Кола сунул мне в руки спрингфилд, и я открыл затвор, чтобы убедиться, что винтовка заряжена пулями. Носорог уже скрылся из виду, но путь его легко было угадать по колыханию высокой травы. — Сколько до него, как по-вашему? — Каких-нибудь три сотни шагов. — Вот сейчас я этого подлеца разделаю под орех! Пристально всматриваясь, я усилием воли подавил возбуждение, словно закрыл какой-то клапан, чтобы прийти в то бесстрастное состояние, которое необходимо при стрельбе. Вот он снова появился, ступил на усеянное галькой дно неглубокого ручья. Думая только о том, что передо мной верная добыча, я прицелился, навел мушку чуть впереди носорога и спустил курок. Я слышал удар пули и видел, как носорог пошатнулся. С оглушительным фырканьем он рванулся вперед, разбрызгивая воду. Я выстрелил еще раз и поднял небольшой фонтанчик позади него, потом еще, когда он выходил на траву, — видимо, опять мимо. — Пига, — сказал М’Кола. — Пига! Друпи был того же мнения. — Вы попали в него? — осведомился Старик. — А как же! — ответил я. — Мне кажется, он не уйдет. Друпи уже бежал за носорогом, а я перезарядил винтовку и кинулся вслед за ним. Половина обитателей нашего лагеря мчалась по холмам, крича и размахивая руками. Носорог пробежал прямо под ними и пустился вдоль реки, туда, где лес подступал к самой долине. Подошли Старик и Мама. Старик держал в руках свою двустволку, а М’Кола — мой карабин. — Друпи найдет след, — сказал Старик. — М’Кола клянется, что вы ранили носорога. — Пига! — подтвердил М’Кола. 40 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Он пыхтел, как паровик, — сказала Мама. — А как он был великолепен, когда бежал! — Спешил домой с молоком для своих детишек, — сострил Старик. — Вы уверены, что не промахнулись? Он был чертовски далеко. — Совершенно уверен. Он ранен насмерть. — Лучше помалкивайте об этом — вам все равно не поверят... Глядите! Друпи увидел капли крови. Внизу, под нами, Друпи сорвал какую-то травинку, затем быстро пошел по кровавому следу. — Пига, — сказал М’Кола. — М’узури! — Мы пойдем поверху, оттуда будет видно, если Друпи собьется со следа, — сказал Старик. — Поглядите-ка на него! Друпи сдернул с головы феску и держал ее в руке. — Другие предосторожности ему ни к чему, — заметил Старик. — Мы преследуем носорога с тяжелыми винтовками, а у Друпи в руках только его головной убор. Друпи шел по следу носорога вместе с одним туземцем, и вдруг оба остановились. Друпи поднял руку. — Они услышали его, — сказал Старик. — Скорее! Мы поспешили вниз. Друпи пошел нам навстречу и что-то сказал Старику. — Он здесь, — шепотом пояснил Старик. — Они слышат крики клещеедов. Один из туземцев говорит, что слышал также и “фаро”. Мы пойдем с подветренной стороны. Вы с Друпи ступайте вперед, а Мемсаиб пусть идет за мной. Возьмите двустволку. Вот так. Носорог укрылся в высокой траве, где-то за кустарником. Приближаясь, мы услышали низкий и протяжный звук, похожий на стон. Друпи глянул на меня через плечо и усмехнулся. Звук повторился — на этот раз носорог вздохнул, видимо, захлебываясь кровью. Друпи смеялся. “Фаро”, — прошептал он и приложил ладонь к щеке, желая показать, что зверь “заснул”. Затем мы увидели, как стайка остроклювых птичек — клещеедов — снялась с места и улетела. Теперь мы точно знали, где носорог, и медленно двинулись туда, раздвигая траву, пока не увидели зверя. Он лежал на боку — мертвый. — На всякий случай не мешает пальнуть в него еще разок, — сказал Старик. М’Кола подал мне спрингфилд. Я заметил, что курок взведен, бросил уничтожающий взгляд на М’Кола, стал на колено и выстрелил носорогу в шею. Зверь не шелохнулся. Друпи пожал мне руку. М’Кола последовал его примеру. — Вообразите, он взвел курок, — сказал я Старику. Мысль о том, что М’Кола нес за моей спиной ружье со взведенным курком, приводила меня в ярость. А М’Кола это нисколько не смущало. Он радовался, поглаживал рог убитого животного, меряя его растопыренными пальцами, искал пулевое отверстие. — Оно на том боку, — сказал я. — Вам надо было видеть, как М’Кола охранял Маму! — сказал Старик. — Для этого он и взвел курок. — А он разве умеет стрелять? — Нет. Но все-таки выстрелил бы. — И продырявил бы мне штаны! Рыцарь несчастный! ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 41 Когда подоспели остальные, мы общими усилиями приподняли носорога, поставили его так, что казалось, будто он стоит на коленях, и срезали вокруг траву, чтобы сделать несколько снимков. Пуля попала под лопатку, чуть позади легких. — Это был удачный выстрел, — сказал Старик. — На редкость удачный! Но не вздумайте о нем рассказывать. — Придется вам выдать мне свидетельство. — Ну, тогда мы оба прослывем вралями. А странные твари эти носороги, правда? Вот оно наконец, длинное, неуклюжее, тяжеловесное существо доисторического вида. Кожа как вулканизированная резина и словно слегка просвечивает, на ней не вполне зажившая рана, которую разбередили птицы, хвост толстый, круглый и заостренный на конце, по всему телу ползают многоногие плоские клещи, уши волосатые, глазки крошечные, как у свиньи, рог у основания порос мхом. М’Кола посмотрел на носорога и только головой покачал. Я его понял: в самом деле, замечательный экземпляр! — Как вам нравится рог? — Недурен, — ответил Старик. — Но ничего особенного. А вот выстрел ваш — это действительно чудо из чудес. — М’Кола очень доволен носорогом, — сказал я. — Ты и сам доволен не меньше, — заметила Мама. — Да, я просто без ума от него. Но лучше не заводите разговора об этом, а то меня не остановить. Не все ли вам равно, что я думаю? Я могу поразмыслить об этом как-нибудь ночью, когда вы будете спать. — К тому же вы отличный следопыт и здорово бьете птиц влет, — сказал Старик. — Ну, а еще что? — Отстаньте! Я сказал это только один раз, когда был пьян. — Слышите — один раз! Да разве он не повторяет этого каждый вечер? — воскликнула моя жена. — Честное слово, я и в самом деле бью птиц влет. — Поразительно, — сказал Старик — Никогда бы не подумал. А еще что вы умеете? — Идите к черту! — Лучше не говорить ему, что это был за выстрел, а то он станет просто невыносим, — сказал Старик Маме. — Мы с М’Кола сами это знаем, — возразил я. М’Кола подошел к нам. — М’узури, бвана, — сказал он. — М’узури сана. — Он думает, что это не случайно, — пояснил Старик. — Не разубеждайте его. — Пига М’узури, — продолжал М’Кола. — М’узури. — Кажется, вы с ним сходитесь во мнениях, — заметил Старик. — Мы с ним друзья. — Видно, что друзья. На обратном пути к лагерю я из любви к искусству застрелил болотную антилопу с двухсот шагов, перебив ей шею. М’Кола был доволен, а Друпи — тот просто пришел в восторг. 42 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Пора остановить его, — сказал Старик моей жене. — Куда вы целились, скажите правду? — В шею, — солгал я. На самом деле я целил под лопатку. — Прелестно! — сказала Мама. — Пуля щелкнула, словно бейсбольная бита при ударе о мяч, и антилопа свалилась как подкошенная. — По-моему, он бессовестный лжец, — заметил Старик. — Ни один из нас, великих стрелков, не дождался при жизни заслуженного признания. Но увидите, что будет, когда мы умрем. — По его мнению, признать — это значит нести его на плечах, — сказал Старик. — Удачный выстрел окончательно вскружил ему голову. — Ну, ладно, увидите сами. Честное слово, я всегда стрелял хорошо. — А я припоминаю одну газель, — поддразнил меня Старик. Я тоже помнил эту газель. Я гонялся за ней целое утро, много раз подкрадывался, но, одурев от жары, все время стрелял мимо, потом заполз на муравейник, чтобы выстрелить уже по другой, куда худшей газели, отдышался, промазал с пятидесяти шагов, увидел, что газель все еще стоит неподвижно и смотрит на меня, подняв голову, и выстрелил ей в грудь. Она присела на задние ноги, но, как только я сделал несколько шагов, вскочила, и, спотыкаясь, отбежала в сторону. Я выждал, когда газель остановилась, видимо, не в силах бежать дальше, и, не вставая, продев руку в ремень ружья, стал стрелять ей в шею, медленно, старательно, и промазал восемь раз кряду, в порыве безудержной злости целясь в одно и то же место и тем же манером; ружьеносцы смеялись, потом подъехал грузовик с африканцами, которые удивленно пялили на меня глаза. Старик и Мама молчали, а я все сидел, в холодном бешенстве упрямо пытаясь перебить антилопе шею, вместо того чтобы подойти поближе и прогнать ее с этой раскаленной солнцем равнины. Все молчали. Я протянул руку к М’Кола за новой обоймой, старательно прицелился, но промахнулся, и лишь на десятом выстреле перебил эту проклятую шею. Затем я отвернулся, даже не поглядев на свою жертву. — Бедный Папа, — сказала моя жена. — Солнце в глаза, да и ветер мешает, — заметил Старик (в то время мы с ним еще не были близко знакомы). — Все пули попадали в одно место. Я видел, как они вздымали пыль. — Я вел себя как упрямый осел, — сказал я. Так или иначе, я научился стрелять. Мне почти всегда везло, и я выходил из положения с честью. Мы остановились недалеко от лагеря и стали кричать. Никто не откликался. Наконец из палатки вышел Карл. Завидев нас, он скрылся, потом выглянул наружу. — Эй, Карл! — крикнул я. Он помахал мне рукой и снова скрылся в палатке. Затем вышел и зашагал к нам. Он дрожал от волнения, и я догадался, что он отмывал с рук кровь. — Что у вас там? — Носорог, — ответил он. — Случилось что-нибудь? — Нет. Мы застрелили его. — Вот здорово! Где же он? — Вон за тем деревом. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 43 Мы прибавили шагу. Возле дерева лежала только что отрезанная голова носорога, и какого носорога! Он был вдвое крупней моего. Глаза были закрыты, и в уголке одного из них, точно слеза, рдела капелька крови. Голова была огромная, рог красиво изогнут. Шкура в целый дюйм толщиной свисала складками позади головы и на месте среза белела, как свежий сок кокосового ореха. — Какой длины рог? Дюймов тридцать? — Ну нет, тридцати не будет, — возразил Старик. — И все же превосходная добыча, мистер Джексон, — вмешался Дэн. — Красавец! — Да, хорош, — согласился Старик. — Где вы убили его? — У самого лагеря. — Он стоял в кустах. Мы услышали, как он фыркает. — Мы даже подумали, что это буйвол, — сказал Карл. — Красавец! — повторил Дэн. — Я очень рад за вас, — сказал я Карлу. Так и стояли мы все трое. Мы искренне желали поздравить товарища, великодушно похвалить его носорога, чей малый рог был длиннее большого рога у зверя, добытого нами8, — этого громадного, великолепного носорога с кровавой слезкой в глазу, обезглавленного сказочного великана, но вместо этого разговаривали точно пассажиры на корабле перед приступом морской болезни или люди, потерявшие крупную сумму денег. Мы стыдились своего поведения, но ничего не могли с собой поделать. Я хотел сказать Карлу что-нибудь приятное и сердечное, но вместо этого спросил: — Сколько раз вы стреляли в него? — Право, не знаю. Мы не считали. Кажется, пять или шесть раз. — По-моему, пять, — сказал Дэн. Бедный Карл, принимая поздравления от трех друзей с такими постными лицами, уже чувствовал, как его радость победителя постепенно испаряется. — А мы тоже убили носорога, — сказала Мама. — Вот это здорово! — промолвил Карл. — Крупнее моего? — Нет, что вы! Он жалкий недомерок по сравнению с вашим. — Мне очень жаль, — сказал Карл просто и искренне. — Вот еще, о чем вам жалеть, когда вы подстрелили такого? Это же настоящая редкость. Постойте, я схожу за аппаратом и сфотографирую его. Я отправился за аппаратом. Мама шла рядом, взяв меня под руку. — Папа, пожалуйста, старайся вести себя по-человечески, — сказала она. — Бедный Карл! Вы испортили ему все удовольствие. — Знаю. Я ведь стараюсь, как только могу. Старик догнал нас и, услышав мои слова, покачал головой. — Никогда еще я не чувствовал себя так глупо, — сказал он. — Но успех Карла ошеломил меня, как удар под ложечку. Разумеется, я от души рад за него. — Я тоже. Мне даже хотелось, чтобы он перещеголял меня. Право же! Вы сами знаете. Но почему он не мог подстрелить отличного зверя с рогом на один, два, ну, пускай на три дюйма длиннее, чем у моего? Почему он непременно должен был посрамить меня? Наш носорог теперь просто смешон. 8 У африканских носорогов два рога — передний большой и позади него второй, значительно меньший. 44 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Зато вы можете гордиться своим выстрелом. — К черту выстрел! Проклятая судьба! Господи, до чего хорош этот его носорог! — Послушайте, возьмем себя в руки и докажем, что мы цивилизованные люди. — Мы вели себя ужасно! — сказала Мама. — Верно, — согласился я. — А между тем я все время старался быть любезным. Вы же знаете, что я от всей души рад его успеху. — Да, вы были любезны... оба, — протянула Мама. — А видели, что сделал М’Кола? — спросил Старик. М’Кола мрачно оглядел носорога, покачал головой и ушел. — Носорог и впрямь замечательный, — сказала Мама. — И если мы будем держать себя как порядочные люди, Карл мигом повеселеет. Но было уже поздно. Карл так и не повеселел, и от этого нам самим долгое время было совсем невесело. Носильщики наши вернулись в лагерь, и мы видели, как они, да и все остальные африканцы, пошли туда, где в тени деревьев лежала голова носорога. Все молчали. Только свежевальщик не скрывал своего восторга, увидев у нас в лагере такую добычу. — М’узури сана, — сказал он мне, измеряя рог растопыренными пальцами. — Кубва сана! — Ндио. М’узури сана, — согласился я. — Это бвана Кабор его убил? — Да. — М’узури сана... — Да, — подтвердил я. — М’узури сана. Свежевальщик оказался единственным джентльменом среди нас. Мы старались никогда не соперничать на охоте. Карл и я уступали друг другу лучшие места. Я искренне любил его, а он вообще был чужд эгоизма и всегда готов на самопожертвование. Я знал, что стреляю лучше Карла, да и на ногу я легче его, а все же моя добыча ничто перед его трофеями. У меня на глазах он сделал несколько невиданно скверных выстрелов, а я за все время осрамился лишь дважды — когда стрелял по той газели и еще по дрофе на равнине, но все-таки Карл всегда брал надо мной верх. Сначала мы над этим подшучивали, и я не сомневался, что возьму реванш. Однако мне это не удавалось. И вот теперь, охотясь на носорога, я решил попытать счастья на новом месте. Мы отправили Карла за мясом, а сами двинулись туда. Карла мы не обижали, но и не баловали — и теперь он все-таки затмил меня. И если бы только затмил, это бы еще куда ни шло! Но после его удачи собственный носорог казался мне таким жалким, что я не мог теперь украсить его головой свой дом в городке, где мы оба жили. Успех Карла зачеркнул все мои достижения. Мне оставалось лишь вспоминать об отличном выстреле, этого ничто не могло у меня отнять, но слишком уж хорош был выстрел, и я знал, что рано или поздно начну сомневаться: а вдруг это всего лишь случайная удача и для моей самоуверенности нет никаких оснований? Да, Карл всех нас заставил призадуматься. Теперь он писал письмо в своей палатке, а мы со Стариком сидели под тентом и обсуждали план дальнейших действий. — Так или иначе, он уже подстрелил носорога. Это сбережет нам время. Но теперь вы не сможете ограничиться сегодняшней добычей. — Да. ГЛАВА ПЯТАЯ 45 — Отсюда нам лучше убраться. Тут что-то неладно. Друпи говорит, что знает отличное место, — туда три часа езды на грузовике и еще около часа ходьбы. Мы можем отправиться сегодня вечером налегке, потом отошлем грузовики обратно, а Карл пусть едет с Дэном в Муту-Умбу и там охотится на сернобыка. — Прекрасно. — Кроме того, у него есть шансы сегодня вечером или завтра утром приманить леопарда на тушу носорога. Дэн говорит, что слышал рычание. А мы постараемся убить носорога в тех местах, о которых говорит Друпи, и потом вы все втроем будете охотиться на куду. Надо, чтобы на это осталось побольше времени. — Ладно, так и сделаем. — Если даже сернобык вам не попадется — это не важно. Рано или поздно случай представится. — Если даже и не представится — наплевать. Я согласен. С сернобыком можно подождать. А вот куду я очень хочу добыть. — И добудете. Можете не сомневаться. — Хоть бы одного, только одного, но зато хорошего! Плевал я на носорогов, на них только охотиться удовольствие, а так на что они мне? И все-таки хотелось бы убить такого, чтобы он был не хуже, чем у Карла. — Ну, разумеется. Мы изложили свой план Карлу, он сказал: — Ладно, будь по-вашему. Желаю вам убить носорога вдвое больше моего. Видно было, что он говорит искренне. И настроение у него улучшилось, как и у всех нас. Глава пятая Когда мы после долгой езды под палящим солнцем среди красноватых холмов, поросших чахлым кустарником, к вечеру достигли места, указанного Друпи, оно показалось нам отвратительным. Все деревья по соседству были окольцованы для уничтожения мухи цеце. Мы разбили лагерь напротив пыльной и грязной деревушки. Почва здесь была красная и до того выветрелая, что казалось, вот-вот вся она рассеется в воздухе. Наши палатки стояли на самом ветру, возле нескольких засохших деревьев над ручьем, неподалеку от глиняных хижин туземцев. Еще засветло мы с Друпи и двумя местными проводниками сделали вылазку за деревню, на высокий каменистый кряж, за которым лежала глубокая долина, почти каньон. В него с противоположной стороны крутыми зигзагами сбегали боковые долины. Они были покрыты густыми рощами и отделены друг от друга зелеными буграми, а выше, на горном кряже, раскинулся частый бамбуковый лес. Каньон спускался к Рифт-Велли, сужаясь в дальнем своем конце, где он рассекал скалистую стену этого ущелья. Дальше над отлогими кряжами высились холмы, сплошь одетые лесом. На первый взгляд местность была для охоты совсем не подходящая. — Если мы заметим какого-нибудь зверя вон на том склоне, придется лезть на самое дно каньона. А потом добираться до леса через эти чертовы овраги. При этом мы потеряем из виду зверя и легко можем свернуть себе шею. Здесь слишком круто. Эти лощины, такие безобидные с виду, похожи на ту, в которую мы как-то угодили ночью по дороге в лагерь. — Да, кажется, дело дрянь, — согласился Старик. 46 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — В совершенно такой же местности я охотился на оленей, — это было к югу от Лесной речки в Вайоминге. Склоны слишком крутые и неровные. Просто жуть! Завтра мы поплатимся за свое безрассудство. Мама не жаловалась: Старик привел нас сюда, он нас отсюда и выведет. У нее была одна забота — как бы сапоги не натерли ноги. Уже сейчас она ощущала легкую боль, и это было единственное, что ее беспокоило. Я продолжал распространяться о предстоящих трудностях, и мы вернулись обратно в темноте, угрюмые, сердясь на Друпи. Костер ярко пылал, раздуваемый ветром, а мы сидели у огня, наблюдали восход луны и слушали вой гиен. После нескольких стаканчиков виски будущее представилось нам уже в менее мрачном свете. — Друпи клянется, что это хорошее место, — сказал Старик. — Правда, вел он нас не сюда, а куда-то дальше. Но он уверяет, что и здесь ничуть не хуже. — Я люблю Друпи, — сказала Мама. — Я ему доверяю. Друпи подошел к костру в сопровождении двоих африканцев с копьями в руках. — Ну, в чем там дело? — спросил я. Африканцы что-то залопотали, а потом Старик сказал: — Один из этих молодцов уверяет, что сегодня за ним гнался огромный носорог. Конечно, в такую минуту всякий носорог покажется огромным. — Спросите у него, какой длины был рог. Африканец показал, что рог был длиной с его руку. Друпи ухмыльнулся. — Ну ладно, ступайте, — сказал Старик. — Где это произошло? — Ах, где-нибудь “в той стороне”, — ответил Старик. — Вы же знаете. Там, где всегда происходят подобные вещи. — Ну и чудесно. Мы ведь тоже собираемся куда-то “в ту сторону”. — Самое главное, что Друпи не унывает, — сказал Старик. — Он, видимо, уверен в успехе. Это его затея, ему и отвечать за нее. — Да, но лазить по горам придется нам с вами! — Подбодрите же вашего супруга, — обратился Старик к Маме. — Он даже меня способен привести в уныние. — Может, поговорим о том, как метко он стреляет? — Нет, еще рано. И я вовсе не расстроен. Просто я уже бывал в подобных переделках. Ну, да ничего, нам это на пользу. А вы, батенька, поменьше бы хорохорились! На другой день я убедился, что был совершенно неправ, когда ругал местность. Мы позавтракали спозаранку и двинулись в путь еще до восхода солнца. На холм за деревушкой мы поднялись гуськом — впереди шел местный проводник с копьем, за ним Друпи с моим ружьем и флягой, за Друпи — я со спрингфилдом. Старик с манлихером, Мама, довольная тем, что она, как всегда, идет налегке, М’Кола с двустволкой Старика и второй флягой, а в самом хвосте — два местных жителя с копьями несли брезентовые мешки с водой и ящик с провизией. Мы решили переждать полуденную жару где-нибудь в тени, а в лагерь вернуться только поздно вечером. Приятно было взбираться на этот холм по утреннему холодку — совсем не то, что вчера на закате, когда раскаленные камни и земля еще дышали дневным зноем. Тропинка, по которой, видимо, постоянно ходил ГЛАВА ПЯТАЯ 47 скот, прежде очень пыльная, сейчас была влажной от росы. Вокруг виднелось много гиеньих следов, а когда тропинка вывела нас на серую каменистую гряду, с которой открывался вид на глубокое ущелье, и дальше пошла по его краю, мы заметили на одной из пыльных площадок под скалой свежий след носорога. — Он только что прошел, — сказал Старик. — Должно быть, они бродят здесь по ночам. Внизу виднелись макушки высоких деревьев, росших на дне ущелья, а в просвете между ними блестела вода. Впереди был крутой холм и лощины, уже обследованные нами накануне. Друпи и местный проводник, тот самый, за которым гнался носорог, о чем-то пошептались, потом начали спускаться по крутой тропе на дно ущелья. Мы остановились. До тех пор я не замечал, что моя жена хромает, а теперь вдруг вспыхнула супружеская ссора, и оба мы, переругиваясь шепотом, пришли в праведное негодование, под которым таилась давняя досада из-за всяких башмаков и прочей обуви, которую невозможно было носить, а теперь причиной были ее тесные сапоги. Правда, они жали уже меньше, потому что мы обрезали спереди толстые и короткие шерстяные носки, которые она надевала поверх обычных, а потом и вовсе сняли их, после чего сапоги стало можно носить. Но при спуске с крутого склона эти испанские охотничьи сапоги опять надавили ей в пальцах, и теперь снова начался старый спор о размере сапог и о том, правильно ли поступил сапожник, на сторону которого я в свое время встал, сперва чисто случайно, потому что был за переводчика, а потом стал горячим приверженцем его теории, и мне казалось, что он поступил повеем законам логики, сделав за счет носка припуск в пятке. Но теперь сапоги жали, и это было сильнее всякой логики, и тут был бесполезен довод, что новые сапоги всегда жмут первые несколько недель, покуда не разносятся хорошенько. Теперь, когда толстые носки были сняты, она осторожно сделала несколько шагов, пробуя, не давит ли грубая кожа на пальцы, и спор наш прекратился, и ей вовсе не хотелось выглядеть страдалицей, а напротив, хотелось держаться бодро, чтобы понравиться мистеру Дж. Ф., а я стыдился, что вел себя как последний подлец из-за этих сапог и сунулся со своим праведным негодованием, когда ей было больно, и вообще стыдился праведного негодования, какое когда-либо испытывал, и, остановившись, шепнул ей об этом, и оба мы растянули лица в улыбке, и все было опять в порядке, и сапоги тоже, без толстых носков они стали гораздо удобнее, и я теперь ненавидел всех праведных идиотов и в особенности одного отсутствующего американского друга, чувствуя, что только сию минуту сам перестал быть таким и, уж конечно, никогда больше не буду, и поглядывал на Друпи, который шел впереди, а тем временем мы спустились с длинного склона по тропе на дно ущелья, где росли толстые и высокие деревья, и дно его, которое сверху казалось узкой бороздой, раздалось вширь, а внизу, меж деревьев, текла река. Мы остановились в тени деревьев с мощными гладкими стволами, от которых понизу, точно артерии, расходились круглые, толстые корни: желтоватая зелень этих деревьев напоминала омытый дождем лес в зимний день где-нибудь во Франции. Но здесь деревья были развесистые, одетые пышной листвой, а подними со дна ручья, подобно папирусу, тянулся тростник высотой футов в двенадцать, густой, как пшеница в поле. Вдоль ручья шел звериный след, и Друпи, нагнувшись, стал его разглядывать. К нему подошел М’Кола, тоже всмотрелся, 48 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ и оба они прошли немного вперед, низко склонившись к земле, затем возвратились к нам. — Ниати, — тихо сказал М’Кола. — Буйвол. — А Друпи шепнул что-то Старику, и тот своим негромким, хрипловатым от виски голосом сказал нам: — Стадо буйволов прошло вниз по реке. Друпи говорит, что среди них есть несколько крупных. Обратно они не возвращались. — Выследим их, — сказал я. — Убить второго буйвола мне хочется больше, чем носорога. — С таким же успехом мы можем наткнуться и на носорога, — заметил Старик. — Что за дивные места! — воскликнул я. — Превосходные, — подтвердил Старик. — Кто бы мог подумать! — Деревья как на картинах Андре9, — сказала Мама. — Какая красота! Взгляните на эту лужайку. Чем не Массон10? Жаль, что здесь нет хорошего художника. — Как твои сапоги, не жмут? — Ничуть. Мы шли по следу буйволов очень медленно и бесшумно. Ветра не было, но мы знали, что когда он поднимется, то будет дуть с востока, вверх по ущелью, нам в лицо. Мы двигались по звериной тропе вдоль ручья, и чем дальше, тем трава становилась выше. Дважды приходилось ложиться и ползти, а тростник рос так густо, что уже в двух футах ничего не было видно. Друпи обнаружил в иле свежий след носорога. Я уже гадал, что будет, если огромный и неуклюжий носорог появится в этом узком проходе, и что сделает тогда каждый из нас. Волнующая встреча, но мне она была не по душе! Слишком уж это место похоже на западню, а ведь со мной жена. Вскоре мы достигли излучины реки, вышли из высокой травы на берег, и я отчетливо уловил звериный запах. Я не курю, и во время охоты на родине мне несколько раз случалось учуять лосей в брачную пору, еще не видя их. Я могу также без труда найти в лесу по запаху лежбище какого-нибудь старого самца: лось-самец распространяет резкий, но приятный аромат мускуса, хорошо мне знакомый. Но здесь я учуял какой-то совсем новый для меня запах. — Я чую их, — шепнул я Старику. Он сразу поверил мне. — А кого? — Нe знаю, но запах очень сильный. Вы его не чувствуете? — Нет. — Спросите у Друпи. Друпи кивнул, и усмехнулся. — Местные жители нюхают табак, — сказал Старик. — Так что не знаю, могут ли они слышать звериные запахи. Тут тростник был выше человеческого роста, и мы шли с величайшей осторожностью, бесшумно, точно во сне. Теперь я уже все время чуял запах каких-то неизвестных животных совершенно явственно, но он становился то сильнее, то слабее. Мне это очень не нравилось: мы шли у самого берега, а след уводил прямехонько в длинное болото, поросшее еще более высоким тростником, чем тот, сквозь который мы продирались. 9 Жюль Андре — французский художник XIX века, известный своими пейзажами. Антуан Массон — французский художник и гравер XVII века. 10 ГЛАВА ПЯТАЯ 49 — Я чувствую, что они совсем рядом, — шепнул я Старику. — Серьезно! Можете мне поверить. — Да я верю! — ответил Старик. — Может, нам лучше подняться на берег и поверху обойти это место? — Пожалуй. Когда мы взобрались наверх, я сказал: — Этот высокий тростник меня в ужас приводит. Не хотелось бы мне охотиться там! — А что, если бы вам пришлось охотиться в таком тростнике на слона? — Нет, на это я бы не решился. — Неужели на слонов охотятся в таких высоких зарослях? — спросила Мама. — Бывает, — ответил Старик. — И тогда, чтобы стрелять, залезаешь к комунибудь на плечи. “Есть же такие молодцы! — подумал я. — Но это не по мне”. Мы двинулись по правому берегу, через открытое место, огибая болото с высоким сухим тростником. На другом берегу росли могучие деревья, а над ними высилась крутая стена ущелья. Ручей был скрыт от нас. Справа громоздились холмы, местами поросшие кустарником. Впереди, за болотом, русло ручья суживалось и ветви деревьев почти смыкались над ним. Вдруг Друпи схватил меня за плечо, и мы оба присели. Он сунул мне в руки двустволку, а сам взял спрингфилд, потом указал вперед, и за излучиной я увидел голову носорога с великолепным длинным рогом. Голова поворачивалась из стороны в сторону, и мне удалось разглядеть настороженно шевелившиеся уши и маленькие, как у кабана, глазки. Я отвел предохранитель и знаком приказал Друпи лечь. Но тут М’Кола сказал: “Того! Того!” — и вцепился мне в руку. Друпи тоже быстрым шепотом твердил: “Манамуки! Манамуки! Манамуки!” — оба они умоляли меня не стрелять, так как это была самка с детенышем. Когда я опустил ружье, она фыркнула и побежала прочь через тростник. Детеныша я так и не увидел. Заметно было, как колышется тростник там, где оба зверя продирались сквозь него, потом все стихло. — Экая досада! — пробормотал Старик. — А какой рог! — Я чуть ее не ухлопал, — отозвался я. — Не разглядел, что это самка. — М’Кола видел детеныша. М’Кола что-то шептал Старику и выразительно кивал головой. — Он говорит, что там есть еще один носорог, — объяснил Старик. — Он слышал фырканье. — Поднимемся выше, оттуда будет видно, если они вылезут, и швырнем что-нибудь в тростник. — Неплохо придумано, — согласился Старик. — Быть может, там и самец. Мы прошли берегом чуть повыше, откуда можно было оглядеть заросли тростника. Старик держал ружье наготове, я тоже взвел курок, после чего М’Кола швырнул палку туда, где услышал шум. Ответом было звучное фырканье, но тростник не дрогнул, не шелохнулся. Затем вдали раздался треск и тростник заколыхался, — наверное, какой-то зверь бежал к противоположному берегу, но какой именно, мы не видели. Через минуту мне удалось разглядеть черную спину и широко раскинутые, остроконечные рога буйвола, взбегавшего 50 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ на крутой берег. Он двигался быстро, вытянув шею и подняв увенчанную рогами голову, холка его напряглась, как у разъяренного быка. Я прицелился, но Старик неожиданно остановил меня. — Это мелкий буйвол, — сказал он тихо. — На вашем месте я не стал бы его убивать — разве только на мясо. Но мне казалось, что буйвол очень большой. Он стоял боком, повернув голову в нашу сторону. — У меня лицензия еще на трех буйволов, а там, куда мы скоро переберемся, они не водятся, — возразил я. — Мясо-то у него превкусное, — буркнул Старик. — Ну что ж, стреляйте. Но будьте начеку, после выстрела из тростника может выскочить носорог. Я присел, ощущая в руках непривычную тяжесть двустволки, прицелился буйволу под лопатку, нажал на спуск, но выстрела не последовало. У спрингфилда спуск легкий, безотказный, а тут мне показалось, будто курок заклинился. Это было похоже на кошмарный сон, когда пытаешься выстрелить и не можешь. Мне не удалось выжать спуск, но я справился с собой, затаил дыхание и снова потянул спуск. Внезапный рывок — и ружье выпалило с оглушительным грохотом. Однако буйвол и не думал падать, он кинулся влево, вверх по склону. Тогда я выстрелил из второго ствола, и у задних ног буйвола брызнули каменные осколки. Прежде чем я успел перезарядить ружье, он был уже вне выстрела. И тут-то мы услышали фырканье и треск — это еще один носорог выскочил из дальнего конца тростниковых зарослей и кинулся к высоким деревьям на нашем берегу, лишь на секунду мелькнув у нас перед глазами. — Это самец, — сказал Старик. — Он ушел вниз по ручью. — Ндио. Думи! Думи! — настойчиво твердил Друпи, подтверждая, что это самец. — А ведь я ранил проклятущего буйвола, — сказал я. — Не знаю только куда. Ох, уж эти мне двустволки! Слишком тугой спуск. — Из спрингфилда вы убили бы его, — заметил Старик. — Или, по крайней мере, знал бы точно, куда попала пуля. Я-то думал, что из двустволки либо уложу его наповал, либо промахнусь. А оказывается, я его только ранил. — Далеко ему не уйти, — сказал Старик. — Выждем. — Боюсь, что я прострелил ему брюхо. — Как знать! Хоть он и мчался что есть духу, но мог свалиться через какуюнибудь сотню шагов. — Проклятое ружье! Не умею я стрелять из него. Спуск действует, как консервный ключ, когда открываешь коробку сардин. — Пойдемте, — сказал Старик. — Здесь бродит уйма носорогов. — А как же буйвол? — Никуда не денется. Пусть потеряет силы и свалится где-нибудь. — Вообразите, вдруг мы оказались бы внизу, когда все эти звери выскакивали из тростника! — М-да, — хмыкнул Старик. Все это говорилось шепотом. Я взглянул на жену. У нее был такой вид, словно она наслаждалась интересным спектаклем. — Ты не заметила, куда он ранен? — Не заметила. Как ты думаешь, в тростнике прячется еще кто-нибудь? ГЛАВА ПЯТАЯ 51 — Их там тысячи. Ну так как же, Старик? — Может, ваш буйвол лежит где-нибудь за излучиной. Пойдем, поищем его. Мы зашагали берегом, взвинченные до крайности, и когда подошли к узкому краю тростниковых зарослей, услышали, что какой-то грузный зверь продирается среди высоких стеблей. Я вскинул ружье и ждал его появления. Но он не показывался, только тростник все колыхался. М’Кола сделал мне знак не стрелять. — Это детеныш, — сказал Старик. — Должно быть, их было два. Но куда же запропастился чертов буйвол? — Откуда вы знаете, что это детеныш? Ведь его не видно. — Сужу по треску в зарослях. Мы стояли, оглядывая воду, тенистый берег с высокими деревьями и уходящее вдаль русло ручья, как вдруг М’Кола указал на холм справа от нас. — Фаро, — пробормотал он и протянул мне бинокль. Там, на скате холма, подняв голову, глядя в нашу сторону, насторожив уши и поводя мордой, стоял носорог. В бинокль он показался мне огромным. Старик тоже разглядывал его в свой бинокль. — Он не лучше того, которого вы убили раньше, — сказал он тихо. — Сейчас я могу всадить ему пулю прямо в шею! — Вы имеете право убить еще только одного, — возразил Старик. — И вам нужен хороший экземпляр. Я протянул Маме бинокль, но она не взяла его. — Мне и так хорошо видно. Экая громадина! — Как бы он на нас не бросился, — сказал Старик. — Тогда уж вам волейневолей придется стрелять. Тем временем из-за большого дерева с кудрявой верхушкой показался еще один носорог. Этот был чуточку поменьше. — Ей-богу, детеныш, — сказал Старик. — А вон то самка. Хорошо, что вы не выстрелили. Она наверняка бросилась бы на нас. — Неужели опять та же самка? — Нет. У той был здоровенный рог. Нами овладело нервное возбуждение, какая-то почти хмельная веселость, как всегда при виде чрезмерного до нелепости обилия дичи. Такое чувство может появиться у человека в любую минуту, когда редкий зверь или рыба вдруг попадается в невероятном количестве. — Поглядите на нее. Она подозревает неладное, хотя не видит и не чует нас. — Так ведь она слышала выстрелы. — Она уже догадывается, что люди близко, но не может понять где. Самка, такая большая и потешная, что ею можно было залюбоваться, стояла на самом виду, и я прицелился ей в грудь. — Вот бы сейчас выстрелить! — Еще бы, — согласился Старик. — Что же вы решили делать? — спросила практичная Мама. — Обойдем ее, — отвечал Старик. — Если проберемся низом, не думаю, чтобы она нас учуяла. — Как знать. Еще, чего доброго, нападет! Но она на нас не напала, только опустила голову и побрела вверх по холму вместе со своим почти взрослым детенышем. 52 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Теперь пусть Друпи идет вперед и поищет следы самца. А мы пока посидим тут, — сказал Старик. Мы сели в тени. Друпи и местный проводник, обследовав оба берега, вернулись и сообщили, что носорог ушел вниз по ручью. — Не заметил кто-нибудь, какой у него por? — спросил я. — Друпи говорит, что большой. М’Кола сделал несколько шагов вверх по холму. Вдруг он пригнулся и стал подавать нам знаки. — Ниати, — сказал он, приставив руку к глазам. — Где? — спросил Старик. М’Кола указал, пригнулся еще ниже и, когда мы подползли к нему, протянул мне бинокль. Животные были ниже по ручью, далеко от нас, на верхнем выступе крутого склона в дальнем конце ущелья; мы насчитали сначала шесть, а потом и восемь буйволов, черных, с массивными шеями и блестящими рогами. Одни паслись, другие стояли, подняв головы, и осматривались. — Вон тот — самец, — объявил Старик, глядя в бинокль. — Который? — Второй справа. — А по-моему, они все самцы. — На таком расстоянии ошибиться не мудрено. А тот справа — очень хорош. Теперь давайте перейдем ручей и попробуем подкрасться к ним сверху. — А они не уйдут? — Нет. Вернее всего спустятся к воде, когда станет жарче. — Хорошо, идем. Мы перебрались на другой берег, перескакивая с бревна на бревно, а там обнаружили плотно утоптанную звериную тропу, которая тянулась над берегом в густой тени деревьев. Мы зашагали по ней быстро и бесшумно; ручей под нами почти скрывала завеса ветвей. Было раннее утро, но уже поднимался ветерок и листья шелестели над нашими головами. Миновав овраг, сбегавший в ручей, мы укрылись в кустарнике, чтобы звери нас не заметили, затем, пройдя за деревьями, очутились на небольшой прогалине и под прикрытием широкой скалы взобрались на холм, чтобы подойти к буйволам сверху. Мы остановились за этой скалой, и я, обливаясь потом, заткнул платок под шляпу и послал Друпи на разведку. Вскоре он вернулся и сообщил, что буйволы скрылись. Сверху мы не могли их видеть, поэтому пересекли овраг и скат холма, чтобы отрезать им путь к воде. Склон соседнего холма был выжжен, у его подошвы торчал горелый кустарник. На пепле виднелись следы буйволов, которые ушли в густые заросли. Непролазная чаща, плотно перевитая лианами, заставила нас отказаться от преследования. Вниз по ручью следов не было, из чего мы заключили, что буйволы на берегу, в том месте, которое мы осматривали со звериной тропы. Старик сказал, что здесь у нас ничего не выйдет: деревья растут так густо, что если даже мы выгоним буйволов, стрелять все равно бесполезно. Мы не сможем отличить самцов от самок, сказал он. Видна будет только сплошная черная масса. Старого самца узнают по серой шкуре, но хороший стадный самец бывает так же черен, как самка. А поэтому не имеет смысла спугивать их здесь. Было уже десять часов, и под открытым небом становилось очень жарко, солнце пекло, а ветер поднимал вокруг нас тучи пепла. Все живое в эту пору забивается в чащу, под защиту ветвей. Мы тоже решили отыскать тенистое местечко, полежать там в холодке и почитать, а потом позавтракать и таким ГЛАВА ПЯТАЯ 53 образом скоротать жаркое время дня. Пройдя мимо лесного пожарища, мы спустились к ручью и сделали привал у купы могучих деревьев. Вынули из тюков кожаные куртки и плащи и разостлали их на траве под деревьями, чтобы можно было сидеть, прислонясь спиной к стволам. Мама достала книги, а М’Кола развел небольшой костер и принялся кипятить воду для чая. Подул ветерок и зашумел высоко в листве. В тени было прохладно, но стоило высунуть нос на солнце или случайно, когда тень передвинется, подставить горячим лучам руку или ногу, как жара сразу же давала себя знать. Друпи ушел вниз по ручью на разведку, а мы лежали и читали; я чувствовал, как надвигается зной, он сушил росу и нагревал листья, а солнце огненными стрелами пронзало воду ручья. Мама читала “Испанское золото” Джорджа А. Бирмингама11 и говорила, что роман этот плохой, у меня все еще были “Севастопольские рассказы” Толстого, и в этом же томике я читал повесть “Казаки” — очень хорошую повесть. Там был летний зной, комары, лес — такой разный в разные времена года — и река, через которую переправлялись в набеге татары, и я снова жил в тогдашней России. Я думал о том, как реальна для меня Россия времен нашей Гражданской войны, реальна, как любое другое место, как Мичиган или прерии к северу от нашего города и леса вокруг птичьего питомника Эванса, и я думал, что благодаря Тургеневу я сам жил в России, так же как жил у Будденброков и в “Красном и черном” лазил к ней в окно, а еще было то утро, когда мы вошли в Париж через городские ворота и увидели, как Сальседа привязали к лошадям и четвертовали на Гревской площади. Все это я видел сам. И ведь это меня так и не вздернули на дыбу, потому что я был изысканно вежлив с палачом, когда нас с Кокона казнили, и я помню Варфоломеевскую ночь, и как мы ловили гугенотов, и я попал тогда в засаду у нее в доме, и то ни с чем не сравнимое по своей неподдельности чувство, когда я убедился, что ворота Лувра закрыты, или когда смотрел на его тело, видневшееся под водой в том месте, куда он свалился с мачты, и опять Италия — она лучше любой из книг, и как я лежал в каштановой роще, а осенью в туман ходил мимо собора через весь город в Ospedale Maggiore, сапоги, подбитые гвоздями, постукивали по булыжнику, а весной внезапные ливни в горах и армейский запах — точно медяшка во рту. И в самый зной поезд остановился в Дезенцано, и совсем рядом было озеро Гарда, а те войска оказались Чешским легионом, а в следующий раз лил дождь, а еще в следующий раз это было ночью, а потом я проезжал мимо этого озера на грузовике, а потом видел его, возвращаясь откудато, а потом подходил к нему в темноте со стороны Сермионе. Потому что мы были там и в книгах, и не в книгах, — а там, где бываем мы, если только мы чего-нибудь стоим, там вслед за нами удается побывать и вам. Земля в конце концов выветривается, и пыль улетает с ветром, все ее люди умирают, исчезают бесследно, кроме тех, кто занимался искусством. Но теперь они хотят отойти от своей работы, потому что им слишком одиноко, потому что эта работа слишком трудна и вышла из моды. Экономика тысячелетней давности кажется нам наивной, а произведения искусства живут вечно, но создавать их очень трудно, а сейчас к тому же и не модно. Люди не хотят больше заниматься искусством, потому что тогда они будут не в моде и вши, ползающие по литературе, не удостоят их своей похвалой. 11 Джордж Бирмингам — псевдоним английского романиста Джеймса Хэнни. Приключенческий роман “Испанское золото” (1908) — наиболее известное из его произведений. 54 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ И дело это трудное. Как же быть? А вот так. И я продолжал читать о реке, через которую переправлялись в набеге татары, о пьяном старике охотнике, о девушке и о том, как по-разному там бывает в разные времена года. Старик читал “Ричарда Карвелла”12. Мы скупили все, что имелось в Найроби, и теперь наши книжные запасы подходили к концу. — Я эту книжку раньше читал, — сказал Старик, — но книжка хорошая. — Я ее смутно помню. Но книжка действительно хорошая. — Очень хорошая книжка, только жаль, что уже читана. — А у меня ужасная, — сказала Мама. — Ты ее не одолеешь. — Хочешь мою? — Какая галантность, — сказала она. — Нет, я уж эту дочитаю. — Бери, чего там. — Я тебе ее тут же верну. — Эй, М’Кола, пива! — крикнул я. — Ндио, — выразительно произнес он и достал из ящика, который один из туземцев все время нес на голове, оплетенную соломой бутылку немецкого пива, одну из тех шестидесяти четырех бутылок, что Дэн привез с немецкого торгового склада. Горлышко ее было обернуто серебряной фольгой, а на черножелтой этикетке красовался всадник в доспехах. Пиво еще не успело нагреться, и когда я открыл бутылку и наполнил три кружки, оно запенилось, тяжелое и густое. — Нет, — сказал Старик. — Это яд для печени. — Пейте, ничего с вами не случится! — Ну, так и быть. Мы все выпили, но когда М’Кола открыл вторую бутылку. Старик отказался наотрез. — Пейте сами, раз вы его так любите. А я, пожалуй, вздремну. — А тебе налить, старушка? — Только капельку. — Что ж, мне больше достанется. М’Кола улыбался и качал головой, глядя на нас. Я сидел, прислонясь к дереву, глядел на облака, гонимые ветром, и тянул пиво прямо из бутылки. Так оно дольше оставалось холодным, это превосходное пиво. Скоро Старик и Мама уснули, а я опять принялся за Толстого и стал перечитывать “Казаков”. Прекрасная повесть! Когда они проснулись, мы позавтракали хлебом и холодным мясом с горчицей, открыли банку консервированных слив и выпили третью, последнюю, бутылку пива. Потом почитали еще немного, и уже все трое улеглись спать. Я проснулся от жажды и стал отвинчивать пробку у фляги с водой, как вдруг послышалось фырканье носорога и треск кустов около ручья. Старик не спал и тоже услышал это, мы схватили ружья и, ни слова не говоря, бросились к тому месту, откуда доносился шум. М’Кола отыскал след: носорог шел вверх по ручью. Очевидно, он почуял нас только шагах в тридцати и побежал прочь. Мы не могли идти по следу, так как ветер дул бы нам в спину, а потому сделали крюк в сторону и вернулись к гари, после чего осторожно, с подветренной стороны, двинулись к ручью через густой кустарник. Однако носорога не было уже и в 12 “Ричард Карвелл” — роман У. Черчилла (1871). ГЛАВА ПЯТАЯ 55 помине. После долгих поисков Друпи определил, что он перебрался на другой берег и ушел в холмы. Судя по следу, он был не особенно крупный. Если бы мы выбрались из ущелья, до лагеря все равно было еще добрых четыре часа ходьбы в гору;] кроме того, нужно было выследить раненого буйвола, и поэтому, снова вернувшись к гари, мы решили взять с собой Маму и отправиться дальше. Зной еще держался, но солнце начинало уже клониться к западу, и большая часть нашего пути лежала по высокому тенистому берегу ручья. Когда мы пришли. Мама притворилась возмущенной тем, что мы бросили ее, но, разумеется, она хотела только подразнить меня и Старика. Друпи и туземец с копьем повели нас по затененной тропке, которую солнце, пробиваясь сквозь листву, кое-где испещрило яркими пятнами. Вместо свежего утреннего лесного запаха нас встретила здесь мерзкая вонь, словно где-то нагадили кошки. — Что это так смердит? — шепотом спросил я у Старика. — Бабуины, — ответил он. Целое стадо этих обезьян побывало здесь незадолго перед нами, и помет их попадался на каждом шагу. Мы пришли туда, где выскочили из тростника носороги и буйвол, и я отыскал место, где, по моему мнению, находился буйвол в момент выстрела. М’Кола и Друпи шныряли вокруг, как ищейки, и мне казалось, что они забрали, по крайней мере, на пятьдесят шагов выше, чем следует, как вдруг Друпи, подобрав какой-то листок, издали показал его нам. — Он увидел кровь, — сказал Старик. Мы подошли. На траве было много крови, уже почерневшей, и отчетливо заметный след. Друпи и М’Кола двинулись по этому следу, торжественно указывая длинными былинками на каждое пятно крови. Мне всегда казалось, что одному следопыту лучше двигаться медленно, а другому уйти вперед, но они шагали бок о бок, по обе стороны следа, опустив головы, указывая на каждую капельку крови, и всякий раз, когда, сбившись со следа, вновь находили его, наклонялись, чтобы сорвать листок или травинку с темным пятнышком. Я шел позади со спрингфилдом в руках, за мной Старик, за Стариком Мама. Друпи нес мою двустволку, а Старик не выпускал из рук свой карабин. У М’Кола за спиной висел манлихер Мамы. Все молчали, как люди, занятые серьезным делом. Там, где буйвол прошел по высокой траве, на ней виднелись пятна крови, — значит, пуля прошла навылет. Сейчас уже трудно было определить первоначальный цвет крови, и я льстил себя надеждой, что прострелил буйволу легкие. Однако мы заметили на камнях помет с кровью, и дальше такой кровавый помет буйвол оставлял всюду, где ему приходилось взбираться по склону. Похоже было, что пуля пробила кишки или желудок. Я не мог избавиться от чувства стыда. — Если он кинется на нас, не тревожьтесь за Друпи и остальных, — сказал Старик, понизив голос. — Они успеют спастись. Сразу же стреляйте и остановите его. — Пальну ему прямо в нос, — отозвался я. — Только, пожалуйста, без фокусов, — предупредил он. След уводил нас все выше, потом дважды описал круг и некоторое время беспорядочно петлял между скалами. Дальше он неожиданно спустился к речке, пересек один из ее притоков и, снова возвратясь на берег, потянулся среди деревьев. 56 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Буйвола мы, наверное, найдем уже мертвым, — шепнул я Старику. Видя, какой бесцельный крюк сделал буйвол, я представил себе, как он плелся здесь, тяжело раненный, изнемогающий, готовый вот-вот свалиться. — Надеюсь, — отозвался Старик. Но след вел все дальше и дальше, а трава постепенно редела, и находить его становилось все труднее. Я совсем перестал различать отпечатки копыт, угадывая путь буйвола лишь по темным брызгам запекшейся крови на камнях. Несколько раз мы совершенно сбивались со следа, и тогда три человека начинали рыскать вокруг, потом кто-нибудь снова находил этот след, шепотом бросал: “Даму”, — и мы шли дальше. Наконец след, спускаясь по скалистому откосу, освещенному последними лучами солнца, привел нас к широкой полосе необычайно высокого сухого тростника. Здесь, у ручья, тростник был даже выше и толще, чем на болоте, откуда утром выскочил буйвол, и мы заметили в зарослях несколько звериных троп. — Мемсаиб лучше туда не ходить, — сказал Старик. — Пусть останется здесь с М’Кола, — согласился я. — Ей вовсе незачем туда идти, — повторил Старик. — И зачем только мы вообще взяли ее с собой! — Друпи настаивает, чтобы мы шли вперед. А она может подождать нас здесь. Друпи не хочет останавливаться. — Правильно. Надо взглянуть, что там дальше. — Подожди здесь с М’Кола, — бросил я жене через плечо. Мы двинулись вслед за Друпи через густой тростник, который был футов на пять выше нас, осторожно шагая по тропе, затаив дыхание, и я вспоминал буйвола, которого видел в тот раз, когда мы убили сразу трех: старый самец выскочил тогда из кустарника, качаясь, как пьяный, и я разглядел его рога, бугристый лоб, вытянутую вперед морду, маленькие глазки, видел, как на серой шее под редкой шерстью перекатываются мускулы и комки жира, — в нем чувствовалась могучая сила и ярость, и я глядел на него с восхищением и даже некоторым почтением; но бежал он медленно, и при каждом выстреле я чувствовал, что пуля попадает в цель и ему не уйти. Сейчас все происходило не так: пули не сыпались на ошеломленного буйвола, его даже не было видно; я помнил, что, если он высунется, я должен хладнокровно выстрелить в него. Он, конечно, сразу пригнет рога, как всегда делают быки, и откроет самое уязвимое место, а я выстрелю снова, затем должен буду отскочить в сторону, и если при этом не смогу удержать в руках винтовку, придет черед Старика. Впрочем, я не сомневался, что успею выстрелить и отскочить, если только у меня хватит терпения выждать, пока из чащи высунется голова буйвола. Я знал, что сумею сделать это и выстрел будет смертельным. Но сколько еще ждать? В этом было все дело. Сколько ждать? Я шагал вперед в уверенности, что он здесь, и испытывал самое приятное из всех чувств — воодушевление перед решительной схваткой, в которой мне предстоит сыграть не последнюю роль, и все казалось таким простым: я убью его, убью, не думая об опасности, а потому без всякого страха и чувства ответственности, никого этим не опечалив, — нужно лишь сделать то, что я, безусловно, могу сделать. И я бесшумно двигался вперед, упершись взглядом в широкую спину Друпи и не забывая протирать очки. Вдруг сзади послышался шум, я обернулся. Моя жена и М’Кола шли следом за нами. — Это еще что за фокусы! — воскликнул Старик. Он был вне себя. ГЛАВА ПЯТАЯ 57 Мы отвели Маму на берег ручья и объяснили, что она должна оставаться там. Оказалось, она не поняла, чего мы от нее хотим. Она слышала, как я прошептал что-то, и решила, что я ей велю идти за М’Кола. — Как я перепугался! — сказал я Старику. — Она бежит за нами, как верный маленький терьер, — ответил он. — Это никуда не годится. Мы выглянули из тростника. — Друпи хочет идти еще дальше, и я от него не отстану; когда он скажет “довольно”, мы прекратим погоню. В конце концов, я же прострелил брюхо этой зверюге. — Только не делайте глупостей. — Я уложу его первым же выстрелом. Только бы он появился! Все еще не оправившись от испуга, пережитого из-за жены, я в рассеянности заговорил слишком громко. — Идем, — сказал Старик. Мы пошли дальше за Друпи, а заросли становились все гуще и гуще; не знаю, что чувствовал Старик, но я уже на полпути взял у М’Кола двустволку и взвел курки, держа палец на спуске; нервы мои были напряжены до крайности, когда Друпи наконец остановился, покачал головой и пробормотал: “Хапана”. Тростники стали настолько густыми и так переплелись между собой, что мы не могли ничего видеть уже на расстоянии фута. Дело было плохо, и притом солнце освещало теперь только склон холма. Но мы оба были довольны тем, что Друпи вынужден по собственному почину прекратить погоню, и я вздохнул с облегчением. В этих зарослях план охоты, который я рисовал себе, оказался бы просто нелепостью, и оставалось только надеяться, что если я промахнусь, то уж Старик непременно пристрелит зверя: у него отличный карабин, у меня же — дрянная винтовка сорок седьмого калибра, единственное достоинство которой, как я успел убедиться, — громоподобный бой. Мы искали тропу, когда с холма послышались крики носильщиков, и мы, прокладывая себе путь в тростниках, кинулись наверх, туда, откуда удобно было стрелять. Носильщики махали нам руками и кричали, что буйвол вышел из тростника и пробежал мимо них, потом М’Кола и Друпи стали указывать куда-то, а Старик, схватив меня за рукав, потащил на другое место, откуда я мог видеть, что происходит. В лучах заходящего солнца я разглядел на фоне каменистого ската почти у вершины холма двух буйволов. Их черные шкуры блестели, один был гораздо крупнее другого, и, помнится, я подумал, что это, должно быть, наш буйвол, он встретил самку, а она увлекла его за собой. Друпи протянул мне спрингфилд, я продел руку в ремень и, вскинув ружье, увидел сквозь прорезь всего буйвола. Внутри у меня все замерло, и я прицелился ему под лопатку, но только хотел нажать спуск, как буйвол бросился прочь; и все же выстрел опередил его. Я видел, как он, нагнув голову, взвился на дыбы, словно лошадь, потом метнулся вверх по холму, а я выбросил гильзу, рванул рукоятку затвора и послал еще одну пулю вдогонку зверю, уверенный, что этот выстрел для него смертелен. Мы с Друпи побежали за ним, и я услышал низкий рев. Я приостановился и крикнул Старику: — Вы слышите? Он мой! — Вы ранили его, — ответил Старик. — Это так. — Говорю вам, я его убил. Разве вы не слышали рев? — Нет. 58 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Тогда слушайте. — Мы стояли, насторожившись, и вот снова раздался протяжный, жалобный рев. — Ей-богу, вы правы, — сказал Старик, услышав эти тоскливые звуки. М’Кола схватил меня за руку, а Друпи хлопнул по спине, и все мы со смехом побежали на холм, обливаясь потом, ныряя под ветви деревьев, перелезая через скалы. Сердце мое бешено колотилось, я остановился, чтобы перевести дыхание, смахнул пот с лица, протер очки. — Куфа! Мертв! — сказал М’Кола, придав этому слову такую выразительность, что оно прозвучало, как выстрел. — Ндио! Куфа! — Куфа! — с улыбкой подтвердил и Друпи. — Куфа! — повторил М’Кола. Мы снова пожали друг другу руки и полезли дальше. Наконец впереди показался буйвол: он лежал на спине, вытянув шею и почти повиснув на своих рогах, которые вонзились в дерево. М’Кола засунул палец в пулевое отверстие у самой лопатки и радостно потряс головой. Подошли Старик и Мама, за ними носильщики. — Честное слово, он лучше, чем мы думали, — сказал я. — Это другой. Вот уж буйвол так буйвол! А с ним, наверное, был и наш. — Мне казалось, что с ним была самка. Но с такого расстояния трудно разобрать. — Да, до них было ярдов четыреста. Клянусь богом, вы в самом деле умеете стрелять этих малюток. — Когда я увидел, как он пригнул голову и встал на дыбы, я уже знал, что ему крышка. Освещение было превосходное. — Я видел, что вы не промахнулись и что это другой буйвол. Ну, думаю, теперь нам придется иметь дело с двумя подранками. Но вначале я не слышал рева. — Удивительное впечатление производит этот тоскливый рев! — сказала Мама. — Словно зов рога в дремучем лесу. — А мне он показался очень веселым, — возразил Старик. — Право, следует выпить по такому случаю. Вот это выстрел! Послушайте, отчего вы до сих пор скрывали от нас, что умеете стрелять? — Идите к черту! — А известно вам, что он к тому же прекрасный следопыт и без промаха стреляет птиц влет? — обратился Старик к моей жене. — А буйвол просто красавец, не правда ли? — подхватила она. — Да, замечательный, хоть и молодой еще. Мы пытались сфотографировать зверя, но у нас был только маленький ящичный аппарат, да и затвор заклинился, что вызвало ожесточенные пререкания. А день тем временем угасал, и я стал нервничать, в раздражении читал всем нотации, бранился, досадуя, что нельзя сфотографировать добычу. Человек не может долго оставаться на грани такого возбуждения, какое я испытал сегодня; убив живое существо, пусть всего лишь буйвола, он внутренне весь как-то сжимается. Не такое это чувство, чтобы им можно было делиться с окружающими, и я, выпив воды, сказал жене только, что сожалею о своем поведении. Она отозвалась: “Ладно, все в порядке”, — и я почувствовал, что все действительно снова пришло в порядок. Стоя рядом, мы глядели, как М’Кола свежует голову буйвола, и чувствовали нежность друг к другу, и все стало понятно — недоразумение с фотоаппаратом и остальное. Я выпил виски, но оно показалось мне безвкусным и нисколько меня не опьянило. ГЛАВА ПЯТАЯ 59 — Дайте мне еще, — сказал я. Вторая порция подействовала. В лагерь нас повел тот самый туземец, за которым якобы гнался носорог, а Друпи остался — ему нужно было освежевать голову буйвола и вместе с другими, разрубив тушу, подвесить куски на деревьях, чтобы они не достались гиенам. Проводники боялись идти в темноте, и я разрешил Друпи оставить у себя мое ружье. Он сказал, что умеет стрелять. Я вынул патроны, поставил затвор на предохранитель, протянул ружье Друпи и предложил ему выстрелить. Он приложился, зажмурил не левый, а правый глаз и рванул спуск, потом еще и еще. Тогда я показал ему, как обращаться с предохранителем, заставил поупражняться и несколько раз щелкнуть затвором. В то время как Друпи пробовал стрелять из ружья, поставленного на предохранитель, М’Кола смотрел на него свысока, а Друпи под его взглядом весь как-то съежился. Я оставил ему ружье и две обоймы, и они занялись мясом, а мы в сумерках двинулись за проводником по следу второго буйвола, на котором не было ни капли крови, до вершины холма, а оттуда к лагерю. Мы карабкались по склонам, переходили ущелья, спускались в овраги и наконец достигли главной гряды, которая в полумраке казалась темной и холодной; луна еще не взошла, и мы брели во тьме, изнемогая от усталости. Один раз М’Кола, который нес тяжелое ружье Старика, а также фляги, бинокли и сумку с книгами, крикнул проводнику, быстро шагавшему впереди, какую-то фразу, прозвучавшую как брань. — Что он сказал? — спросил я у Старика. — Сказал, чтобы проводник не очень-то показывал резвость своих ног, потому что среди нас есть пожилой человек. — Кого он имел в виду — себя или вас? — Наверное, обоих. Наконец над бурыми холмами взошла дымно-красная луна, и мы прошли через мерцавшую тусклыми огоньками деревню, мимо наглухо закрытых глиняных хижин, возле которых пахло хлевом, а потом перешли ручей и двинулись вверх по голому склону, туда, где перед нашими палатками горел костер. Ночь была холодная и ветреная. Утром мы снова отправились на охоту, около родника напали на след носорога и прошли по этому следу через всю местность, похожую на плодовый сад, до самого ручья, круто спускавшегося в каньон. Было очень жарко, и тесные сапоги, как и накануне, натерли ноги моей жене. Она не жаловалась, но я видел, что ей больно. Все мы испытывали сладостную, умиротворяющую усталость. — Черт с ними, с этими носорогами, — сказал я Старику. — Буду стрелять, только если встретится очень крупный. А такого, пожалуй, не найдешь и за неделю. Хватит с нас и того, которого я уже убил, уйдем отсюда и отыщем Карла. На равнине можно поохотиться на сернобыков, добыть шкуры зебр, а там подумать и о куду. Мы сидели теперь под деревом на вершине холма, откуда видна была вся окрестность — ущелье, спускавшееся к долине Рифт-Велли, и озеро Маньяра. — Хорошо бы взять носильщиков с легким багажом и поохотиться в той долине и вокруг озера, — сказал Старик. — Отличная мысль! А грузовики подождут нас в... как бишь называется это место? — Майи-Мото. — Почему бы нам в самом деле не сделать так? — заметила Мама. 60 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Спросим у Друпи, что представляет собой эта долина. Друпи не знал, но один из местных жителей сказал нам, что долина каменистая и почти непроходима в том месте, где река низвергается в ущелье. Он уверял, что с багажом там не пройти. Пришлось отказаться от этого плана. — И все-таки именно так надо путешествовать, — заметил Старик. — Носильщики обходятся дешевле, чем бензин. — А в самом деле, почему бы нам после этой охоты не побродить пешком, — подхватила Мама. — Это можно, — согласился Старик. — Но за носорогом нужно отправиться на гору Кения. Там водятся настоящие красавцы. Здесь и куду — редкость, не то что в Кении, в Калале. Поедем туда. А потом, если все будет хорошо, успеем еще спуститься в Хандени за черными антилопами. — Пора в путь, — сказал я, не двигаясь с места. Мы уже давно перестали завидовать успеху Карла. Мы были довольны тем, что он убил носорога, и все стало на свое место. Быть может, он уже застрелил и сернобыка. Славный парень был этот Карл, и я от души радовался, что ему удалось настрелять больше, чем мне. — Как ты себя чувствуешь, моя милая, славная Мама? — Прекрасно. Разумеется, я не прочь бы отдохнуть, очень ноги устали. Но мне нравится такая охота. — Давайте вернемся, поедим, а к вечеру пойдем на равнину. Вечером мы остановились на месте нашего старого лагеря в Муту-Умбу, под большими деревьями, неподалеку от дороги. Тут мы когда-то разбили свой первый лагерь в Африке. Деревья были все такие же высоченные, развесистые, ярко-зеленые, ручей — все такой же прозрачный и быстрый, а местность — так же хороша, как и в тот день, когда мы впервые пришли сюда. Только ночи стали жарче, дорога покрылась толстым слоем пыли, и мы успели повидать множество новых мест. Глава шестая Чтобы добраться до Рифт-Велли, мы проехали по красноватой песчаной дороге через высокое плато, затем вверх и вниз через холмы, поросшие кустарником, и по лесистому склону до края ущелья; у наших ног расстилалась равнина, дремучий лес и длинное, обмелевшее у берегов озеро Маньяра, в дальнем конце своем усеянное сотнями тысяч розовых точечек, — это сидели на воде фламинго. Дальше дорога круто бежала вниз, потом по ровному дну долины, через теснимые лесом возделанные участки, где зеленел маис, бананы и какие-то неизвестные мне деревья, потом мимо индийской лавки и многочисленных хижин, через два моста над прозрачными быстрыми ручьями и снова лесом, теперь уже более редким, с широкими прогалинами; наконец, мы свернули на другую дорогу, пыльную и ухабистую, которая через заросли кустарника привела нас к тенистому лагерю Муту-Умбу. В сумерках фламинго снялись с места. Воздух наполнился шумом, похожим на посвист утиных крыльев, когда стая летит в предрассветной мгле, но более громким, протяжным и мерным. Мы со Стариком слегка подвыпили. Мама была очень утомлена, а Карл опять хмурился. Мы отравили ему радость победы над носорогом, а теперь, когда это было позади, он боялся неудачи в охоте на сернобыка. Кроме того, в прошлый раз им пришлось иметь дело не с леопардом, ГЛАВА ШЕСТАЯ 61 а с великолепным львом, огромным, темногривым, — он не желал расстаться с тушей носорога, когда они пришли к ней на другое утро, а стрелять в него было нельзя, потому что там был какой-то львиный заповедник. — Этакая досада! — сказал я, искренне стараясь настроиться на мрачный лад, но мне было слишком весело, чтобы я мог сочувствовать чужим неприятностям. Мы со Стариком, разбитые усталостью, сидели, попивая виски с содовой, и оживленно болтали. На другой день мы выслеживали сернобыков в сухой и пыльной долине Рифт-Велли и наконец заметили стадо довольно далеко, за холмами, выше масайской деревни. Сернобыки отличались от местных ослов только изумительными, косо поставленными черными рогами; на первый взгляд все они были одинаково хороши. Но, присмотревшись внимательнее, я заметил, что два или три самца выгодно отличаются от остальных; сидя на земле, я выбрал одного — как мне казалось, самого красивого — и, когда стадо растянулось вереницей, прицелился и выстрелил. Я слышал цоканье пули, видел, как сернобык, отделившись от стада, стал описывать круги все быстрее и быстрее, и понял, что теперь он мой. Больше я не стрелял. Как оказалось, Карл наметил себе ту же жертву. Я, не зная этого, прицелился тщательно, эгоистически стремясь хоть на этот раз завладеть лучшей добычей; впрочем, Карлу удалось все же убить другого сернобыка, ничуть не хуже моего, прежде чем стадо скрылось, оставляя за собой облако серой пыли. Если бы не чудесные рога, охота на этих животных была бы не более увлекательной, чем охота на домашних ослов, и как только подъехал грузовик, а М’Кола с Чаро освежевали головы сернобыков и разделали туши, мы двинулись к лагерю сквозь тучи пыли, от которой наши лица быстро посерели, а долина слилась в бесконечное знойное марево. Мы провели в этом лагере два дня. Предстояло добыть несколько зебровых шкур, обещанных друзьям в Америке, а свежевальщику требовалось время, чтобы как следует обработать их. Охота на зебр оказалась скучным делом; теперь, когда трава выгорела, равнина после холмов казалась однообразной, жаркой и пыльной, и я помню, как мы сидели у муравейников, и вдалеке, в сероватой дымке проносилось галопом стадо зебр, поднимая пыль, а по желтой равнине, где над какими-то белыми пятнами кружили птицы, мчался к нам грузовик с африканцами, которые должны были разрубить мясо и отвезти его в поселок. Из-за этой жары я сделал несколько неудачных выстрелов по газели, которую проводники попросили убить на мясо, — после трех-четырех промахов я ранил ее на бегу, а потом почти до полудня гонялся за ней по равнине, прежде чем настиг и добил ее. В тот день мы проехали через селение, мимо лавки какого-то индийца, — стоя на пороге, он улыбался нам заискивающей улыбкой, в которой было и братское дружелюбие, и робкая надежда незадачливого торговца, — свернули влево по узкой тропе, окаймленной кустарником, в густой лес, потом через ручей по шаткому деревянному мостику; дальше лес поредел, и мы очутились на травянистой саванне, простиравшейся до поросшего тростником озера — оно почти все высохло, только в дальнем конце его поблескивала вода и розовели фламинго. На опушке, в тени деревьев, ютилось несколько рыбачьих шалашей, а дальше колыхались под ветром густые травы; дно высохшего озера казалось беловато-серым от множества животных, которые при появлении нашего автомобиля 62 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ тревожно закопошились. Эти животные, показавшиеся нам сначала такими мелкими, были болотные антилопы, которые, издали, когда двигались, выглядели странно неуклюжими, а вблизи, когда стояли на месте, — стройными и грациозными. Мы выехали из густой невысокой травы и покатили по сухому дну озера; всюду справа и слева от нас текли ручьи, образуя тростниковое болото со множеством протоков, и над ним летали утки; видели мы и большие стаи гусей, рассевшихся на травянистых кочках посреди болота. Дно было плотное и твердое, но дальше оно стало влажным и мягким; мы вышли из машины и уговорились, что Карл с Чаро и я с М’Кола пойдем по обе стороны болота, стреляя и спугивая птиц, а Старик и Мама отправятся к высокому тростнику у левого берега озера, где ручей тоже образовал болотце, — на это болотце, по нашим расчетам, и должны были перелететь утки. Мы видели, как шли по открытому месту эти двое — рослая, грузная фигура в выцветшей вельветовой безрукавке и маленькая — в штанах, серой защитной куртке, походных сапогах и широкополой шляпе; потом, пригнувшись, они исчезли в сухом тростнике, и мы тронулись с места. Но едва мы добрались до ближайшего ручья, выяснилось, что наш план никуда не годится. Даже тщательно выбирая место, прежде чем поставить ногу, мы проваливались до колен в прохладный ил, а когда грязи поубавилось и кочек, окруженных водой, стало больше, я несколько раз провалился по пояс. Утки и гуси не подпускали нас на выстрел, а как только первая стая перелетела туда, где засели наши охотники, грянул резкий короткий дуплет из ружья Мамы, утки метнулись в сторону и полетели к озеру, остальные же мелкие стайки и все гуси тоже перекочевали на открытую воду. Стая черных ибисов, походивших своими загнутыми книзу клювами на огромных караваек, поднялась с болота по ту сторону ручья, где шел Карл, и, покружив высоко над нами, опять села в тростник. Всюду попадались бекасы, черные и белые кулики, и, потеряв надежду подобраться к уткам, я начал стрелять бекасов, к великому неудовольствию М’Кола. Мы прошли все болото, затем я перебрался еще через ручей, где вода была мне по плечи, так что пришлось держать над головой ружье и охотничью куртку, а затем встретилась глубокая и быстрая речка, над которой летали чирки, и я убил трех. Уже смеркалось, когда я нашел Старика и Маму на другом берегу этой речки, у самого озера. Вода везде была слишком глубока, чтобы идти вброд, а дно мягкое, но в конце концов я обнаружил сильно размытый след бегемота, который вел в реку. Здесь дно было плотное, но вода доходила мне до шеи. По этому следу я перешел на другой берег. Когда я выбрался на сушу и стал отряхиваться, стая чирков стремительно пролетела над моей головой. Я схватил ружье и выстрелил почти наугад в сумерках; то же самое сделал Старик, и три птицы тяжело плюхнулись в высокую прибрежную траву. После тщательных поисков мы нашли всех трех. С разгона они пролетели гораздо дальше, чем можно было ожидать, а так как тем временем почти стемнело, мы двинулись по серому высохшему илу к нашей машине; я был весь мокрый, башмаки полны воды. Жена моя радовалась, что мы добыли уток, — впервые со времени охоты в Серенгетти: мы все помнили, какое вкусное у них мясо. Впереди уже виднелась машина, казавшаяся издали очень маленькой, за ней полоса грязи, затем травянистая саванна, а дальше лес. ГЛАВА ШЕСТАЯ 63 На другой день мы вернулись в лагерь с охоты на зебр, покрытые серой смесью пота и пыли после езды через равнину. Мама и Старик оставались в лагере, им нечего было делать на охоте и незачем было глотать пыль, а мы с Карлом целый день провели на солнцепеке, и теперь наше раздражение вызвало одну из тех перепалок, которые обычно начинаются так: — Чего же вы зевали? — Они слишком далеко. — Но раньше вы упустили момент. — А я вам говорю — слишком далеко. — Вы только спугнули их. — Стреляли бы сами! — С меня хватит. Нам нужно всего-навсего двенадцать шкур. Ну, пошевеливайтесь. Потом кто-нибудь нарочно стреляет раньше времени, чтобы показать, что его зря торопили, встает из-за муравьиной кучи и, сердито отвернувшись, подходит к товарищу, а тот самодовольно спрашивает: — Ну, в чем же дело? — Слишком далеко, я же вам говорил. — В этих словах звучит безнадежное отчаяние. Самодовольный снисходительно ответствует: — А взгляните-ка на них. Зебры, отбежав подальше, заметили приближающийся грузовик, описали круг и теперь стоят боком совсем близко. Незадачливый охотник молчит, слишком взбешенный, чтобы стрелять. Потом бросает: — Что ж, стреляйте вы! Но самодовольный — на высоте принципиальности. Он отказывается: — Стреляйте сами. — Нет уж, с меня хватит, — возражает другой. Он понимает, что в таком раздражении нельзя стрелять, и подозревает во всем какой-то подвох. Вечно его что-нибудь подводит! Приходится все делать черт знает в каких условиях, указания дают неточные, не учитывая обстановки, и стрелять приходится на глазах у людей или в спешке. — У нас целых одиннадцать штук, — говорит самодовольный, уже раскаиваясь. Теперь ему ясно, что не следовало торопить товарища, надо было оставить его в покое — ведь, подгоняя, он только раздражает его. Опять он вел себя по-свински, щеголяя своей принципиальностью! — Мы в любое время можем убить еще одну зебру. Едем в лагерь. Эй, Бо, подгони сюда машину! — Нет уж, давайте продолжим. Стреляйте вы. — Нет, едем. Подают грузовик, и во время езды по пыльной равнине раздражение проходит, и снова просыпается неугомонное ощущение, что время не ждет. — О чем вы думаете? — спрашиваешь ты у товарища. — О том, какой я сукин сын? — Я думаю о сегодняшнем вечере, — отвечает товарищ, сморщив в улыбке пыльную корку на лице. — Я тоже. 64 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ Наконец наступает вечер, и снова трогаешься в путь. На этот раз надеваешь высокие брезентовые сапоги, которые легко вытащить из грязи, перескакиваешь с Кочки на кочку, пробираясь через болото по протокам, барахтаясь в воде, а утки, как и прежде, улетают на озеро, но ты забираешь далеко вправо и тоже выходишь прямо на озеро; убедившись, что дно плотное и твердое, по колена в воде подбираешься к большим стаям, гремит выстрел, пригибаешься, М’Кола тоже; весь воздух наполняется утками, сбиваешь двух, потом еще двух, потом одну высоко над головой, потом упускаешь утку, пролетевшую низко, у самой воды, а стая, свистя крыльями, возвращается так быстро, что не успеваешь заряжать и стрелять; затем, решив использовать раненых уток как подсадных, стреляешь уже только на выбор, зная, что здесь можно настрелять столько, сколько хватит сил унести, бьешь по утке, пролетающей высоко, прямо над головой, — это настоящий coup de roi13, и крупная черная птица плюхается в воду рядом с М’Кола, он хохочет, а тем временем четыре подранка уплывают прочь, и надо добить их. Приходится бежать по колена в воде, чтобы настичь последнюю утку; поскользнувшись, падаешь лицом вниз, и, довольный тем, что наконец совершенно вымок, садишься прямо в грязь, которая холодит тело, протираешь очки, выливаешь воду из ружейного ствола, прикидывая в уме, удастся ли расстрелять все патроны, прежде чем картонные гильзы разбухнут, а М’Кола все хихикает, его рассмешило это падение. Не выпуская из рук охотничью куртку, наполненную битыми утками, он вдруг припадает к земле, и стая гусей пролетает совсем низко, а ты тем временем пытаешься загнать в ствол мокрый патрон. Наконец это удается, гремит выстрел, но гуси уже далеко, мы опоздали, и вслед за выстрелом в воздух поднимается целая туча фламинго, окрашивая багрянцем небо над озером. Потом птицы садятся. Но теперь после каждого выстрела мы, обернувшись, видим мгновенный взлет этого феерического облака и вслед за тем его неторопливое оседание. — М’Кола! — зову я и указываю рукой вперед. — Ндио, — отвечает он, глядя на птиц. — М’узури, — и подает мне новую коробку патронов. Нам и прежде случалось хорошо поохотиться, но самой добычливой была охота на озере, и потом, в пути, мы целых три дня ели холодных чирков, которые вкуснее всех диких уток, — мясо у них сочное и нежное. Мы их ели с острой приправой и запивали красным вином, купленным в Бабати, — ели, сидя у дороги в ожидании грузовиков, и потом на тенистой веранде маленькой гостиницы в Бабати, и поздней ночью, когда грузовики наконец прибыли и мы ужинали в доме отсутствующего друга наших друзей на высоком холме, — ночь была холодная, мы сели за стол в теплых куртках, и так как долго ждали грузовика, который потерпел аварию в пути, то выпили лишнее и теперь ощущали волчий аппетит; Мама танцевала под граммофон с управляющим кофейной плантацией и с Карлом, а я, измученный тошнотой и невыносимой головной болью, сидя со Стариком на террасе, топил все невзгоды в виски с содовой. Было темно, и дул сильный ветер. Скоро на столе появились дымящиеся чирки со свежими овощами. Цесарки тоже отличное блюдо, и я даже припрятал одну в машине на вечер, но чирки оказались еще вкуснее. 13 Королевский выстрел (франц.). ГЛАВА СЕДЬМАЯ 65 Из Бабати мы проехали через холмы и лесную равнину до подножия горы, где приютилась небольшая деревушка и миссионерская станция. Здесь мы разбили лагерь для охоты на куду, которые, как нам сказали, водятся на холмах и в лесистых низинах. Глава седьмая В лагере совсем не было тени — он стоял под деревьями, засохшими после того, как их окольцевали, чтобы избавиться от мух цеце, а на холмах, поросших кустарником, было трудно охотиться, — приходилось одолевать крутые подъемы. Иначе обстояло дело в лесистых низинах, где мы разгуливали, точно по оленьему заповеднику. Но мухи цеце были повсюду: они роились вокруг, жестоко кусали руки, затылок и шею сквозь рубаху. Я не расставался с густой веткой, которой отгонял этих мух все пять дней; мы бродили здесь от зари до зари, возвращаясь домой в сумерки, смертельно усталые, но довольные прохладой и темнотой, с наступлением которой цеце прекращали свои налеты. Мы охотились поочередно в холмах и на равнине, и Карл все больше мрачнел, хотя ему удалось убить очень красивую чалую антилопу. С охотой на куду У него были связаны весьма сложные личные переживания, и, как всегда, растерявшись, он винил в своей неудаче всех и вся: проводников, холмы, низины. Холмы его подвели, а в успех здесь он не верил. Я с надеждой ожидал, что вот он подстрелит куду и атмосфера разрядится, но каждый день его переживания осложняли охоту. Карл оказался плохим спортсменом, ему не под силу было карабкаться по крутым склонам. Щадя Карла, я старался большую часть облав в холмах брать на себя. Но он, устав от бесполезных поисков, думал теперь, что куду водятся именно на холмах и, оставаясь внизу, он только теряет время. За эти пять дней я встретил более десятка самок куду и одного молодого самца с табунком самок. Самки, крупные, серые, с полосатыми боками, со смехотворно маленькими головками и большими ушами, в страхе, спасая шкуру, стремительно и бесшумно скрылись в чаще. У самца на рогах уже появились первые завитки, но самые рога были короткие и нескладные, и когда в сумерках он промчался недалеко от нас по краю прогалины, третий в табунке из шести самок, он походил на настоящего самца не более, чем лосенок на большого, матерого лося с могучей шеей, темной гривой, изумительными рогами и темно-рыжей шерстью. В другой раз на закате, когда мы возвращались в лагерь долиной меж холмами, проводники указали нам двух антилоп, которые промчались в лучах заходящего солнца по вершине холма, так что среди деревьев лишь на мгновение мелькнули их полосатые, серые с белым, бока. Если верить проводникам, это были самцы куду. Мы не разглядели рогов, а пока взобрались на холм, солнце уже село, и следов на каменистой почве не осталось. Но все же мы успели заметить, что ноги у них длиннее, чем у самок, так что, возможно, это действительно были самцы. Мы рыскали среди каменных гряд до темноты, но ничего не нашли, и та же участь постигла Карла, которого мы послали сюда на другой день. Мы часто вспугивали водяных антилоп и как-то раз, блуждая по каменистой гряде, над глубокой лощиной, приблизились к антилопе, которая слышала, но не учуяла нас. М’Кола схватил меня за руку, и мы замерли на месте, разглядывая 66 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ антилопу, которая стояла в каких-нибудь десяти футах, красивая, с темным воротником вокруг мощной шеи, вся дрожа и раздувая ноздри. М’Кола усмехался, крепко сжимая пальцами мое запястье, и мы наблюдали, как антилопа трепещет в предчувствии опасности, грозящей неизвестно откуда. Затем вдалеке тяжело грохнуло старинное ружье местного охотника, антилопа подпрыгнула и, почти перескочив через нас, понеслась вверх по гряде. На другой день мы с женой бродили по лесистой равнине и, добравшись до ее края, где росли только небольшие кусты, услышали низкое, гортанное ворчание. Я взглянул на М’Кола. — Симба, — сказал он с недовольным видом. — Вапи? — прошептал я. — Где? Он показал. — Это лев, — шепнул я жене. — Должно быть, тот самый, чей рев мы слышали утром. Ступай-ка вон под те деревья. Львиный рев мы слышали еще до рассвета, как только проснулись. — Лучше я пойду с тобой. — Ты забыла, что обещала Старику? — сказал я. — Подожди там. — Ну, хорошо, но, пожалуйста, будь осторожен. — Я буду стрелять только наверняка. — Хорошо. — Идем, — скомандовал я М’Кола. Лицо у него было хмурое и серьезное. — Вапи симба? — спросил я. — Там, — мрачно ответил он и указал вперед, на островки густой колючей зелени. Я сделал знак одному из проводников вернуться назад вместе с Мамой, и мы подождали, пока они отошли шагов на двести, к лесной опушке. — Вперед, — скомандовал я. М’Кола все так же серьезно, без улыбки покачал головой, но повиновался. Мы двинулись очень медленно, вглядываясь в заросли, но ничего не могли разглядеть. Затем рычание послышалось снова, теперь уже подальше и правее нас. — Нет! — запротестовал М’Кола. — Хапана, бвана! — Иди, иди! — шепнул я и, приставив указательный палец к шее, добавил: “Куфа”, — желая этим сказать, что всажу хищнику пулю в шею и уложу его наповал. М’Кола опять затряс головой, лицо его было мрачно и покрылось потом. — Хапана, — твердил он шепотом. Перед нами был высокий муравейник, мы вскарабкались на него и огляделись. Но сквозь путаницу колючей зелени ничего нельзя было различить. Напрасно я надеялся отсюда увидеть льва, пришлось спуститься и пройти еще шагов двести сквозь заросли колючих растений, похожих на кактусы. Впереди снова послышалось ворчание, потом рык, очень низкий и внушительный. К этому времени мой пыл уже угас. Сначала я надеялся, что смогу с близкого расстояния сделать точный выстрел, — ведь сумей я убить льва один, без Старика, такая победа долго радовала бы меня. Я твердо решил стрелять только наверняка; на моем счету было уже три льва, и я приобрел некоторый опыт, но на этот раз волновался больше, чем за все время охоты в Африке. Я со спокойной совестью убил бы этого льва в отсутствие Старика, но сейчас мы рисковали попасть в беду. Лев отступал по мере нашего продвижения вперед, но отступал медленно. . Ему явно не хотелось двигаться с места, — должно быть, он наелся ГЛАВА СЕДЬМАЯ 67 ранним утром, когда мы слышали его рев, и отяжелел. М’Кола все это не нравилось. Трудно сказать, что мучило его больше, — ответственность за мою жизнь перед Стариком или острое сознание беспомощности в этой опасной охоте, но он был очень расстроен. В конце концов он положил руки мне на плечи, заглянул в лицо и трижды яростно потряс головой. — Хапана! Хапана! Хапана, бвана! — Он протестовал, сетовал и молил. “В конечном счете, какой смысл тащить его дальше, раз все равно стрелять невозможно?” — подумал я. Да я и сам рад был вернуться. — Ладно, — сказал я. Мы вернулись обратно той же дорогой, пересекли открытую равнину и добрались до деревьев, у которых ждала Мама. — Ну что, видели его? — Нет, — ответил я. — Но слышали рев три или четыре раза. — Страшно было? — Самую малость, только под конец. Но с каким удовольствием я пристрелил бы его, сказать невозможно. — Ох, как я рада, что вы вернулись! — сказала она. Я вытащил из кармана словарь и составил фразу на ломаном суахили. Для этого нужно было отыскать слово “нравиться”. — М’Кола нравится симба? Теперь М’Кола снова обрел способность улыбаться, и китайские усики по углам его рта задвигались. — Хапана, — сказал он и помахал рукой у себя перед носом. — Хапана! “Хапана” означает “нет”. — Попробуем убить куду? — предложил я. — Хорошо, — с чувством ответил М’Кола на суахили. — Лучше. Много лучше. Тендалла, да, да. Тендалла. Однако мы не видели ни одного самца куду, пока стояли здесь лагерем, и через два дня двинулись в Бабати, а оттуда в Кондоа и через всю страну к Хандени, на побережье. Мне и прежде не по душе был этот лагерь, проводники, да и самая местность. У меня создалось впечатление, что вся лучшая дичь в этих краях уже перебита. Нам было известно, что здесь водятся куду и принц Уэльский застрелил антилопу как раз близ этого лагеря, но в нынешнем сезоне здесь уже побывали три охотничьи экспедиции, да и местные жители тоже охотятся — они якобы защищают свои посевы от бабуинов, но при встрече с африканцем, вооруженным мушкетом, кажется странным, что он преследует бабуинов за десять миль от своей шамбы, до самых холмов, где обитают куду. Я решительно стоял за то, чтобы ехать дальше и попытать счастья в другом месте, около Хандени, где никто из нас еще не бывал. — Ну, что ж, едем, — согласился Старик. Новое место оказалось подлинной находкой. Куду то и дело пробегали через открытые поляны, а мы сидели и ждали, пока появятся еще более крупные, и били их на выбор. К тому же по соседству водились черные антилолы, и мы решили, что первый, кто убьет самца куду, отправится за ними. Я торжествовал, Карл тоже приободрился в этой новой, сказочной местности, где непуганые звери оказались такими доверчивыми, что нам просто совестно было стрелять их. Едва рассвело, мы тронулись в путь без носильщиков, которые должны были снять лагерь и следовать за нами на двух грузовиках. Добравшись до Бабати, 68 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ мы остановились в маленькой гостинице над озером, где пополнили свой запас консервов и выпили холодного пива. Затем мы повернули к югу. Дорога была хорошая, ровная, она пролегала через лесистые холмы, над бескрайними масайскими степями и дальше прямиком через плантации, где высохшие, сморщенные старухи и старики гнули спины на маисовых полях; одна за другой убегали назад пыльные мили, и наконец, миновав выжженную солнцем долину, где ветер вздымал на нашем пути тучи песка, мы доехали до немецкого гарнизонного городка Кандоа-Иранджи, где под деревьями белели красивые домики. Мы велели М’Кола дожидаться грузовиков на перекрестке, поставили свою машину в тень и отправились на военное кладбище, намереваясь затем нанести визит местным властям; но был час завтрака, и, не желая никого беспокоить, мы обошли содержавшееся в образцовом порядке живописное кладбище, где мертвецам не лучше и не хуже, чем во всяком другом месте, выпили пива в тени дерева, — здесь было так прохладно после нестерпимого солнечного жара, от которого тяжестью наливались шея и плечи, — а потом, отдохнув, сели в машину и выехали на дорогу, чтобы вместе с грузовиками двинуться на восток, к новым местам. Глава восьмая Места эти были для нас совсем новые, но в них проступали черты древнейших стран. Мы ехали по уступам скал, узкой тропой, исхоженной караванами и скотом, и бездорожье каменной осыпи подымалось между двумя рядами деревьев, уходя в горы. Все здесь было удивительно похоже на Арагон, и я только тогда поверил, что мы не в Испании, когда вместо вьючных мулов нам повстречались туземцы, человек десять, — все с непокрытыми головами, босые, одежда их состояла из куска белой материи, собранной у плеча наподобие тоги. Но вот мы разминулись с ними, и высокие деревья вдоль тропы, извивающейся по скалистым выступам, — это снова Испания, и будто я опять еду верхом — сзади лошадь и спереди лошадь, и мне страшно смотреть, как на крупе у передней мерзостно копошится мошкара. Точно таких мошек мы находили здесь на львах. В Испании, когда эта гадость заползала тебе за шиворот, чтобы убить ее, приходилось снимать рубашку. Какая-нибудь одна-единственная проникнет под воротник, поползет вниз по спине, потом переберется под мышку, оттуда на живот, к пупку, под брючный пояс, и — плоская, никак ее не раздавишь — ускользает от твоих пальцев с такой ловкостью и быстротой, что с ней не сладишь, пока не разденешься догола. Глядя тогда на мошкару, копошащуюся у лошади под хвостом, зная по себе, что это за мука, я испытывал такой ужас, равного которому не припомню за всю свою жизнь, если не считать дней, проведенных в больнице с переломом правой руки — открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью; каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все это за него — все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может, так воздается по заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это и было возмездие, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю. Я поступал так, как поступили со мной. Меня подстрелили, ГЛАВА ВОСЬМАЯ 69 меня искалечили, и я ушел подранком. Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это. Но, так как отказываться от своего любимого занятия мне не хотелось, я решил, что буду охотиться до тех пор, пока смогу убивать наповал, а как только утеряю эту способность, тогда и охоте конец. Если ты совсем молодым отбыл повинность обществу, демократии и прочему и, не давая себя больше вербовать, признаешь ответственность только перед самим собой, на смену приятному, ударяющему в нос запаху товарищества к тебе приходит нечто другое, ощутимое, лишь когда человек бывает один. Я еще не могу дать этому точное определение, но такое чувство возникает после того, как ты честно и хорошо написал о чем-нибудь и беспристрастно оцениваешь написанное, а тем, кому платят за чтение и рецензии, не нравится твоя тема, и они говорят, что все это высосано из пальца, и тем не менее ты непоколебимо уверен в настоящей ценности своей работы; или когда ты занят чем-нибудь, что обычно считается несерьезным, а ты все же знаешь, что это так же важно и всегда было не менее важно, чем все общепринятое, и когда на море ты один на один с ним и видишь, что Гольфстрим, с которым ты сжился, который ты знаешь, и вновь познаешь, и всегда любишь, течет, как и тек он с тех пор, когда еще не было человека, и омывает этот длинный, прекрасный и злополучный остров с незапамятных времен, до того как Колумб увидел его берега, и все, что ты можешь узнать о Гольфстриме и о том, что живет в его глубинах, все это непреходяще и ценно, ибо поток его будет течь и после того, как все индейцы, все испанцы, англичане, американцы, и все кубинцы, и все формы правления, богатство, нищета, муки, жертвы, продажность, жестокость — все уплывет, исчезнет, как груз баржи, на которой вывозят отбросы в море — дурно пахнущие, всех цветов радуги вперемешку с белым — и, кренясь набок, она вываливает это в голубую воду, и на глубину в двадцать — двадцать пять футов вода становится бледно-зеленой, и все тонущее идет ко дну, а на поверхность всплывают пальмовые ветви, бутылки, пробки, перегоревшие электрические лампочки, изредка презерватив, набрякший корсет, листки из ученической тетрадки, собака со вздутым брюхом, дохлая крыса, полуразложившаяся кошка; и тряпичники, не уступающие историкам в заинтересованности, проницательности и точности, кружат вокруг на лодках, вылавливая добычу длинными шестами. У них своя точка зрения. И когда в Гаване дела идут хорошо, Гольфстрим, в котором и не различишь течения, принимает пять порций такого груза ежедневно, а миль на десять дальше вдоль побережья вода в нем такая же прозрачная, голубая и спокойная, как и до встречи с буксиром, волочащим баржу; и пальмовые ветви наших побед, перегоревшие лампочки наших открытий и использованные презервативы наших пылких любовей плывут, такие маленькие, ничтожные, на волне единственно непреходящего — потока Гольфстрима. Сидя рядом с шофером, я был так погружен в свои мысли, что не заметил, как “Арагон” остался позади и машина спустилась к песчаной реке шириной в полмили, окаймленной зеленью деревьев. По золотистому песку были разбросаны лесные островки; вода в этой реке текла под песком, животные приходили на водопой по ночам и выкапывали острыми копытами лунки, которые быстро наполнялись водой. Когда мы перебрались через эту реку, день уже клонился к вечеру; навстречу нам то и дело попадались люди, которые покидали голодный край, лежавший впереди, а по сторонам мелькали теперь невысокие деревья да 70 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ частый кустарник. Но вот, одолев крутой подъем, мы очутились среди голубых холмов, древних, выветрелых холмов, где росли деревья, похожие на буки, а по склонам кучками лепились хижины, тянуло дымом, пастухи гнали домой коров, овец и коз, мелькали возделанные участки, и я сказал жене: — Как похоже на Галисию. — Да, верно. Сегодня мы побывали в трех испанских провинциях. — Вот как? — удивился Старик. — Никакой разницы. Только дома другие. А то место, куда нас привел Друпи, напоминает Наварру. Те же известняковые бугры, тот же рельеф, те же деревья у рек и родников. — Удивительная это у человека способность — влюбляться в страну, — заметил Старик. — Ох, как вы оба любите философствовать, — сказала Мама. — Но где же мы все-таки остановимся? — Да хоть здесь, — отвечал Старик. — Не все ли равно? Была бы вода. Мы разбили лагерь в тени деревьев, возле трех больших родников, куда здешние женщины ходили по воду, и мы с Карлом, бросив жребий, кому где охотиться, ушли бродить в сумерках вокруг двух ближних холмов, через дорогу от лагеря, над туземной деревушкой. — Это страна куду, — сказал Старик. — Их можно встретить на каждом шагу. Но я встретил в лесу только стадо домашнего скота и, поразмявшись после целого дня езды в машине, к вечеру возвратился в лагерь, где никто еще не спал. Моя жена и Старик в пижамах стояли у костра, а Карл все еще пропадал где-то. Он вернулся очень серьезный, — должно быть, не встретил ни одного куду, — бледный, мрачный и молчаливый. Позже, у костра, он спросил, куда мы ходили, и я объяснил, что мы охотились у подножия своего холма до тех пор, пока наш проводник не услышал Карла и его спутников; тогда мы перевалили через холм и вернулись в лагерь. — То есть как это “услышал”? — Так он сказал. И М’Кола тоже. — По-моему, мы тянули жребий, кому где охотиться! — Да, конечно, — согласился я. — Но мы не знали, что забрели на ваш участок, пока не выяснилось, что вы поблизости. — А сами-то вы нас слышали? — Слышал какой-то шум, — ответил я. — А когда приставил ладонь к уху, проводник что-то сказал М’Кола, и тот говорит: “Бвана”. Я спросил: “Который бвана?”, он ответил: “Бвана Кабор”, — то есть вы. Тут мы поняли, что дальше нам путь заказан, и вернулись. Карл промолчал, но вид у него был сердитый. — Не обижайтесь, — сказал я. — Я не обижаюсь. Просто устал. Я охотно поверил ему, потому что трудно найти человека великодушнее, отзывчивее и самоотверженнее Карла, но, одержимый мыслью о куду, он стал просто сам не свой. — Хоть бы он поскорее добыл себе куду, — сказала Мама, когда Карл ушел в свою палатку принимать ванну. ГЛАВА ВОСЬМАЯ 71 — Вы забрались на его участок? — спросил Старик. — И не думали. — Ну, ничего, он убьет куду там, куда мы едем. Может быть, ему посчастливится даже убить самца с рогами в пятьдесят дюймов. — Дай ему бог, — отозвался я. — Но, должен признаться, я тоже не прочь уложить такого куду. — Уложите, дружище, — заверил меня Старик. — Не сомневаюсь в этом. — Но когда же? Осталось десять дней. — Мы еще и черных антилоп настреляем, вот увидите. Пусть только начнет везти. — Сколько времени вам приходилось подстерегать куду, если место удачное? — Бывает, что и недели три пройдет, а проклятые твари ни разу не попадутся на глаза. А бывает — они сами лезут под пулю в первое же утро. Ничего нельзя знать заранее, как и вообще, когда охотишься на крупного зверя. — А я такую охоту люблю, — ответил я. — Но почему этому малому так везет, а. Старик? Он убил лучшего буйвола, лучшего носорога, лучшую водяную антилопу... — Зато у вас будет лучший сернобык. — Подумаешь, сернобык! — Его голова очень украсит ваш дом. — Ладно, я ведь шучу. — А какая у вас палу, какая газель! Есть и первосортная водяная антилопа. Ваш леопард не хуже, чем у Карла. Но Карл заткнет вас за пояс там, где все зависит от удачи, потому что он счастливчик, ему поразительно везет. А между тем этот славный малый в последнее время даже аппетит потерял. — Вы знаете, как хорошо я к нему отношусь. Не хуже, чем к другим. Но хотелось бы, чтобы он был повеселее. Что это за охота, если принимать все так близко к сердцу! — Имейте терпение. Он подстрелит куду на следующей стоянке и будет наверху блаженства. — Я просто несносный ворчун, — сказал я. — Разумеется, — подтвердил Старик. — А не выпить ли нам? — Пожалуй. Из палатки вышел Карл, уже спокойный, приветливый и кроткий, как всегда. — Поскорей бы добраться до новых мест, — сказал он. — Да, это будет чудесно. — Расскажите об этих местах, мистер Филипс, — обратился Карл к Старику. — Я там не бывал. Но, говорят, там очень приятно охотиться. Антилопы пасутся на открытых местах. Один старый голландец меня уверял, что в тех краях попадаются замечательные экземпляры. — Надеюсь, вам достанется зверь с рогами дюймов в шестьдесят, — сказал Карл, обращаясь ко мне. — Это вам он достанется. — Нет, — возразил Карл. — Не смейтесь надо мной. Я буду доволен, если убью хоть какого-нибудь. — Думаю, что вы застрелите доброго самца, — заметил Старик. 72 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Не смейтесь, — повторил Карл. — Мне и так везло все время. Я буду доволен любым куду, хотя бы самым плохоньким. Он, конечно, читал наши мысли, но по доброте своей мог все понять и простить. — Славный вы человечище, Карл, — сказал я, воодушевленный виски, нашим взаимопониманием и добрыми чувствами. — Замечательная у нас жизнь здесь, правда? — воскликнул Карл. — А где же милая Мама? — Здесь, — отозвалась Мама из темного уголка. — Я ведь тихонькая, вы знаете. — Ей-богу, это верно, — согласился Старик. — Однако вы умеете живо приструнить своего муженька, когда он разойдется. — За это и любят женщин во всем мире, — заявила Мама. — Скажите мне еще какой-нибудь комплимент, мистер Джексон. — Ну, например, вот: вы отважны, как маленький терьер. — (Старик, как и я, в тот вечер, кажется, выпил лишнего.) — Как это мило! — Мама откинулась в кресле, обхватив руками колени. Подняв глаза, я увидел в свете костра ее голубую фланелевую пижаму и блики огня на черных волосах. — Люблю, когда вы сравниваете меня с терьером. В такие минуты я уверена, что разговоры о войне не заставят себя ждать. А кстати, кто-нибудь из вас был на войне? — Я-то не был, — отозвался Старик. — А был там ваш муж, самый отчаянный храбрец на свете, блестящий охотник и гениальный следопыт. — Теперь, когда он пьян, мы наконец слышим истинную правду, — заметил я. — Давайте ужинать, — сказала Мама. — Я умираю с голоду. Чуть свет наша машина выбралась на дорогу, миновала деревню, проехала через густой кустарник и очутилась на краю равнины; солнце еще не успело рассеять туман, а далеко впереди паслась антилопа, огромная и серая в слабом утреннем свете. Мы остановили машину около кустов, присели на землю и в бинокль увидели еще ближе к нам целое стадо кон-гони и среди них единственного сернобыка, похожего на откормленного масайского осла с темной шерстью и великолепными черными, откинутыми назад рогами, которые показывались над травой всякий раз, как он поднимал голову. — Хотите попытать счастья? — спросил я у Карла. — Нет. Лучше вы. Я знал, что он терпеть не может подкрадываться и стрелять на глазах у других, и поэтому согласился. Меня на это толкал и эгоизм, чуждый Карлу. К тому же у нас давно кончилось свежее мясо. Я зашагал по дороге, не глядя на зверей, притворяясь равнодушным, и закинул винтовку за левое плечо, чтобы они не могли ее видеть. Они, казалось, не обратили на меня внимания и продолжали пастись. Но я знал, что стоит мне сделать шаг в их сторону, как они бросятся бежать. Поэтому, заметив краешком глаза, что сернобык опустил голову и снова принялся щипать траву, я решил, что пора стрелять, сел на землю, пропустил руку через ремень и, как только сернобык встрепенулся и прянул в сторону, прицелился ему в загривок и спустил курок. Обычно охотник не слышит выстрела, но я слышал, как ударила пуля, и в то же мгновение сернобык кинулся вправо, и вся равнина, озаренная ГЛАВА ВОСЬМАЯ 73 восходящим солнцем, сразу ожила: точно игрушечные лошадки, поскакали галопом длинноногие, смешные конгони; раскачиваясь на бегу, помчалась антилопа и второй сернобык, которого я раньше не видел. Среди всего этого движения и переполоха выделялся мой сернобык, который трусил мелкой рысцой, высоко задрав рога. Я встал, чтобы свалить его на бегу — в прорези прицела он казался совсем крошечным, — прицелился в шею, спустил курок, и сернобык упал, дрыгая ногами, раньше чем я услышал треск пули, раздробившей кость. Вторым, еще более удачным выстрелом я с очень далекого расстояния перебил ему заднюю ногу. Я бросился было бежать, но затем из осторожности перешел на шаг, чтобы сернобык не сбил меня, если вскочит и пустится наутек. Однако он успокоился навеки. Свалился он так внезапно и пуля поразила его с таким треском, что я испугался за целость рогов, но, подойдя, обнаружил, что он был смертельно ранен первой пулей, угодившей ему в хребет, а когда я перебил ему ногу, он упал. Подошли остальные, и Чаро всадил в сернобыка нож, чтобы мясо можно было есть правоверным. — Куда вы целились во второй раз? — спросил Карл. — Никуда. Взял чуть выше и вперед. — Красивый выстрел, — заметил Дэн. — Вечером он уже будет уверять, что раздробил ему заднюю ногу намеренно и что это его излюбленный прием, — вмешался Старик. — Вы никогда не слышали, как он разглагольствует на такие темы? В то время как М’Кола возился с головой сернобыка, а Чаро разделывал тушу, подошел длинный, худой масай с копьем, поздоровался и постоял немного на одной ноге, наблюдая за работой. Потом он заговорил со мной, и я позвал Старика. Масай повторил то же самое Старику. — Он спрашивает, будете ли вы еще охотиться, — перевел Старик. — Ему нужны шкуры, но не шкуры сернобыков. Они, по его мнению, ничего не стоят. Он спрашивает, не хотите ли вы убить парочку конгони или антилопу. Их шкуры ему больше нравятся. — Скажите ему, что этим я займусь на обратном пути. Старик торжественно перевел мои слова. Масай пожал мне руку. — Скажите ему, что он всегда может найти меня в “Нью-йоркском баре”, у Гарри, — продолжал я. Масай сказал еще что-то и почесал одну ногу о другую. — Он спрашивает, зачем вы стреляли в сернобыка два раза. — Скажите ему, что, по обычаям нашего племени, мы утром всегда убиваем дважды; днем мы убиваем только раз, а вечером сами уже наполовину мертвы. И еще скажите, что он может найти меня в любое время в Нью-Стэнли или у Тoppa. — Он спрашивает, что вы делаете с рогами. — Скажите ему, что, по обычаям нашего племени, мы дарим рога самым богатым друзьям. Еще скажите, что это очень волнующее событие, и порой за некоторыми нашими соплеменниками гоняются люди с незаряженными пистолетами. Скажите, что он может найти меня в моей книге. Старик что-то сказал масаю, мы снова обменялись рукопожатием и расстались самым дружеским образом. Сквозь туман мы разглядели на дальнем краю равнины еще нескольких масаев, которые шли по дороге, сильно сгибая колени, 74 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ с коричневыми шкурами на плечах, с копьями, поблескивавшими в утреннем свете. Но вот мы уже в машине. Голова сернобыка завернута в холщовый мешок, туши висят под крышей, очищенные от крови и пыли, равнина кончилась, густой кустарник снова теснится у самой дороги, и мы катим по красному песку, минуя гряду холмов, к маленькой деревушке Кибайя, где есть беленькая гостиница, магазин и множество возделанных участков. Здесь Дэн сидел однажды на стоге сена, поджидая, не придет ли какой-нибудь куду пастись на маисовое поле, как вдруг появился лев и чуть не сцапал Дэна. С тех пор деревушка Кибайя была для нас овеяна славными воспоминаниями, и поскольку прохлада еще держалась и солнце не успело высушить росу, я предложил, для того чтобы деревушка стала нам еще более памятна, распить бутылочку немецкого пива с серебряной фольгой вокруг горлышка и черно-желтой этикеткой, на которой изображен всадник в доспехах. Сказано — сделано. Затем, выяснив, что дорога впереди вполне проезжая, мы попросили передать шоферам грузовиков, чтобы они следовали за нами на восток, и, покинув историческую деревушку, двинулись к побережью, в царство куду. Все время, пока солнце поднималось к зениту и жара усиливалась, мы ехали по местности, которую Старик охарактеризовал как “миллион проклятых миль Африки”. Кустарник подступал вплотную к дороге, образуя непролазный, низкорослый подлесок. — Здесь попадаются очень крупные слоны, — сказал Старик. — Но охотиться на них нет никакой возможности. Поэтому они такие здоровенные. Просто, не так ли? После долгого путешествия по “стране миллиона миль” замелькали сухие, песчаные, окаймленные кустарником равнины, которые солнце превратило в настоящие пустыни с редкими островками растительности там, где была вода: места эти, по словам Старика, напоминали северную пограничную область Кении. Мы высматривали темных, длинношеих геренуков14, своими повадками удивительно напоминающих жуков-богомолов, и мелких куду, которые, как мы слышали, водятся в этих пустынных местах; но солнце стояло уже высоко, и все живое попряталось. Наконец дорога поползла вверх, на низкие, синие от леса холмы, отделенные друг от друга целыми милями редкого кустарника, а впереди огромные, точно горы, дыбились два крутых лесистых холма. Они стояли по обе стороны дороги, и, подъехав к тому месту, где красная полоса песка суживалась, мы встретили стадо во много сотен голов, которое гнали на побережье скупщики скота из Сомали; главный скупщик шел впереди, очень эффектный в своем белом тюрбане и национальном костюме, в руке он нес зонтик, торжественно, как символ власти. Мы с трудом выбрались из стада, миновали живописные рощицы, проехали между двумя холмами и на небольшом низком плато, в полумиле от них, увидели глиняные, крытые тростником хижины туземной деревни. Отсюда холмы казались очень красивыми, склоны их были покрыты лесом, а выше виднелись известняковые обнажения, открытые прогалины и луга. — Это здесь? — Да, — сказал Дэн. — Нужно отыскать место старой стоянки. 14 Геренук — иначе: жирафовая газель. ГЛАВА ВОСЬМАЯ 75 Очень дряхлый, сморщенный дед с седой щетиной на подбородке, одетый в грязный, некогда белый кусок полотна, сколотый на плече на манер римской тоги, вышел из-за хижины и повел нас назад по дороге, а потом влево, к очень удобной лагерной стоянке. Вид у бедняги был жалкий; после того как Старик и Дэн поговорили с ним, он с еще более жалким видом побрел прочь, чтобы привести проводников, чьи имена были записаны на клочке бумаги, — их рекомендовал один голландский охотник, большой приятель Дэна, побывавший здесь год назад. Мы вынули из машины сиденья, чтобы воспользоваться ими вместо стола и скамеек, расстелили куртки в густой тени высокого дерева, позавтракали и выпили пива, а потом в ожидании грузовиков дремали или просто лежали с книгой. Еще до прибытия грузовиков вернулся дед с самым тощим, голодным и жалким представителем племени вандеробо, который все время стоял на одной ноге и скреб в затылке; он был вооружен луком, колчаном со стрелами и копьем. Когда мы стали расспрашивать, тот ли это проводник, чье имя у нас записано, дед сознался, что не тот, и, совсем уже сконфуженный, отправился за рекомендованными проводниками. Когда мы проснулись, дед уже стоял рядом с двумя проводниками-профессионалами, с ног до головы одетыми в хаки, и еще с двумя жителями деревни, почти голыми. После долгих переговоров старший из двух проводников в защитных штанах показал бумагу, адресованную “всем заинтересованным лицам” и удостоверявшую, что податель cero хорошо знает местность, надежный человек и способный следопыт. Удостоверение было подписано каким-то охотником. Проводник в хаки назвал этого охотника “Бвана Симба” — “Истребитель Львов”, — чем привел нас в бешенство. — Должно быть, какой-нибудь проходимец, раз в жизни подстреливший льва, — сказал Старик. — Скажите ему, что я — Бвана Физи, Истребитель Гиен, — попросил я Дэна. — Бвана Физи душит их голыми руками. Дэн сказал туземцу что-то явно не то. — Спросите, хотят ли они увидеть Бвану Жабу, отца всех жаб, и Маму Тзигги, повелительницу саранчи. Дэн и не подумал переводить это проводникам. Разговор, видимо, шел о деньгах. После того как договорились насчет обычной поденной платы, Старик обещал им за каждого убитого куду по пятнадцать шиллингов. — Вы хотите сказать — фунт, — возразил старший проводник. — Я вижу, они себе цену знают, — заметил Старик. — Должен признаться, мне не очень-то по душе этот парень, несмотря на то, что пишет о нем “Бвана Симба”. Кстати, как мы потом узнали, Бвана Симба был прекрасный охотник и пользовался на побережье самой доброй славой. — Будем тянуть жребий и поделим их между собой, — предложил Старик. — Каждому достанется один голый и один в штанах. Между прочим, я лично предпочитаю голых проводников. Но когда мы предложили двум обладателям штанов и рекомендации выбрать себе по голому партнеру, обнаружилось, что из этой затеи ничего не выйдет. Главный горлопан, финансовый гений и, как выяснилось, не менее гениальный актер, который представлял в лицах, как Бвана Симба убил в последний раз 76 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ куду, прервал свою пантомиму и заявил, что будет охотиться только с Абдуллой, коротеньким большеносым грамотеем: они, мол, всегда охотятся вместе, так как сам он не ходит по следу. Потом он возобновил пантомиму, в которой изображались Бвана Симба, еще один персонаж, именуемый “Бвана Доктор”, и рогатые твари. — В таком случае поделим их по-другому: двое голых следопытов или эти два ученых оксфордца, и будем тянуть жребий, — решил Старик. — Мне противен этот кривляка, — сказал я. — А может, он мастер своего дела. — Старик сказал это неуверенно. — Притом вы ведь и сами отличный следопыт. Дед уверяет, что два других — хорошие проводники. — Покорно благодарю. Ну, жребий так жребий, черт с вами. Держите соломины. Старик зажал в кулаке две соломинки. — Кто вытащит длинную — берет Давида Гаррика и его приятеля, — объяснил он. — А кто короткую — двух голых молодцов. — Хотите тянуть первым? — Валяйте вы, — ответил Карл. Я вытащил Давида Гаррика и Абдуллу. — Эх, мне таки достался этот проклятый трагик. — Ну, быть может, вы об этом не пожалеете, — утешил меня Карл. — Хотите меняться? — Нет. Но он может оказаться чистейшим золотом. — Теперь разыграем места охоты. Тот, кто вытянет длинную соломину, получает право первого выбора, — сказал Старик. — Ладно, тяните. Карл вытащил короткую соломину. — Что же мы выберем? — спросил я у Старика. Начались долгие переговоры, во время которых Актер врал, будто он убил полдюжины куду из всевозможных засад или подкрадываясь по открытому месту, устраивая облавы или выпугивая зверей из кустов. Наконец Старик сказал: — Говорят, неподалеку есть что-то вроде солонца, куда антилопы приходят лизать соль, и там их убивают тысячами. Кроме того, бродя вокруг холма, можно чуть ли не в упор стрелять бедняжек на открытом месте. Если у вас железное здоровье, можно карабкаться на скалы, — оттуда их бьют, когда они выходят пастись. — Я выбираю солонец. — Но помните — стрелять только самых крупных, — сказал Старик. — Когда же в путь? — осведомился Карл. — На солонец нужно идти ранним утром, — сказал Старик. — Но вы, старина Хем, если хотите, можете осмотреть его еще сегодня вечером. До него миль пять по дороге, а дальше — пешком. Берите машину и отправляйтесь первым. А вы, Карл, можете снова отправиться в холмы когда угодно, пусть только немного спадет жара. — А как же Мемсаиб? — спросил я. — Ехать ей со мной? — Не советовал бы, — серьезно ответил Старик. — Чем меньше с вами будет людей, тем лучше. ГЛАВА ВОСЬМАЯ 77 В тот вечер М’Кола, Актер, Абдулла и я вернулись в сумерки, когда стало уже прохладно, и подошли к костру очень взволнованные: почва на солонце оказалась взрытой и была усеяна глубокими и свежими вмятинами, среди которых мы обнаружили следы нескольких крупных самцов куду. Шалаш там был очень удобный для засады, и я испытывал такую уверенность, что убью куду на другое же утро, словно мне предстояло стрелять уток из хорошего укрытия при множестве подсадных и в прохладную погоду, когда стая непременно должна прилететь. — Дело верное. Нет ничего проще. Даже совестно! Этот актеришка, как бишь его? Бут, Бэррэт, Мак-Кэллоф — ну, вы знаете, о ком я говорю... — Чарльз Лафтон, — подсказал Старик, попыхивая трубкой. — Вот, вот! Фред Астэр, местная и мировая знаменитость. Так знаете ли — он просто виртуоз. Сразу отыскал шалаш и все прочее. Привел нас к солонцу. В два счета определил направление ветра, подбросив в воздух пригоршню пыли. Настоящее сокровище. Видно, их обучал этот Бвана Симба. Старик, считайте, что куду уже в нашей палатке. Важно только суметь сохранить мясо и выбрать наиболее крупных. Завтра я убью на этом солонце двух самцов сразу. Да, друзья мои, я вполне удовлетворен! — Чего это вы успели хлебнуть? — Ни капли в рот не брал, ей-богу!.. — Ну, тогда вольем ему стаканчик в глотку и посмотрим, не замолчит ли он, — предложил Старик Маме. — Уже молчу! Но, честное слово, я полон радостных предчувствий. Как вы думаете, кто появился в это мгновение в лагере? Разумеется, старина Карл с двумя голыми проводниками и своим коротышкой-ружьеносцем Чаро. В свете костра лицо Карла имело какой-то землистый оттенок. Он молча снял свою широкополую шляпу. — Ну, как, подстрелили что-нибудь? — осведомился он. — Нет. Но зверье там есть. А вы что делали? — Бродил вдоль этой несносной дороги. Откуда взяться куду у дороги, когда там полно скота, везде хижины и люди? Карл был на себя не похож, и я решил, что он заболел. Он появился, как череп на пиру, в ту минуту, когда нам было весело и мы дурачились вовсю. Я снова не выдержал и сказал: — Мы ведь тянули жребий. — Конечно, — подтвердил Карл с горечью. — И, значит, я должен охотиться у дороги. Чего ж тут ожидать? Разве так охотятся на куду? — Завтра утром вы убьете куду на солонце, — с нарочитой веселостью заверила его Мама. Я выпил стакан виски с содовой и услышал свой собственный бодрый голос: — Да, да, утром вы наверняка убьете куду на солонце. — Утром туда поедете вы. — Нет, вы. Я уже побывал там сегодня вечером. Мы будем чередоваться. Так было условлено. Верно, Старик? — Разумеется, — отозвался Старик. Мы избегали смотреть друг другу в глаза. — Выпейте виски, Карл, — предложила Мама. 78 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ — Спасибо. Мы ужинали молча. Уже в постели, в палатке, я упрекнул жену: — Дернуло же тебя ляпнуть, что он будет охотиться утром на солонце! — Кажется, я не то хотела сказать... Напутала. Не будем говорить об этом. — Мне так повезло, когда тянули жребий. Нельзя идти против жребия. Ведь это единственный способ уравнять шансы. — Ладно, оставим это. — Мне кажется, Карл нездоров, он просто на себя не похож. Он в таком бешенстве от неудач, что способен распугать все зверье на нашем солонце. — Прошу тебя, не надо больше об этом. — Не буду. — Вот и хорошо. — Что ж, во всяком случае, мы его успокоили. — Не думаю. Ну, довольно, перестань, пожалуйста. — Молчу. — Вот и хорошо. — Спокойной ночи, — помолчав, сказала она. — Спи спокойно. К черту всю эту ерунду! — Спокойной ночи. Глава девятая Наутро Карл со своими людьми отправился на солонец, а Гаррик, Абдулла, М’Кола и я, перейдя дорогу, двинулись вверх по сухому руслу наискосок от деревни и стали подниматься в гору. Мы лезли в тумане по усыпанному галькой сухому дну, так густо поросшему кустарником, что приходилось идти согнувшись как бы по крутому туннелю, образованному ветвями и лианами. Я потел так, что намокли фуфайка и верхняя рубаха; когда же мы взобрались на высокий горный уступ и остановились, глядя вниз, на облака, нависшие над долиной, я озяб от утреннего ветерка и накинул плащ. Я не мог усидеть на месте и подал Гаррику знак идти дальше. Мы одолели склон горы и, поднявшись выше, пошли назад, потом перевалили на противоположный, теневой склон, останавливаясь над каждой долиной, чтобы внимательно осмотреть ее в полевой бинокль. Наконец, мы достигли чашеобразной долины, напоминавшей амфитеатр; по дну ее среди ярко-зеленой травы бежал ручеек, а дальний склон и весь нижний край поросли лесом. Мы сели в тени скал, защищавших нас от ветра, и, глядя в бинокли, увидели на противоположных склонах, освещенных восходящим солнцем, двух самок куду с детенышем — они паслись на опушке леса, торопливо ощипывая листья и молодые побеги, потом внезапно подняли головы, настороженно вглядываясь в даль, как делают все животные, когда пасутся среди деревьев. На равнине они видят так далеко, что чувствуют себя уверенно и пасутся спокойно, — не то что в лесу. Мы могли разглядеть даже белые вертикальные полосы на серых боках, и, сидя на высоком склоне этим ранним утром, я с удовольствием наблюдал за антилопами. Но вдруг мы услышали гул, как от обвала. Я подумал сначала, что это рухнула скала, но М’Кола сказал тихо: — Ввана Кабор! Пита! Мы прислушивались, ожидая второго выстрела, но кругом было тихо, и я решил, что Карл убил наконец куду. Самки, за которыми мы наблюдали, при ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 79 звуке выстрела замерли было, насторожившись, потом снова стали щипать траву. Однако они все время держались леса. Мне вспомнилась старая пословица индийских охотников: “Один выстрел — есть мясо. Два выстрела — ничего нельзя знать. Три выстрела — на-ка выкуси”, — и я достал словарь, чтобы перевести эту пословицу М’Кола. Она показалась ему забавной, он засмеялся и покачал головой. Мы осматривали долину в бинокль до тех пор, пока солнце не настигло нас, а потом бродили по противоположному склону горы и в другой красивой долине видели то место, где какой-то бвана, которого туземцы упорно именовали “Бвана Доктор”, подстрелил замечательного самца куду; пока мы смотрели сверху на долину, там показался какой-то масай, и я сделал вид, будто хочу выстрелить в него. Гаррик заволновался и с трагическими жестами стал твердить, что там человек, человек, человек! — А в человека разве стрелять нельзя? — спросил я. — Нет! Нет! Нет! — воскликнул он, прикладывая руку ко лбу. Я с притворной неохотой опустил ружье, разыграв эту комедию для того, чтобы позабавить ухмылявшегося М’Кола. Так как стало очень жарко, мы двинулись через луг, где трава была до колен и буквально кишела крупной красноватой прозрачнокрылой саранчой, которая тучами поднималась вокруг нас, жужжа, как косилка, потом вверх по невысоким холмам, вниз по длинному крутому склону и, наконец, долиной, в которой тоже густо роилась саранча, в лагерь, где мы уже застали Карла с его добычей. Когда я проходил мимо палатки свежевальщика, он показал мне отрезанную голову антилопы, с которой капюшоном свисала шкура, а там, где череп был отделен от позвоночника, сочилась еще не запекшаяся кровь. Это был какойто странный и жалкий куду. Лишь морда от глаз до ноздрей, гладко-серая, с белыми отметинами, да длинные изящные уши были хороши. На глазах, уже затянутых пленкой, сидели мухи, а рога, тяжелые, шершавые, вместо того чтобы завиваться вверх, круто изгибались в стороны. Это была удивительная голова, массивная и уродливая. Старик сидел под тентом с книгой и курил трубку. — Где Карл? — спросил я. — Наверно, в своей палатке. Ну, что вы сегодня поделывали? — Бродили вокруг холма. Видели двух куду. — Ужасно рад за вас, — сказал я Карлу, останавливаясь у входа в его палатку. — Расскажите, как это вам удалось? — Мы караулили в засаде, и проводники подали мне знак пригнуться, а когда я поднял голову, куду стоял уже совсем близко. Он показался мне огромным. — Мы слышали ваш выстрел. Куда попала пуля? — Кажется, сначала в ногу. Потом мы погнались за ним, и я стрелял еще несколько раз, пока не свалил его. — А я слышал только один выстрел. — Нет, их было три или четыре. — Наверное, горы заглушали выстрелы, раз вы ушли в сторону... А рога у него массивные и раскидистые. — Спасибо, — сказал Карл. — Надеюсь, вам достанется еще лучшая добыча. Проводники уверяют, что там был и второй самец, но я его не видел. 80 ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НАЧАЛО ОХОТЫ Я вернулся к нашему тенту, где сидели Старик и Мама. Оба, видно, были не в восторге от этого куду. — Что это вы такие невеселые? — удивился я. — Ты видел голову? — спросила моя жена. — Конечно. — Какое уродство! — Ну, что ж, это куду. На солонце был еще один, надо туда съездить. — Да, да, Чаро и следопыты уверяют, что там был еще один самец, крупный, с замечательными рогами. — Вот и прекрасно. Этого убью я. — Если только он придет опять. — Как хорошо, что Карлу наконец посчастливилось, — сказала Мама. — Бьюсь об заклад, он еще убьет самого крупного куду на свете, — отозвался я. — Я пошлю его с Дэном за черными антилопами, — сказал Старик. — Так мы условились: первый, кто убьет куду, идет добывать черных антилоп. — Что ж, это правильно. — А потом, как только и вы добудете себе куду, мы отправимся следом за ними. — Чудесно! Часть третья. Неудачная охота Глава десятая Все это было раньше, — казалось, целый год прошел с тех пор. И вот теперь, в жаркий солнечный день, после того как я подстрелил цесарку, мы едем в машине на солонец, за двадцать восемь миль от лагеря, потеряв попусту пять дней сначала на том солонце, где повезло Карлу, потом в холмах, высоких и низких, потом на равнине, и в довершение всего нам сорвал охоту грузовик этого австрийца. А я все время помнил, что до отъезда остается только два дня! М’Кола тоже помнил это, — мы теперь охотились вместе, как равные, и не смотрели больше друг на друга с чувством превосходства. Нас мучила одна мысль — что время не ждет, и досада, что мы не знаем местности и всецело зависим от проводников, которые навязались нам на шею. Наш шофер, Камау, был из племени кикуйу; этот тихий человек лет тридцати пяти, в старой суконной куртке, брошенной за негодностью каким-то охотником, в штанах с огромными, уже прохудившимися заплатами на коленях и сильно заношенной рубахе, каким-то чудом ухитрялся всегда выглядеть даже щеголеватым. Скромный и молчаливый Камау отлично знал свое дело; сегодня, когда мы выехали из зарослей на голую пустынную равнину, я посмотрел на него, такого опрятного в старой куртке, заколотой английской булавкой, и вспомнил, как этот человек, чья неизменная приветливость, скромность и мастерство так восхищали меня, едва не умер от лихорадки во время нашего первого путешествия, а я тогда боялся только одного: остаться без шофера. Теперь смерть нашего Камау при любых обстоятельствах глубоко огорчила бы меня... Отогнав эти сентиментальные мысли о далекой и маловероятной кончине Камау, я стал размышлять о том, с каким удовольствием всадил бы я хороший заряд дроби в зад Давиду Гаррику, когда он разыгрывает великого следопыта, и поглядел бы, какую он скорчит рожу. И вдруг в эту самую минуту мы подняли вторую стаю цесарок. М’Кола протянул мне ружье, но я отрицательно покачал головой. Он энергично закивал в ответ, сказал: “Правильно! Очень правильно!” — а я велел Камау ехать дальше. Гаррик взволновался и произнес целую речь: “Разве нам не нужны цесарки? Так вот же они. И какие замечательные!” Но я не слушал его. Если верить спидометру, до солонца оставалось не более трех миль, а в мои планы вовсе не входило распугать антилоп стрельбой, как спугнул куду грузовик австрийца в тот раз, когда мы притаились в засаде. Мы вылезли из машины возле группы чахлых деревьев, милях в двух от места, и по песку зашагали к ближайшему солонцу, расположенному на поляне слева от тропы. Около мили мы прошли совершенно бесшумно, гуськом — впереди Абдулла, за ним я, за мной М’Кола и Гаррик. Дальше началась слякоть. Там, где песок 81 82 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА покрывал глину лишь тонким слоем, стояли лужи, и было ясно, что здесь прошел сильный дождь и впереди такая же грязь. Я не сразу понял, чем это нам грозит, но Гаррик развел руками, глянул на небо и яростно оскалил зубы. — Плохо, — прошептал М’Кола. Гаррик заговорил во весь голос. — Заткнись, бездельник! — прошипел я и приложил палец к губам. Но он продолжал что-то говорить, не понижая голоса, и указывал то на небо, то на размытую дождем дорогу, а я тем временем искал в словаре слово “молчать”. Не найдя его, я решительно зажал Гаррику рот ладонью, и тут только он замолчал, опешив от удивления. — М’Кола! — позвал я. — Да? — Что он говорит? — На солонце плохо. — Аra! Вот оно что. А я-то думал, дождь только облегчает работу следопыта. — Когда был дождь? — спросил я. — Этой ночью. Гаррик опять что-то залопотал, и я снова зажал ему рот. — Кола. — Да? — Есть другой солонец, — я указал в сторону большого лесного солонца, который, как я знал, был расположен значительно выше, — ведь мы поднялись в гору очень немного. — Другой хорош? — Может быть. М’Кола что-то тихо сказал Гаррику, который, видимо, был глубоко обижен, но больше не открывал рта, и мы пошли, обходя лужи, к глубокой впадине, которая, наверное, была почти затоплена. Гаррик шепотом начал новый монолог, но М’Кола заставил его замолчать. — Вперед, — скомандовал я, и мы во главе с М’Кола зашагали в сторону верхнего солонца по сырому песку старого речного русла. Вдруг М’Кола застыл на месте, потом наклонился и шепнул мне: “Человек”. Мы увидели след. — Шенци, — произнес он. Это означало “местный”. Мы пошли по следу, медленно пробираясь между деревьями, осторожно подкрались к солонцу и укрылись в шалаше, М’Кола покачал головой. — Нехорошо, — сказал он. — Пойдем. Мы пошли на солонец. Все, что здесь произошло, можно было без труда прочесть на сырой почве. Мы увидели следы трех крупных антилоп на пригорке — там, где животные спускались на солонец. Рядом другие, глубокие, словно вырезанные ножом следы — тут куду бросились бежать, когда запела тетива лука, — и расплывчатые отпечатки копыт там, где они взбирались наверх, а еще дальше следы вели в чащу. Мы осмотрели землю на всем пути антилоп, но следов человека не обнаружили: охотник с луком упустил добычу. М’Кола со злостью повторил: “Шенци!” Мы прошли немного по следу человека, который вел обратно, к дороге. Потом засели в шалаше и вылезли оттуда, лишь когда смерклось и стал накрапывать дождь. Антилопы так и не пришли. Мы под дождем побрели к машине. Какой-то африканец охотился на наших куду, спугнул их, и теперь на этот солонец нечего было рассчитывать. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 83 Камау соорудил тент из большой брезентовой подстилки, повесил- под ним мою москитную сетку и расставил складную койку. М’Кола внес под навес наши продукты, а Гаррик и Абдулла развели костер и вместе с Камау и М’Кола занялись стряпней. Они собирались спать в грузовике. Моросил дождь, и, укрывшись от него под навесом, я разделся, надел теплую пижаму, потом, сев на койку, съел кусок жареной цесарки и выпил две кружки виски пополам с водой. Вошел М’Кола, серьезный, озабоченный, неуклюже двигаясь в тесной палатке, взял мою одежду, которую я положил в изголовье вместо подушки, развернул, снова сложил ее очень небрежно и сунул под одеяло. Он принес три жестянки и спросил, не нужно ли открыть их. — Нет, не надо. — Чай? — спросил он. — К черту чай. — Не хочешь чаю? — Виски лучше. — Да, — отозвался он с чувством. — Лучше. — А чай будем пить утром, пораньше. — Хорошо, бвана М’Кумба. — Ночуй здесь, дождь на дворе. — Я указал на брезент, за которым шумел дождь. Я люблю этот шелест дождевых капель — из всех звуков, какие мы, часто живущие под открытым небом, слышим вокруг, это самый приятный. Да, то был приятный шум, хотя он не предвещал нам ничего доброго. — Хорошо. — Ступай поешь. — Хорошо. Не хочешь чаю? — Я ж тебе сказал — к черту чай! — А виски? — спросил он с надеждой. — Виски все вышло. — Виски, — повторил он с непоколебимой уверенностью. — Ладно. Ступай поешь, — сказал я и, налив в кружку виски пополам с водой, забрался под москитную сетку, нашарил свою одежду, снова аккуратно уложил ее в изголовье, а потом повернулся на бок и, опираясь на локоть, медленно выпил виски, поставил кружку на землю, ощупал под койкой спрингфилд, положил фонарь рядом с собой и скоро уснул, убаюканный шелестом дождя. Проснулся я только на минуту, когда пришел М’Кола и стал возиться, устраивая себе постель около меня. Второй раз я проснулся уже среди ночи и услышал его сонное дыхание. Утром он встал и вскипятил чай, когда я еще спал. — Чай, — сказал он, стягивая с меня одеяло. — Опять этот проклятый чай, — пробормотал я и сел на койке, еще не проснувшись окончательно. Было серое, промозглое утро. Дождь перестал, но над землей стлался туман, и когда мы пришли на солонец, оказалось, что он залит водой, а вокруг — никаких следов. Тогда мы обшарили мокрый кустарник и вышли на равнину в надежде найти след на влажной землей по этому следу настичь какого-нибудь куду. Но все напрасно. Мы перешли через дорогу и двинулись вдоль кустов в обход открытого болотца. Я надеялся встретить носорога, так как нам то и дело попадались кучи свежего носорожьего помета, но после дождя не появилось ни единого следа. Раз мы услышали крики клещеедов и, подняв головы, увидели, 84 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА как эти птицы неуклюже летели к северу над густым кустарником. Мы описали большой круг, но ничего не нашли, кроме свежих следов гиены и самки куду. М’Кола указал мне на небольшой череп куду с одним великолепным витым рогом, врезавшимся в ствол дерева. Второй рог мы отыскали в траве, и я водворил его на место, — воткнул в отверстие на голове куду. — Шенци, — опять сказал М’Кола и сделал такой жест, будто натягивает лук. Череп был совершенно чистый, но в полых рогах скопился какой-то мокрый осадок, и они прескверно пахли. Я притворился, будто не чую этой вони, и протянул находку Гаррику, а тот, не сморгнув глазом, передал ее Абдулле. Абдулла сморщил свой плоский нос и потряс головой. Рога и в самом деле пахли отвратительно. М’Кола и я засмеялись, но физиономия Гаррика хранила самое невинное выражение. Мне пришла в голову мысль проехать по дороге, высматривая куду и останавливаясь у каждой поляны, которая покажется нам подозрительной. Мы, сели в машину и поехали. Однако безуспешно обшаривали мы все прогалины. Между тем взошло солнце, и дорога оживилась, по ней то и дело сновали путники — одни в белой одежде, другие почти голые, — и мы решили вернуться в лагерь. По пути сделали остановку и подкрались еще к одному солонцу. За деревьями мы увидели антилопу-палу, ее шкура казалась красной там, где солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали ее. Вокруг было множество следов куду. Мы заровняли их и двинулись дальше. Когда мы подъехали к лагерю, над нами вдруг нависла туча саранчи, летевшей на запад, и все небо мерцало, точно кадры из старого кинофильма, только не серые, а красноватые. Моя жена и Старик вышли нам навстречу. Они были очень разочарованы: на лагерь не упало ни капли дождя, и они ожидали, что мы вернемся не с пустыми руками. — А что, наш любитель литературы уехал? — Да, отправился в Хандени, — ответил Старик. — Он говорил со мной об американских женщинах, — сказала моя жена. — Бедный Папа, а я-то была уверена, что тебе сегодня повезет. Гадкий дождь! — Так что же он говорил про американских женщин? — Что они ужасны. — Он рассуждает очень здраво, — заметил Старик. — Ну, рассказывайте, что с вами приключилось. Мы уселись под тентом, и я рассказал все по порядку. — Это был вандеробо, — решил Старик. — Они никудышные стрелки. Да, не повезло вам. — А я думаю, это один из тех бродячих африканцев, которых встречаешь с луком у дороги. Он увидел первый солончак, а потом по тропе добрался до второго. — Нет, вряд ли, те носят с собой лук и стрелы только для самозащиты. Они не охотники. — Ах, не все ли нам равно, кто это был. — Да, не повезло. А тут еще дождь. Я поставил дозорных на обоих холмах, но они ничего не видели. — Что ж, у нас есть еще время до завтрашнего вечера. Когда нам уезжать? — Послезавтра. — Черт бы его побрал, этого дикаря! ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 85 — А Карл, наверно, уже разогнал всех черных антилоп. — Мы не успеем заехать в прежний лагерь за рогами. Знаешь новость? — Нет. — Я дала обет не курить полгода, если ты убьешь куду, — сказала Мама. — И уже перестала. Мы закусили, потом я забрался в палатку, прилег и стал читать. Я знал, что у меня еще есть шансы подстрелить что-нибудь завтра утром на солонце, и старался не нервничать. Но все же я нервничал и боялся уснуть, помня, что после дневного сна человека одолевает вялость, а потому вышел из палатки, уселся на полотняный стул под тентом и принялся за книжку “Жизнеописание Карла II”, то и дело отрываясь, чтобы поглядеть на саранчу. То было захватывающее зрелище, и я никак не мог к нему привыкнуть. В конце концов я уснул на стуле, поставив ноги на ящик из-под консервов, а когда проснулся, около меня стоял Гаррик в пышном развевающемся головном уборе из черных и белых страусовых перьев. — Проваливай, — сказал я по-английски. Он не трогался с места, самодовольно ухмыляясь, потом повернулся, чтобы я мог взглянуть на него в профиль. Тем временем Старик с трубкой в зубах вышел из своей палатки. — Полюбуйтесь-ка! — крикнул я ему. Он взглянул, пробормотал: “Боже!” — и скрылся в палатке. — Куда же вы? — сказал я. — Не надо обращать на него внимания, вот и все. Старик снова вышел с книгой, и мы сидели и болтали, словно не замечая Гаррика, который все еще щеголял своим головным убором. — По-моему, этот болван к тому же выпил, — заметил я. — Возможно. — От него несет спиртным. Старик, не глядя на Гаррика, тихо сказал ему несколько слов. — Что вы ему сказали? — Велел одеться по-человечески и быть готовым в путь. Гаррик удалился, покачивая перьями. — Не вовремя он нацепил эти перья, — заметил Старик. — Некоторым они нравятся. — В том-то и дело. Этих молодцов без конца фотографируют в таком виде. — Безобразие, — возмутился я. — Черт знает что, — поддакнул Старик. — Если мы и в последний день вернемся ни с чем, я готов всадить Гаррику пулю в зад. Что мне за это будет? — Могут выйти серьезные неприятности. Тогда уж лучше стрелять в нас обоих. — Ну нет, только в Гаррика. — Лучше не надо. Помните, что отдуваться придется мне. — Я же шучу. Старик. Появился Гаррик, уже без своего убора, а за ним Абдулла, и Старик обменялся с ними несколькими словами. — Они предлагают охотиться у холма на новом месте. — Превосходно. Когда же? — Хоть сейчас. Кажется, будет дождь. Так что поторапливайтесь. 86 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА Я послал Моло за своими сапогами и плащом, а М’Кола вынес мне из палатки спрингфилд, и мы вместе пошли к машине. Погода весь день стояла облачная, хотя утром и после полудня солнце время от времени проглядывало сквозь тучи. Надвигались дожди. Вот и сейчас уже начало моросить, и саранча больше не летала в воздухе. — Страшно хочется спать, — сказал я Старику. — Давайте выпьем. Мы стояли возле кухонного костра под большим деревом, и мелкий дождик шелестел в листве над нашими головами. М’Кола принес флягу с виски и торжественно вручил ее мне. — Хотите? — предложил я Старику. — Что ж, выпить никогда не мешает. Мы выпили оба, и Старик пробормотал: — Черт бы их побрал. — Черт бы их побрал, — повторил за ним и я. — Может, все-таки наткнетесь на какие-нибудь следы. — Мы обыщем всю местность. Наша машина свернула вправо, на дорогу, миновала хижины туземцев, потом свернула влево, на плотно убитую, красную глинистую тропу, огибавшую холмы и с обеих сторон теснимую деревьями. Дождь уже лил вовсю, и мы ехали медленно. В глине, по-видимому, было много песка, так как колеса не буксовали. Вдруг Абдулла, сидевший сзади, пришел в сильное возбуждение и попросил Камау остановиться. Тот затормозил, мы вылезли из машины и прошли немного назад. На сырой глине отчетливо виднелись свежие следы куду. Антилопа прошла здесь каких-нибудь пять минут назад, не больше: края отпечатков были острые, и взрыхленная копытами земля еще не успела размокнуть под дождем. — Думи, — сказал Гаррик, откинув голову, и широко растопырил руки, чтобы показать, какие огромные рога у этого животного. — Кубва сана! Абдулла подтвердил, что это самец, и притом большущий. — Пошли! — скомандовал я. Идти по следу было легко, и мы знали, что куду где-то близко. Под дождем или снегом подобраться к зверю гораздо проще, и я был уверен, что сегодня удастся поохотиться. След сквозь густой кустарник вывел нас на прогалину. Я остановился, чтобы протереть мокрые очки и продуть прицел моего спрингфилда. Дождь теперь хлестал как из ведра, пришлось надвинуть шляпу на самые глаза, чтобы не заливало очки. Едва мы обогнули прогалину, впереди послышался треск, и я увидел серое с белыми полосами животное, которое продиралось сквозь кустарник. Я вскинул ружье, но М’Кола схватил меня за руку. “Манамуки!” — прошептал он. Это была самка куду. Мы подошли к тому месту, где она только что стояла, но других следов там не оказалось. Сомнений быть не могло: от самой дороги мы шли по следу этой антилопы. — Вот тебе и “думи кубва сана”! — сказал я Гаррику с ядовитым сарказмом и жестом изобразил здоровенные рога, которые якобы растут у него на голове. — Манамуки кубва сана, — пробормотал он огорченно и кротко. — Какая огромная самка! — Эх ты, вшивый франтв страусовых перьях, — сказал я ему по-английски. — Манамуки! Манамуки! Манамуки! — Манамуки, — подтвердил М’Кола, кивнув головой. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 87 Я достал словарь, но, не найдя там нужных слов, знаками объяснил М’Кола, что мы вернемся на дорогу кружным путем и поглядим, нет ли других следов. Мы долго бродили под дождем, вымокли до нитки, но ничего не нашли и вернулись к машине; так как дождь стал утихать, а дорогу не развезло, решено было ехать дальше, пока не стемнеет. Облака клубились по склонам холмов, с деревьев капала вода; мы тщетно вглядывались в даль, но антилоп не было нигде — ни на открытых полянах, ни в зарослях кустарника, ни на зеленых склонах. Наконец стемнело, и мы вернулись в лагерь. Мой спрингфилд был весь мокрый, и когда мы вылезли из машины, я велел М’Кола хорошенько вычистить и смазать его. М’Кола кивнул, и я, войдя в палатку, где горел фонарь, снял с себя все, вымылся в брезентовой ванне и вышел к костру в халате, надетом поверх пижамы, освеженный и довольный. Мама и Старик уже сидели у огня. Мама встала, чтобы налить мне виски с содовой. — М’Кола все нам рассказал... — начал Старик, не двигаясь с места. — Да, здоровенная была самка, — отозвался я. — Я чуть не уложил ее. Как по-вашему, куда ехать завтра утром? — Пожалуй, на солонец. Наши дозорные просматривают оба холма. Помните того старого деда из деревни? Он как одержимый ищет куду где-то за холмами. Он и еще второй, вандеробо. Они ушли три дня назад. — Почему бы нам не попытать счастья на том солонце, где повезло Карлу? Авось и для меня выдастся счастливый день. — Конечно. — Беда только, что день этот последний, потом солонец могут затопить дожди. Когда мокро, соли не остается и в помине. Одна грязь. — В том-то и дело. — Мне бы только увидеть куду. — А когда увидите, не забудьте: нужно выждать, пока он подойдет поближе. Выждать и стрелять наверняка. — Об этом-то я не беспокоюсь. — Поговорим о чем-нибудь другом, — сказала Мама. — Этот разговор действует мне на нервы. — Жаль, что этот малый, Кожаные Штаны, не с нами, — заметил Старик. — Черт возьми, вот кто умеет поговорить. При нем и у вашего муженька язык развязывался. Разыграйте-ка снова ту комедию про современных писателей. — Подите к черту. — Почему у нас нет никакой интеллектуальной жизни? — сказала Мама. — Почему вы, мужчины, никогда не поговорите о мировых проблемах? Почему я ничего не знаю о том, что творится на свете? — На свете черт знает что творится, — сказал Старик. — Ужас, да и только. — Что происходит в Америке? — Почем мне знать! Какие-то торжества АМХ15. Мошенники с сияющими глазами транжирят деньги, и кому-то придется потом расплачиваться. У нас в городе все побросали работу и живут на пособие. Рыбаки сделались плотниками. Как в Библии, только не совсем. — А как дела в Турции? 15 АМХ — Ассоциация молодых христиан. 88 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА — Кошмар. Они поснимали с голов фески. Повесили множество людей. Но Исмет покамест целехонек. — А во Франции вы были в последнее время? — Мне там не понравилось. Тоскливо, как в преисподней. Не так давно там произошла прескверная заваруха. — Да, черт возьми, — сказал Старик, — это факт, если только можно верить газетам. — Уж если они затевают скандал, то по всей форме. Будьте спокойны, у них есть традиции. — А были вы в Испании во время революции? — Нет, я опоздал. Потом мы ожидали еще двух, но они так и не начались. А потом одну прозевали. — А на Кубе вы революцию видели? — С самого начала. — Ну и как? — Великолепно. А потом — отвратительно. Вы не поверите, до чего отвратительно. — Перестаньте, — сказала Мама. — Все это я и сама знаю. Когда в Гаване началась стрельба, я спряталась за мраморным столиком. Они мчались на машинах и палили во все стороны. Я прихватила с собой рюмку виски и была очень горда тем, что не забыла про нее и не расплескала ни капли. Дети сказали: “Мама, можно нам выйти вечером поглядеть, как стреляют?” Революция до того их взбудоражила, что нам пришлось прекратить всякие разговоры на эту тему. Бэмби так жаждал крови мистера М., что по ночам его душили кошмары. — Поразительно, — сказал Старик. — Не смейтесь надо мной. Я не хочу больше слышать о революциях. Все, что мы видим и слышим вокруг, — это сплошные революции. Они у меня как кость в горле. — Зато вашему супругу они, наверно, нравятся. — Ну нет, мне они тоже как кость в горле. — А я вот ни одной не видел, — сказал Старик. — Это прекрасно. Честное слово. Но только до поры до времени. А потом — хуже некуда. — Волнующее зрелище, — сказала Мама. — Этого нельзя не признать. Но мне они надоели. Правда, теперь я совершенно равнодушна. — Я немножко интересовался этим. — И каков же ваш вывод? — спросил Старик. — Все они были очень разные, но кое-что общее найти можно. Я хочу попытаться написать об этом книгу. — Может получиться здорово интересно. — Если только материала будет достаточно. Нужно изучить чертову пропасть фактов. Ужасно трудно доискаться правды, если не видел всего собственными глазами, потому что тем, кто потерпел поражение, не до разговоров, а победители всегда врут. Вот и приходится все прослеживать на месте, только в тех странах, где можешь объясниться. Это, конечно, мешает. Поэтому я никогда не поехал бы в Россию. Если не можешь подслушивать разговоры, толку не будет. Услышишь только официальные версии да осмотришь достопримечательности. В любой стране всякий ее житель, говорящий на иностранном языке, ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 89 наврет вам с три короба. Все самое интересное узнаешь из разговора с людьми, а если не можешь поговорить с ними и подслушать тоже не можешь, не узнаешь ничего ценного, разве только наберешь материалу на газетную статейку. — В таком случае вам надо хорошенько взяться за суахили. — Я стараюсь. — Но все равно вы не сможете подслушивать, потому что здесь они говорят на языках разных племен. — Но если я когда-нибудь и напишу об Африке, это будет простая зарисовка, я ведь так мало знаю. И все же первое впечатление от страны очень ценно. Быть может, оно, черт бы его побрал, ценнее для тебя самого, чем для других. Но все равно надо о нем написать, высказаться. А потом можно хоть выбросить. — Почти все эти книжонки про сафари невыносимо скучны. — До ужаса. — Мне понравилась только одна — Стритера. Постойте, как она называется? “Цивилизованная Африка”. Он заставляет почувствовать, что это за штука. Лучшей книги я не читал. — А мне нравится книга Чарли Кертиса. Она написана без фальши и рисует все очень живо. — А этот Стритер пишет ужасно смешно. Помните, как он подстрелил конгони? — Да, это очень смешно. — Но ни один автор не заставил меня почувствовать к этой стране то же, что чувствует он сам. Все описывают привольную жизнь в Найроби или плетут всякую чушь о том, как подстрелили зверя с рогами на дюйм длиннее, чем кто-то другой. Или нудно твердят про опасность. — Я хочу попробовать написать об этой стране, и о зверях, и о том, каково все это для новичка. — Что ж, попробуйте. Может получиться неплохо. А знаете, я тоже вел дневник во время поездки на Аляску. — Вот бы мне почитать, — сказала Мама. — Я и не знала, что вы писатель, мистер Дж. Ф. — Да уж куда там, — сказал Старик. — Если хотите, я пошлю за этим дневником. Понимаете, там просто записано все, что мы делали изо дня в день, и какой Аляска представилась англичанину из Африки. Вам будет скучно. — Никогда, если это написали вы, — сказала Мама. — Ваша женушка делает нам комплименты, — сказал Старик. — Не мне. Вам. — Его я уже читала, — сказала Мама. — Мне интересно прочесть, что пишет мистер Дж. Ф. — Слушайте, а он правда писатель? — спросил ее Старик. — Что-то не похоже. Может, он зарабатывает и себе и вам на жизнь охотой? — Нет. Он пишет. Когда у него ладится, с ним очень легко. Но, пока он не разошелся, к нему лучше не подходи. Перед тем как начать писать, он должен разозлиться. А когда заводятся разговоры о том, что он никогда больше не возьмет пера в руки, я знаю: теперь дело пойдет. — Пусть поговорит с нами о литературе, — сказал Старик. — То ли дело — Кожаные Штаны. Расскажите-ка нам какие-нибудь литературные анекдоты. 90 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА — Ладно, слушайте. Это было в последний наш вечер в Париже. Накануне я провел день в Солони, у Бена Галлахера, и он устроил там fermee — знаете, когда кролики выходят кормиться, ставят такую низенькую загородку, — и мы все утро охотились на кроликов, а после завтрака охотились на фазанов, и еще я подстрелил chevreuil16. — А при чем тут литература? — Погодите. В последний вечер у нас обедали Джойс с женой, и к обеду был жареный фазан и седло chevreuil, и мы с Джойсом напились, потому что назавтра я уезжал в Африку. Ох, и вечерок был! — Ничего себе литературный анекдот! — сказал Старик. — А кто такой Джойс? — Чудный малый, — сказал я. — Написал “Улисса”. — “Улисса” написал Гомер, — сказал Старик. — А Эсхила кто написал? — Тоже Гомер, — сказал Старик. — Вы меня не поймаете. Ну, а еще какойнибудь литературный анекдот? — Вы знаете, кто такой Паунд? — Нет, — сказал Старик. — Первый раз слышу. — Могу рассказать недурные анекдоты про Паунда. — Наверно, о том, как вы с ним ели какого-нибудь зверя с чудным названием, а потом напились? — Бывало и так, — сказал я. — Веселая жизнь у вашего брата. Как вы думаете, вышел бы из меня писатель? — Отчего ж. — Вот, — сказал Старик моей жене, — теперь мы с вами охоту по боку, и будем оба писателями. Ну, рассказывайте дальше. — Знаете, кто такой Джордж Мур? — Это про которого написано: “Скоро в путь! За Джорджа Мура я прощальный кубок пью”17. — Он самый. — Ну так что же с ним случилось? — Он умер. — Мрачноватый анекдот. Нельзя ли чего-нибудь повеселее? — Я его как-то встретил в книжном магазине. — Вот это уже лучше. Видите, он умеет интересно рассказывать. — Я однажды зашла к нему в Дублине, — сказала Мама. — С Кларой Дунн. — Ну и что было? — Не застали дома. — Ах, черт побери! Вот она, литературная жизнь! — сказал Старик. — Ни с чем ее не сравнишь. — Терпеть не могу Клару Дунн, — сказал я. — Я тоже, — сказал Старик. — А что она писала? — Письма, — сказал я. — Знаете такого — Дос-Пассоса? — Первый раз слышу. — Мы с ним пили горячий кирш в зимние холода. 16 17 Косуля (франц.). Старик путает имя, цитируя строки из стихотворения Байрона “Томасу Муру”. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 91 — А что было дальше? — В конце концов на нас все ополчились. — Единственный писатель, с которым я был знаком, это Стюарт Эдвард Уайт, — сказал Старик. — Раньше зачитывался его книжками. Замечательные книжки. А потом познакомился с ним. Не понравился. — Вы делаете успехи, — сказал я. — Видите? Литературные анекдоты вещь нехитрая. — А почему он вам не понравился? — спросила Мама. — Зачем рассусоливать? Разве анекдот не получился? Ваш муж тоже так рассказывает. — Все-таки расскажите. — Уж очень он строил из себя эдакого бывалого. Глаза, привыкшие к необозримым пространствам, и прочее тому подобное. Львов будто бы перебил до черта. Нечего этим хвалиться. Гонялся за ними, это еще так-сяк. Стольких нипочем не убьешь. Они сами кого хочешь убьют. Пишет шикарные статьи в “Сатердей ивнинг пост” про этого — как его? Энди Бернетта. Здорово пишет! А сам мне ужасно не понравился. Видел его в Найроби — так и вперял глаза в необозримые пространства. Когда в городе, так одевался во что похуже. Там говорили, будто стрелок он отличный. — Да вы сами, оказывается, тоже из литературной братии, — сказал я. — Ишь каким анекдотом блеснули! — Он прелесть, — сказала Мама. — А мы будем когда-нибудь есть? — Господи, я думал, мы уже поели, — сказал Старик. — Эти анекдоты только начни. Конца им не будет. После обеда мы немного посидели у костра, а потом пошли спать. Одна мысль, видимо, не покидала Старика, и прежде чем я залез в палатку, он сказал: — Вы уж столько ждали, не торопитесь завтра стрелять. Реакция у вас быстрая, так что спешить вам некуда. Запомните — торопиться не надо. — Хорошо. — Я велю пораньше вас разбудить. — Хорошо. Признаться, ко сну здорово клонит. — Спокойной ночи, — крикнула из палатки Мама. — Спокойной ночи, — сказал Старик. Он зашагал к своей палатке с комической чопорностью, осторожно неся себя в темноте, точно откупоренную бутылку. Глава одиннадцатая Утром Моло разбудил меня, потянув за одеяло. Я долго одевался, потом вышел из палатки, промыл слипавшиеся глаза и только после этого проснулся окончательно. Еще не рассвело, а у костра уже маячила темная спина Старика. Я подошел к нему, держа в руке обычную утреннюю чашку горячего чая с молоком, в ожидании, пока чай немного остынет. — Доброе утро! — Доброе утро, — откликнулся он хриплым шепотом. — Хорошо спали? — Прекрасно. Как самочувствие? — Ничего, только все еще спать хочется. Я пил чай и выплевывал чаинки прямо в огонь. 92 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА — Вы бы погадали на них, — сказал Старик. — Ни к чему это. Мы позавтракали при свете фонаря холодными скользкими абрикосами, подогретым рубленым мясом с острым томатным соусом, яичницей из двух яиц и живительным кофе. После третьей чашки Старик, задумчиво глядя перед собой и покуривая трубку, сказал: — Помните: хладнокровие — это все. — Разве вы за меня беспокоитесь? — Самую малость. — Полноте. А я так совершенно спокоен. Честное слово. — Вот и хорошо. Поезжайте. — Сперва надо сходить кой-куда. Стоя около нашей походной уборной, я глядел, как и каждое утро, на лучистую звездную россыпь, которую романтики-астрономы назвали Южным Крестом. Каждое утро в это самое время я созерцал Южный Крест — это стало для меня своего рода ритуалом. Старик был уже возле машины. М’Кола протянул мне ружье, и я влез на переднее сиденье. Трагик и его следопыт сели сзади. М’Кола примостился рядом с ними. — Ну, счастливой охоты! — сказал Старик. От палаток кто-то шел к нам. Это была моя жена в голубом халате. — В добрый час, — сказала и она. — От всей души желаю удачи. Я помахал рукой, и машина с зажженными фарами выехала на дорогу. Милях в трех от солонца мы оставили машину и осторожно подкрались к нему, но он был пуст. Все утро мы караулили напрасно. Сидели в шалаше скорчившись, каждый наблюдал сквозь ветви за своим участком, и я все ждал, что вот-вот появится сказочный самец куду, величественный и прекрасный, выйдет из-за кустов на черную пыльную поляну, к солонцу, изрытому, истоптанному сотнями копыт. Сюда сбегалось множество лесных тропинок, и по любой из них каждую секунду мог бесшумно подойти куду. Но он не показывался. Когда взошло солнце и мы согрелись после холодного и туманного утра, я сполз пониже в яму и привалился спиной к стенке, — в таком положении я мог по-прежнему глядеть в щель между сучьями. Спрингфилд я положил на колени и тут вдруг заметил на стволе ржавчину. Я тихонько подтянул ружье к себе и осмотрел его. Да, ствол был покрыт свежей ржавчиной. “Мошенник М’Кола и не подумал вчера вычистить ружье после дождя.” С этой мыслью я, разозлившись, вынул затвор. М’Кола исподлобья следил за мной. Двое других следопытов продолжали смотреть в щели. Я одной рукой поднял ружье так, чтобы М’Кола мог заглянуть в ствол, потом снова вставил затвор, осторожно протолкнул его вперед, прижимая спуск указательным пальцем, и взвел курок. М’Кола видел ржавый ствол. Выражение его лица не изменилось, и я промолчал, хотя был глубоко возмущен; таким образом, обвинительный акт, предъявление вещественных доказательств, и осуждение — все последовало без единого слова. Долго сидели мы, он — опустив голову, так что видна была лишь лысая макушка, я — откинувшись назад и глядя в щель. Теперь мы уже не были товарищами и добрыми друзьями. А солонец по-прежнему пустовал. В десять часов восточный ветер изменил направление, и мы поняли, что дольше ждать бесполезно. Ветер разнес во все стороны наш запах, который, ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 93 без сомнения, распугал животных, как распугал бы их мощный прожектор в ночном мраке. Мы вылезли из укрытия и пошли на солонец искать следов. Земля, мокрая после дождя, все же не была размыта, и мы увидели несколько мелких следов куду, оставленных, по-видимому, еще вечером, и один узкий, сердцевидный след крупного самца, очень отчетливый и глубокий. По этому следу на сырой красноватой земле мы шли часа два через густые заросли кустарника, напомнившие мне американский подлесок. В конце концов мы очутились в совершенно непроходимой чащобе и прекратили поиски. Я все время злился на М’Кола за невычищенное ружье, но это не мешало мне в радостном нетерпении ждать, что вот-вот мы поднимем куду и подстрелим его в зарослях. Однако антилоп не было, а день выдался жаркий, и мы, обогнув трижды какие-то холмы, вышли на луг, где паслось большое стадо низкорослого масайского скота; дальше тени нигде не было, и мы под палящим полуденным солнцем зашагали к машине. Оказалось, что Камау, сидевший в кабине, видел куду в какой-нибудь сотне шагов от себя. Зверь шел к солончаку около девяти часов — как раз тогда, когда ветер коварно переменился. Он, должно быть, почуял нас и повернул обратно, в холмы. Усталый, потный и скорее угнетенный, чем рассерженный, я сел рядом с Камау, и мы поехали к лагерю. Оставался всего один вечер, и не было никакой надежды, что нам повезет. Когда мы достигли лагеря и окунулись в прохладную тень деревьев, я вынул затвор и протянул ружье М’Кола, не говоря ни слова и даже не взглянув на него. Затвор я швырнул в палатку на свою койку. Старик и Мама сидели под тентом. — Не повезло? — мягко спросил Старик. — Да, сплошные неудачи. Самец прошел мимо машины в сторону солонца. Должно быть, его спугнули. Мы обшарили всю округу. — И неужели все попусту? — спросила моя жена. — А нам показалось, что мы слышали треск выстрела. — Это Гаррик трещал языком. Дозорные что-нибудь заметили? — Ничего. Хотя мы держали под наблюдением оба холма. — От Карла есть вести? — Ни слуху ни духу. — Хоть бы что-нибудь попалось! — сказал я. Я был измучен и во мне росло чувство горечи. — Пропади все пропадом! На кой черт ему понадобилось испортить охоту на солонце в первое же утро, прострелив брюхо паршивому куду, и гоняться за ним повсюду, распугивая дичь! — Свиньи! — поддакнула Мама. Она всегда на моей стороне, даже когда я не прав. — Канальи! — Добрая ты душа, — отозвался я. — Не огорчайся, я совершенно спокоен. Или скоро буду спокоен. — Мне так обидно за тебя, — промолвила она. — Бедный Папа. — Выпейте чего-нибудь, — предложил Старик. — Вам это сейчас необходимо. — Ей-богу, Старик, я просто из кожи лез, наслаждался охотой и ни капли не волновался до сегодняшнего дня. Я был уверен в успехе: ведь столько следов! А что, если мне так и не попадется ни единый куду? Кто знает, вернемся ли мы сюда еще когда-нибудь? 94 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА — Вернетесь, — утешил он меня. — Нечего унывать. Вот вам, выпейте-ка лучше! — Я просто старый ворчун и нытик, но, клянусь, это в первый раз сегодня у меня так расходились нервы. — Да, ворчать и ныть — скверная привычка, — ответил Старик. — От нее надо избавиться. — Как насчет завтрака? — спросила Мама. — Неужели вы еще не проголодались? — К черту завтрак. Понимаете, Старик, мы ни разу не видели антилоп вечером на солонце и не видели самца в холмах. У меня остается только один вечер. Значит, можно считать, что все пропало. Три раза они уже были у меня в руках, и все же Карл, и этот австриец, и вандеробо нас посрамили! — Ну, ну, мы еще не посрамлены, — сказал Старик. — Пейте! Мы хорошо позавтракали, а затем явился Кэйти и доложил, что к Старику пришли какие-то люди. Сначала на стене палатки появились две тени, потом люди подошли к нам. Один из них был тот самый старый африканец, что встретил нас в день приезда, но теперь он явился уже в роли охотника, вооруженный длинным луком и колчаном со стрелами. Он казался еще более дряхлым, изможденным и внушал еще меньше доверия, чем прежде. Вырядился он, по-видимому, только для того, чтобы произвести на нас впечатление. С ним был тощий вандеробо с разрезанными и закрученными кверху мочками ушей; склонив голову набок, он стоял на одной ноге, а пальцами другой почесывал у себя под коленом. Лицо у него было глупое и отталкивающее. Первый, глядя прямо в глаза Старику, что-то говорил ему серьезно и медленно, без всякой мимики. — Что это он выдумал? К чему такое снаряжение? Хочет за деньги наняться к нам соглядатаем? — спросил я. — Погодите, — отмахнулся Старик. — Нет, вы только взгляните на них, на этого вандеробо и на старого плута! — не унимался я. — Что он говорит. Старик? — Он еще не кончил. Наконец Дед умолк и стоял в ожидании, опираясь на свой бутафорский лук. Лица у обоих были очень усталые, но, помнится, я тогда видел в них только негодных обманщиков. — Говорит, что они нашли место, где есть куду и черные антилопы, — сказал Старик. — Он провел там три дня. Они знают, где прячется крупный самец куду, и оставили там человека следить за ним. — И вы верите этому? — Я почувствовал, что хмель и усталость мгновенно испаряются и волнение захлестывает меня. — Кто их знает! — ответил Старик. — Далеко ли до места? — День пути. На машине, думаю, можно добраться часа за три или четыре, если она там пройдет. — А он как думает — пройдет машина? — Места неезженые, но он говорит — добраться можно. — Когда они оставили человека следить за куду? — Сегодня утром. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 95 — А черные антилопы где? — Там же, в холмах. — Как туда попасть? — Ума не приложу. Разве только пересечь равнину, обогнуть вон ту гору, а оттуда ехать к югу. Он говорит, что в тех местах еще никто никогда не охотился. Только он охотился там в молодости. — Вы верите этому? — Конечно, все они — врали отчаянные, но этот говорит с таким искренним убеждением. — Тогда я еду! — Да, не теряйте времени. Поезжайте на машине, пока будет возможно, а затем пользуйтесь ею как базой и начинайте охоту. Мемсаиб и я с утра снимем лагерь и вместе с проводниками поедем к Дэну и мистеру Т. За теми черными землями дождь нам уже не страшен. А вы догоните нас позже. Если застрянете — на худой конец всегда можно отослать легковую машину через Кондоа, а грузовики — в Ганга и дальше кружным путем. — А вы не хотите меня сопровождать? — Нет. Вам выгоднее ехать одному. Чем больше людей, тем меньше дичи. На куду нужно охотиться в одиночку. Я перевезу снаряжение и присмотрю за маленькой Мемсаиб. — Ладно, — согласился я. — А Гаррика или Абдуллу тоже не брать? — Конечно, нет. Возьмите М’Кола, Камау и этих двоих. Я велю Моло упаковать ваши вещи. Поедете налегке. — Послушайте, Старик, как вам кажется, они правду говорят? — Не знаю, — ответил Старик. — Надо рискнуть. — Как по-ихнему черная антилопа? — Тарагалла. — Похоже на “Валгаллу”, — я запомню. А у самок тоже есть рога? — Конечно, но их легко отличить: самцы черные, а самки коричневые. Ошибиться невозможно. — М’Кола видел когда-нибудь эту антилопу? — Не думаю. У вас лицензия на четырех. Как только попадется что-нибудь подходящее, действуйте. — А трудно их убить? — Да, они живучи, не то что куду. Если подраните такую антилопу, подходите с опаской. — А сколько времени в моем распоряжении? — Нам ведь пора уезжать отсюда. Постарайтесь вернуться завтра к вечеру. А в общем — смотрите сами. Мне кажется, наступает решительная минута. Вы убьете куду. — Знаете, что мне это напоминает? Когда я был еще мальчишкой, мы прослышали, что в черничных зарослях за Пидженом и Стердженом течет река, в которой никто еще никогда не удил рыбу. — И что же оказалось? — Вот слушайте. Мы добрались туда с большим трудом, пришли вечером, уже в сумерки, и увидели глубокую заводь, а дальше река текла длинной и ровной полосой. Вода была нестерпимо холодная, просто ледяная, и когда я бросил в нее окурок, на поверхность выскочила большая форель, за ней другая, 96 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕУДАЧНАЯ ОХОТА третья, они хватали и снова выплевывали окурок до тех пор, пока от него не осталась одна труха. — И крупные были форели? — Крупнее я в жизни не видывал. — Господи помилуй! — сказал Старик. — И что же дальше? — Я размотал удочку, закинул ее, а было уже совсем темно, над нами летал козодой, стоял жуткий холод, и я поймал трех рыб одну за другой, — они клевали, едва наживка касалась воды. — И вы их вытащили? — Всех трех. — Бессовестный лгун! — Клянусь богом, это правда. — Ну, хорошо, верю. Остальное доскажете, когда вернетесь. Так это были крупные форели? — Я же сказал — крупнее не бывает. — Господи твоя воля! — пробормотал Старик. — Как же такому молодцу не подстрелить куду! Ну, в путь! В палатке я рассказал обо всем жене. — Ты в самом деле решил ехать? — Да. — Тогда живей! — сказала она. — Не теряй времени на разговоры. Собирайся! Я взял плащ, запасные башмаки и носки, купальный халат, коробочку с хинином, цитронелловое масло от москитов, записную книжку, карандаш, обоймы с патронами, кинокамеру, аварийный набор инструментов, нож, спички, чистую рубашку, книгу, две свечи, деньги, флягу... — Что еще? — Мыло взял? Захвати гребень и полотенце. А носовые платки? — Возьму. Моло уложил все в рюкзак, я тем временем разыскал свой бинокль, М’Кола взял полевой бинокль Старика и флягу с водой, а Кэйти вынес ящик с провизией. — Захватите побольше пива, — посоветовал Старик. — Вы можете оставлять его в машине. Виски осталось немного, но одну бутылку, так и быть, возьмите. — А вы как же? — Не беспокойтесь. В том лагере есть еще. Мы послали туда две бутылки с мистером К. — Мне довольно одной фляжки, — сказал я. — Давайте разольем эту бутылку. — Тогда возьмите побольше пива. У нас его вдоволь. — Это еще что такое? — спросил я, указывая на Гаррика, который садился в машину. — Он говорит, что вы и М’Кола не сможете объясняться с местными жителями. Вам понадобится переводчик. — Он мне как бельмо на глазу! — Но вам и впрямь понадобится человек для того, чтобы переводить на суахили то, что будут говорить тамошние жители, которых вы встретите. — Ну, ладно. Но скажите ему, чтобы он не вздумал командовать и держал свой проклятый язык на привязи. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 97 — Мы проводим вас до вершины холма, — сказал Старик. Вандеробо вскочил на подножку, и машина тронулась. — За Дедом заедем в деревню. Все обитатели лагеря вышли из палаток. — Соли взяли достаточно? — Да. В деревне нам пришлось ждать, пока Дед и Гаррик выйдут из своих хижин. Только что перевалило за полдень, но небо заволокли тучи. Я глядел то на жену, такую милую, спокойную, изящную в своем защитном костюме, сапогах и надетой набекрень широкополой шляпе, то на Старика, рослого, грузного, в выцветшей вельветовой безрукавке, побелевшей от стирки и солнца. — Ну, до свиданья! Будь умницей. — Не беспокойся. Как жаль, что я не могу поехать с тобой. — Это охота в одиночку, — сказал Старик. — Нужно налететь быстро, сделать свое грязное дело и так же быстро убраться, а у них и без того слишком большой груз. Вышел Дед и забрался на заднее сиденье рядом с М’Кола, напялившим мою старую защитную куртку, в которой я когда-то охотился на перепелов. — М’Кола надел вашу куртку, — сказал Старик. — Он любит таскать в карманах всякую всячину, потому и надел ее, — объяснил я. М’Кола понял, что мы говорим о нем. Я уже успел позабыть про невычищенное ружье. Теперь я вспомнил об этом и сказал Старику: . — Спросите, откуда у него куртка. М’Кола, ухмыляясь, ответил что-то. — Говорит, что она его собственная. Я тоже улыбнулся, а М’Кола потряс лысой головой, и так, по молчаливому уговору, история с ружьем была забыта окончательно. — Куда же запропастился Гаррик? — спросил я. Наконец он вышел с одеялом в руках и примостился на заднем сиденье рядом с М’Кола и Дедом. Вандеробо сел впереди, между мной и Камау. — Какой у тебя интересный сосед, — сказала Мама. — Смотри же, будь молодцом. Я поцеловал ее на прощанье, и мы шепотом обменялись несколькими словами. — Все нежничают да воркуют, — буркнул Старик. — Смотреть противно! — До свиданья, старый ворчун. — До свиданья, истребитель быков. — До свиданья, родная. — Счастливого пути и удачной охоты! — У вас достаточно горючего, но мы оставим здесь тоже небольшой запас! — крикнул Старик уже вдогонку. Я помахал рукой, мы двинулись через деревню вниз по холму и выехали на узкую дорогу, которая шла по сухой, поросшей кустарником равнине у подножия двух высоких голубых холмов. Во время спуска я оглянулся. Двое в широкополых шляпах — один рослый и плотный, другая маленькая и грациозная, — шагали назад, к лагерю. А я перевел взгляд на расстилавшуюся впереди однообразную равнину. Часть четвертая. Радости охоты Глава двенадцатая Дорога была узкая, а равнина, по которой мы ехали, выглядела довольно уныло. Только раз мы увидели нескольких тощих газелей, мелькнувших белыми пятнами на фоне желтой, выжженной солнцем травы и серых стволов. Мое веселое возбуждение угасло при виде этой равнины, где нечего было и мечтать о хорошей охоте, и вся затея показалась фантастической, совершенно бессмысленной. От вандеробо сильно пахло; я стал разглядывать мочки его ушей, растянутые и аккуратно закрученные, его странное, совсем не негритянское лицо с тонкими губами. Заметив, что я посматриваю на него, он дружелюбно улыбнулся и почесал грудь. Я оглянулся: М’Кола спал. Гаррик сидел очень прямо, подчеркивая свою бдительность, а Дед, вытянув шею, глядел на дорогу. Дорога теперь перешла в тропу, протоптанную скотом, но, к счастью, мы были уже у края равнины. Скоро она осталась позади, показались высокие деревья, и мы попали в самый очаровательный уголок Африки, какой мне доводилось видеть. Трава здесь была ровная, такая свежая и зеленая, как молодая травка на недавно скошенном лугу, а вековые деревья — развесистые, высокие, без подлеска, под ними лишь ярко зеленел дерн, словно в оленьем парке, и мы ехали в тени, перемежавшейся солнечными полянками, держась едва заметной тропы, которую указывал вандеробо. Мне просто не верилось, что мы попали в этот рай. Такое может лишь пригрезиться в волшебном сне, и я, желая убедиться, что это не сон, протянул руку и дотронулся до уха вандеробо. Он подскочил от неожиданности, а Камау прыснул со смеху. В эту минуту М’Кола коснулся моего плеча и указал на открытую поляну, где в каких-нибудь двадцати шагах от машины, подняв голову и настороженно глядя на нас горящими глазами, стоял, ощетинившись, огромный дикий кабан с загнутыми кверху длинными, мощными клыками. Я сделал Камау знак остановить машину, и с минуту зверь и мы пристально разглядывали друг друга. Я поднял ружье и прицелился кабану в грудь. Он стоял неподвижно и все глядел на нас. Тогда я знаком велел Камау ехать дальше, машина тронулась и свернула направо, в сторону от кабана, который даже не шевельнулся и не выказал ни малейшего страха. Я заметил, что Камау возбужден, а М’Кола одобрительно кивает головой. Впервые видели мы кабана, который не бросился бежать от людей во всю прыть, задрав хвост. Да, мы попали в места, где не ступала нога охотника, девственный уголок, затерянный среди бескрайних просторов Африки. Я готов был тут же остановиться и разбить лагерь. Вокруг расстилался чудесный край, а мы ехали все дальше, лавируя между огромными деревьями, по равнине, где тихо колыхалась трава. Но вот впереди, справа, показался высокий частокол масайской деревни. Деревня была очень 99 100 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ большая, и за околицу навстречу нам повалила толпа длинноногих, темнокожих, вооруженных копьями мужчин; все они на вид казались ровесниками, их прямые волосы были заплетены в тяжелые косы, болтавшиеся на спине. Они окружили машину, смеясь и болтая без умолку. Все они были рослые, белозубые — красавцы как на подбор, волосы их были окрашены в красновато-коричневый цвет и спереди челками спадали на лоб. Эти люди, приветливые и веселые, не в пример угрюмым и надменным северным масаям, хотели знать, зачем мы приехали. Вандеробо, видимо, сообщил им, что мы охотимся на куду и очень спешим. Но они обступили машину плотным кольцом, преграждая нам путь. Один из них что-то сказал, его слова подхватили трое или четверо других, и Камау объяснил мне, что сегодня они видели на тропе двух самцов куду. — Не может быть, — твердил я про себя. — Не может быть. Я велел Камау трогаться, и мы медленно проехали сквозь толпу туземцев, которые со смехом и криками заступали дорогу машине, рискуя попасть под колеса. Это были самые рослые, статные, красивые и к тому же самые жизнерадостные и веселые люди, каких я встречал в Африке. Когда мы наконец выбрались из толпы, туземцы пустились бежать рядом с машиной, все так же шумно радуясь и, видимо, желая показать, как они легки на ногу, а когда машина, прибавив скорости, двинулась вверх по ровной долине ручья, началось настоящее состязание. Но бегуны отставали один за другим, махали нам вслед и улыбались, и только двое из них, длинноногие, ловкие, все еще горделиво и легко бежали рядом с машиной со скоростью хорошего рысака, не выпуская из рук копий. Потом нам пришлось взять вправо, и ровная зеленая долина сменилась холмистой местностью. Когда мы на первой скорости ползли вверх, вся ватага снова настигла нас. Бегуны смеялись, делая вид, будто они ничуть не запыхались. Из-за куста выскочил маленький кролик и заметался в ужасе; масаи, бежавшие за нами во всю прыть, поймали кролика, и самый рослый из них, нагнав машину, протянул его мне. Я взял зверька и, почувствовав, как колотится сердце в мягком, теплом, пушистом тельце, погладил его, а масай дружески похлопал меня по плечу. Взяв кролика за уши, я протянул его обратно масаю. Где там! Масай не брал его — это был подарок. Я передал кролика М’Кола, но тот счел все шуткой и вернул его одному из масаев. Мы продолжали путь, а масаи снова побежали следом. Взявший кролика нагнулся, посадил его на траву, и когда он пустился наутек, все засмеялись. М’Кола только головой качал. Всем нам очень понравились эти люди. — Хорош масай, — растроганно промолвил М’Кола. — Масай — много скота. Масай не убивает, чтобы есть. Масай убивает только врага. Вандеробо ударил себя в грудь. — Вандеробо — масай! — гордо объявил он, утверждая таким образом свое родство с масаями. Мочки ушей у него были закручены точно так же, как у них. Глядя, как бегут эти красавцы, развеселились и мы. Никогда еще я не встречал такого бескорыстного дружелюбия, таких милых людей. — Хорош масай, — повторил М’Кола, выразительно кивая головой. — Хорош, хорош масай. Только Гаррик, видимо, не разделял наших чувств. И я заподозрил, что, несмотря на защитный костюм и письмо от Бваны Симбы, он сильно обескуражен. Эти масаи его встревожили. Они были наши друзья, а не его. Да, конечно, они были наши друзья. С такими людьми встречаешься, как с братьями, они ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 101 сразу и от всей души принимают тебя за своего, откуда бы ты ни был родом. Такое отношение к людям свойственно лишь лучшим из англичан, лучшим из венгров и самым лучшим из испанцев; оно было отличительным свойством аристократов в те времена, когда еще существовала аристократия. Это — свойство простых сердец, такие люди редки, и нет ничего приятнее общения с ними. Опять рядом с машиной бежали только двое, но и те уже стали отставать. Они мчались все так же быстро и легко, но угнаться за автомобилем было им не под силу. В конце концов я велел Камау резко увеличить скорость, уверенный, что такой рывок не может обидеть бегунов, гордящихся своей выносливостью. Они тоже прибавили ходу, но, не догнав нас, только засмеялись, и тогда мы высунулись из машины и замахали им руками, а они стояли, опершись на копья, и махали в ответ. Мы расстались добрыми друзьями. Теперь наш путь снова лежал по безлюдным местам, по бездорожью, все вперед, через рощи и зеленую долину. Вскоре деревья стали встречаться чаще, росли теснее, сказочная страна осталась позади, мы ехали теперь по едва заметной тропе через густой молодой лес. Порой мы вынуждены были останавливаться и убирать с дороги пень или даже рубить дерево, преграждавшее путь машине. Порой приходилось задним ходом выбираться из зарослей и искать окольного пути, чтобы снова выехать на тропу, расчищая себе путь длинными охотничьими ножами, которые называются “панга”. Вандеробо работал плохо, да и Гаррик немногим лучше. Зато М’Кола очень ловко орудовал ножом, он рубил быстро, но чересчур сильно, даже с каким-то ожесточением. Я же обращался с пангой неумело. Этот нож требует большой гибкости запястья, и к нему трудно сразу привыкнуть — рука быстро устает, клинок кажется невероятно тяжелым. Я жалел, что у меня нет мичиганского двустороннего топорика, острого, как бритва, которым можно рубить по-настоящему, а не сечь кустарник ножом, словно кавалерийской шашкой. Прорубая себе дорогу, когда проехать было нельзя, лавируя, как только возможно, мы благодаря Камау, который искусно вел машину и великолепно ориентировался, одолели трудную часть пути и снова очутились на открытой равнине. Вдали, справа от нас, виднелась цепь холмов. Но, на беду, здесь недавно прошел ливень, и приходилось, глядеть в оба: в низинах колеса, разрывая дерн, погружались в скользкую грязь и буксовали. Мы рубили кустарник и дважды брались за лопаты, а потом, убедившись на опыте, что нельзя доверять низким местам, выбрались на высокий край равнины и снова углубились в лес. Покружив довольно долго в поисках удобного пути, мы очутились на берегу ручья, там, где русло его было перегорожено запрудой, напоминавшей сооружения бобров. На другом берегу мы увидели маисовое поле, обнесенное сплошной изгородью из кустов колючей акации, и множество пней, рядом несколько явно заброшенных краалей — огороженных участков с мазанками, а правее, поверх живой изгороди, виднелись конусовидные соломенные крыши хижин. Мы все вылезли из машины, потому что предстояла трудная переправа, да и после нее подняться на тот берег можно было только через маисовое поле, усеянное пнями. Дед уверял, что дождь прошел только сегодня. Утром, когда они с вандеробо проходили здесь, вода еще не перехлестывала через запруду. Я был подавлен. Уехать от чудесного, девственного леса, где масаи видели куду на тропе, только для того, чтобы теперь застрять у жалкого ручейка на чужом маисовом поле! 102 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ Встретить здесь возделанные поля я никак не ожидал и был зол на судьбу. Что ж, придется просить позволения проехать через маис, если только мы вообще сможем перебраться через ручей и подняться на тот берег. Я разулся и пошел вброд, чтобы исследовать дно. Поваленные кусты и деревца образовали на дне плотный настил, и я решил, что с ходу машина без труда проскочит. М’Кола и Камау согласились со мной, и мы полезли наверх взглянуть, что там. Земля была рыхлая, но под сырым верхним слоем она оказалась сухой, и я решил, что мы расчистим путь лопатами, если машина пройдет среди пней. Но прежде, конечно, надо было ее разгрузить. От хижин к нам шли двое мужчин и мальчик. Когда они приблизились, я сказал: “Джамбо”. “Джамбо”, — отвечали туземцы, после чего Дед и вандеробо заговорили с ними. Мы с М’Кола переглянулись, ион покачал головой: он не понимал ни слова. “Наверное, наши просят разрешения проехать через маисовое поле”, — подумал я. Когда Дед замолчал, двое мужчин подошли к нам, и мы обменялись рукопожатиями. Они не походили на негров, которых я встречал до этого. Кожа у них была светлее, а у старшего, человека лет пятидесяти, были тонкие губы, почти греческий нос, высокие скулы и большие умные глаза. Держался он со спокойным достоинством и производил впечатление человека очень смышленого. Второй туземец, помоложе, лет тридцати пяти на вид, был очень похож на первого, и я решил, что они братья. Мальчик, по-девичьи красивый, казался застенчивым и глуповатым. Поначалу, увидев его лицо, я принял его за девочку, потому что все они носят какое-то подобие римской тоги из неотбеленной ткани, сколотой на плече и скрадывающей линии тела. Они продолжали разговаривать с Дедом, и сейчас, когда они стояли рядом, мне бросилось в глаза некоторое сходство между сморщенной физиономией Деда и классическими чертами хозяина шамбы; точно так же наш вандеробо-масай казался жалкой карикатурой на красавцев масаев, которых мы встретили в лесах. Мы все вместе спустились к ручью, я помог Камау обвязать шины веревками вместо цепей, а старший, “Римлянин”, и другие тем временем разгрузили машину и внесли самый тяжелый багаж на крутой берег. Мы с разгона проскочили ручей, подняв тучу брызг, потом, усердно подталкивая машину, одолели половину подъема, но тут машина застряла. Мы рубили кустарник, копали землю и наконец втащили машину наверх, но впереди было еще маисовое поле, и я не представлял себе, куда ехать дальше. — Куда поедем? — спросил я пожилого Римлянина. Гаррик перевел мой вопрос, но Римлянин ничего не понял, и на помощь Гаррику пришел Дед. Римлянин указал влево, на сплошную изгородь у опушки леса. — Но ведь машина там не пройдет. — Лагерь, — ответил М’Кола, желая сказать, что мы станем там на ночлег. — Плохое место, — возразил я. — Лагерь, — твердо сказал М’Кола, и все закивали головами. — Лагерь! Лагерь! — подхватил Дед. — Там будет наш лагерь, — торжественно продекламировал Гаррик. — Убирайся к черту, — беззлобно сказал я ему. Я пошел к изгороди вместе с Римлянином, без умолку говорившим что-то на непонятном мне языке. М’Кола ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 103 последовал за мной, остальные погрузили вещи в машину и затем догнали нас. Я читал где-то, что близ покинутых туземных селений не следует разбивать лагерь из-за клещей и других паразитов, и, вспомнив это, решил во что бы то ни стало переменить место. Мы пролезли через пролом в изгороди и увидели за ней постройку из бревен и молодых деревьев, воткнутых в землю и переплетенных ветвями. Жилище это напоминало большой курятник. Римлянин указал рукой на дом, как бы приглашая нас располагаться здесь, и продолжал болтать. — Клопы, — неодобрительно сказал я, обращаясь к М’Кола на суахили. — Нет, — ответил он тоном, не допускающим возражений. — Никаких клопов! — Злые клопы. Много клопов. Зараза. — Нет клопов, — упорствовал он. В конце концов М’Кола меня переспорил, и пока Римлянин говорил, — как я надеялся, что-то очень дельное, — подошла машина, остановилась под большим деревом шагах в пятидесяти от изгороди, и туземцы стали выгружать и переносить все необходимое для устройства лагеря. Мою палатку с брезентовым полом раскинули между деревом и “курятником”, а я присел на бачок с бензином и завел с Римлянином, Дедом и Гарриком разговор об охоте. Камау и М’Кола тем временем разбивали лагерь, а вандеробо, разинув рот, стоял на одной ноге. — Где были куду? — Там. — И он указывает куда-то в сторону. — Большие? Римлянин растопыривает руки, чтобы показать, какие у них огромные рога, затем изливает на меня бурный поток красноречия. При помощи словаря с трудом составляю фразу: — Где же тот куду, за которым вы следили? Вместо ответа — длинная речь, смысл которой, по-видимому, сводится к тому, что они следили за всеми куду разом. День уже клонился к вечеру, и небо заволокли тучи. Я вымок до пояса, носки мои пропитались жидкой грязью. Кроме того, я вспотел, толкая машину и работая лопатой. — Когда начнем? — спросил я. — Завтра, — ответил Гаррик, даже не потрудившись перевести мой вопрос Римлянину. — Нет, — возразил я. — Сегодня! — Завтра, — упорствовал Гаррик. — Сегодня поздно. До темноты один час. — И он указал на мои часы. Я порылся в словаре: — Будем охотиться сегодня. Последний час — лучший час. Но Гаррик находил, что куду слишком далеко и мы не успеем вернуться в лагерь. Все это он объяснил жестами, а вслух произнес только: — Охота завтра. — Бездельник, — сказал я по-английски. Римлянин и Дед стояли молча. Я ежился: солнце скрылось за тучами, и стало холодно, несмотря на духоту; которая наступила после дождя. — Дед! — сказал я. — Что, господин? — откликнулся он. Поспешно листая словарь, я сказал: — Охота на куду сегодня. Последний час — лучший час. Куду близко? — Может, и близко. 104 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ — Охота сейчас? Они посовещались между собой. — Охота завтра, — опять вмешался Гаррик. — Заткни глотку, актер, — сказал я. — Послушай, Дед, — поохотимся немного сегодня? — Да, — согласился он, и Римлянин тоже кивнул. — Только немного. — Хорошо, — сказал я и пошел за сухой рубашкой, фуфайкой и носками. — Охота сейчас, — сказал я М’Кола. — Хорошо, — ответил он. — М’узури. Переобувшись и надев все сухое и чистое, я блаженствовал, сидя на бачке с бензином и попивая разбавленное виски в ожидании Римлянина. Я предчувствовал, что сегодня непременно буду стрелять по куду, и пил для того, чтобы успокоиться. А еще для того, чтобы уберечься от простуды. А еще я пил виски просто так, потому что я его люблю, и хотя настроение у меня было превосходное, от виски оно становилось еще лучше. Когда вернулся Римлянин, я застегнул башмаки, посмотрел, есть ли патроны в магазине моего ружья, снял с мушки защитный колпачок и продул прицел. Потом я допил виски из оловянной кружки, стоявшей на земле у бачка, и встал, проверив, лежат ли два носовых платка в карманах рубашки. Появился М’Кола с охотничьим ножом и биноклем Старика. — А ты оставайся здесь, — сказал я Гаррику. Он ничего не имел против. Он считал, что глупо выходить на охоту так поздно, и заранее торжествовал, уверенный, что окажется прав. Вандеробо же вызвался пойти с нами. — Ну и хватит людей, — сказал я, сделав Деду знак остаться, и мы вышли из крааля — впереди Римлянин с копьем, за ним я, следом М’Кола с биноклем и заряженным манлихером, а вандеробо-масай с копьем замыкал шествие. Был уже шестой час, когда мы двинулись через маисовое поле, затем спустились к ручью, перешли его в сотне шагов выше плотины, где русло суживалось, медленно и осторожно взобрались на крутой противоположный берег, промокнув до пояса среди буйной травы и папоротников. Не прошло и десяти минут, как Римлянин, неожиданно схватив меня за руку, заставил лечь рядом с ним на землю; я сразу дернул затвор винтовки. Затаив дыхание. Римлянин указал на другой берег, и там на опушке леса я увидел большого серого зверя с белыми полосами по бокам и огромными витыми рогами; зверь стоял боком к нам, подняв голову и, видимо, прислушивался. Я вскинул ружье, но мне мешал куст впереди. Чтобы выстрелить поверх него, пришлось бы встать во весь рост. — Пига, — прошептал М’Кола. Я погрозил ему пальцем и пополз вперед, огибая куст. Я очень боялся спугнуть зверя, прежде чем подползу на выстрел, но не забывал наказа Старика: “Сумейте выждать”. Подкравшись поближе, я встал на одно колено, взял куду на мушку и, восхищенный его размерами, твердя себе, что волноваться не надо, что случай самый обыкновенный, по всем правилам выцелил куду чуть пониже лопатки и нажал спуск. Грянул выстрел, куду сделал скачок и кинулся в заросли, но я знал, что не промахнулся. Я выстрелил вторично по серому пятну, мелькавшему среди деревьев. М’Кола орал: “Пига! Пига!”, то есть: “Попал! Попал!” — а Римлянин хлопнул меня по плечу, обмотал свою “тогу” вокруг шеи и побежал нагишом, а следом за ним и мы четверо понеслись во весь дух, как гончие, через ручей, вздымая фонтаны воды, и потом вверх ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 105 по откосу. Голый Римлянин уже продирался впереди сквозь заросли, потом нагнулся и, подняв листок, обрызганный алой кровью, шлепнул меня по спине, а М’Кола крикнул: “Даму! Даму!” — “Кровь! Кровь!” Чуть подальше мы нашли глубокий след, уводивший вправо, и я, на ходу перезаряжая винтовку, вместе со всеми ринулся в полумрак леса, где Римлянин, сбившись было со следа, вдруг снова нашел кровь и дернул меня за руку, заставляя лечь. Все мы затаили дыхание — куду стоял на полянке в какой-нибудь сотне шагов, должно быть тяжело раненный, насторожив уши, большой, серый, с чудесными рогами, и, повернув голову, глядел прямо на нас. Я подумал, что теперь уж надо стрелять наверняка, пока совсем не стемнело, задержал дыхание и прицелился зверю в лопатку. Послышался хряск пули, и куду тяжело встал на дыбы. М’Кола закричал “Пига! Пига! Пига!” — но куду скрылся из виду, а мы снова понеслись, как гончие, и чуть не упали, споткнувшись обо что-то. Это и был наш огромный, прекрасный самец куду, он лежал на боку, мертвый, и рога его, дивные, разлетистые рога, изгибались темными спиралями; он свалился в пяти шагах от того места, где его настиг мой выстрел, и лежал — большой длинноногий, серый с белыми полосами, увенчанный огромными рогами орехового цвета, на концах словно выточенными из слоновой кости, с густой гривой на высокой красивой шее, с белыми отметинами между глаз и на носу — и я, нагнувшись, дотронулся до него, чтобы убедиться, что это не сон. Куду лежал на том боку, куда вошла пуля, вся шкура была целехонька, и от него исходил. Римлянин бросился мне на шею, М’Кола что-то кричал неожиданно высоким, певучим голосом, а вандеробо-масай все похлопывал меня по плечу и прыгал от радости. Потом все по очереди торжественно пожали мне руку — престранным способом, неизвестным мне до того времени: хватали меня за большой палец, зажимали его в кулаке, трясли и тянули, потом снова энергично сжимали и при этом пристально смотрели мне в глаза. Мы снова полюбовались добычей, а М’Кола стал на колени, провел по рогам пальцем, измерил руками их размах, не переставая напевать: “Оо-оо-иии-иии”, — иногда восторженно взвизгивая и поглаживая то морду, то гриву куду. Я хлопнул Римлянина по спине, а он снова совершил церемонию с большим пальцем; я отвечал ему тем же. Я обнял вандеробо-масая, и он, сильно и с большим чувством, потянул меня за палец, ударил себя в грудь и сказал гордо: — Вандеробо-масай — самый лучший проводник. — Вандеробо-масай молодчина! — подтвердил я. А М’Кола все тряс головой, глядел на куду и повизгивал. Потом он сказал: — Думи, думи, думи! Бвана Кабор кидого, кидого. — Это значило, что перед нами король всех куду, а добыча Карла — мелочь, пустяк. Все мы понимали, что убит не тот куду, по которому я стрелял сначала, а тот лежит где-нибудь, сраженный первым выстрелом, но это не имело значения, потому что перед нами было настоящее чудо. Однако мне захотелось взглянуть и на первого. — Пошли, там еще один куду, — сказал я. — Он мертв, — ответил М’Кола. — Куфа. — Идем же. — Этот лучше всех. — Пошли. 106 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ — Мерять надо! — взмолился М’Кола. Я протянул стальную ленту рулетки по изгибу рога, М’Кола придерживал ее снизу. Рог был значительно длиннее пятидесяти дюймов. М’Кола смотрел на меня с жадным нетерпением. — Большой! Большой! — сказал я. — Вдвое больше, чем у бваны Кабора. — Иии-иии, — затянул он опять. — Ну, идем, — сказал я. Римлянин уже скрылся из виду. Мы поспешили к тому месту, где видели куду перед первым выстрелом, и сразу же заметили на уровне груди испачканные кровью листья кустарника. А в сотне шагов оттуда лежал мертвый куду. Этот оказался поменьше первого. Рога такие же длинные, но менее раскидистые, и все ж этот тоже был хорош. Он лежал на боку, подмяв под себя куст, на который свалился. Снова пошли рукопожатия с дерганьем за палец, что, видимо, было у туземцев выражением крайнего восторга. — Это аскари, — пояснил М’Кола. Он хотел сказать, что этот куду — страж, или телохранитель, того, что покрупнее. Видимо, он был в лесу, когда мы увидели первого куду, пустился бежать вместе с ним, а потом остановился, недоумевая, почему тот отстал. Я хотел сфотографировать свою добычу и велел М’Кола вместе с Римлянином сходить в лагерь и принести два аппарата — “графлекс” и кинокамеру, а также электрическую вспышку. Я знал, что лагерь на этом же берегу, ниже по течению, и надеялся, что Римлянин сообразит, как сократить путь, и вернется еще до заката. Они ушли, а мы с вандеробо при ярком свете солнца, выглянувшего из-за облаков, осмотрели второго куду, измерили рога, вдыхая его запах, даже более приятный, чем запах оленебыка, погладили шею, морду, подивились величине ушей, гладкости и чистоте шкуры, осмотрели копыта, такие длинные, узкие и упругие, что ходил он, должно быть, как на цыпочках, нащупали под лопаткой пулевое отверстие... После этого мы с вандеробо еще раз пожали друг другу руки, причем он не преминул опять похвастать своими талантами, а я сказал, что отныне мы друзья, и подарил ему свой лучший нож с четырьмя лезвиями. — Пойдем, вандеробо-масай, взглянем на первого, — сказал я по-английски. Вандеробо прекрасно меня понял, и мы вернулись туда, где на краю полянки лежал большой куду. Мы обошли вокруг него, полюбовались, затем вандеробо запустил ему руку под брюхо, пока я, приподняв куду, держал его на весу, нащупал пулевое отверстие и сунул туда палец. Окровавленный палец он приставил ко лбу и произнес целую речь на тему о том, “что вандеробо-масай — лучший проводник”. — Вандеробо-масай — король проводников, — сказал я. — Вандеробо-масай — мой друг. Я весь вспотел и, надев плащ, который М’Кола захватил для меня, а уходя оставил на полянке, поднял воротник. Теперь я все поглядывал на солнце и беспокоился, что оно зайдет раньше, чем принесут фотоаппарат и кинокамеру. Но скоро в кустах послышался шум, и я крикнул, давая знать, где мы. М’Кола отозвался, слышно было, как они разговаривают и продираются сквозь кусты, а я, перекликаясь о ними, глядел на солнце, которое было уже у самого горизонта. Наконец я увидел их, крикнул М’Кола: “Живей, живей!” — и указал на солнце, но у них уже не было сил бежать. Они и так одолели бегом крутой ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 107 холм и пробились через густые заросли. Когда я взял аппарат, открыл диафрагму до предела и навел объектив на куду, солнце освещало уже только самые верхушки деревьев. Я сделал полдюжины снимков и нацелил кинокамеру, пока куду перетаскивали на более освещенное место, затем солнце село, снимать стало невозможно, и я спрятал аппарат в футляр — на этом и кончились мои обязанности, с темнотой наступило блаженное безделье победителя; меня заботило только одно — надо, чтобы М’Кола, свежуя голову антилопы, не обкорнал “воротник”. М’Кола отлично управлялся с ножом, и мне всегда нравилось глядеть, как он свежует зверя, но сегодня, указав, где сделать первые надрезы — над копытами, в нижней части груди, почти у самого брюха, и на холке, — я отошел в сторону, потому что хотел сохранить куду в памяти таким, каким он предстал передо мной в первое мгновение, и побрел в сумерках ко второму куду. Когда следом пришли туземцы с фонарем, я подумал, что всегда либо сам свежевал свою добычу, либо смотрел, как это делают другие, и тем не менее помнил каждого зверя таким, каким увидел его живого. Значит, одно воспоминание не заслоняет другого, а сегодня меня просто лень одолела, и я стараюсь увильнуть от работы. Я взял фонарь и стал светить М’Кола, пока он свежевал второго куду, и, невзирая на усталость, любовался, как всегда, его быстрыми, уверенными, точными движениями до самого конца, когда он, отогнув “воротник”, разрубил хрящ, соединяющий череп с позвоночником, а потом, ухватившись за рога, отделил голову, с которой тяжело свисала кожа, влажно поблескивая в свете фонаря, озарявшего окровавленные руки и грязный защитный френч М’Кола. Вандеробо, Гаррик, Римлянин и его брат остались, чтобы при свете керосинового фонаря разделать тушу, а М’Кола с головой первого куду. Дед с головой второго и я с электрической вспышкой и двумя винтовками двинулись к лагерю. В темноте Дед упал, и М’Кола засмеялся; потом шкура, которую он нес на голове, развернулась и покрыла ему лицо так, что он чуть не задохнулся. Мы с М’Кола расхохотались, и Дед тоже. Потом упал М’Кола, и смеялись мы с Дедом. Немного погодя я попал одной ногой в какую-то западню и шлепнулся ничком на землю, а вставая, услышал, как М’Кола фыркает и захлебывается от смеха, да и Дед тихонько хихикает. — Что это, комедия Чаплина? — сердито сказал я по-английски. Но оба они продолжали тихонько посмеиваться у меня за спиной. Наконец после кошмарного пути через лес мы увидели свой костер, и М’Кола, казалось, был очень доволен, когда Дед упал, пролезая в темноте сквозь колючую изгородь. Только когда я посветил ему фонарем, указав пролом в изгороди, он встал, ругаясь, и с трудом поднял свою ношу — голову куду. Когда мы подошли к костру и Дед положил череп куду около хижины, я увидел, что лицо у него в крови. М’Кола, тоже положив свою ношу, указал на Деда и со смехом затряс головой. Бедный Дед совершенно обессилел, лицо было все исцарапано, покрыто грязью и кровью, но он благодушно посмеивался. — Бвана упал, — проговорил М’Кола и изобразил, как я повалился на землю. Оба фыркнули. Я шутливо замахнулся на него и сказал: — Шенци! Он снова изобразил, как я падал, но тут появился Камау. Он вежливо и почтительно пожал мне руку, сказал: “Хорошо, бвана! Очень хорошо, бвана!” — 108 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ потом подошел к головам; глаза у него заблестели, он встал на колени и, поглаживая рога куду, ощупывая уши, затянул ту же монотонную песню, похожую на вздохи: “Ооо-ооо!”, “Иии-иии!” — что и М’Кола. Я вошел в палатку и в темноте — фонарь мы оставили в лесу свежевальщикам — умылся, снял мокрую одежду, затем, порывшись в рюкзаке, достал пижаму и купальный халат. Выйдя к костру переодетый, я положил мокрую одежду и башмаки у огня, и Камау развесил все на жердях, а башмаки, каждый в отдельности, надел на колья, которые воткнул в землю на некотором расстоянии от огня, чтобы кожа не покоробилась. Я присел на бачок, прислонясь спиной к дереву, а Камау принес бутылку и налил мне в кружку виски, я добавил туда воды из фляги и стал пить, глядя в огонь, ни о чем не думая, в полном блаженстве, чувствуя, как тепло разливается по телу и под влиянием виски все во мне расправляется, как расправляют смятую простыню, ложась в постель; Камау тем временем принес банки с консервами и спросил, что приготовить на ужин. У нас было три банки особого “рождественского” фарша высшего качества, три банки лососины и три — с консервированным компотом, а еще много шоколада и коробка рождественского пудинга, тоже высшего качества. Я велел унести все, недоумевая, зачем Кэйти положил нам фарш. А пудинг этот мы тщетно искали и не могли найти вот уж целых два месяца. — Где мясо? — спросил я. Камау принес толстое жареное филе газели, которую Старик подстрелил, когда охотился на дальнем солонце, и хлеб. — А пиво? Он принес одну из больших литровых бутылок немецкого пива и откупорил ее. На бачке было не очень удобно сидеть, поэтому я разостлал свой плащ около костра, где земля уже подсохла, вытянул ноги и прислонился спиной к деревянному ящику. Дед поджаривал мясо, насадив его на прут. Этот отборный кусок он принес, завернув в полу своей тоги. Вскоре один за другим появились и остальные туземцы с мясом и двумя шкурами; я лежал на земле, потягивая пиво и глядя в огонь, а они оживленно болтали и жарили на прутьях мясо. Становилось прохладно, ночь была ясная, пахло жареным мясом, дымом, сырой кожей от моих башмаков, и ко всему этому присоединялся запах нашего милого вандеробо, который сидел на корточках неподалеку от меня. Но я еще живо помнил приятный запах куду, лежавшего в лесной чаще. Каждый туземец насадил для себя на вертел большой кусок или несколько маленьких кусочков: они все время поворачивали прутья и, не переставая болтать, следили, как жарится мясо. Из хижин вышли еще двое незнакомых мужчин и с ними тот мальчик, которого мы видели днем. Я ел кусок жареной печени, который снял с одного из вертелов вандеробо-масая, и недоумевал про себя, куда же девались почки. Печенка была замечательно вкусная. Я как раз размышлял, стоит ли встать, чтобы взять словарь и спросить насчет почек, когда М’Кола сказал: — Пива? — Что ж, давай. Он принес бутылку, и я залпом осушил ее до половины, запивая жареную печенку. ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 109 — Вот это жизнь! — сказал я по-английски. М’Кола улыбнулся и спросил на своем языке: — Еще пива? Когда я заговаривал с ним по-английски, он воспринимал это как милую шутку. — Гляди, — сказал я, приставил ко рту бутылку и осушил ее единым духом. Это был старый фокус, которому мы научились в Испании, где пили так вино из мехов. Римлянин был поражен. Он подошел, присел на корточки и начал что-то говорить. Говорил он довольно долго. — Совершенно верно, — сказал я ему по-английски. — И катись ты от меня подальше! — Еще пива? — спросил М’Кола. — Вижу, ты хочешь споить меня, старик. — Н’дио, — да, — ответил он, делая вид, что понимает по-английски. — Смотри, Римлянин. — Я начал лить пиво себе в рот, но, увидев, что Римлянин, глядя на меня, делает горлом глотательные движения, чуть не поперхнулся и опустил бутылку. — Хватит. Больше двух раз за вечер не могу: вредно для печени. Римлянин продолжал говорить что-то на своем языке. Дважды я услышал слово “симба”. — Симба здесь? — Нет, — ответил Римлянин. — Там. — Он махнул рукой в темноту, и я так ничего и не понял. Но слушал его с удовольствием. — Я убил много симба, — сказал я. — Я — истребитель симба. Не веришь — спроси у М’Кола. — Я чувствовал, что меня, как всегда по вечерам, одолевает желание похвастаться, но рядом не было Старика и Мамы. А хвастать, когда тебя не понимают, куда менее приятно. Все же это лучше, чем ничего, особенно после двух бутылок пива. — Поразительно, — сказал я Римлянину. Он продолжал рассказывать чтото. На дне бутылки оставалось немного пива. — Дед, — позвал я. — Мзи! — Что, бвана? — Выпей пива. Ты уже стар, оно тебе не повредит. Я видел глаза Деда, когда осушал бутылку, и понял, что ему тоже хочется пива. Он выпил все, что оставалось, и склонился над прутьями с мясом, нежно прижимая к себе бутылку. — Еще пива? — спросил М’Кола. — Да, — ответил я. — И патроны. Римлянин продолжал разглагольствовать. Видно, он был еще больший говорун, чем Карлос, которого я встречал на Кубе. — Все это необычайно интересно, — сказал я ему. — Ты молодчина. И я тоже — оба мы славные ребята. Послушай-ка... М’Кола принес пиво и мою охотничью куртку, в карманах которой лежали патроны. Я отпил глоток, заметил, что Дед не сводит с меня глаз, и выложил перед ним шесть патронов. — Сейчас буду хвастать, — заявил я. — Придется вам потерпеть. Глядите! — Я по очереди дотронулся до каждого патрона: — Симба, симба, фаро, ньяти, тендалла, тендалла. Каково? Хотите верьте, хотите нет. Гляди, М’Кола! — И я снова перебрал все шесть патронов: лев, лев, носорог, буйвол, куду, куду. 110 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ — Айяяй! — ахнул Римлянин. — Н’дио, — торжественно подтвердил М’Кола. — Да, это правда. — Айяяй! — снова воскликнул Римлянин и ухватил меня за большой палец. — Святая правда, — сказал я. — Хоть и трудно поверить. — Н’дио, — повторил М’Кола и сам принялся перечислять: — Симба, симба, фаро, ньяти, тендалла, тендалла! — Можешь рассказать это им всем, — сказал я по-английски. — Ас меня на сегодня хватит. Римлянин снова заговорил, обращаясь ко мне, и я внимательно слушал его, прожевывая новый кусок жареной печенки. М’Кола занялся головами куду, освежевал одну и показал Камау, что делать со второй. Это была кропотливая работа, они вдвоем при свете костра осторожно очистили глаза, нос и уши, потом удалили все мясо, не повредив шкуры, искусно и аккуратно. Не помню, когда я лег спать и ложились ли мы вообще в ту ночь. Помнится, я достал словарь и велел М’Кола спросить мальчика, есть ли у него сестра, а М’Кола серьезно и твердо ответил мне за него: — Нет, нет. — Да пойми ты, я ведь без всякой задней мысли спрашиваю. Просто из любопытства. Но М’Кола был непоколебим. — Нет, — сказал он и покачал головой. — Хапана! — Таким же тоном он говорил “нет”, когда мы выслеживали льва в густых зарослях. На этом прервался наш светский разговор, и я стал разыскивать почки; брат Римлянина выделил мне кусок из своей доли, я насадил почку на прут между двумя кусками печени и начал поджаривать их над костром. — Будет отличный завтрак, — сказал я вслух. — Куда вкусней фарша. Потом мы долго беседовали о черных антилопах. Римлянин не называл их “тарагалла” и вообще не знал этого слова. Сперва я думал, что речь идет о буйволах, потому что Римлянин все время повторял “ньяти”, но, оказывается, он хотел этим сказать, что они черны, как буйволы. Потом он начал рисовать их на золе у костра, и стало ясно, что он говорит именно о черной антилопе. Рога ее изогнуты, как восточные сабли, и концами касаются загривка. — Самцы? — спросил я. — Самцы и самки. С помощью Деда и Гаррика я выяснил, что поблизости бродят два стада. — Завтра? — Да, — ответил Римлянин. — Завтра. — Кола, — сказал я. — Сегодня куду. Завтра — черные антилопы, буйволы, симба. — Не надо буйволы! — ответил он, отрицательно качая головой. — Не надо симба! — Мы с вандеробо-масаем пойдем на буйволов. — Да, да, — радостно подтвердил вандеробо-масай. — Тут близко есть большие слоны, — ввернул Гаррик. — Завтра на слонов, — сказал я, поддразнивая М’Кола. — Нет! — Он понимал, что я его поддразниваю, но и слышать не хотел ничего подобного. — Да, да, на слонов, — сказал я. — На буйволов, на симба и на леопарда. Вандеробо-масай взволнованно кивал: ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 111 — И на носорога, — добавил он. — Хапана! — сказал М’Кола уже страдальчески. — На тех холмах много буйволов, — перевел Дед слова Римлянина, который в сильном возбуждении вскочил на ноги и указывал куда-то вдаль, за хижины. — Хапана! Хапана! Хапана! — твердил М’Кола решительно. — Еще пива? — Он отложил нож. — Ну, ну, не сердись, я пошутил. М’Кола присел рядом со мной и заговорил, пытаясь объяснить что-то. Он упомянул имя Старика, — видимо, хотел сказать, что Старику это не понравилось бы, что он не допустил бы этого. — Я пошутил, — сказал я по-английски. Потом добавил на суахили: — Завтра на черных антилоп? — Да, — горячо подхватил он. — На антилоп. Потом мы с Римлянином долго беседовали, я говорил по-испански, а он уж не знаю по-каковски, и так мы с ним, кажется, разработали весь план кампании на завтрашний день. Глава тринадцатая Не помню, ложился ли я в ту ночь, припоминаю лишь, что сидел у костра в сером предрассветном сумраке с кружкой горячего чая в руке, а мой завтрак на вертеле имел не очень-то привлекательный вид и был весь покрыт золой. Рядом стоял Римлянин и ораторствовал, указывая в ту сторону, где занималась заря, и, помнится, я подумал; неужели этот болтун проговорил всю ночь? Шкуры, снятые с голов куну, были разложены на земле и густо посыпаны солью, а черепа с рогами прислонены к бревенчатой стене хижины. М’Кола уже свертывал шкуры. Камау принес мне консервы, и я велел открыть банку с компотом. Ночной холод еще не рассеялся, и я быстро поел консервированных фруктов со сладким прохладным соком, выпил еще кружку чая, пошел в палатку, оделся и переобулся. Все были готовы в путь. Римлянин сказал, что мы вернемся к полудню. Вести нас должен был брат Римлянина. Насколько я понял. Римлянин решил выследить одно стадо черных антилоп, а отыскать второе предоставил нам. Мы выступили. Впереди шел брат Римлянина в “тоге” и с копьем, за ним — я со спрингфилдом на ремне и цейсовским биноклем в кармане, а за нами — М’Кола с биноклем Старика через одно плечо и флягой через другое, с охотничьим ножом, точильным камнем, запасной коробкой патронов и плитками шоколада в карманах и с ружьем за спиной, Дед с фотоаппаратом, Гаррик с кинокамерой и вандеробо-масай с копьем, луком и стрелами. Когда мы, простясь с Римлянином, вышли за колючую изгородь, в просвете между холмами показалось солнце и озарило поле, хижины и голубые холмы. День обещал быть погожим и безоблачным. Проводник повел нас через густую чащу, в которой одежда мгновенно намокла, потом по редколесью, потом — по крутому подъему, пока мы не очутились на вершине холма, который высился у края того поля, где мы стали лагерем. Отсюда наш путь лежал по удобной ровной тропе через другие холмы, еще не освещенные солнцем. Немного сонный, я наслаждался прохладой раннего утра и шагал машинально, однако меня начинала беспокоить мысль, что нас слишком много и мы неизбежно спугнем дичь, хотя каждый делает все, чтобы двигаться без шума. Вдруг на тропе показались двое людей, шедших нам навстречу. 112 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ Впереди шел рослый, красивый мужчина, лицом похожий на нашего Римлянина, но с менее благородной внешностью, в “тоге”, с луком и колчаном, а за ним — его жена, очень миловидная, скромная, женственная, одетая в коричневую дубленую шкуру, с ожерельем из медных колец на шее и со множеством таких же проволочных колец на руках и лодыжках. Мы остановились, сказали “джамбо”, и наш проводник заговорил со своим соплеменником, у которого был деловой вид человека, спешащего на службу. Пока они обменивались быстрыми вопросами и ответами, я разглядывал юную женщину, видимо недавно вышедшую замуж: она стояла вполоборота ко мне, так что видны были ее красивые удлиненные груди и стройные шоколадные ноги; вдруг муж что-то резко сказал ей, потом добавил еще несколько слов тихим, но повелительным тоном, и тогда она обошла нас, потупив глаза, и зашагала по тропинке, по которой мы пришли, а мы все смотрели ей вслед. Я понял, что муж ее намерен присоединиться к нам. Он этим утром видел черных антилоп и теперь с некоторым недоверием, явно недовольный тем, что пришлось оставить без присмотра красавицу жену, которую мы только что пожирали глазами, повел нас вправо по другой торной и ровной тропе через лес. Вокруг все напоминало мне осенний американский пейзаж, и я невольно ожидал, что вот-вот у нас из-под ног вспорхнет куропатка и, хлопая крыльями, улетит на соседний холм или камнем упадет в долину. Мы действительно спугнули стаю перепелок; я следил за ними взглядом и думал о том, что природа во всем мире — та же природа и все охотники одинаковы. Скоро мы заметили у самой тропы свежий след куду, а подальше, в пробуждавшемся от сна лесу, где не было подлеска и где первые солнечные лучи уже проникали сквозь кроны деревьев, мы набрели на слоновьи следы, огромные, в целый обхват, а глубиной они были не менее фута. Охотник всегда воспринимает это как какое-то чудо; здесь после дождя, очевидно, прошел слон, судя по размерам — самец. Глядя на след, тянувшийся через живописный лес, я подумал о мамонтах, когда-то давно живших на земле, — среди холмов южного Иллинойса они оставляли такие же следы. Но Америка — древняя страна, и самая крупная дичь там уже перевелась. Некоторое время мы двигались по живописному плато, потом оно кончилось, а за ним лежала долина и большой открытый луг, в дальнем конце поросший лесом, еще дальше — кольцо холмов, а от него влево тянулась другая долина. Мы остановились на холме, у лесной опушки, оглядывая ближнюю долину, которая у холмов образовала обрывистую, поросшую травой впадину. Слева от нас высились крутые, лесистые холмы с известняковыми обнажениями, они тянулись до самого начала долины, откуда шла другая цепь холмов. Справа под нами местность была неровная, с множеством бугров и полян, а дальше начинался лесистый отлог, тянувшийся до голубых холмов, тех самых, которые мы видели на западе, за хижинами, где жил наш Римлянин со своими сородичами. Я сообразил, что лагерь внизу, прямо под нами, и лесом до него около пяти миль в северо-западном направлении. Муж красавицы разговаривал с братом Римлянина, объясняя жестами, что он видел на лугу пасущихся черных антилоп и они ушли либо вверх, либо вниз по долине. Мы расположились под прикрытием деревьев и послали вандеробомасая в долину поискать следов. Он вернулся и сообщил, что под нами, вниз по ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 113 долине и к западу, следов нет, после чего стало ясно, что животные ушли вверх по долине. Теперь нам предстояло, приноравливаясь к местности, выследить стадо и незаметно подобраться к нему на выстрел. Над холмами вставало солнце, слепившее нам глаза, тогда как долина тонула в густой тени. Я велел всем оставаться на месте, взял с собой только М’Кола и мужа красавицы, и мы, прячась за деревьями, поднялись повыше, откуда можно было осмотреть в бинокль местность за поворотом. Вы спросите, каким образом мы, говоря на разных языках, могли все обсудить и решить; но, представьте себе, мы понимали друг друга так легко и свободно, словно я командовал конным патрулем, все солдаты которого говорят на одном языке. Все мы были охотники, кроме, пожалуй, Гаррика, и сумели договориться и решить все без единого слова, при помощи лишь указательного пальца и предостерегающих жестов. Итак, мы втроем осторожно двинулись вперед, в глубь леса, с намерением подняться как можно выше. Отойдя довольно далеко, мы ползком взобрались на каменистый уступ и спрятались за ним; прикрыв бинокль шляпой от солнца, — М’Кола при этом кивнул и что-то одобрительно пробормотал, — я оглядел дальний конец луга и впадину у начала долины; там действительно паслись антилопы. М’Кола увидел их раньше, чем я, и дернул меня за рукав. — Н’дио, — сказал я и, затаив дыхание, стал наблюдать. Все они, как мне показалось, были совершенно черные, крупные, с могучими шеями, у всех рога загибались назад. Они были очень далеко от нас. Несколько антилоп лежало, одна стояла. Всего мы насчитали семь голов. — А где же самец? — прошептал я. М’Кола протянул левую руку и загнул четыре пальца. Самец вместе с другими лежал в высокой траве и казался очень крупным, да и размах рогов у него был немалый. В глаза нам било утреннее солнце, и мы не могли как следует разглядеть зверя. Позади стада к самому холму подступал овраг, замыкавший долину. Теперь мы знали, что делать: надо вернуться назад, пересечь луг в дальнем конце, чтобы нас не увидели антилопы, войти в лес и под прикрытием деревьев подняться выше того места, где находилось стадо. Но прежде необходимо было убедиться, что на этом пути в лесу или на лугу нет других антилоп. Я послюнил палец и поднял его. Ощутив холодок, я знал теперь, что ветер дует вниз по долине. М’Кола подобрал несколько сухих листьев, искрошил их и подбросил в воздух. Падая, они летели в нашу сторону. Значит, ветер нам благоприятствовал, оставалось внимательно осмотреть опушку леса и тогда решить, как быть дальше. — Хапана, — сказал наконец М’Кола. Я тоже ничего не обнаружил, глаза у меня уже болели, оттого что я долго смотрел в восьмикратный бинокль. Теперь можно было попытаться пройти лесом. Правда, мы рисковали поднять по дороге какого-нибудь зверя и спугнуть стадо, но другой возможности обойти их и подобраться сверху у нас не было. Мы спустились обратно, вниз, и рассказали остальным о том, что видели. Здесь можно было перейти долину незаметно для антилоп; я снял шляпу, и мы, низко пригнувшись, двинулись в высокой траве через луг, а потом вброд через глубокий ручей, протекавший по самой его середине. Дальше наш путь 114 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ лежал по каменистому уступу, а затем вверх по противоположному берегу, вдоль края долины, под прикрытием деревьев. Отсюда пришлось идти согнувшись, гуськом, — мы хотели лесом подняться выше антилоп. Двигались мы быстро, но бесшумно. Мне часто случалось подкрадываться к крупным рогатым животным, и не раз они успевали уйти далеко, пока я обходил горный уступ, поэтому я не рассчитывал, что антилопы останутся на месте, и старался выйти на них как можно скорее, но в то же время не запыхаться перед стрельбой. Фляга в кармане М’Кола постукивала о патроны, и я, остановившись, велел передать флягу вандеробо. Слишком много людей было со мной, но, впрочем, все они двигались бесшумно, как змеи, и я был уверен, что антилопы не заметят и не учуют нас. Наконец я решил, что мы уже достаточно высоко, и теперь стадо впереди нас, и позади, где солнце ярко освещало лесную прогалину, и внизу, у подножия холма. Я проверил, не засорился ли прицел, вытер очки и лоб, а мокрый платок положил в левый карман, чтобы по нечаянности не воспользоваться им вторично. М’Кола, я и “муж” стали пробираться к опушке; вскоре мы подползли почти к самому краю гряды. Между нею и лугом кое-где еще росли деревья; мы притаились за кустом возле поваленного дерева и, подняв головы, увидели антилоп шагах в трехстах от себя, — в тени они казались очень темными и крупными. Нас разделял редкий, залитый солнцем лесок и открытая лощина. Вдруг две антилопы встали и повернули головы в нашу сторону. Я мог бы выстрелить, но они были очень уж далеко, я не хотел рисковать и медлил, наблюдая за ними. Тут кто-то тронул меня за плечо — это Гаррик подполз ко мне вплотную и хрипло прошептал: “Пига! Пига, бвана! Думи! Думи!” — что означало: “Стреляй, это самец”. Я оглянулся и увидел весь свой отряд — одни лежали ничком, другие привстали на четвереньки, вандеробо-масай весь дрожал от нетерпения, как гончая. Я рассердился и знаком велел им лечь. Итак, там есть самец, и он куда крупнее того, которого мы с М’Кола недавно видели. Две антилопы глядели в нашу сторону, и я пригнул голову, боясь, как бы меня не выдал блеск моих очков; потом я опять осторожно приподнял голову, заслонив глаза ладонью. Обе антилопы успокоились и мирно пощипывали траву. Но вот одна снова тревожно вскинула голову; это была крупная антилопа с рогами, кривыми, как восточные сабли. До этого я никогда не видел черных антилоп и понятия не имел, какое у них зрение — острое, как у горного барана, который видит не хуже охотника, или слабое, как у лося, который и в двухстах шагах не разглядит неподвижного человека. Не знал я и истинных размеров этих животных, но мне показалось, что до них не менее трехсот шагов. Я был уверен, что не промахнусь, если выстрелю сидя или лежа, однако не мог сказать заранее, в какое именно место попаду. Гаррик снова зашептал: “Пига, бвана, пига!” Я повернулся, готовый дать ему оплеуху, — с каким наслаждением я сделал бы это! Правда, я нисколько не взволновался, когда увидел антилоп, но этот Гаррик действовал мне на нервы. — Далеко? — шепнул я М’Кола, который подполз и лег рядом со мной. — Да. — Стрелять? — Нет. Поглядим. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 115 Мы с некоторыми предосторожностями приложили к глазам бинокли. Я увидел только четырех антилоп. А ведь их было семь. Если тот, на которого указал Гаррик, был самец, значит, и все остальные тоже: в тени все они казались одного цвета. И рога у всех были одинаково длинные. Я знал, что горные бараны обычно держатся вместе и только к весне присоединяются к овцам, а лоси в конце лета, перед течкой, ходят отдельно от лосих, но после течки все снова собираются в одно стадо. Мы видели в Серинее стадо самцов палу не менее чем в двадцать голов. Ну, что ж, ведь и здесь могли быть одни самцы! Мне нужен был очень хороший самец, самый лучший, и я пытался вспомнить все, что читал о черных антилопах, но в памяти всплыла только глупая история о человеке, который каждое утро видел одного и того же зверя на том же месте и никак не мог к нему подобраться. И еще я помнил пару чудесных рогов, которые мы видели в охотничьей инспекции в Аруша. Но сейчас передо мной были живые антилопы, и я хотел непременно подстрелить лучшую из них. Мог ли я думать, что Гаррик тоже в жизни не видел черной антилопы и знал о ней не больше, чем М’Кола или я? — Слишком далеко, — сказал я М’Кола. — Да. — Вперед! — Я знаком велел остальным не двигаться с места, и мы с М’Кола поползли к подножию холма. Наконец мы залегли под деревом, и я осмотрелся. Теперь в бинокль я отчетливо различал рога животных, и мы увидели остальных трех антилоп. Та, что лежала на земле, была, безусловно, крупнее других, и ее высокие рога, как мне показалось, далеко загибались назад. Я был слишком взволнован, чтобы радоваться, как вдруг послышался шепот М’Кола: “Бвана”. Я опустил бинокль, повернул голову и вдруг увидел Гаррика, который, нисколько не скрываясь, полз к нам на четвереньках. Я сделал рукой предостерегающий знак, но он как ни в чем не бывало продолжал ползти, бросаясь в глаза, как человек, среди бела дня ползущий на четвереньках по городской улице. Я увидел, что одна антилопа уже смотрит в нашу сторону, нет, вернее, прямо на Гаррика. Потом поднялись еще три, а за ними и самая крупная: она стояла боком, повернув голову к нам. Гаррик тем временем подполз ко мне и зашептал: “Пига, бвана! Пига! Думи! Думи! Кубва сана”. Выбора не было — звери явно встревожились. Я лег, продел руку сквозь ремень, поставив локти поудобнее, уперся в землю носком правой ноги и спустил курок, целясь антилопе в лопатку. Но когда грохнул выстрел, я уже знал, что промахнулся. Слишком высоко! Все антилопы повскакали и стояли неподвижно, не понимая, откуда этот грохот. Я выстрелил вторично, пуля взметнула землю около самца, и стадо обратилось в бегство. Я вскочил на ноги, выстрелил снова, и самец упал. Потом он поднялся, но я опять попал в него, он рванулся вперед, к стаду. Стадо умчалось, а я выстрелил и промахнулся. Выстрелил снова. Теперь он еле плелся, и я знал, что он не уйдет от меня. М’Кола подавал мне обоймы, а я, не сводя глаз со зверя, который перебегал ручей, подняв в нем целую бурю, засовывал патроны в магазин ружья, чертыхаясь, потому что они не лезли в этот проклятый магазин. Да, теперь ему не уйти! Я видел, что он тяжело ранен. А стадо бежало к лесу. На другом берегу в солнечном свете шерсть антилоп выглядела уже гораздо светлее, и у раненого мною самца тоже. Все они были как будто темно-каштановые, а мой самец почти черный. Однако то не был 116 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ настоящий черный цвет, и я почуял неладное. Я засунул в магазин последнюю обойму, и Гаррик уже норовил схватить меня за руку и поздравить, как вдруг под нами, на открытое место, где невидимый сверху овраг пересекал долину, выскочил перепуганный самец и бросился бежать с невероятной быстротой. “Боже правый!” — мысленно ахнул я. Все антилопы были похожи одна на другую, и я выбрал самую крупную, принимая ее за самца. Все они бежали стадом, но только теперь появился настоящий самец! Даже в тени я видел, что этот совсем черный, на солнце шкура его блестела, рога, большие и темные, круто загибались назад, они почти касались концами середины спины. Да, вот это действительно был самец! И какой красавец! — Думи, — шепнул мне на ухо М’Кола. — Думи! Я выстрелил, и самец упал. Потом он вскочил на ноги и кинулся вслед за стадом, которое бежало то врассыпную, то сбиваясь в кучу. Я потерял его из виду. Но вот он показался снова — бежал вверх по долине, в высокой траве, — я вторично ранил его, и он скрылся из виду. Все стадо теперь неслось вверх по склону над долиной, все выше и выше, справа от нас, неслось стремительно, врассыпную, к лесу по ту сторону долины. Теперь, увидев настоящего самца, я знал, что все это самки, и раненная мною антилопа тоже. Самец больше не показывался, но я был уверен, что мы найдем его в высокой траве, там, где он упал. Все туземцы уже вскочили, пожимали мне руки, тянули за палец. Потом мы со всех ног кинулись вниз, мимо деревьев, через овраг к лугу. Глаза, мозг, все во мне было зачаровано чернотой этого самца, изгибом его длинных рогов, и я благодарил бога, что успел перезарядить ружье, прежде чем зверь выскочил. Но я потерял хладнокровие и в волнении стрелял куда попало, лишь бы ранить антилопу, вместо того чтобы точно выцелить уязвимое место, поэтому мне теперь было стыдно. Зато все остальные были опьянены успехом. Я предпочел бы идти медленно, но их невозможно было удержать, они неслись вперед, как гончие. Когда мы пересекли луг, на котором впервые увидели стадо, и достигли того места, где самец скрылся из виду, оказалось, что трава здесь выше человеческого роста, и тогда все замедлили шаг. К ручью сбегали два размытых, заросших оврага в десять — двенадцать футов глубиной, и то, что представлялось нам сверху гладкой травянистой чашей, оказалось очень неровной коварной впадиной, где трава была по пояс, а порой даже выше головы. Мы сразу же заметили кровавые следы, которые вели влево, через ручей и дальше по склону холма. Я подумал было, что это след первой раненой антилопы, но она как будто описала не такой широкий круг, когда мы глядели на нее сверху. Я пошарил вокруг, но не мог отыскать следов самца среди всей этой путаницы; здесь, на пересеченной местности, среди буйной травы, трудно было определить, куда он скрылся. Все туземцы хотели идти по кровавому следу, и отговорить их было столь же трудно, как заставить плохо натасканных собак искать убитую птицу, когда они рвутся вслед улетевшей стае. — Думи! Думи! — сказал я. — Кубва сана! Самец. Большой самец. — Да, — подхватили они. — Вот! Вот! — Они указывали на кровавый след, который вел через ручей. Наконец я согласился идти по этому следу, надеясь отыскать обеих антилоп и зная, что самка тяжело ранена, а самец в силах еще продержаться. Кроме того, я мог ошибиться: а вдруг это действительно след самца, вдруг он незаметно ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 117 свернул в высокой траве и пересек ручей здесь, пока мы бежали вниз по склону? Ведь я уже ошибся один раз. Мы поднялись на холм и в лесу увидели обильные брызги крови; тогда мы свернули вправо, карабкаясь по крутому откосу, и над долиной, среди скал, спугнули черную антилопу. Она понеслась вскачь по камням. Я сразу понял, что животное не ранено, и, несмотря на темные, загнутые назад рога, по каштановому цвету шкуры определил, что это самка. Определил как раз вовремя: я уже было слегка нажал на спуск, но тут сразу опустил ружье. — Манамуки, — сказал я. — Это самка. М’Кола и оба местных проводника подтвердили это. А ведь я чуть было не выстрелил. Не прошли мы и пяти шагов, как подняли вторую антилопу. Но эта отчаянно мотала головой и не могла прыгать по скалам. Она была тяжело ранена, и я, тщательно прицелившись, перебил ей шею. Мы подошли к антилопе; она лежала на камнях, большая, темно-коричневая, почти черная, с черными рогами, красиво загнутыми назад, с белыми отметинами у глаз и белым брюхом. Но это был не самец. М’Кола, все еще сомневаясь, ощупал короткие, недоразвитые соски, сказал: “Манамуки”, — и печально покачал головой. Это была та первая антилопа, на которую мне указал Гаррик. — Самец там, внизу, — сказал я. — Да, — согласился М’Кола. Я решил выждать, пока раненый зверь ослабеет — если только он действительно ранен, — а потом спуститься в долину и отыскать его. Поэтому я велел М’Кола сделать первые надрезы, чтобы Дед мог освежевать добычу, пока мы будем разыскивать самца. Я сделал несколько глотков воды из фляги. После бега и лазанья по холмам мне хотелось пить, к тому же солнце поднялось уже высоко, и становилось жарко. Мы спустились по другому склону долины и стали искать в высокой траве след самца. Но найти его нам не удалось. Антилопы сначала бежали стадом, и все следы были запутаны или стерты. Мы обнаружили пятна крови на траве, где я впервые ранил самца, потом эти пятна исчезли и снова появились там, где кровавый след самки свернул в сторону. Но дальше следы расходились веером, — отсюда животные уже врассыпную бежали вверх по долине и через холмы. Мы снова потеряли было след, потом шагах в пятидесяти вверх по долине я нашел брызги крови на травинке, нагнулся и сорвал ее, но тут же пожалел об этом. Нужно было бы привести сюда остальных: ведь все они, кроме М’Кола, уже теряли веру в то, что я ранил самца. Мы не нашли его. Он исчез. Сгинул. А может, его и не существовало вовсе? Как доказать, что это действительно был самец? Не сорви я окровавленную травинку, мне удалось бы убедить их, у меня было бы доказательство. Сорванная, она имела значение лишь для меня и М’Кола. Но больше я нигде не нашел крови, и следопыты работали без особого усердия. Оставалось одно: обшарить каждый фут высокой травы, каждый фут в оврагах. Стало уже жарко, и все они только притворялись, будто ищут. Подошел Гаррик. — Все самки, — сказал он. — Самца не было. Просто очень большая самка. Ты убил большую самку. Ее мы нашли. А другая, поменьше, убежала. 118 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ — Слушай, ты, безмозглый болтун! — сказал я и стал объяснять ему на пальцах: — Семь самок. Потом пятнадцать самок и один самец. Самец ранен. Ясно? — Нет, все самки, — упорствовал Гаррик. — Подранена одна большая самка. И один самец. Я сказал это таким уверенным тоном, что они согласились со мной и некоторое время усердно шарили в траве, но я видел, что постепенно все теряют надежду. “Эх, будь со мной хорошая собака! — подумал я. — Одна только хорошая собака!” Опять подошел Гаррик. — Все самки, — сказал он. — Очень большие коровы. — Сам ты корова, — ответил я. — Очень большая корова. Мои слова рассмешили вандеробо-масая, уже являвшего собой настоящее олицетворение скорби. Брат Римлянина, по-видимому, еще верил в существование самца. “Муж” теперь уже не верил ничему и никому. Пожалуй, он не верил даже, что я накануне убил куду. Впрочем, после моей сегодняшней стрельбы я не мог осуждать его за это. Подошел М’Кола. — Хапана, — сказал он мрачно. Потом добавил: — Бвана, ты попал в этого быка? — Да, — ответил я. На мгновение я и сам уже усомнился в существовании самца. Потом снова вспомнил густую, лоснящуюся черноту его шкуры и высокие рога, которые он сразу же откинул назад, вспомнил, как он бежал, выделяясь среди всего стада, черный как смоль, и М’Кола вслед за мной в своем воображении увидел этого самца сквозь туман недоверия, свойственного дикарю, который верит только в то, что видит. — Да, — подтвердил он. — Я видел. Ты его ранил. Я снова начал считать: — Семь самок. Я убил самую крупную. Пятнадцать самок, один самец. Я подранил самца. На миг все опять поверили мне и принялись за поиски, но вера их мгновенно испарилась под палящими лучами солнца, среди высокой, колыхавшейся травы. — Все самки, — снова объявил Гаррик. Вандеробо-масай кивнул, разинув рот. Я чувствовал, как спасительные сомнения овладевают и мной. Ведь легче всего было махнуть рукой и не бродить под солнцем по этой голой ложбине и крутому скату. Я сказал М’Кола, что мы осмотрим долину с обеих сторон, кончим свежевать самку, а там уж вдвоем спустимся вниз и разыщем самца. При таком недоверии со стороны моих спутников не имело смысла продолжать с ними поиски. Мы с М’Кола снова спустились в долину, обрыскали ее вдоль и поперек, как легавые собаки, осмотрели и проверили каждый след. Я очень страдал от жары и жажды. Солнце пекло не на шутку. — Хапана, — сказал М’Кола. Поиски оказались напрасными. Самец то был или самка, мы ничего не нашли. “Может быть, это все-таки самка. Может быть, игра не стоит свеч”, — утешал я себя. Мы решили осмотреть еще холм справа от нас, а потом махнуть на все рукой, забрать голову самки и, вернувшись в лагерь, узнать, что нашел ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 119 Римлянин. Я умирал от жажды и выпил всю флягу до дна. Мы знали, что в лагере воды вволю. Мы двинулись вверх по холму и в кустах спугнули антилопу. Я чуть было не выстрелил, но увидел, что и это самка. “Вот как они умеют прятаться! — подумал я. — Надо созвать наших людей и еще раз осмотреть все кругом”. Вдруг раздался радостный возглас Деда. — Думи! Думи! — кричал он пронзительно. — Где? — Я бросился к нему. — Там! Там! — кричал Дед, указывая на лес по другую сторону долины. — Вот он! Вот! Вон бежит! Мы мчались во весь дух, но зверь уже скрылся в лесу на склоне холма. Дед уверял, что это был огромный черный самец с длинными рогами и пробежал он в десяти шагах от него. Несмотря на две раны в брюхе и в спине, он бежал быстро, пересек долину, миновал валуны и поднялся на холм. Значит, я ранил его в брюхо. А когда он убегал, вторая пуля настигла его сзади. Обессилев, он упал на землю, а мы его не заметили. Когда же мы прошли дальше, он поднялся. — Вперед! — скомандовал я. Все вошли в азарт и теперь готовы были следовать за мной. Дед, без умолку болтая о самце, сложил шкуру, снятую с головы антилопы, водрузил эту голову на свою собственную, и мы, перебираясь через камни„ принялись обшаривать холм. Там, куда указывал Дед, мы нашли очень большой след антилопы — отпечатки широких копыт, которые вели в лес, — и кровь, много крови. Мы быстро пошли по этому следу, надеясь настигнуть самца и добить его, — в тени деревьев по свежим пятнам крови идти было легко. Но самец продолжал бежать вверх по холму все выше и выше. Мы шли по кровавому следу, который еще не успел подсохнуть, но не могли настичь беглеца. Я упорно смотрел вперед, надеясь увидеть его, если он оглянется, или упадет, или вздумает лесом спуститься с холма; М’Кола и Гаррик отыскивали след, им помогали все, кроме Деда, который плелся в хвосте, неся на седой голове череп и шкуру убитой антилопы. М’Кола нагрузил его еще и пустой флягой, а Гаррик — кинокамерой. Для старика это была нелегкая ноша. Один раз мы нашли место, где самец отдыхал, и видели его след, а за кустами, где он стоял, на камне растеклась лужица крови. Я проклинал ветер, который нес наш запах далеко вперед, и понимал, что мы не сможем захватить самца врасплох: ведь запах распугает все зверье на нашем пути. Я хотел было пойти с М’Кола в обход, а остальных послать по следу, но мы двигались быстро, капли крови ярко алели на камнях, на траве, на опавших листьях, а склоны были слишком круты, и я решил, что самец и так не уйдет. Потом мы вышли на каменистую возвышенность с множеством расселин; мы двигались с трудом, часто теряя след. “Здесь, — подумал я, — мы поднимем его в какой-нибудь лощине”. Но пятна крови, уже не такие яркие, вели нас все выше через камни и скалы и, наконец, пропали у крутого уступа. Отсюда антилопа, вероятно, двинулась вниз. Выше подняться она не могла бы — уступ слишком крут. Только вниз — другого пути у нее не было. Но в какую сторону, по какому ущелью? Я послал людей обследовать все три возможных пути, а сам забрался на уступ в надежде увидеть беглеца сверху. Сначала мои помощники не нашли никакого следа, но вдруг вандеробо-масай крикнул, что справа под 120 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ нами видит кровь. Сойдя по крутому спуску, мы тоже увидели ее на скале и находили подсыхающие капли по дороге до самого луга. Я приободрился и повел свой отряд на луг, где в высокой, по колено, траве выслеживать самца снова стало легко, потому что он брюхом задевал травинки, и если самые следы можно было увидеть, лишь согнувшись в три погибели и раздвигая траву, то кровь на этой траве сразу бросалась в глаза. Но она уже запеклась и потемнела, и я понял, что мы слишком замешкались около уступа. Наконец след пересек русло высохшего ручья недалеко от того места, откуда мы утром впервые увидели луг, и привел нас на почти безлесную кручу другого берега. Небо было безоблачно, и солнце здорово давало о себе знать. Я страдал не только от зноя — какая-то невыносимая свинцовая тяжесть давила мне голову, сильно хотелось пить. Жара была страшная, но не она меня мучила, а вот эта тяжесть в голове. Гаррик перестал всерьез выслеживать зверя, и лишь когда мы с М’Кола останавливались, он с театральными ужимками показывал свои успехи — найденные кое-где брызги крови. Он не желал заниматься черной работой, а предпочитал отдыхать, время от времени раздражая нас своими наскоками. От вандеробомасая толку было мало, и я сказал М’Кола, чтоб он хотя бы дал ему нести тяжелое ружье. Брат Римлянина явно не был охотником, а “муж” не проявлял особого интереса к этому делу. Он тоже, наверное, никогда не охотился. Земля, высушенная солнцем, была твердой, кровь запеклась черными пятнами и подтеками на низкой траве, и пока мы медленно шли по следу, брат Римлянина, Гаррик и вандеробо-масай один за другим остановились и сели в тени под деревьями. Солнце жгло невыносимо, и так как приходилось идти согнувшись, то, несмотря на носовой платок, прикрывавший затылок, в голове у меня так и гудело и она налилась болью. М’Кола шел по следу неторопливо, сосредоточенно, весь поглощенный этим занятием. Его непокрытая лысая голова блестела от пота, а когда пот заливал глаза, он срывал горсть травы, брал ее то в одну, то в другую руку и сгонял ею капли со лба и голого черного темени. Мы медленно брели дальше. Я всегда уверял Старика, что я более искусный следопыт, чем М’Кола, но сейчас мне стало ясно, что до сих пор я, подобно Гаррику, только изображал из себя следопыта, случайно находя потерянный след, — теперь, когда пришлось долго шагать по жаре, когда солнце пекло не на шутку, обрушивая на голову потоки раскаленных лучей, когда отыскивать след надо было на сухой и твердой почве, в низкой траве, где пятнышко крови превращается в сухой черный волдырь, неприметный на какой-нибудь былинке; когда эти пятнышки попадались порой шагах в двадцати друг от друга и один охотник оставался на месте и ждал, пока другой не найдет следующий почерневший сгусток крови, и дальше они шли по обе стороны следа; когда следопыты, чтобы не говорить лишних слов, указывали друг другу кровь былинками, а сбившись со следа, рыскали вокруг, стараясь не потерять из виду последнего пятнышка, и подавали друг другу знаки; когда из пересохшего горла не выжать было ни одного звука, а знойное марево маячило над землей и я с трудом разгибался, чтобы дать отдых онемевшей шее, — я понял, что М’Кола неизмеримо выше меня как человек и следопыт. “Надо будет сказать об этом Старику”, — подумал я. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 121 Тут М’Кола вздумал подшутить надо мной. Борту у меня так пересохло, что я еле ворочал языком. — Бвана, — сказал М’Кола, когда я выпрямился и откинул голову назад, чтобы расправить шею. — Ну? — Виски? — Он протянул мне флягу. — Ах ты каналья! — сказал я по-английски, а он хихикнул и потряс головой. — Хапана виски? — Дрянь! — сказал я на суахили. Мы двинулись дальше, но М’Кола долго еще тряс головой, очень довольный своей шуткой; вскоре опять пошла высокая трава, и находить след стало легче. Мы прошли все редколесье, которое видели утром с холма, и спустились вниз, где снова попали в высокую траву. Здесь я обнаружил, что стоит мне прищурить глаза, как я вижу примятую траву там, где пробирался зверь, и, к удивлению моего спутника, быстро пошел вперед, не разыскивая больше следов крови. Но скоро мы опять вышли на каменистую почву, поросшую низкой травкой, и находить след стало труднее прежнего. Самец, проходя здесь, терял уже мало крови: видно, солнце и горячий воздух подсушили его раны, и нам лишь изредка попадались теперь мелкие звездчатые брызги на камнях. Гаррик нагнал нас, сделал несколько “драгоценных находок” — пятнышек крови, — потом снова уселся под деревом. Под другим деревом спасался от солнца бедный вандеробо-масай, в первый и последний раз выполнявший обязанности ружьеносца. Под третьим расположился Дед — он был весь обвешан ружьями, и голова антилопы лежала рядом с ним, подобно какому-то черному символу. Мы с М’Кола продолжали медленно и с трудом продвигаться по длинному каменистому склону, потом вышли на соседний луг, кое-где поросший деревьями, пересекли его и увидели длинное поле, с краю усеянное крупными камнями. Посреди этого поля след совсем затерялся, и мы кружили на месте около двух часов, прежде чем снова нашли брызги крови. Отыскал их Дед возле камней, в полумиле от нас. Он пошел туда, рассудив по-своему, куда должен был деваться самец. Да, наш Дед оказался настоящим охотником! Мы очень медленно одолели еще милю по твердой каменистой почве, а потом застряли окончательно. На твердом грунте следов не оставалось, а крови нигде не было. Каждый высказывал свои предположения насчет того, куда направился эверь, но путей было слишком много. Нам не везло. — Ничего не выйдет, — сказал М’Кола. Я сел отдохнуть в тени большого дерева. Здесь я мог расправить усталую спину, мне было прохладно, как в воде, и ветерок холодил кожу сквозь взмокшую рубашку. Я не переставал думать о самце. Лучше бы уж я промахнулся! А то ранил и не сумел выследить. Должно быть, он уходит сейчас все дальше и дальше. Ведь он ни разу не обнаружил намерения повернуть назад. Вечером он издохнет, и его сожрут гиены. Или, еще того хуже, набросятся на живого, перегрызут ему поджилки, потом вырвут внутренности... Первая же гиена, напав на кровавый след, не успокоится, пока не нагонит раненого зверя. Потом она начнет скликать остальных... Я ругал себя последними словами за то, что ранил, но не добил антилопу. Я со спокойной душой убивал всяких зверей, если 122 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ мне удавалось сделать это без промаха, сразу: ведь всем им предстояло умереть, а мое участие в “сезонных” убийствах, совершаемых каждый день охотниками, было лишь каплей в море. Да, совесть моя молчала, когда я убивал зверей наповал. Мы съедали мясо и забирали шкуры и рога. Но этот самец черной антилопы причинил мне немало терзаний. Кроме всего прочего, мне очень хотелось добыть его. Хотелось мучительно — я даже себе самому не сознавался, насколько сильно мне этого хотелось, но игра была проиграна. Удобный момент был в самом начале, когда самец упал, а мы этот момент упустили. Впрочем, нет — наилучшая возможность, какую только может пожелать охотник, представилась мне, когда нужно было стрелять, а я послал пулю наугад. Это была грубейшая ошибка. Я сделал подлость, прострелив ему брюхо. Вот что бывает, когда человек слишком уверен в себе и пренебрегает чем-либо, без чего нельзя довести дело до конца. Ну что ж, мы потеряли этого самца. Во всем мире вряд ли можно было найти собаку, которая выследила бы его сейчас, в такую жару. И все же ничего другого не оставалось. Заглянув в словарь, я спросил у Деда, есть ли на шамбе собаки. — Нету, — ответил Дед. — Хапана. Мы описали большой круг, а местных проводников я послал на поиски в другую сторону. Но мы не нашли ничего — ни следов, ни крови, и я сказал М’Кола, что пора возвращаться. Проводники отправились за мясом убитой самки. Итак, мы признали себя побежденными. Мы с М’Кола, а за нами и все остальные по самому солнцепеку пересекли открытую равнину, потом сухое русло и очутились в благодатной тени леса. Мы шагали по тропе, кое-где расцвеченной солнечными пятнами, и напрямик, по ровному пружинистому настилу, как вдруг увидели в какой-нибудь сотне шагов от себя целое стадо черных антилоп, которые неподвижно стояли меж деревьев, глядя на нас. Я оттянул затвор и стал высматривать лучшую пару рогов. — Думи, — прошептал Гаррик. — Думи кубва сана! Я взглянул туда, куда он указывал. Там стояла очень крупная самка, темнокаштановая, с белыми отметинами на морде, белым брюхом, могучая, с красиво изогнутыми рогами. Она стояла боком, повернув голову, и разглядывала нас. Я внимательно оглядел всех антилоп. Одни только самки. Должно быть, это то самое стадо, в котором я подранил самца, — оно перевалило через холм и снова собралось здесь. — Пошли в лагерь, — сказал я М’Кола. Когда мы тронулись, антилопы побежали и перескочили тропу впереди нас. При виде каждой хорошей пары рогов Гаррик повторял: “Самец, бвана, большой, большой самец! Стреляй, бвана, стреляй же, скорее!” — Все самки, — сказал я, когда стадо в страхе промчалось по обрызганному солнцем лесу и скрылось из виду. — Да, — согласился М’Кола. — Дед! — позвал я. Он подошел. — Пусть Гаррик понесет голову антилопы, — сказал я. Дед опустил свою ношу на землю. — Нет! — запротестовал Гаррик. — Да! — возразил я. — Понесешь, черт тебя побери! ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 123 Мы продолжали путь через лес к лагерю. Настроение у меня было прекрасное. За весь день я ни разу не вспомнил о куду. А теперь мы возвращались туда, где они ждали меня. Обратный путь показался мне очень долгим, хотя обычно, когда возвращаешься другой дорогой, время проходит незаметно. Я смертельно устал, голову сильно напекло, и от жажды все у меня внутри пересохло. Но неожиданно в лесу стало прохладнее. Солнце спряталось за облака. Мы вышли из лесу, спустились на равнину и увидели колючую изгородь. Солнце было уже скрыто грядой облаков, а скоро и все небо заволокли зловещие тучи. Я подумал, что сегодня, быть может, последний ясный и жаркий день. Такая жара не часто бывает перед дождями. Сначала я сказал себе: “Вот если б прошел дождь, но почва сохранила бы следы! Тогда мы могли бы охотиться за этим самцом без помех”. Но, поглядев на тяжелые, мохнатые облака, которые быстро покрыли все небо, я вспомнил, что нужно еще догнать своих, а потом на машине одолеть десять миль по черным землям до Хандени, и решил ехать сейчас. Я указал на небо. — Плохо, — сказал М’Кола. — Поедем в лагерь бваны М’Кубва? — Хорошо. — Потом, энергично одобряя мое решение, он добавил: — Н’дио! Н’дио! — Едем! — решил я. Добравшись до хижины за колючей изгородью, мы быстро сняли палатки. Нас здесь ждал гонец из прежнего лагеря, он принес мою москитную сетку и записку, написанную моей женой и Стариком перед отъездом. В записке они желали мне удачи и сообщали только, что выезжают. Я напился воды и, присев на бачок с бензином, взглянул на небо. Нет, рисковать было нельзя. Если дождь застигнет нас здесь, мы, вероятно, не сможем даже выбраться на дорогу. Если он застигнет нас в пути, мы не попадем на побережье до конца дождливого сезона. Об этом мне еще раньше в один голос твердили австриец и Старик. Нужно было ехать. Итак, решено. Ни к чему больше думать о том, как мне хотелось бы остаться. Усталость помогла мне решиться. Африканцы стали грузить все в машину и снимать куски мяса с палок, натыканных вокруг кострища. — Ты не хочешь есть, бвана? — спросил у меня Камау. — Нет, — ответил я. Потом добавил по-английски: — Я слишком устал. — Все-таки поешь, ты голоден. — Потом, в машине. Мимо прошел М’Кола с грузом, его широкое плоское лицо снова было бесстрастно. Оно оживало лишь во время охоты или от какой-нибудь шутки. Отыскав у костра кружку, я велел М’Кола принести виски, и его каменное лицо у глаз и рта раскололось в улыбке. Он вынул флягу из кармана. — Лучше с водой, — сказал он. — Ах ты черномазый китаец! Люди работали быстро, а из хижины вышли две женщины и остановились поодаль — поглядеть, как мы укладываем вещи в машину. Обе были красивы и хорошо сложены, обе застенчивы, но любопытны. Римлянин еще не вернулся. Мне было очень неприятно уезжать, не простясь, не объяснив ему причины отъезда. Он мне нравился, этот Римлянин, я питал к нему глубокое уважение. 124 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ Я пил виски с водой, засмотревшись на две пары рогов куду, прислоненных к стене “курятника”. Рога плавными спиралями поднимались над белыми, хорошо очищенными черепами и, расходясь в стороны, делали изгиб, потом другой, а концы у них были гладкие, словно выточенные из слоновой кости. Одна пара имела меньший размах и была повыше. Другая, почти столь же высокая, была шире и толще. Их темно-ореховый цвет ласкал глаз. Я прислонил спрингфилд к стене между этими рогами, и концы их оказались выше дула. Когда мимо проходил Камау, я попросил его принести фотоаппарат и постоять около рогов, а сам сделал снимок. Потом Камау перенес головы к машине, по одной — такие они были тяжелые. Гаррик, важный, как индюк, разговаривал с женщинами. Насколько я мог понять, он предлагал им наши пустые бензиновые бачки в обмен на что-то. — Иди сюда, — крикнул я ему. Он подошел, все с тем же наглым и самоуверенным видом. — Слушай, — сказал я ему по-английски. — Если до конца поездки я не вздую тебя, это будет чудом. А уж если стукну, то выбью все зубы, можешь не сомневаться. Вот и все. Он не понял слов, но тон мой делал их яснее любой фразы из словаря. Я встал и жестом объяснил женщинам, что они могут взять себе бачки и ящики. — Полезай в машину, — сказал я затем Гаррику. — В машину! — повторил я, когда он захотел сам отдать женщинам один из бачков. Он повиновался. Мы все уложили и были готовы в путь. Витые рога торчали над задним сиденьем, привязанные к багажу. Я оставил мальчику деньги для Римлянина и одну шкуру куду. Потом мы влезли в машину. Я сел впереди, рядом с вандеробо-масаем. Сзади разместились М’Кола, Гаррик и гонец, житель придорожной деревни, откуда был и Дед. Дед забрался на багаж, под самую крышу. Помахав всем на прощанье, мы проехали мимо домочадцев Римлянина, пожилых неказистых туземцев, жаривших огромные куски мяса на костре около тропы, которая вела через маисовое поле к ручью. Мы благополучно переправились через ручей — вода в нем спала, а берега подсохли; я оглянулся на хижины, на ограду, за которой был наш лагерь, на холмы, синевшие под пасмурным небом, и снова пожалел, что приходится уезжать, не простившись с Римлянином и ничего не объяснив ему. Потом мы двинулись через лес, по знакомой дороге, торопясь засветло выбраться на открытое место. Дважды мы застревали в болоте, и Гаррик с азартом начинал командовать, пока остальные рубили кусты и копали землю, так что в конце концов мне ужасно захотелось задать ему трепку. Ему необходимо было телесное наказание, как шлепки расшалившемуся ребенку. Камау и М’Кола посмеивались над ним, а он разыгрывал вождя, который возвращается с удачной охоты. Не хватало только страусовых перьев! Один раз, когда мы застряли и я лопатой расчищал дуть, Гаррик в пылу увлечения, распоряжаясь и подавая советы, нагнулся, а я как бы нечаянно ткнул его черенком лопаты в живот, так что он даже присел. Я и глазом не моргнул, и мы все трое — М’Кола, Камау и я — боялись взглянуть друг на друга, чтобы не расхохотаться. — Больно, — протянул он удивленно и встал. — А ты не подходи близко, когда человек копает, — сказал я по-английски. — Это опасно. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 125 — Больно, — повторил Гаррик, держась за живот. — Потри его, — посоветовал я и показал, как это делается. Но когда мы снова сели в машину, мне стало жаль этого бедного смешного позера и бездельника. Я спросил у М’Кола пива. Он достал бутылку из-под багажа, откупорил ее, и я стал медленно пить. Мы проезжали теперь по местности, похожей на олений заповедник. Я обернулся и увидел, что Гаррик уже оправился и снова болтает без умолку. Он потирал живот и, видимо, рассказывал, какой он молодец — даже не почувствовал боли. Я поймал взгляд Деда — он следил сверху, как я пью. — Дед! — окликнул я его. — Что, бвана? — Вот возьми. — Я протянул ему бутылку, в которой оставалось немного пива и пена. — Еще пива? — спросил М’Кола. — Конечно, черт дери, — ответил я. При мысли о пиве мне вспомнилась та весна, когда мы дошли по горной тропе до Бэн-де-Альес, и как мы состязались, кто больше выпьет пива, и как теленок, который был призом, никому из нас не достался, а домой мы возвращались ночью, в обход горы, и луга, поросшие нарциссами, заливал лунный свет, и мы были пьяны и рассуждали о том, как описать эту лунную бледность и коричневое пиво, усевшись за деревянные столы под зелеными побегами глицинии в Эгле, после того как пересекли долину, где ловили рыбу, и конские каштаны стояли в цвету, и мы с Чинком снова говорили о литературе и о том, можно ли сравнить их с восковыми канделябрами. Черт возьми, вот это была литературная болтовня; в те времена, сразу после войны, мы только и думали о литературе, а потом мы пили превосходное пиво у Липпа в полночь после споров в “Маскар-Леду” возле цирка, и в “Рути-Леду”, и после всякой большой словесной драки, охрипшие и все еще слишком взволнованные, чтобы лечь спать; но больше всего пива тогда, сразу после войны, мы выпили с Чинком в горах. Флаги для стрелков, скалы для альпинистов, а для английских поэтов — пиво, причем для меня самое крепкое. Помню, как Чинк цитировал Роберта Грейвса. Мы исчерпали одни страны и отправились в другие, но пиво везде оставалось настоящим чудом. И Дед тоже знал это. Я понял это по его глазам еще в первый раз, когда он следил, как я пью. — Пива, — сказал М’Кола. Он открыл бутылку, а я глядел на эти места, похожие на заповедник, и чувствовал жар нагретого мотора у себя под ногами, и вандеробо-масай, как всегда, пыжился у меня за спиной, а Камау вглядывался в следы колес на зеленом дерне, и я высунул ноги в сапогах наружу, чтобы они немного остыли, выпил пиво и пожалел, что со мной нет старины Чинка, капитана Эрика Эдварда Дормана Смита, кавалера Военного креста из пятого стрелкового полка его величества. Будь он здесь, мы бы с ним поговорили о том, как описать эти места, похожие на олений заповедник, и достаточно ли просто назвать их оленьим заповедником. Старик и Чинк очень похожи. Старик старше и терпимей для своих лет, а компания у нас почти такая же. У Старика я учусь, с Чинком же мы вместе открыли для себя немалую часть мира, а потом дороги наши разошлись. Но каков этот проклятый черный самец. Надо было мне его уложить, он же бежал, когда я выстрелил. Тут впору было попасть хоть куда-нибудь, ведь вьцелить его как следует я не мог. Ну ладно, черт тебя побери, а как же тогда 126 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ самка, в которую ты промазал дважды, стреляя лежа, хотя она стояла к тебе боком? Она тоже бежала? Нет. Если б я накануне выспался, то не промахнулся бы. А если б протер замасленный ствол ружья, первый выстрел не пришелся бы слишком высоко. Тогда я не взял бы ниже во второй раз и пуля не пролетела бы у нее под брюхом. Нет, сукин ты сын, если ты чего-то стоишь, стало быть, сам во всем виноват. Я воображал, что великолепно стреляю из дробовика, хотя это совсем не так, выбросил на ветер кучу денег, чтобы поддержать в себе это мнение, и все же, оценивая себя холодно и беспристрастно, я знал, что умею стрелять из винтовки крупную дичь не хуже всякого другого. Провалиться мне, если это не так. И что же? Я прострелил брюхо черному самцу и упустил его. Такой ли уж я хороший стрелок, каким себя считаю? Конечно. Тогда почему я промазал по той самке? А, черт, со всяким может случиться. Но тут не было никаких причин. Да кто ты такой, дьявол тебя возьми? Голос моей совести? Слушай, у меня совесть чиста. Провалиться мне, я знаю, чего стою, и знаю, на что я способен. Если б мне не пришлось тащиться в такую даль, у меня был бы самец черной антилопы. Я же знаю, что Римлянин настоящий охотник. И там было еще одно стадо. Почему я пробыл там всего один вечер? Разве так охотятся? Нет, к дьяволу. Вот когда-нибудь я разживусь деньгами, и мы вернемся сюда, доедем на грузовиках до деревни Деда, наймем носильщиков, так что не надо будет беспокоиться об этой вонючей машине, потом носильщиков отошлем назад, станем лагерем в лесу у ручья выше деревни Римлянина и будем жить и охотиться в этих местах не спеша, каждый день ходить на охоту, а иногда я буду устраивать передышку и писать неделю, или полдня, или через день и изучу то место, как изучил места вокруг озера, куда нас привели. Я увижу, как живут и пасутся буйволы, а когда слоны пойдут через холмы, мы станем смотреть, как они ломают ветки, и мне не нужно будет стрелять, я буду просто лежать на палых листьях и глядеть, как щиплют траву куду, и не выстрелю, разве только если увижу рога лучше тех, что мы сейчас везем, и вместо того, чтобы целый день выслеживать черную антилопу с простреленным брюхом, стану себе лежать за камнем и смотреть, как они пасутся на склоне холма, и у меня будет довольно времени, чтобы навсегда запечатлеть их в своей памяти. Конечно, Гаррик может привезти туда своего Бвану Симба, и они распугают все зверье. Но если они это сделают, я уйду дальше, вон за те холмы, там есть другие места, где можно жить и охотиться, если только есть время жить и охотиться. Они проберутся всюду, где пройдет машина. Но там везде должны быть долины вроде этой, о которых никто не знает, и машины проходят по дороге мимо. Все охотятся на тех же местах. — Пива? — спросил М’Кола. — Да, — сказал я. Конечно, здесь не прокормишься. Все так говорят. Налетает саранча и пожирает посевы, и муссон не приходит вовремя, и дождей нет как нет, и все засыхает и выгорает. А тут еще клещи и мухи, от которых гибнет скот, и москиты приносят малярию и лихорадку, Скот падает, и за кофе не взять настоящей цены. Нужно быть индийцем, чтобы ухитряться выжимать прибыль из сизаля, и на побережье каждая плантация кокосовых пальм означает, что кто-то разорился, надеясь заработать на копре. Белый охотник работает три месяца в году и пьянствует круглый год, а правительство разоряет страну к выгоде туземцев и индийцев. Вот что здесь рассказывают. Все это так. Но я не стремился ничего ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 127 заработать. Я хотел только жить здесь и охотиться без спешки. Я уже переболел одной болезнью и узнал, что значит промывать трехдюймовый кусочек моих длиннющих кишок мыльной водой трижды в день, а потом вправлять их на место. Есть средства, которые излечивают от этой напасти, и вполне стоит потерпеть ради всего того, что я видел и где побывал. К тому же я подхватил эту болезнь на грязном пароходишке, когда плыл сюда из Марселя. А моя жена не болела ни разу. И Карл тоже. Я любил Африку и чувствовал себя здесь как дома, а если человеку хорошо в какой-нибудь стране за пределами родины, туда ему и нужно ехать. Во времена моего деда штат Мичиган был очагом малярии. Ее называли лихорадкой и трясучкой. А на острове Тортугас, где я провел не один месяц, вспышка желтой лихорадки однажды скосила тысячу человек. Новые континенты и острова пытаются отпугнуть вас болезнями, как змея — шипением. Ведь змеи тоже бывают ядовитые. Их убивают. Да ведь то, что приключилось со мной месяц назад, убило бы меня в прежние времена, когда еще не научились бороться с этим. Может, убило бы, а может, я бы и поправился. И все же гораздо лучше жить в хорошей стране, охраняя себя от болезней самыми простыми профилактическими мерами, чем притворяться, что страна, дело которой кончено, все еще хороша. С нашим появлением континенты быстро дряхлеют. Местный народ живет в ладу с ними. А чужеземцы разрушают все вокруг, рубят деревья, истощают водные источники, так что уменьшается приток воды, и в скором времени почва — поскольку травяной покров запахивают — начинает сохнуть, потом выветривается, как это произошло во всех странах и как начала она выветриваться в Канаде у меня на глазах. Земля устает от культивации. Страна быстро изнашивается, если человек вместе со всей его живностью не отдает ей свои экскременты. Стоит только человеку заменить животное машиной — и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может выращивать. Стране надлежит оставаться такой, какой она впервые предстает перед нами. Мы — чужие, и после нашей смерти страна, может быть, останется загубленной, но все же останется, и никто из нас не знает, какие перемены ее ждут. Не кончают ли все они так, как область Гоби в Монголии, превратившаяся в пустыню. Я еще приеду в Африку, но не для заработка. Для того чтобы заработать себе на жизнь, мне нужны два карандаша и стопка самой дешевой бумаги. Я вернусь сюда потому, что мне нравится жить здесь — жить по-настоящему, а не влачить существование. Наши предки уезжали в Америку, так как в те времена именно туда и следовало стремиться. Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что, и я-то уж поеду в другое место, потому что мы всегда имели право уезжать туда, куда нам хотелось, и всегда так делали. А вернуться назад никогда не поздно. Пусть в Америку переезжают те, кому неведомо, что они задержались с переездом. Наши предки увидели эту страну в лучшую ее пору, и они сражались за нее, когда она стоила того, чтобы за нее сражаться. А я поеду теперь в другое место. Так мы делали в прежние времена, а хорошие места и сейчас еще есть. Я умею отличить хорошую страну от плохой. В Африке много всякого зверья, много птиц, и мне нравится здешний народ. В Африке хорошая охота и рыбная ловля. Охотиться, удить рыбу, писать, читать книги и видеть окружающее — вот что мне хотелось. И увиденное запоминать. Все это я люблю делать 128 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ сам, хотя мне интересно наблюдать со стороны и многое другое. И еще я люблю лыжи. Но теперь ноги у меня уже не те, да и убивать время на поиски хорошего снега, пожалуй, не стоит. Теперь повсюду слишком много лыжников. Машина обогнула излучину реки, пересекла зеленый луг, и впереди показалась масайская деревня. Масаи, едва завидев нас, высыпали за изгородь и окружили машину. Были здесь молодые воины, которые недавно соревновались в скорости с нашим автомобилем, были и женщины с детьми — все вышли поглядеть на нас. Ребятишки были все маленькие, а мужчины и женщины — как будто ровесники. И ни одного старика! Масаи встретили нас, как старых друзей, и мы устроили целый пир, угостив их хлебом, который сначала мужчины, а потом уже женщины ели с веселым смехом. Я велел М’Кола открыть две банки с фаршем и одну с пудингом, разделил все это на порции и роздал масаям. Я слышал и читал, будто они питаются только кровью скота, смешанной с молоком, а кровь эту берут из шейной вены, которую вскрывают выстрелом из лука почти в упор. Однако наши друзья масаи охотно ели хлеб, консервированное мясо и пудинг. Один из них, рослый и красивый, все просил чего-то на непонятном мне языке, потом его слова подхватили еще пять или шесть голосов. Видимо, они чего-то страстно желали. Наконец рослый масай сделал странную гримасу и издал звук, похожий на визг недорезанного поросенка. Тут только я сообразил в чем дело и нажал кнопку клаксона. Ребятишки с криком разбежались, воины смеялись до упаду, а когда Камау, уступая общей просьбе, еще и еще раз нажал клаксон, я увидел на лицах женщин выражение полнейшего восторга, настоящего экстаза и подумал, что, плененная клаксоном, ни одна из них не устояла бы перед Камау, стоило ему только пожелать этого. Пора было ехать и, раздав пустые пивные бутылки, этикетки, и, наконец, жестяные колпачки от бутылок, которые М’Кола подбирал в машине, мы тронулись в путь, опять вызвав ревом клаксона восторг женщин, испуг ребятишек и бурное веселье мужчин. Воины довольно долго сопровождали машину, но нам надо было спешить, а дорога через “олений заповедник” была хорошая, и вскоре мы послали прощальный привет последним масаям, которые стояли, опершись на копья, статные, высокие, в коричневых шкурах, с прямыми косами, и глядели нам вслед с улыбками на раскрашенных красновато-коричневой краской лицах. Солнце уже почти скрылось, и я, не зная дороги, уступил переднее место гонцу, а сам пересел к М’Кола и Гаррику. Еще засветло мы проехали “олений парк” и очутились на сухой, поросшей редким кустарником равнине; я достал еще бутылку немецкого пива и, глядя по сторонам, заметил вдруг, что все деревья буквально усеяны белыми аистами. Сели они отдохнуть во время перелета или охотились за саранчой — как бы то ни было, в сумерках они представляли красивое зрелище; очарованный им, я расчувствовался и отдал Деду бутылку, в которой оставалось пива на добрых два пальца от донышка. Следующую бутылку я, забыв про Деда, выпил один. Аисты все еще сидели на деревьях, а справа от машины пасся табунок газелей. Шакал, похожий на серую лисицу, рысцой перебежал дорогу. Я велел М’Кола откупорить еще бутылку, а тем временем равнина осталась позади, мы поднимались теперь к ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 129 деревне по отлогому склону, откуда видны были две высокие горы; уже смеркалось, и стало прохладно. Я протянул бутылку Деду, а он поднял ее наверх, под крышу, и нежно прижал к груди. Уже в темноте мы остановились на дороге возле деревни, и я уплатил гонцу, сколько было сказано в записке. Деду я тоже дал столько, сколько наказал Старик, с небольшой надбавкой. Потом между африканцами разгорелся спор. Гаррик должен был поехать с нами в главный лагерь и там получить деньги. Абдулла тоже непременно хотел ехать с нами: он не доверял Гаррику. Вандеробомасай жалобно просил взять и его. Он боялся, что они оба его надуют и не отдадут его доли, и я был уверен, что с них это станется. А тут еще бензин, который нам оставили для того, чтобы мы воспользовались им в случае необходимости или привезли с собой. Словом, машина была перегружена, а я к тому же не знал, какая впереди дорога. Однако я решил, что можно взять Абдуллу и Гаррика и втиснуть как-нибудь вандеробо. Но о том, чтобы взять Деда, не могло быть и речи. Он получил деньги, остался доволен, но не желал выходить из машины. Он залез под крышу и ухватился за веревки, твердя: “Я поеду с бваной”. М’Кола и Камау вынуждены были силой стащить его, чтобы переложить груз, а он все кричал: “Хочу ехать с бваной!” Пока они возились в темноте, он взял меня за руку и стал тихо говорить что-то. — Ты получил свои шиллинги, — сказал я. — Да, бвана, — ответил он. Но совсем не в деньгах было дело. Платой он был доволен. Когда мы садились в машину, он снова стал карабкаться наверх. Гаррик и Абдулла стащили его. — Нельзя. Нет места. Он снова стал что-то говорить мне жалобно, умоляюще. — Нет места. Я вспомнил про свой перочинный ножик, достал его из кармана и протянул Деду. Но он сунул мне нож обратно. — Нет, — сказал он. — Нет. Потом он умолк и смирно стоял в стороне. Но когда машина тронулась, он побежал следом, и я услышал в темноте его крик: — Бвана! Хочу с бваной! Мы ехали по дороге, которая после всех мытарств казалась нам в свете фар настоящей аллеей бульвара. Несмотря на темноту, мы благополучно проехали пятьдесят пять миль. Я бодрствовал, пока мы не одолели самую трудную часть пути, где приходилось при свете фар отыскивать дорогу в зарослях, — а потом уснул и, просыпаясь время от времени, видел то освещенную фарами стену высоких деревьев, то обнаженный бугор, то — когда машина на первой скорости одолевала крутой подъем — почти вертикальные столбы электрического света впереди. Наконец, когда спидометр показывал уже пятьдесят миль, мы остановились у какой-то хижины, и М’Кола, разбудив хозяина, спросил, как проехать к лагерю. Я снова заснул, а когда проснулся, мы уже сворачивали с дороги, и впереди между деревьями виднелись костры лагеря. Как только фары осветили зеленый брезент палаток, я закричал, мой крик подхватили остальные, взревел клаксон, 130 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ я с грохотом разрядил ружье в воздух, и вспышка прорезала темноту. Машина остановилась, и я увидел Старика — он выскочил из палатки, грузный и нескладный в своем халате, обхватил меня за плечи и сказал: “Ах вы проклятущий истребитель быков”, — а я хлопал его по спине. Потом я сказал: — Взгляните, какие рога, Старик. — Видел! Они занимают полмашины. Через минуту я уже крепко обнимал жену, такую маленькую, совсем затерявшуюся в стеганом просторном халате, и мы говорили друг другу всякие нежные слова. Потом вышел Карл, и я крикнул: — Здорово, Карл! — Я так рад, — сказал он. — Чудесные рога. М’Кола уже вытащил рога из машины, он и Камау держали их на виду в свете костра. — Ну, а у вас как дела? — спросил я Карла. — Убил еще одного из этих... как они называются? Тендалла. — Вот хорошо! — Я был спокоен, зная, что лучших рогов, чем у моей антилопы, не бывает, и охотно допускал, что у Карла неплохая добыча. — Сколько дюймов? — Э, пятьдесят семь, — ответил Карл. — Покажите. — Я почувствовал, что внутри у меня вое похолодело. — Они вон там, — сказал Старик, и мы подошли ближе. То были самые большие, самые раскидистые и красиво изогнутые, самые темные, самые массивные и прекрасные рога в мире! Внезапно, ужаленный острой завистью, я почувствовал, что и смотреть не смогу теперь на свою добычу. Нет, нет, никогда. — Чудесно! — Я хотел сказать это весело, но у меня вырвалось какое-то хриплое карканье. Я попытался исправить неловкость. — Ох, и здорово же! Как это вам удалось? — Их там было три, — сказал Карл. — Все такие же крупные, как этот. Я не мог решить, какой самый крупный. Туго нам пришлось! Я стрелял по нему четыре или пять раз. — Какой дивный куду! — сказал я. Это прозвучало уже чуточку лучше, но я знал, что обмануть никого не удастся. — Очень рад, что и вы вернулись не с пустыми руками, — сказал Карл. — Какие красавцы! Утром вы мне непременно все расскажете. Сейчас вы, наверно, слишком устали. Спокойной ночи. Деликатный, как всегда, он отошел, чтобы дать нам возможность поговорить на свободе. — Пойдемте выпьем, — крикнул я ему. — Нет, благодарю, я, пожалуй, лягу. У меня что-то голова болит. — Спокойной ночи, Карл. — Спокойной ночи. Спокойной ночи и вам, милая Мама. — Спокойной ночи, — отозвались мы все хором. У костра за виски с содовой я рассказал им все наши приключения. — Быть может, они еще найдут этого самца, — сказал Старик. — Мы им предложим деньги за его рога. Пусть пришлют их в охотничью инспекцию. Сколько дюймов в тех рогах, что подлиннее? — Пятьдесят два. — Над изгибом? ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 131 — Да. Может быть, даже чуть больше. — Несколько дюймов ничего не значат. У вас замечательные куду. — Конечно. Но почему Карлу всегда удается так посрамить меня? — Ему везет, — ответил Старик. — Боже, какой ку-ду! Я только раз в жизни видел рога длиннее пятидесяти дюймов. Это было в Калале. — Мы еще до отъезда из прежнего лагеря узнали, что Карл убил куду, привез эту новость шофер его грузовика, — сказала Мама. — А я все время молилась за тебя. Спроси у мистера Джексона. — Вы себе не представляете, что мы почувствовали, когда увидели торчавшие из вашей машины здоровенные рога, — сказал Старик. — Ах вы старый плут! — Просто чудо, какие рога, — сказала моя жена. — Пойдемте, поглядим на них еще раз. — Теперь вам будет что вспомнить, а это самое главное, — заметил Старик. — Ей-богу, отличные куду. Но мне было досадно, я не мог успокоиться всю ночь. Только утром все прошло. Прошло и никогда больше не возвращалось. Мы со Стариком встали еще до завтрака и пошли взглянуть на рога. Было серое, хмурое, холодное утро. Приближался дождливый сезон. — Три чудесных трофея, — сказал Старик. — Ну, сегодня даже рядом с добычей Карла мои куду очень недурны, — отозвался я. Да, как ни странно, это было так. Я примирился с удачей Карла и радовался за него. Право же, все три пары рогов были хороши, и такие длинные! — Я рад, что вам полегчало, — сказал Старик. — Мне тоже. — Ей-богу, я очень рад за Карла, — сказал я от всей души. — С меня хватит того, что я добыл. — Как все-таки сильны в нас первобытные инстинкты, — отозвался Старик. — Дух соперничества побороть невозможно. А он все портит. — Я от него избавился. Теперь все в порядке. Очень интересная была поездка. — Ну еще бы! — Скажите, Старик, что это за обычай у туземцев, когда жмут руку и тянут за большой палец? — Это значит, что они как бы признают вас кровным братом. А кто тянул вас за палец? — Все, кроме Камау. — Вот это здорово! Вы становитесь в Африке своим человеком, — заметил Старик. — Ну и молодчина! А скажите, вы в самом деле такой превосходный следопыт и стрелок? — Идите к черту! — А М’Кола тоже тянул вас за палец? — Да. — Так, так. Ну, идемте, позовем маленькую Мемсаиб и будем завтракать. Хотя, по правде сказать, я не очень проголодался. — А я — очень. Почти два дня ничего не ел. — Но пиво пили, конечно? — Разумеется. 132 ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. РАДОСТИ ОХОТЫ — А пиво та же еда. Мы позвали Мемсаиб и Карла и весело позавтракали всей компанией. Месяц спустя Мама, Карл и его жена — она присоединилась к нам в Хайфе — сидели на солнышке у каменной стены на берегу Тивериадского озера, закусывали, пили вино и смотрели на гагар. Холмы отбрасывали тень на озеро, такое тихое и недвижное, что вода казалась стоячей. Стая гагар, плавая, оставляли круги на поверхности. Я пробовал сосчитать этих птиц и размышлял, почему о них не упомянуто в Библии. В конце концов я решил, что те, кто писал Библию, не были натуралистами. — Нет, меня не тянет ходить по воде, — сказал Карл, глядя на унылое озеро. — Один раз это было проделано, и хватит! — Знаете, — сказала Мама, — я уже многого не помню. Не помню даже лица мистера Джексона. А оно так прекрасно! Я все думаю, думаю о нем, но не могу себе его представить. Это ужасно. На фотографии он совсем не тот. Еще немного, и я совсем забуду его лицо. Уже и сейчас я его помню смутно. — Вам не следует его забывать, — сказал Карл моей жене. — А я его отлично помню, — вмешался я. — Вот погоди, напишу для тебя когда-нибудь повесть и расскажу в ней о старике Джексоне. Рассказы Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось. — Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер. — Мне коктейль, — ответил Роберт Уилсон. — Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, — сказала жена Макомбера. — Да это, пожалуй, будет лучше всего, — согласился Макомбер. — Велите ему смешать три коктейля. Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья. — Сколько им дать? — спросил Макомбер. — Фунта будет вполне достаточно, — ответил Уилсон. Нечего их баловать. — Дать старшему, а он разделит? — Совершенно верно. Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессе не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им всем руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру. — Вот вы и убили льва, — сказал ему Роберт Уилсон, — да еще какого замечательного. Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов, плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера она вышла замуж одиннадцать лет назад. — А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые. Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свобод ном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметала, что красный загар кончался 135 136 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки. — Ну, выпьем за льва, — сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа. Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен, — если не считать недостатком такой длинный костяк, с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом. — Выпьем за льва, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали. Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона. — Не будем говорить про льва, — сказала она. Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему. — Очень странный сегодня день, — Оказала она. — А вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом, вы мне сами говорили. — Можно и надеть, — сказал Уилсон. — Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо, — сказала она и опять улыбнулась. — Пью много, — сказал Уилсон. — Нет, я думаю, это не оттого, — сказала она. — Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет. — Сегодня покраснело, — попробовал пошутить Макомбер. — Нет, — сказала Маргарет. — Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное. — Должно быть, национальная особенность, — сказал Уилсон. — А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы думаете? — Я еще только начала. — Ну, и давайте кончим, — сказал Уилсон. — Тогда совсем не о чем будет разговаривать, — сказала Маргарет. — Не дури, Марго, — сказал ее муж. — Как же не о чем, — сказал Уилсон. — Вот убили замечательного льва. Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплачется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей. — И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось, — сказала она и пошла к своей палатке. Они не услышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой. — Женская блажь, — сказал Уилсон. — Это пустяки. Нервы, ну и так далее. — Нет, — сказал Макомбер. — Мне это теперь до самой смерти не простится. — Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем, — сказал Уилсон. — Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить. — Попробую, — сказал Макомбер. — Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду. — Бросьте, — сказал Уилсон. — Все это ерунда. Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими тронами акаций, между каменистой НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 137 осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки с любопытством взглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие. — Чего вы ему сказали? — спросил Макомбер. — Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих. — Как так? Плетей? — Это, конечно, незаконно, — сказал Уилсон. — Полагается их штрафовать. — У вас их и теперь еще бьют? — Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже. — Как странно, — сказал Макомбер. — Не так уж странно, — сказал Уилсон. — А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья? — Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал: — Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день. Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не гожусь. — Да, всех нас бьют, — сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него. — Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает? — Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в “Матайга-клубе”? Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их разберет, этих американцев. — Нет, — сказал Уилсон. — Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято. Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать, И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят, — consideration distinguee(совершенное почтение (франц.))?.. В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: “Ну, как у вас?” — а он отвечает: “Да ничего, по-прежнему пью их виски”, — и сразу понимаешь, что дело дрянь. — Простите, — сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и приятный подбородок. — Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю. — Ну что тут поделаешь? — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку. 138 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА — Не беспокойтесь, я болтать не буду, — сказал он. — Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает. — Я удрал, как заяц, — сказал Макомбер. Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи? Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза. — Может быть, я еще отыграюсь на буйволах, — сказал Макомбер. — Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди? — Хоть завтра, если хотите, — ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать. — Вот и мемсаиб идет, — сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа. — Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше? — Гораздо лучше, — сказал Макомбер. — Я решила забыть об этой истории, — сказала она, садясь к столу. Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы все убиваете, правда? — Да, все, — сказал Уилсон. — Все, что угодно. Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна. — Завтра едем бить буйволов, — сказал он ей. — И я с вами. — Вы не поедете. — Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис? — А может, тебе лучше остаться в лагере? — Ни за что, — сказала она. — Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу. Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные. — Завтра мы опять устроим для тебя представление, — сказал Фрэнсис Макомбер. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 139 — Вы не поедете, — сказал Уилсон. — Ошибаетесь, — возразила она. — Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда комунибудь снесут череп. — Вот и завтрак, — сказал Уилсон. — Вам, кажется, очень весело? — А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать. — Да, скучать пока не приходилось, — сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро. — Еще бы, — сказала она. — Замечательно было. А завтра. Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня. — Попробуйте бифштекс из антилопы куду, — сказал Уилсон. — Очень вкусное мясо, — сказал Макомбер. — Это такие большие звери, вроде коров, и прыгают, как зайцы, да? — Описано довольно точно, — сказал Уилсон. — Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она. — Да. — А они не опасные? — Нет, разве что свалятся вам на голову, — ответил ей Уилсон. — Это утешительно. — Нельзя ли без гадостей, Марго, — сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилкой, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса. — Хорошо, милый, — сказала она, — раз ты так любезно об этом просишь. — Вечером спрыснем льва шампанским, — сказал Уилсон. — Сейчас слишком жарко. — Ах да, лев, — сказала Марго. — Я и забыла про льва. Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта, — впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства. — Возьмите еще жаркого, — вежливо сказал он ей. Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника. В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая 140 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА и перепрыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне. — Хороший выстрел, — сказал Уилсон. — В них попасть не легко. — Ну как, стоящая голова? — спросил Макомбер. — Голова превосходная, — ответил Уилсон. — Всегда так стреляйте, и все будет хорошо. — Как думаете, найдем мы завтра буйволов? — По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их, на поляне. — Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом, — сказал Макомбер. — Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены. По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал: — Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось. Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую иногда заполнила его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его. Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончился он рычанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем. — Похоже, что старый, — сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы. — Слышите, как кашляет. — Он очень близко отсюда? — Около мили вверх по ручью. — Мы увидим его? — Постараемся. — Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере. — Слышно очень далеко, — сказал Роберт Уилсон. — Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой. — Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 141 — В лопатку, — сказал Уилсон. — Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал. — Надеюсь, что я попаду, — сказал Макомбер. — Вы прекрасно стреляете, — сказал Уилсон. — Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий. — С какого расстояния надо стрелять? — Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка. — Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер. Уилсон бросил на него быстрый взгляд. — Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угодно, на выбор. А вот и мемсаиб. — С добрым утром, — сказала она. — Ну что, едем? — Как только вы позавтракаете, — сказал Уилсон. — Чувствуете себя хорошо? — Превосходно, — сказала она. — Я очень волнуюсь. — Пойду посмотрю, все ли готово. — Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова. — Вот расшумелся, — сказал Уилсон. — Мы эту музыку прекратим. — Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена. — Ничего, — сказал Макомбер. — Нет, в самом деле. Чем ты расстроен? — Ничем. — Скажи. — Она пристально посмотрела на него. — Ты плохо себя чувствуешь? — Этот рев, черт бы его побрал, — сказал он. — Ведь он не смолкал всю ночь. — Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала. — И мне нужно убить эту гадину, — жалобно сказал Макомбер. — Так ведь ты для этого сюда и приехал? — Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание. — Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон. — Хорошо, дорогая, — сказал Фрэнсис Макомбер. — На словах это очень легко, правда? — Ты уж не боишься ли? — Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю. — Ты убьешь его, и все будет чудесно, — сказала она. — Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет. — Кончай завтракать, и поедем. — Куда в такую рань, — сказала она, — Еще даже не рассвело. В эту минуту лев опять зарычал — низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарастающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием. — Можно подумать, что он здесь, рядом, — сказала жена Макомбера. — Черт, — сказал Макомбер, — просто не выношу этого рева. — Звучит внушительно. — Внушительно! Просто ужасно. 142 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь. — Едем, — сказал он. — Ваш спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас? — Да. — Я готова, — сказала миссис Макомбер. — Надо его утихомирить, — сказал Уилсон. — Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной. Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверок, вроде ящика на колесах, — и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал: — Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи. Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы. — Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить, — прошептал Уилсон. — Глядите в оба. Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась. — Вот он, — услышал он наконец Уилсона. — Впереди, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный. Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным, с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем. — Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье. — Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте. — А отсюда нельзя? — По льву из автомобиля не стреляют, — услышал он голос Уилсона у себя над ухом. — Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять. Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит “это”, — и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиграновой пули калибра 0,30 — 0,6, которая впилась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 143 Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар, — пуля попала ему в нижние ребра и прошла навылет, — и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит. Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услыхав характерное “уонк”, понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора. Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба. — Я попал в него, — сказал Макомбер. — Два раза попал. — Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь, — сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали. — Может, вы его и убили, — продолжал Уилсон. — Переждем немного, а потом пойдем посмотрим. — То есть как? — Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу. — А-а, — сказал Макомбер. — Замечательный лев, черт побери, — весело сказал Уилсон. — Только вот спрятался в скверном месте. — Чем оно скверное? — Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную. — А-а, — сказал Макомбер. — Ну, пошли, — сказал Уилсон. — Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след. — Побудь здесь, Марго, — сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом. — Почему? — спросила она. — Уилсон велел. — Мы сходим посмотреть, как там дела, — сказал Уилсон. — Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно. — Хорошо. Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил: — Да, бвана. 144 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер, выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями, — они вели за прибрежные деревья. — Что будем делать? — спросил Макомбер. — Выбирать не приходится, — сказал Уилсон. — Автомобиль сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его. — А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер. — Слишком свежая, не загорится. — А нельзя послать загонщиков? Уилсон смерил его глазами. — Конечно, можно, — сказал он. — Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать, — он будет уходить от шума, — но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь покалечит. — А ружьеносцы? — Ну, они-то пойдут с нами. Это их “шаури”. Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается. — Я не хочу туда идти, — сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит. — Я тоже, — сказал Уилсон бодро. — Но ничего не поделаешь. — Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо. — Вы, конечно, можете не ходить, — сказал он. — Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого. — То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там? Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное. — То есть как это? — Просто оставить его в покое. — Сделать вид, что мы не попали в него? — Нет. Просто уйти. — Так не делают. — Почему? — Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться. — Понимаю. — Но вам совершенно не обязательно идти с нами. — Я бы пошел, — сказал Макомбер. — Мне, понимаете, просто страшно. — Я пойду вперед, — сказал Уилсон, — Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 145 отойду от вас. А может, вам в самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу. — Нет, я пойду. — Как знаете, — сказал Уилсон. — Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой “шаури”. — Я пойду, — сказал Макомбер. Они сидели под деревом и курили. — Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон. — Успеете. — Нет. — Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением. — Хорошо, — сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене. Уилсон скоро вернулся. — Я захватил ваш штуцер, — сказал он. — Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем. Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал: — Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, что я скажу. — Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного. — Пошли, — сказал он. — Мне бы глотнуть воды, — сказал Макомбер. Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх. В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с черной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда ом услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся. Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером наизготовку подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью. 146 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — “ка-ра-уонг!” и еще раз “ка-рауонг!”, и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и “ка-ра-уонг!” из дула, и ползущее грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер, — стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него, — понял, что лев издох. Он подошел к Уилсону, — самый рост его казался немым укором, — и Уилсон посмотрел на него и сказал: — Снимки делать будете? — Нет, — ответил он. Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал: — Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени. Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы свежевали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы. — Ну-ну, — сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром. — Мистер Роберт Уилсон, — сказала она. — Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон. Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освежеванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря. Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны размозжил ему пасть; и что толкало его вперед после этого когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами “замечательный лев”, но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его жене, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 147 Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной. В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер “светской хроники”, полагая, что элемент приключения придаст остроту их поэтичному, пережившему годы роману, “отправились на сафари в страну, бывшую Черной Африкой до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва Старого Симбо, на буйволов и на слона Тембо, в то же время собирая материал для Музея естественных наук”. Тот же репортер, по крайней мере, три раза уже сообщал публике, что они “на грани”, и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит. Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который заснул ненадолго, после того как перестал думать о льве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, как за ним стоит лев с окровавленной головой, — и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа. Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог я уютно улеглась в постель. — Где ты была? — спросил Макомбер в темноте. — Хэлло, — сказала она. — Ты не спишь? — Где ты была? — Просто выходила подышать воздухом. — Черта с два. — А что я должна сказать, милый? — Где ты была? — Выходила подышать воздухом. — Это что, новый термин? Шлюха. — А ты — трус. — Пусть, — сказал он. — Что ж из этого? — По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать. — Ты воображаешь, что я все стерплю. — Я это знаю, дорогой. — Так вот, не стерплю. — Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать. — Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет. — Ну, а теперь есть — сказала она ласково. — Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала. — Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить? — Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а? 148 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА — Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый. — А я буду говорить. — Ну, тогда прости, я буду спать. — И заснула. Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона. — Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку. — А вы? — Отлично, — ответил белый охотник. Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь. Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват. — Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами. — Вероятно, — сказал Уилсон и улыбнулся ей, — А вам не остаться ли в лагере? — Ни за что, — ответила она. — Прикажите ей остаться в лагере, — сказал Уилсон Макомберу. — Сами прикажите, — ответил Макомбер холодно. — Давайте лучше без приказаний и, — обращаясь к Макомберу — без глупостей, Фрэнсис, — сказала Марго весело. — Можно ехать? — спросил Макомбер. — Я готов, — ответил Уилсон. — Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами? — Не все ли равно, хочу я или нет. Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так. — Решительно все равно, — сказал он. — Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер. — Не имею права, — сказал Уилсон. — Бросьте вы вздор болтать. — Это не вздор. Мне противно. — Нехорошее слово — противно. — Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно, — сказала его жена. — Я и так, черт возьми, говорю разумно, — сказал Макомбер. — Ели вы когда-нибудь такую гадость? — Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон. — Не дальше, чем всем остальным. — Возьмите себя в руки, голубчик, — сказал Уилсон очень спокойно. — Один из боев немного понимает по-английски. — Ну и черт с ним. Уилсон встал и,попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку. — Если ты устроишь скандал милый, я тебя брошу, — сказала Марго спокойно. — Не бросишь. — Попробуй — увидишь. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 149 — Не бросишь ты меня. — Да, — сказала она. — Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично. — Прилично? Это мне нравится. Прилично. — Да. Прилично. — Ты бы сама постаралась вести себя прилично. — Я долго старалась. Очень долго. — Ненавижу эту краснорожую свинью, — сказал Макомбер. — От одного его вида тошно делается. — А знаешь, он очень милый. — Замолчи! — крикнул Макомбер. В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом. — Едем охотиться? — спросил он. — Да, — сказал Макомбер, вставая. — Да. — Захватите свитер. Ехать будет холодно, сказал Уилсон. — Я пойду возьму кожаную куртку, — сказала Марго. — Она у боя, — сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье. У этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин? Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра, зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полян. Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве к низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит сваю опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчерашнее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный. Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с 150 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками. Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональней красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно. Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал: — Смотрите, вот они. Машина рванулась вперед. Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных животных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы. — Три старых самца, — сказал Уилсон. — Мы успеем отрезать им путь к болоту. Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно увидел скачущую глыбу и пыль, насевшую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул “Не из машины, идиот вы этакий!” И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное “ка-ра-уонг!” винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю. НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 151 — Теперь третьего, — сказал Уилсон. — Вот это стрельба! Но последний буйвол упорно уходил все тем же ровным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: “Едем! Так не достать!” — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед. Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: “Стой!” И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени. — Здорово, — сказал Уилсон. — Чисто сработано. Теперь все три. Макомбера охватил пьяный восторг. — Сколько раз вы стреляли? — спросил он. — Только три, — сказал Уилсон. — Первого убили вы. Самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли. — Пойдемте к машине, — сказал Макомбер. — Я хочу выпить. — Сначала нужно прикончить вот этого, — сказал Уилсон. Буйвол стоял на коленях, и когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки. — Смотрите, как бы не встал, — сказал Уилсон. — И еще отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом. Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед. — Правильно, — сказал Уилсон. — В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а? — Пойдем выпьем, сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо. В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная. — Ты был изумителен, милый, — сказала она Макомберу. — Ну и гонка! — Очень трясло? — спросил Уилсон. — Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха. — Давайте все выпьем, — сказал Макомбер. — Обязательно, — сказал Уилсон. — Мемсаиб первая — Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону. — Это так волнует, — сказала она. У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей. — Никто и не стрелял из автомобилей, — сказал Уилсон холодно. — Ну, гнаться за ними в автомобиле. — Вообще-то это не принято, — сказал Уилсон. — Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. 152 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы это имели в виду. — По-моему, — сказала Марго, — нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле. — В самом деле? — Что, если бы об этом узнали в Найроби? Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности, — сказал Уилсон, отпивая из фляжки. — Остался бы без работы. — Правда? — Да, правда. — Ну вот, — сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день. — Теперь она и к вам прицепилась. — Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис, — сказала Марго Макомбер. Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое: — Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили? — О господи, нет, — сказал Макомбер. — Вот он идет, — сказал Уилсон. — Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола. Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях; лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице. — Что он говорит? — спросила Марго. — Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу, — сказал Уилсон без всякого выражения. — Вот как, — сказал Макомбер рассеянно. — Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом, — сказала Марго, оживляясь. — Будет, черт побери, совсем не так, как со львом, — сказал Уилсон. — Пить еще будете, Макомбер? — Да, спасибо, — сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга. — Пойдем взглянем на второго буйвола, — сказал Уилсон. — Я велю шоферу отвести машину в тень. — Куда вы? — спросила Марго Макомбер. — Взглянуть на буйвола, — сказал Уилсон. — И я с вами. — Пойдемте. Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога. — Очень хорошая голова, — сказал Уилсон. — Между рогами дюймов пятьдесят. Макомбер восхищенно смотрел на буйвола. — Отвратительное зрелище, — сказала Марго. — Может быть, пойдем в тень? НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 153 — Конечно, — сказал Уилсон. — Смотрите, — сказал он Макомберу и протянул руку. — Видите вон те заросли? — Да. — Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорят, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на йогах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли. — Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер. Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой. — Нет, переждем немного. — Пожалуйста, пойдемте в тень, — сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной. Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели. — Очень возможно, что он уже издох, — заметил Уилсон. Подождем немножко и посмотрим. Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное. — Да, вот это была скачка! — сказал он. — Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было. Марго? — Отвратительно, — сказала она. — Чем? — Отвратительно, — сказала она горько. — Мерзость. — Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь, — сказал Макомбер Уилсону. — Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение. — Полезно для печени, — сказал Уилсон. — Чего только с людьми не бывает. Лицо Макомбера сияло. — Право же, во мне что-то изменилось, — сказал он. — Я чувствую себя совершенно другим человеком. Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье. — Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва, — сказал Макомбер. — Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать? — Правильно, — сказал Уилсон. — В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую: “Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем” Хорошо, а? Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год. Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, — вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго 154 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха. Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела. — Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения. — Об этом, как правило, молчат, — сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера. — Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно. — Но, вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать? — Да, — сказал Уилсон. — И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает. — Оба вы болтаете вздор, — сказала Марго. — Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями. — Прошу прощенья, — сказал Уилсон. — Я и правда наболтал лишнего. — Уже встревожилась, подумал он. — Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене. — Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, — презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенности. Ей было очень страшно. Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом. — Представь себе, — сказал он. — Действительно стал. — Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого. — Для меня — нет, — сказал Макомбер. Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины. — Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер. — Можно попробовать, — сказал Уилсон. — У вас патроны остались? — Есть немного у ружьеносца. Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежевавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман. — Вы стреляйте из спрингфилда, — сказал Уилсон. — Вы к нему привыкли. Маннлихер оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА 155 свою пушку. Теперь послушайте, что и вам скажу. — Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера. — Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они решены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем? Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину. — Я беру только Конгони, — сказал Уилсон. — Второй останется здесь, будет отгонять птиц. Когда автомобиль медленно поехал по траве, к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх. — Вот здесь он вошел в заросли, — сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили: — Найди след. Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила. Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон надвинул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед. — Он там издох, — сказал Уилсон. — Чистая работа. Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и, в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед, — нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки, голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал. Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, — в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из маннлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку. 156 НЕДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ ФРЭНСИСА МАКОМБЕРА Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон. — Не нужно его переворачивать, — сказал Уилсон. Женщина истерически плакала. — Подите, сядьте в автомобиль, — сказал Уилсон. — Где ружье? Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье. — Положи на место, — сказал Уилсон. И прибавил: — Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье. Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю. Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. “А хорош, черт его дери, — автоматически отметил его мозг. — Никак не меньше пятидесяти дюймов”. Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол. — Ну и натворили вы дел, — сказал он совершенно безучастно. — А он бы вас непременно бросил. — Перестаньте, — сказала она. — Конечно, это несчастный случай, — сказал он. — Я-то знаю. — Перестаньте, — сказала она. — Не тревожьтесь, — сказал он. — Предстоят кое-какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступят как свидетели. Вам решительно нечего бояться. — Перестаньте, — сказала ока. — Будет много возни, — сказал он. — Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так. — Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина. Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами. — Больше не буду, — сказал он. — Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться. — О, пожалуйста, перестаньте, — сказала она. — Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте. — Так-то лучше, — сказал Уилсон. — Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану. Изд.: Избранное/сост. Б.Грибанова. — М.: Просвещение, 1984. — 304 с., ил. OCR, Spellcheck: Шур Алексей, shuralex@online.ru Снега Килиманджаро Килиманджаро — покрытый вечными снегами горный массив высотой в 19710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя масаи называет его западный пик “Нгайэ-Нгайя”, что значит “Дом бога”. Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может. — Самое удивительное, что мне совсем не больно, — сказал он. — Только так и узнают, когда это начинается. — Неужели совсем не больно? — Нисколько. Правда, запах. Но ты уж прости. Тебе, должно быть, очень неприятно. — Перестань. Пожалуйста, перестань. — Посмотри на них, — сказал он. — Интересно, что их сюда влечет? Самое зрелище или запах? Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел трех громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени. — Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик, — сказал он. — Сегодня в первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно. — Не надо, — сказала она. — Да ведь это я просто так, — сказал он. — Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности. — Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом, — сказала она. — Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета. — Или не ждать самолета. — Ну, скажи, что мне сделать? Неужели я ничем не могу помочь? — Можешь отрубить мне ногу, тогда не поползет дальше; впрочем, сомневаюсь. Или можешь пристрелить меня. Ты теперь меткий стрелок. Ведь я научил тебя стрелять? — Не надо так. Хочешь, я почитаю вслух? — Что? — Что-нибудь из того, что мы еще не читали. — Нет, я не могу слушать, — сказал он. — Разговаривать легче. Мы ссоримся, а так время идет быстрее. 157 158 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО — Я не ссорюсь. Я не хочу ссориться с тобой. Не будем больше ссориться. Даже если нервы совсем развинтятся. Может, сегодня за нами пришлют грузовик. Может, прилетит самолет. — Я не желаю двигаться с места, — сказал он. — Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче. — Это трусость. — Дай человеку спокойно умереть, неужели тебе обязательно нужно браниться? Что толку обзывать меня трусом? — Ты не умрешь. — Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин. — Он посмотрел туда, где три громадных омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. Четвертая опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно, вразвалку, двинулась к остальным. — Они кружат около каждой стоянки. Обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься! — Где ты это вычитала? Боже, до чего ты глупа! — Тогда думай о ком-нибудь другом. — Ну уж нет! — сказал он. — Хватит с меня этого занятия. Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные и белые на желтом фоне, а еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное — под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в двух шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки. — Хочешь, я почитаю вслух? — спросила она снова. Она сидела возле койки на складном парусиновом стуле. — Вот и ветерок поднимается. — Нет, спасибо. — Может быть, грузовик скоро придет. — Мне совершенно безразлично, придет он или не придет. — А мне не безразлично. — У нас всегда так: что не безразлично тебе, безразлично мне. — Нет, не всегда, Гарри. — Надо бы выпить. — Тебе это вредно. У Блэка сказано — воздерживаться от алкоголя. Тебе нельзя пить. — Моло! — крикнул он. — Да, бвана. — Принеси виски с содовой. — Да, бвана. — Тебе нельзя пить, — сказала она. — Ты сдаешься, об этом я и говорила. Ведь там же сказано, что пить вредно. Я знаю, что тебе это вредно. — Нет, — сказал он. — Мне это полезно. Значит, теперь уже ничего не поделаешь, думал он. Значит, теперь он ничего не доведет до конца. Значит, вот чем все это завершается — пререканиями из-за виски. С тех пор как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась, а вместе с болью исчез и страх, и он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу, оттого что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 159 у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его, но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает. Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло, поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак ее мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь. — Не надо было приезжать сюда, — сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы. — В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду, куда только ты захочешь. Если тебе хотелось поохотиться, мы могли бы поехать в Венгрию, там все было бы к нашим услугам. — Всему виной твои поганые деньги, — сказал он. — Это несправедливо, — сказала она. — Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось, и я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать. — Ты же говорила, что тебе здесь нравится. — Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога. Чем мы это заслужили, что мы такое сделали? — Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена. — Он взглянул на нее. — Что еще? — Я не об этом. — Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник. — Я не об этом. — Если бы ты не распростилась со своими друзьями, со всей этой сворой из Уэстбери, Саратоги, Палм-Бича и не ушла ко мне... — Это несправедливо. Ведь я любила тебя. И сейчас люблю. И всегда буду любить. Разве ты меня не любишь? — Нет, — сказал он. — По-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил. — Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума. — Нет. Мне сходить не с чего, при всем желании. — Не пей виски, — сказала она. — Милый, я прощу тебя, не пей. Мы должны сделать все, что в наших силах. — Делай ты, — сказал он. — А я устал. Сейчас он видел перед собой вокзал в Карагаче. Он уезжал тогда из Фракии после отступления и стоял с вещевым мешком за плечами, глядя, как фонарь экспресса Симплон — Ориент рассекает темноту. Вот это он тоже откладывал впрок, и еще про утренний завтрак и про то, как смотрели из окна и видели снег на горах в Болгарии, и секретарша Нансеновской миссии спросила шефа, неужели это снег, и старик посмотрел туда и сказал: нет, это не снег. Для 160 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО снега слишком рано. И секретарша повторила, обращаясь к другим девушкам: вы слышали? Это не снег, и они хором: это не снег, мы ошиблись. Не это был снег, самый настоящий снег, и шеф заслал туда, в горы, уйму народу, когда начался обмен населения. Людям пришлось пробираться по глубоким заносам, и они погибли в ту зиму все до одного. В Гауэртале в тот год на рождество тоже шел снег. В тот год, когда они жили в домике дровосека с квадратной изразцовой печкой, которая занимала полкомнаты, и спали на тюфяках, набитых буковыми листьями. Тогда же в домик пришел дезертир, и на снегу от его ног тянулись кровавые следы. Он сказал, что за ним гонятся, и они дали ему шерстяные носки и отвлекли жандармов разговорами, пока следы не замело. В Шрунсе на первый день рождества снег так блестел, что глазам было больно смотреть из окна Weinstube (кабачок (нем.).) на прихожан расходившихся после церковной службы по домам. Там же, в Шрунсе, они поднимались по укатанной санями, желтой от конской мочи дороге вдоль реки, мимо крутых гор, поросших сосновым лесом, — поднимались пешком, неся тяжелые лыжи на плече; и там же они совершили великолепный спуск на лыжах вниз по леднику над Мадленер-Хаус; снег был гладкий, как сахарная глазурь, и легкий, как порошок, и он помнил бесшумный от быстроты полет, когда подаешь камнем вниз, точно птица. Они застряли в Мадленер-Хаус на целую неделю из-за бурана, играли в карты при свете дымящего фонаря, и ставки поднимались все выше и выше, по мере того как проигрывал герр Ленц. Наконец он проиграл все дочиста. Все — деньги лыжной школы, доход за целый сезон, потом все свои сбережения. Он видел его, как живого, — длинноносый, берет карты со стола и ставит “Sans voir” (втемную (франц.)). Игра шла тогда круглые сутки. Снег валит — играют. Метели нет, — играют. Он подумал о том, сколько времени ушло у него в жизни на карты. Но он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта, чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой, поливал их пулеметным огнем, когда они рассыпались и побежали кто куда. Он вспомнил, как Баркер зашел потом в офицерскую столовую и начал рассказывать об этом. И как вдруг стало тихо и, кто-то сказал: “Зверь, сволочь паршивая”. Австрийцы, которых они убивали тогда, были такие же, с какими он позднее ходил на лыжах. Нет, не такие же. Ганс, с которым он ходил на лыжах весь тот год, служил в егерском полку, и, охотясь вместе на зайцев в небольшой долине над лесопилкой, они говорили о боях у Пасубио и о наступлении под Петрикой и Асалоне, и он не написал об этом ни единой строчки. Ни о Монте-Корно, ни о Сьете-Коммуни, ни об Арсиеро. Сколько зим он прожил в Арльберге и Форарльберге? Четыре, и тут он вспомнил человека, который продавал лису, когда они шли в Блуденц покупать подарки, и славный кирш с привкусом вишневых косточек, вихрь легкого, как порошок, снега, разлетающегося по насту, песню “Хай-хо, наш Ролли!” на последнем перегоне перед крутым спуском, и прямо вниз, не сворачивая, потом тремя рывками через сад, дальше канава, а за ней обледенелая дорога позади СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 161 гостиницы. Крепление долой, сбрасываешь с ног лыжи и ставишь их к деревянной стене, а из окна свет лампы, и там, в комнате, в дымном, пахнущем молодым вином тепле играют на аккордеоне. — Где мы останавливались в Париже? — спросил он женщину, которая сидела рядом с ним на складном стуле — здесь, в Африке. — В отеле “Крийон”. Ты же сам знаешь. — Почему я должен это знать? — Мы всегда там останавливались. — Нет, не всегда. — Там и в “Павильоне Генриха Четвертого” в Сен-Жерменском предместье. Ты говорил, что любишь эти места. — Любовь — навозная куча, — сказал Гарри. — А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку. — Если ты правда умираешь, — сказала она, — неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену, сжечь свое седло и свое оружие? — Да, — сказал он. — Твои проклятые деньги — вот мое оружие, и с ними я был в седле. — Перестань. — Хорошо. Больше не буду. Я не хочу обижать тебя. — Не поздно ли ты спохватился? — Хорошо. Тогда буду обижать. Так веселее. То единственное, что я любил делать с тобой, сейчас мне недоступно. — Нет, неправда. Ты любил и многое другое, и все, что хотелось делать тебе, делала и я. — Ради бога, перестань хвалиться. — Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. — Послушай, — сказал он. — Ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваешь, чтобы чувствовать, что ты еще жив, — должно быть, так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет, а сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя. — Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный. — Какой ты милый. — Сука, — сказал он. — У суки щедрые руки. Это поэзия. Я сейчас полон поэзии. Скверны и поэзии. Скверны и поэзии. — Замолчи, Гарри. Что ты беснуешься? — Я ничего не оставлю, — сказал он. — Я ничего не хочу оставлять после себя. Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток, и он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело пропадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили дерево. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки. — Мемсаиб пошла стрелять, — сказал бой. — Бвана что-нибудь нужно? — Нет. 162 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду и, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала, или прочла, или просто услышала. Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченым. Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет, что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия. Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда. Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил, но теперь уже среди других людей, и денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие, бывал и в новых местах. Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебе. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей; про самых богатых; что ты не из их племени — ты соглядатай в их стане; ты покинешь его и напишешь о нем, и первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому себе, притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе, так что в конце концов он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни, и вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было, и он думал, что опять войдет в форму. Что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела. Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которой перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом. У нее точный прицел, у этой доброй суки, у которой щедрые руки, у этой ласковой опекунши и губительницы его таланта. Чушь. Он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами. Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения, загубил изменой самому себе и своим верованиям, загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь, но вместо того чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было: я сделал то-то и то-то; было: я мог бы сделать, И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста, — правда? — что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 163 когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, у которой когда-то были муж и дети, которая и до него имела любовников, но не находила в этом удовлетворения, а его любила нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность, — не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он не мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил. Все мы, верно, созданы для своих дел, подумал он. Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы, а когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества. Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы. Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он, и у нее хорошее тело. Она очень талантлива в любовных делах и понимает в них толк; хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо, она массу читала, любила верховую саду, охоту и, конечно, слишком много пила. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной, и после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Она любила читать по вечерам перед обедом и, читая, пила виски с содовой. К обеду она выходила пьяная, и бутылки вина, выпитой за столом, ей было достаточно, чтобы заснуть. Все это было до любовников. Когда у нее появились любовники, она стала меньше пить, потому что теперь сон приходил и без вина. Но с любовниками она скучала. Она была замужем за человеком, с которым никогда не было скучно, а с этими она очень скучала. Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и после этого она покончила с любовниками, а так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать. Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его, — все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни. Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт, — этого отрицать нельзя, — и что еще? Кто знает? Она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание. В этом он не сомневался. К тому же как женщина она была замечательна. Он ничего не имел против того, чтобы сойтись именно с ней; пожалуй, с ней даже скорее, чем с какой-нибудь другой женщиной, потому что она была богаче, потому что она была очень приятна и понимала толк в любви и никогда не устраивала сцен. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что две неделя назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоявших, высоко подняв головы, всматривавшихся вперед, — ноздри жадно вбирают воздух, уши 164 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО в струнку, малейший шорох — и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом. — Вот она, пришла. Он повернул голову на подушке, навстречу ей, и сказал: — Хэлло! — Я подстрелила барашка, — сказала она. — Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь? — Гораздо лучше. — Вот хорошо! Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше. Ты спал, когда я ушла. — Я хорошо выспался. Ты далеко забралась? — Нет. Только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила. — Ты замечательно стреляешь. — Я люблю охоту. И Африку полюбила. Правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой. Я полюбила Африку. — Я тоже ее люблю. — Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной? Обещаешь? — Хорошо. Не буду, — сказал он. — Я не помню, что я говорил. — Зачем мучить меня? Не надо. Я всего только пожилая женщина, которая любит тебя и хочет делать то, что хочется делать тебе. Меня уже столько мучили. Ты не станешь меня мучить, ведь нет? — Я бы с удовольствием помучил тебя в постели, — сказал он. — Вот это другое дело. Для этого мы и созданы. Завтра прилетит самолет. — Откуда ты знаешь? — Я в этом уверена. Он обязательно прилетит. Бои приготовили хворост и траву для дымовых костров. Я сегодня опять ходила туда посмотреть. Места для посадки достаточно, и мы разожжем костры по обеим сторонам. — Почему ты думаешь, что он прилетит завтра? — Я уверена, что прилетит. Пора уже. В городе твою ногу вылечат, и тогда мы помучаем друг друга по-настоящему. Не так, как ты мучил меня сегодня своими разговорами. — Давай выпьем? Солнце уже село. — Тебе, пожалуй, не стоит. — А я буду. — Тогда выпьем вместе. Мало, принеси нам виски с содовой, — крикнула она. — Ты бы надела высокие башмаки, а то москиты налетят, — сказал он ей. — Я сначала помоюсь. Пока надвигалась темнота, они пили, а перед тем как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом. — Эта дрянь каждый вечер здесь бегает, — сказал он. — Каждый вечер две недели подряд. СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 165 — Это та самая, что воет по ночам. Пусть ее, мне она не мешает. Хотя они очень противные. Теперь, когда он потягивал вместе с ней виски и боль исчезла, — только неудобно лежать, не меняя положения, а бои разводили костер и тень от него металась по стенкам палаток, — он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина, просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает. Это налетело вихрем; не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапной, одуряющей смрадом пустоты, и самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена. — Ты что, Гарри? — спросила она. — Ничего, — сказал он. — Ты бы пересела. Так чтобы ветер был с твоей стороны. — Мало сделал тебе перевязку? — Да. Я наложил примочку из борной. — Как ты себя чувствуешь? — Слабость немножко. — Я пойду помоюсь, — сказала она. — Это недолго. Мы поедим вместе, а потом надо внести койку. “Значит, — сказал он самому себе, — мы хорошо сделали, что прекратили ссоры”. Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной, а с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем. Он думал о том, как было тогда в Константинополе, — один, после ссоры в Париже перед самым отъездом. Он развратничал все те дни, а потом, когда опомнился и чувство одиночества не только не прошло, а стало еще острее, он написал ей, первой, той, которая бросила его, написал о том, что ему так и не удалось убить в себе это... О том, как ему показалось однажды, что она прошла мимо Regence, и у него все заныло внутри, и о том, что если какая-нибудь женщина чем-то напоминала ее, он шел за ней по бульвару, боясь убедиться, что это не она, боясь потерять то чувство, которое охватывало его при этом. О том, что все женщины, с которыми он спал, только сильнее заставляли его тосковать по ней. И что все то, что она сделала, не имеет никакого значения теперь, когда он убедился, что не может излечиться от этой любви. Он писал это письмо в клубе, совершенно трезвый, и отправил его в Нью-Йорк, попросив ее ответить в Париж по адресу редакции. Казалось, это вполне безопасно. И в тот же вечер, истосковавшись по ней до чувства щемящей пустоты внутри, он подцепил около Таксима первую попавшуюся и пошел с ней ужинать. Потом они поехали в дансинг, танцевала она плохо, и он отделался от нее, пригласив какую-то разнузданную армянскую девку, которая, танцуя, так терлась об него животом, что его бросало в дрожь. Он отбил ее со скандалом у английского артиллериста. Артиллерист вызвал его на улицу, и они схватились там в темноте, на булыжной мостовой. Он ударил его два раза по скуле со всего размаху, но артиллерист не упал, и тогда он понял, что драка предстоит серьезная. Артиллерист ударил его в грудь, потом чуть ниже глаза. Он опять нанес длинный боковой удар левой, артиллерист вцепился ему в пиджак и оторвал рукав, а он 166 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО съездил его два раза по уху и потом, оттолкнув от себя, нанес еще удар правой. Артиллерист повалился, стукнувшись головой о камни, а он поспешил удрать с женщиной, потому что к ним уже приближался военный патруль. Они взяли такси, поехали вдоль Босфора к Риммили-Хисса, сделали круг, потом обратно по свежему ночному воздуху и легли в постель, и она была такая же перезрелая, как и в платье, но шелковистая, как розовый лепесток, липкая, шелковистый живот, большие груди. Он ушел, когда она еще спала, и на рассвете вид у нее был здорово потасканный. Оттуда — в Пера-Палас с подбитым глазом, пиджак под мышкой, потому что одного рукава не хватало. В тот же вечер он выехал в Анатолию, а на другой день поезд шел полями, засеянными маком, из которого добывают опиум, и сейчас он вспомнил, какое странное самочувствие у него было к концу дня, и какими обманчивыми казались расстояния последнюю часть пути перед фронтом, где проводили наступление с участием только что прибывших греческих офицеров, которые были форменными болванами, и артиллерия стреляла по своим, и английский военный наблюдатель плакал, как ребенок. В тот же день он впервые увидел убитых солдат в белых балетных юбочках и в туфлях с загнутыми кверху носками и с помпонами. Турки валили стеной, и он видел, как солдаты в юбочках бросились бежать, а офицеры стреляли по ним, а потом сами побежали, и он тоже повернул следом за английским наблюдателем и бежал так быстро, что у него заломило в груди, во рту был такой привкус, точно там полно медяков, и они укрылись за скалами, а турки все валили и валили. Позднее ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее. Поэтому, вернувшись в Париж, он не мог ни говорить, ни слушать об этом. И когда он проходил мимо одного кафе в Париже, там сидел тот самый американский поэт, на столике перед ним гора блюдечек, и лицо у него глупое и рыхлое, как картофелина; поэт говорил о дадаистах с румыном, неким Тристаном Тцара, который носил монокль и всегда жаловался на головную боль; а потом снова в своей квартире, с женой, которую он теперь опять любил; ссоры как не бывало, безумия как не бывало, рад, что вернулся; почту из редакции присылают на дом. И вот однажды утром за завтраком ему подали ответ на письмо, которое он написал тогда, и, узнав почерк, он весь похолодел и хотел подсунуть письмо под другой конверт. Но жена спросила: “От кого это, милый?” — и тут пришел конец тому, что только начиналось у них. Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо? Он так и не написал об этом, потому что сначала ему никого не хотелось обидеть, а потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир; не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно — и событий и людей; нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет. — Как ты себя чувствуешь? — Она уже помылась и вышла из палатки. — Хорошо. СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 167 — Может быть, поешь теперь? — За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой. — Я хочу писать, — сказал он. — Тебе надо выпить бульону, подкрепиться. — Я сегодня умру, — сказал он. — Мне незачем подкрепляться. — Не надо мелодрам, Гарри, — сказала дна. — Ты что, потеряла обоняние? Нога у меня наполовину сгнила. Очень мне нужен этот бульон! Моло, принеси виски с содовой. — Выпей бульону, я прошу тебя, — мягко сказала она. — Хорошо. Бульон был очень горячий. Он долго студил его в чашке и потом выпил залпом, не поперхнувшись. — Ты замечательная женщина, — сказала она. — Не обращай на меня внимание. Она повернулась к нему лицом — такое знакомое, любимое лицо со страниц “Города и виллы”, только чуть-чуть подурневшее от пьянства, только чуть-чуть подурневшее от любовных утех; но “Город и вилла” никогда не показывал этой красивой груди, и этих добротных бедер, и легко ласкающих рук, и, глядя на ее такую знакомую, приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти. На этот раз вихря не было. Был легкий ветерок, дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком. — Немного погодя вели принести сетку, пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная. Дождя не будет. Значит, вот как умирают — в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам. Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытывать на себе. Наверно, испортит. Ведь портишь все. А может быть, и не испортит. — Ты не умеешь стенографировать? — Нет, не умею, — сказала она. — Ничего, не важно. Времени, правда, уже не хватит, хотя все это так втиснуто одно в другое, что кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь. На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей. На мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели, и ружейные стволы, без прикладов с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших мыловаренных котлов, и ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть, и он сказал нет. Ведь это были все еще его ружья, а новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса, и побелили его, и с террасы были видны тополя, а за ними озеро; но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним. 168 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО В Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель, и к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину — спуск начинался от Триберга, — под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начали удить рыбу. Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом, через горы; выходишь к лугу, и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы, он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый и с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля, и он повесился. Это можно застенографировать, но разве продиктуешь о площади Контрэскарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же, на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке; о стариках и старухах, вечно пьяных от вина и виноградных выжимок; о детях с мокрыми от холода носами, о запахе грязного пота, и нищеты, и пьянства, и о проститутках в “Ball Musette” (дешевое помещение для ганцев (франц.)), над которым они жили тогда. О консьержке, принимавшей у себя в каморке солдата республиканской гвардии, — его каска с султаном из конской гривы лежала на стуле. О жилице по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула “L’Auto” и прочла, что он занял третье место в гонках Париж — Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Муж той женщины, которая содержала “Ball Musette”, был шофером такси, и когда ему, Гарри, надо было поспеть рано утром на аэродром, шофер постучался к нему и разбудил его, и они выпили на дорогу по стакану белого вина у цинковой стойки в баре. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота. Люди, жившие вокруг площади, делились на две категории: на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством; спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после Коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты и в этом квартале, наискосок от “Boucherie Chevaline” (“Торговля кониной” (франц.).), в винной лавочке, он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого, — развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, на улицу Кардинала Лемуана, а по другую сторону — узкий, тесный мирок улицы Муфтар. Улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 169 шинами, с высокими, узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была двухкомнатная, и он снимал еще одну комнату в верхнем этаже этой гостиницы; она стоила шестьдесят франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши, и трубы, и все холмы Парижа. Из окон квартиры была видна лавочка угольщика. Угольщик торговал и вином, плохим вином. Позолоченная лошадиная голова над входом в “Boucherie Chevaline”, ее открытая витрина с золотисто-желто-красными тушами и выкрашенная в зеленый цвет винная лавочка, где они брали вино; хорошее вино и дешевое. Дальше шли оштукатуренные стены и окна соседей. Тех самых соседей, которые по вечерам, когда какой-нибудь пьяница валялся на улице и стонал, вздыхал, сбитый с ног типично французской ivresse (опьянение (франц.)), — хотя принято уверять, что ничего подобного не существует, — открывали окна, и до тебя доносились их голоса: — Где полицейский? Когда не надо, так этот прохвост всегда на месте. Поди спит с какой-нибудь консьержкой. Разыщите ажана. — Наконец кто-нибудь выплескивает ведро воды из окна, и стоны затихают. — Что это? Вода? Правильно! Лучше и не придумаешь. — И окна захлопываются. Мари, его приходящая прислуга, недовольна восьмичасовым рабочим днем: — Если муж работает до шести, он хоть и успевает выпить по дороге домой, но самую малость, и зря денег не тратит. А если он на работе только до пяти часов, значит, каждый вечер пьян вдребезги, и денег в глаза не видишь. Кто страдает от сокращения рабочего дня? Мы, жены. — Хочешь еще бульону? — спрашивала его женщина. — Нет, большое спасибо. Бульон замечательный. — Выпей еще немножко. — Дай мне лучше виски с содовой. — Тебе это вредно. — Да. Мне это вредно. Слова и музыка Коула Портера. Когда лицо твое от страсти бледно. — Ты же знаешь, я люблю, когда ты пьешь. — Ну еще бы. Только мне это вредно. Когда она уйдет, подумал он, выпью столько, сколько захочется. Не сколько захочется, а сколько там есть. Ох, как он устал. Надо немножко вздремнуть. Он лежал тихо, и смерти рядом не было. Она, должно быть, свернула на другую улицу. Разъезжает, по двое, на велосипедах, неслышно скользит по мостовой. Да, он никогда не писал о Париже. Во всяком случае, о том Париже, который был дорог ему. Ну, а остальное, что так и осталось ненаписанным? А ранчо и серебристая седина шалфея, быстрая прозрачная вода в оросительных каналах и тяжелая зелень люцерны? Тропинка уходила в горы, и коровы за лето становились пугливые, как олени. Мычание и мерный топот, и медленно двигающаяся масса поднимает пыль, когда осенью гонишь их с гор домой. А по вечерам за горами ясная четкость горного пика, и едешь вниз по тропинке при свете луны, заливающей всю долину. Сейчас ему вспомнилось, как он возвращался лесом, держась за хвост лошади в темноте, когда ни зги не было видно, вспомнились и все рассказы, которые он собирался написать о тех местах. Рассказ о дурачке-работнике, еще подростке, которого оставили тогда на ранчо с наказом никому не давать сена, и о том, как этот старый болван из Форкса, который бил дурачка, когда тот работал у них, зашел на ранчо за 170 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО фуражом. Мальчик не дал, и старик пригрозил, что опять изобьет его. Мальчик взял на кухне ружье и застрелил старика у сарая, и когда они вернулись через неделю на ранчо, труп лежал замерзший в загоне для скота, и собаки успели изгрызть его. А то, что осталось, ты завернул в одеяло, уложил в санки и заставил мальчика помогать тебе, и вдвоем, оба на лыжах, вы волокли их по дороге, и так шестьдесят миль до города, где надо было сдать мальчика властям. А ему и в голову не приходило, что его арестуют. Думал, что исполнил свой долг, и ты его друг, и он получит награду за свой поступок. Он помогал везти старика, — пусть все знают, какой этот старик был нехороший, и как он хотел украсть чужое сено, и когда шериф надел на мальчика наручники, тот не поверил своим глазам. Потом заплакал. Вот и этот рассказ ты всегда приберегал на будущее. У него хватило бы материала, по крайней мере, на двадцать рассказов о тех местах, а он не написал ни одного. Почему? — Поди расскажи им почему, — сказал он. — Что “почему”, милый? — Ничего. Она стала меньше пить, с тех пор как завладела им. Но если даже он выживет, он никогда не напишет о ней, теперь ему это ясно. И о других тоже. Богатые — скучный народ, все они слишком много пьют или слишком много играют в триктрак. Скучные и все на один лад. Он вспомнил беднягу Скотта Фицджеральда, и его восторженное благоговение перед ними, и как он написал однажды рассказ, который начинался так: “Богатые не похожи на нас с вами”. И кто-то сказал Фицджеральду: “Правильно, у них денег больше”. Но Фицджеральд не понял шутки. Он считал их особой расой, окутанной дымкой таинственности, и когда он убедился, что они совсем не такие, это согнуло его не меньше, чем что-либо другое. Он презирал тех, кто сгибается под ударами жизни. Ему-то можно было не увлекаться такими вещами, потому что он видел все это насквозь. Он справится с чем угодно, думал он, потому что его ничто не может сломить, не надо только ничему придавать слишком большого значения. Хорошо. Вот теперь он не придает никакого значения смерти. Единственное, чего он всегда боялся, — это боли. Он мужчина, он мог выносить боль, если только она не слишком затягивалась и не изматывала его, но в этот раз страдания были просто нестерпимы, и когда он уже чувствовал, что начинает сдавать, боль утихла. Он вспомнил давний случай: артиллерийского офицера Уильямсона ранило ручной гранатой, брошенной с немецкого сторожевого поста в ту минуту, когда Уильямсон перебирался ночью через проволочные заграждения, и он кричал, умоляя, чтобы его пристрелили. Уильямсон был толстяк, очень храбрый и хороший офицер, хотя невероятный позер. Но тогда, ночью, он, раненный, попал в луч прожектора, и внутренности у него вывалились наружу и повисли на проволоке, так что тем, кто снимал его оттуда еще живым, пришлось обрезать их ножом. Пристрели меня, Гарри, ради всего святого, пристрели меня. Как-то раз зашел разговор на тему, что господь бог ниспосылает человеку только то, что он может перенести, и кто-то защищал такую теорию, будто бы в известный момент боль убивает человека. Но он на всю жизнь запомнил, как было с Уильямсоном в ту ночь. Боль не могла убить Уильямсона, и он отдал ему все свои таблетки морфия, которые приберегал для себя, и даже они подействовали не сразу. СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 171 Но то, что происходит с ним сейчас, совсем не страшно; и если хуже не станет, то беспокоиться не о чем. Правда, он предпочел бы находиться в более приятной компании. Он подумал немного о людях, которых ему хотелось бы видеть сейчас около себя. Нет, думал он, когда делаешь все слишком долго и слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется. Люди ушли. Прием кончен, и теперь ты наедине с хозяйкой. “Мне так же надоело умирать, как надоело все остальное”, — подумал он. — Надоело, — сказал он вслух. — Что надоело, милый? — Все, что делаешь слишком долго. Он взглянул на нее. Она сидела между ним и костром, откинувшись на спинку стула, и пламя отсвечивало на ее лице, покрытом милыми морщинками, и он увидел, что ее клонит ко сну. Гиена заскулила, подобравшись почти вплотную к светлому кругу, падавшему от костра. — Я писал, — сказал он. — Но это очень утомительно. — Как ты думаешь, удастся тебе заснуть? — Конечно, засну. Почему ты сама не ложишься? — Мне хочется посидеть с тобой. — Ты ничего такого не чувствуешь? — спросил он. — Нет. Просто хочется спать. — А я чувствую, — сказал он. Он только что услышал, как смерть опять прошла мимо койки. — Знаешь, единственно, чего я еще не утратил, — это любопытства, — сказал он ей. — Ты ничего не утратил. Ты самый полноценный человек из всех, кого я только знала. — Господи боже, — сказал он. — Как мало дано понимать женщине. Что это? Ваша так называемая интуиция? Потому что в эту минуту смерть подошла и положила голову в ногах койки и до него донеслось ее дыхание. — Не верь, что она такая, как ее изображают, с косой и черепом, — сказал он. — С не меньшим успехом это могут быть и двое полисменов на велосипедах, и птица. Или же у нее широкий приплюснутый нос, как у гиены. Смерть пододвинулась, но теперь это было что-то бесформенное. Она просто занимала какое-то место в пространстве. — Скажи, чтоб она ушла. Она не ушла, а придвинулась ближе. — Ну и несет же от тебя, — сказал он. — Вонючая дрянь. Она придвинулась еще ближе, и теперь он уже не мог говорить с ней, и, увидев, что он не может говорить, она подобралась еще ближе, и тогда он попробовал прогнать ее молча, но она ползла все выше и выше, придавливая ему грудь, и когда она легла у него на груди, не давая ему ни двигаться, ни говорить, он услышал, как женщина сказала: — Бвана уснул. Поднимите койку, только осторожнее, и внесите его в палатку. 172 СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО Он не мог сказать, чтобы ее прогнали, и она навалилась на него всей своей тушей, не давая дышать. И вдруг, когда койку подняли, все прошло, и тяжесть, давившая ему грудь, исчезла. Было утро, оно наступило давным-давно, и он услышал гул самолета. Самолет сначала показался в небе точкой, потом сделал широкий круг, и бои выбежали ему навстречу и, полив кучи хвороста керосином, подожгли их и навалили сверху травы, так что по обоим концам ровной площадки получилось два больших костра, и утренний ветерок гнал дым к лагерю, и самолет сделал еще два круга, на этот раз ближе к земле, потом скользнул вниз, выровнялся и мягко сел на площадку, и вот к палаткам вдет его старый приятель Комтон — в мешковатых брюках, в твидовом пиджаке и коричневой фетровой шляпе. — Что с вами, дружище? — спросил Комтон. — Да вот нога, — сказал он. — Вы позавтракаете? — Спасибо. Чаю выпью. Я на Мотыльке. Мемсаиб не удастся захватить. Места только на одного. Ваш грузовик уже в пути. Эллен отвела Комтона в сторону и заговорила с ним. Комтон вернулся еще более оживленный. — Сейчас мы вас устроим, — сказал он. — За мемсаиб я вернусь. Ну, давайте поспешим. Может, еще придется сделать посадку в Аруше, за горючим. — А как же чай? — Да мне, собственно, не хочется. Бои подняли койку, обогнули с ней зеленые палатки, понесли дальше, мимо скалы, и по равнине мимо костров, которые полыхали на ветру без дыма, потому что от травы уже ничего не осталось, — и подошли к маленькому самолету. Внести его туда было нелегко, но когда наконец внесли, он откинулся на спинку кожаного кресла, а ногу ему подняли и положили на переднее кресло — место Комтона. Комтон запустил мотор и вошел в кабину. Он помахал Эллен и боям, и, как только треск мотора перешел в привычный уху рев, Комтон сделал разворот, обходя кабаньи ямы, и, подскакивая на ходу, машина понеслась по площадке между кострами и с последним толчком поднялась в воздух, и он увидел, как те внизу машут им вслед, и палатки возле холма теперь почти вровень с землей, долина открывается все шире и шире, кучки деревьев и кустарника тоже почти вровень с землей, а звериные тропы тянутся ниточками к пересохшим водоемам, и вон там еще одни водоем, которого он никогда не видел. Зебры — сверху видны только их округлые спины, и антилопы-гну — головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы, и кажется, будто они лезут в гору. Вот шарахнулись в разные стороны, когда тень настигла их, сейчас совсем крохотные, и не заметно, что скачут галопом, и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, а прямо перед глазами твидовая спина и фетровая шляпа Комти. Потом они пролетели над предгорьем, где антилопы-гну карабкались вверх по тропам, потом над линией гор с внезапно поднимающейся откуда-то из глубин зеленью лесов и с откосами, покрытыми сплошной бамбуковой зарослью, а потом опять дремучие леса, будто изваянные вместе с горными пиками и ущельями, и наконец перевал, и горы спадают, и потом опять равнина, залитая зноем, лиловато-бурая, машину подбрасывает на волнах раскаленного воздуха, и Комти оборачивается посмотреть, как он переносит полет. А впереди опять темнеют горы. СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО 173 И тогда, вместо того чтобы взять курс на Арушу, они свернули налево, вероятно, Комти рассчитал, что горючего хватит, и, взглянув вниз, он увидел в воздухе над самой землей розовое облако, разлетающееся хлопьями, точно первый снег в метель, который налетает неизвестно откуда, и он догадался, что это саранча повалила с юга. Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, и потом вдруг стало темно, — попали в грозовую тучу, ливень сплошной стеной, будто летишь сквозь водопад, а когда они выбрались из нее, Комти повернул голову, улыбнулся, протянул руку, и там, впереди, он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь. Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и перешла на какието странные, почти человеческие, похожие на плач вопли. Женщина услышала их и беспокойно зашевелилась у себя на койке. Она не проснулась. Ей снился дом на Лонг-Айленде и будто это вечер накануне первого выезда в свет ее дочери. Почему-то и отец тут же, и он очень резок с ней. Потом гиена завыла так громко, что она проснулась и в первую минуту не могла понять, где она, и ей стало страшно. Она взяла карманный фонарик и осветила им вторую койку, которую внесли, когда Гарри уснул. Она увидела, что он лежит там, покрытый сеткой от москитов, а ногу почему-то высунул наружу, и она свисает с койки. Повязка сползла, и она боялась взглянуть туда. — Моло, — позвала она, — Моло, Моло! — Потом крикнула: — Гарри, Гарри! — Потом громче: — Гарри! Ради бога, Гарри! Ответа не было, и она не слышала его дыхания. За стенами палатки гиена издавала те же странные звуки, от которых она проснулась. Но сердце у нее так стучало, что она не слышала их. Изд.: Избранное/сост. Б.Грибанова. — М.:Просвещение, 1984. — 304 с., ил. OCR, Spellcheck: Шур Алексей, shuralex@online.ru Пятьдесят тысяч — Как дела, Джек? — спросил я. — Ты видел этого Уолкотта? — сказал он. — Только в гимнастическом зале. — Ну, — сказал Джек, — надо, чтобы мне повезло, а то его так не возьмешь. — Он до тебя и не дотронется, Джек, — сказал Солджер. — Хорошо, кабы так. — Он в тебя и горстью дроби не попадет. — Дробью пускай, — сказал Джек. — Дроби я не боюсь. — А в него легко попасть, — сказал я. — Да, — сказал Джек, — он долго не продержится на ринге. Не то что мы с тобой, Джерри. Но сейчас хорош. — Ты его обработаешь одной левой. — Пожалуй, — сказал Джек. — Может быть, и так. — Разделай его, как ты Ричи Льюиса разделал. — Ричи Льюис, — сказал Джек, — этот заморыш! Мы все трое, Джек Бреннан, Солджер Бартлет и я, сидели у Хэндли. За соседним столиком сидели две шлюхи. Они уже порядком накачались. — Заморыш, — говорит одна. — Ишь ты! Ты как сказал, дубина ирландская? Заморыш? — Да, — говорит Джек. — Именно. — Заморыш, — говорит она опять. — Уж эти ирландцы! Чуть что, так сейчас ругаться. А сам-то! — Не связывайся, Джек. Пойдем. — Заморыш, — говорит она. — А ты, герой, хоть раз в жизни угостил когонибудь? Жена тебе небось каждое утро карманы наглухо зашивает. А туда же, заморыш! Тебе от Ричи Льюиса тоже попало! — Да, — сказал Джек. — А вы как — ни с кого денег не берете? Мы вышли. Джек всегда был такой. За словом в карман не лазил. Джек проходил тренировку на ферме у Дании Хогана в Джерси. Место там красивое, но Джеку не нравилось. Он скучал без жены и детей и все время ворчал и злился. Меня он любил, и мы с ним ладили. Хогана он тоже любил, но Солджер Бартлет скоро начал его раздражать. Шутник может здорово надоесть, особенно если шутки его начинают повторяться. А Солджер все время подшучивал над Джеком, все время отпускал шуточки. Не очень забавные и не очень удачные, и Джека это злило. Бывало, например, так: Джек кончал работать с тяжестями и с мешком и надевал перчатки. — Поработаешь со мной? — спрашивал он Солджера. — Ладно. Ну, как с тобой поработать? — говорил Солджер. — Вздуть тебя, как Уолкотт тебя вздует? Посадить тебя разок-другой в нокдаун? 175 176 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Валяй, — говорил Джек. Но это ему не нравилось. Раз утром на прогулке мы зашли довольно далеко и теперь возвращались. Мы делали пробежку три минуты; потом ходьба — одну минуту. Потом опять пробежка. Джека нельзя было назвать спринтером. На ринге он двигался быстро, когда бывало нужно, но бегать не умел. Во время ходьбы Солджер только и делал, что высмеивал Джека. Мы поднялись на холм, где стояла ферма. — Вот что, Солджер, — сказал Джек, — уезжай-ка ты в город. — Что это значит? — Уезжай в город, да там и оставайся. — В чем дело? — Меня тошнит от твоей болтовни. — Ах, так? — сказал Солджер. — Да уж так, — сказал Джек. — Тебя еще хуже будет тошнить, когда Уолкотт с тобой разделается. — Может быть, — сказал Джек, — но пока что меня тошнит от тебя. Солджер уехал в то же утро с первым поездом. Я провожал его на станцию. Он был очень сердит. — Я ведь только шутил, — сказал он. Мы стояли на платформе, дожидаясь поезда. — С чего он на меня взъелся, Джерри? — Он нервничает, оттого и злится, — сказал я. — А так он добрый малый, Солджер. — Вот так добрый! Когда это он был добрым? — Ну, прощай, Солджер, — сказал я. Поезд подошел. Солджер поднялся на ступеньки, держа чемодан в руках. — Прощай, Джерри, — сказал он. — Будешь в городе до состязания? — Навряд ли. — Значит, увидимся на матче. Он вошел в вагон, кондуктор вскочил на подножку, и поезд тронулся. Я поехал домой в двуколке. Джек сидел на крыльце и писал жене письмо. Принесли почту; я взял газету, сел на другой стороне крыльца и стал читать. Хоган выглянул из дверей и подошел ко мне. — Что у него вышло с Солджером? — Ничего не вышло. Просто он сказал Солджеру, чтоб тот уезжал в город. — Я так и знал, что этим кончится, — сказал Хоган. — Он не любит Солджера. — Да. Он мало кого любит. — Сухарь, — сказал Хоган. — Со мной он всегда был хорош. — Со мной тоже, — сказал Хоган. — Я от него плохого не видел. А все-таки он сухарь. Хоган ушел в дом, а я остался на крыльце; сидел и читал газеты. Осень только начиналась, а в Джерси, в горах, очень красиво, и я дочитал газеты и стал смотреть по сторонам и на дорогу внизу вдоль леса, по которой, поднимая пыль, бежали машины. Погода была хорошая и места очень красивые. Хоган вышел на порог, и я спросил: — Хоган, а что, есть тут какая-нибудь дичь? — Нет, — сказал Хоган. — Только воробьи. — Читал газету? — спросил я. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 177 — А что там? — Санди вчера трех привел к финишу. — Это мне еще вчера вечером сказали по телефону. — Следишь за ними? — спросил я. — Да, держу связь, — сказал он. — А Джек? — спросил я. — Он еще играет на скачках? — Он? — сказал Хоган. — Разве это на него похоже? Как раз в эту минуту Джек вышел из-за угла, держа в руках письмо. На нем был свитер, старые штаны и башмаки для бокса. — Есть у тебя марка, Хоган? — спросил он. — Давай письмо, — сказал Хоган. — Я отправлю. — Джек, — сказал я, — ведь ты раньше играл на скачках? — Случалось. — Я знаю, что ты играл. Помнится, я тебя видел в Шипсхэде. — А теперь почему бросил? — спросил Хоган. — Много проиграл. Джек сел на ступеньку рядом со мной и прислонился к столбу. Он жмурился, сидя на солнышке. — Дать тебе стул? — спросил Хоган. — Нет, — сказал Джек. — Так хорошо. — Хороший день, — сказал я. — Славно сейчас в деревне. — А по мне лучше в городе с женой. — Ну что ж, осталась всего неделя. — Да, — сказал Джек. — Это верно. Мы сидели на крыльце. Хоган ушел к себе в контору. — Как ты считаешь, я в форме? — спросил меня Джек. — Трудно сказать. У тебя, во всяком случае, еще есть неделя, чтобы войти в форму. — Не виляй, пожалуйста. — Ну, хорошо, — сказал я. — Ты не в порядке. — Сплю плохо, — сказал Джек. — Это пройдет. День-два, и все наладится. — Нет, — сказал Джек. — У меня бессонница. — Тебя что-нибудь тревожит? — По жене скучаю. — Пускай она сюда приедет. — Нет, для этого я слишком стар. — Мы хорошенько погуляем вечером, перед тем как тебе ложиться, ты устанешь и заснешь. — Устану! — сказал Джек. — Я и так все время чувствую себя усталым. Он всю неделю был такой. Не спал по ночам, а утром чувствовал себя так — ну, знаете, когда даже руку сжать в кулак не можешь. — Выдохся, — сказал Хоган. — Как вино без пробки. Никуда не годится. — Я никогда не видал этого Уолкотта, — сказал я. — Он Джека убьет, — сказал Хоган. — Пополам перервет. — Ну что ж, — сказал я. — Надо же когда-нибудь и проиграть. — Да, но не так, — сказал Хоган. — Люди подумают, что он совсем не тренирован. Это портит нашу репутацию. 178 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Ты слышал, что о нем говорили репортеры? — Еще бы не слышать! Они сказали, что он ни к черту не годен. Сказали, что его нельзя выпускать на ринг. — Ну, — сказал я, — они ведь всегда врут. — Так-то так. Но на этот раз не соврали. — Э, откуда им знать, в порядке человек или не в порядке. — Ну, — сказал Хоган, — не такие уж они дураки. — Только и сумели, что разругать Вилларда в Толедо. Этот Ларднер, сейчасто он умный, а спроси его, что он говорил о Вилларде в Толедо. — Да он к нам и не приезжал, — сказал Хоган. — Он пишет только о больших состязаниях. — А, плевать мне на них, кто бы они ни были, — сказал я. — Что они понимают? Писать они, может, и умеют, но что они понимают в боксе? — А сам-то ты считаешь, что Джек в форме? — спросил Хоган. — Нет. Он сошел. Теперь одного не хватает, чтоб Корбетт изругал его как следует, — ну, и тогда все будет кончено. — Корбетт его изругает, будь покоен, — сказал Хоган. — Да. Он его изругает. В эту ночь Джек опять не спал. Следующий день был последний перед боем. После завтрака мы опять сидели на крыльце. — О чем ты думаешь, Джек, когда не спишь? — спросил я. — Да так, беспокоюсь, — сказал Джек. — Беспокоюсь насчет своего дома в Бронксе, беспокоюсь насчет своей усадьбы во Флориде. О детях беспокоюсь и о жене. А то вспоминаю матчи. Потом у меня есть кой-какие акции — вот и о них беспокоюсь. О чем только не думаешь, когда не спится! — Ну, — сказал я, — завтра вечером все будет кончено. — Да, — сказал Джек. — Это очень утешительно, не правда ли? Раз, два — и все уладится, так, по-твоему? Весь день он злился. Мы не работали. Джек только поупражнялся немного, чтобы размяться. Он провел несколько раундов боя с тенью. И даже тут он производил неважное впечатление. Потом немного попрыгал со скакалкой. Он никак не мог вспотеть. — Лучше бы уж совсем не работал, — сказал Хоган. Мы стояли рядом и смотрели, как он прыгает со скакалкой. — Он что, совсем больше не потеет? — Да, — вот не может. — Ты думаешь, что он хоть сколько-нибудь в форме? Ведь он, кажется, всегда легко сгонял вес? — Нисколько он не в форме. Он сходит, вот что. — Надо, чтобы он вспотел, — сказал Хоган. Джек приблизился, прыгая через скакалку. Он прыгал прямо перед нами, то вперед, то назад, на каждом третьем прыжке скрещивая руки. — Ну, — сказал он, — вы что каркаете, вороны? — Я считаю, что тебе больше не надо работать, — сказал Хоган. — Выдохнешься. — Ах, как страшно! — сказал Джек и запрыгал прочь от нас, крепко ударяя скакалкой об пол. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 179 Под вечер на ферму приехал Джон Коллинз. Джек был у себя в комнате. Джон приехал из города в машине. С ним было двое приятелей. Машина остановилась, и все они вышли. — Где Джек? — спросил меня Джон. — У себя. Лежит. — Лежит? — Да, — сказал я. — Ну, как он? Я посмотрел на тех двух, что приехали с Джоном. — Ничего, это его друзья, — сказал Джон. — Плохо, — сказал я. — Что с ним? — У него бессонница. — Черт, — сказал Джон. — У этого ирландца всегда бессонница. — Он не в порядке, — сказал я. — Черт, — сказал Джон. — Всегда он не в порядке. Десять лет я с ним работаю, и никогда еще он не бывал в порядке. Те, что с ним приехали, засмеялись. — Познакомьтесь, — сказал Джон. — Мистер Морган и мистер Стейнфелт. А это мистер Дойл. Тренер Джека. — Очень приятно, — сказал я. — Пойдем к Джеку, — сказал тот, кого звали Морганом. — Да, поглядим-ка на него, — сказал Стейнфелт. Мы все пошли наверх. — Где Хоган? — спросил Джон. — В сарае, со своими клиентами. — Много у него сейчас народу? — спросил Джон. — Только двое. — Тихо у вас, а? — спросил Морган. — Да, у нас тихо, — сказал я. Мы остановились перед дверью в комнату Джека. Джон постучал. Ответа не было. — Спит, наверно, — сказал я. — С какой стати ему спать среди бела дня? Джон нажал ручку, и мы вошли. Джек лежал на постели и спал. Он лежал ничком, уткнувшись лицом в подушку. Он обнимал подушку обеими руками. — Эй, Джек! — сказал Джон. Голова Джека шевельнулась на подушке. — Джек! — сказал Джон, наклоняясь над ним. Джек еще глубже зарылся в подушку. Джон тронул его за плечо. Джек приподнялся, сел и посмотрел на нас. Он был небрит, на нем был старый свитер. — Черт, — сказал Джек. — Что вы мне спать не даете? — Не сердитесь, — сказал Джон. — Я не знал, что вы спите. — Ну конечно, — сказал Джек. — Уж, конечно, вы не знали. — Вы ведь знакомы с Морганом и Стейнфелтом, — сказал Джон. — Очень рад, — сказал Джек. — Как себя чувствуете, Джек? — спросил Морган. — Великолепно, — сказал Джек. — Как мне еще себя чувствовать? 180 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Вид у вас хороший, — сказал Стейнфелт. — Куда уж лучше, — сказал Джек. — Послушайте. — Он повернулся к Джону. — Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какого же черта вас нет на месте, когда сюда являются репортеры? Мы с Джерри, что ли, должны с ними разговаривать? — У меня Лью работал в Филадельфии, — сказал Джон. — А мне какое дело! — сказал Джек. — Вы мой менеджер. Вы на мне берете хороший куш. Какое мне дело, что там у вас в Филадельфии? Вы там не для меня денежки загребали. Какого черта вас нет, когда вы мне нужны? — Хоган был здесь. — Хоган, — сказал Джек. — Хоган такой же бессловесный, как и я. — Кажется, Солджер Бартлет тоже с вами работал? — спросил Стейнфелт, чтобы переменить разговор. — Да, он был здесь, — сказал Джек. — Он-то был, как же. — Джерри, — сказал Джон, — будьте любезны, поищите Хогана и скажите ему, что мы хотим его видеть, так, через полчасика. — Ладно, — сказал я. — Почему вы его отсылаете? — сказал Джек. — Не уходи, Джерри. Морган и Стейнфелт переглянулись. — Не волнуйтесь, Джек, — сказал Джон. — Ну, я пойду поищу Хогана, — сказал я. — Иди, если сам хочешь, — сказал Джек. — Но не потому, что они тебя отсылают. — Пойду поищу Хогана, — сказал я. Хоган был в гимнастическом зале, в сарае. С ним были оба его клиента, в перчатках. Каждый из них так боялся попасть под удар противника, что сам уж не решался ударить. — Ну, довольно, — сказал Хоган, увидев меня. — Прекратите это побоище. Вы, джентльмены, примите душ, а Брюс вас отмассирует. Они пролезли под канатом, и Хоган подошел ко мне. — Джон Коллинз приехал, — сказал я, — повидать Джека. И с ним двое приятелей. — Я видел, как они подъехали в машине. — Кто эти, с Джоном? — То, что называется ловкачи, — сказал Хоган. — Ты их не знаешь? — Нет, — сказал я. — Хэппи Стейнфелт и Хью Морган. Держат пул18. — Я ведь уезжал. — Правда, — сказал Хоган. — Этот Хэппи Стейнфелт продувная бестия. — Я о нем слышал. — Хитрец, — сказал Хоган. — А вообще оба они жулики. — Так, — сказал я. — Они хотят, чтобы мы к ним зашли через полчаса. — То есть, иначе говоря, чтобы мы к ним не заходили раньше, чем через полчаса? — Вот именно. — Ну, пойдем в контору, — сказал Хоган. — К черту этих жуликов. 18 игорное предприятие по типу тотализатора ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 181 Минут через тридцать мы с Хоганом пошли наверх. Мы постучали в дверь. Слышно было, что в комнате разговаривают. — Подождите минутку, — сказал кто-то. — А ну вас к дьяволу, — сказал Хоган. — Если я вам нужен, я буду в конторе. Мы услышали, как повернулся ключ в замке. Стейнфелт открыл дверь. — Заходите, Хоган, — сказал он. — Сейчас мы выпьем по рюмочке. — Ладно, — сказал Хоган. — Это дело. Мы вошли. Джек сидел на кровати. Джон и Моргай сидели на стульях. Стейнфелт стоял. — Что у вас тут за тайны? — сказал Хоган. — Хэлло, Данни, — сказал Джон. — Хэлло, Данни, — сказал Морган, и они пожали друг другу руки. Джек ничего не сказал. Он молча сидел на кровати. Он не с ними. Он сам по себе. На нем была старая синяя фуфайка, старые штаны и башмаки для бокса. Ему бы не мешало побриться. Стейнфелт и Морган были шикарно одеты. Джон тоже. Джек сидел на кровати, и вид у него был очень ирландский и мрачный. Стейнфелт достал бутылку, а Хоган принес стаканы, и все выпили. Мы с Джеком выпили по стаканчику, а прочие на этом не остановились и выпили по два и по три. — Приберегите на дорогу, — сказал Хоган. — Не беспокойтесь. У нас еще есть, — сказал Морган. После второго стакана Джек больше уже не пил. Он встал и смотрел на них. Морган сел на его место на кровати. — Выпейте, Джек, — сказал Джон и протянул ему стакан и бутылку. — Нет, — сказал Джек. — Я никогда не любил поминок. Все засмеялись. Джек не смеялся. Все были уже под мухой, когда уезжали. Джек стоял на крыльце, пока они садились в машину. Они помахали ему на прощание. — До свидания, — сказал Джек. Потом мы ужинали. За все время ужина Джек не сказал ни слова, кроме “передайте мне это”, “передайте мне то”. Оба клиента Хогана ели вместе с нами. Это были славные ребята. Поужинав, мы вышли на крыльцо. Теперь рано темнело. — Погуляем, Джерри? — спросил Джек. — Давай, — сказал я. Мы надели пальто и вышли. До шоссе был порядочный кусок, а потом мы еще мили полторы прошли по шоссе. Нас обгоняли машины, и мы то и дело сходили с дороги, чтобы их пропустить. Джек молчал. Когда мы залезли в кусты, чтобы пропустить большую машину, Джек сказал: — Ну ее к шутам, эту прогулку. Пойдем домой. Мы пошли тропинкой, которая вела сперва через холм, а потом по полям, прямо к ферме. С холма видны были огни в доме. Мы обогнули дом и подошли к крыльцу; в дверях стоял Хоган. — Хорошо погуляли? — спросил Хоган. — Замечательно, — сказал Джек. — Послушай, Хоган. Есть у тебя виски? — Есть, — сказал Хоган. — А что? — Пришли-ка нам наверх. Я сегодня намерен спать. 182 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Ну, как знаешь, — сказал Хоган. — Пойдем ко мне, Джерри, — сказал Джек. Наверху Джек сел на кровать и сжал голову руками. — Веселая жизнь, — сказал он. Хоган принес кварту виски и два стакана. — Принести вам имбирного пива? — спросил Хоган. — Зачем? Чтоб меня потом тошнило? — Я ведь только спросил, — сказал Хоган. — Выпьешь с нами? — спросил Джек. — Нет, спасибо, — сказал Хоган и вышел. — А ты, Джерри? — Стаканчик выпью, — сказал я. Джек налил два стакана. — Ну-с, — сказал он, — теперь займемся. — Подлей воды, — сказал я. — Да, — сказал Джек. — Пожалуй, так будет лучше. Мы выпили молча. Джек хотел налить мне еще. — Нет, — сказал я, — с меня довольно. — Как хочешь, — сказал Джек. Он налил себе порядочную порцию и добавил воды. Он немного повеселел. — Ну и компания, эти, что приезжали, — сказал он. — Наверняка хотят бить. Так, чтоб без риска. Потом, немного погодя, он добавил: — Что ж, они правы. Какой смысл рисковать? Выпей, Джерри, — сказал он. — Ну, выпей со мной. — Мне это не нужно, Джек, — сказал я. — Мне и так хорошо. — Только один, — сказал Джек. Его уже немного развезло. — Ладно, — сказал я. Джек налил немного в мой стакан, а в свой побольше. — Люблю выпить, — сказал он. — Если б не бокс, я бы, наверно, здорово пил. — Наверно. — Знаешь, — сказал он, — я много упустил из-за бокса. — Зато у тебя куча денег. — Да, — сказал Джек. — Для этого я и стараюсь. А все-таки я много упустил. — Ну что, например? — Да вот, например, с женой. И дома мало приходится бывать. И для моих девочек это плохо. Спрашивает их какая-нибудь подружка — из таких, знаешь, светских барышень: “Кто твой отец?” — “Мой отец — Джек Бреннан”. Это плохо для них. — Э, — сказал я, — ничего это не значит. Были б только у них деньги. — Да, — сказал Джек, — денег я для них припас. Он налил себе еще. Бутылка была уже почти пуста. — Подлей воды, — сказал я. Джек добавил воды. — Ты не знаешь, — сказал он, — как я скучаю по жене. — Знаю, — сказал я. — Нет, ты не знаешь. Ты даже представить себе не можешь, каково это. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 183 — В деревне все-таки лучше, чем в городе. — А мне, — сказал Джек, — совершенно все равно. Ты даже представить себе не можешь, как я по ней скучаю. — Выпей еще. — Я пьян? Заговариваюсь? — Есть немножко. — Ты даже понять не можешь, каково мне. Никто не может понять. — Кроме жены, — сказал я. — Она знает, — сказал Джек. — Она-то знает. Уж она знает, будь покоен. Она знает. — Подлей воды, — сказали. — Джерри, — сказал Джек, — ты даже понять не можешь, каково мне бывает. Он был пьян вдребезги. Он пристально смотрел на меня. Взгляд у него был какой-то слишком пристальный. — Сегодня ты будешь спать, — сказал я. — Слушай, Джерри, — сказал Джек. — Хочешь заработать? Поставь на Уолкотта. — Вот как? — Слушай, Джерри. — Джек отставил стакан. — Смотри. Я сейчас пьян. Знаешь, сколько я на него ставлю? Пятьдесят тысяч. — Это большие деньги. — Пятьдесят тысяч. Два против одного. Получу двадцать пять чистых. Поставь на него, Джерри. — Выгодное дело, — сказал я. — Все равно мне его не побить, — сказал Джек. — Тут нет никакого жульничества. Я ведь все равно не могу его побить. Почему же не заработать на этом? — Подлей воды, — сказал я. — После этого боя уйду с ринга, — сказал Джек. — Брошу все к чертям. Все равно он меня побьет. Почему же не заработать? — Ясно. — Целую неделю не спал, — сказал Джек. — Всю ночь лежу и мучаюсь. Не могу спать, Джерри. Ты даже понять не можешь, каково это, когда не спишь. — Плохо. — Не могу спать. Не могу, и кончено. Сколько ни тренируйся, а какой толк, если не можешь спать, верно? — Верно. — Ты даже понять не можешь, Джерри, каково это, когда не спишь. — Подлей воды, — сказал я. Часам к одиннадцати Джек был готов, и я уложил его в постель. Он засыпал стоя. Я помог ему раздеться и лечь. — Теперь ты будешь спать, Джек, — сказал я. — Да, — сказал Джек, — теперь я засну. — Спокойной ночи, Джек, — сказал я. — Спокойной ночи, Джерри, — сказал Джек. — Один у меня есть друг — это ты. — Да ну тебя, — сказал я. 184 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Один только друг, — сказал Джек. — Один-единственный. — Спи, — сказал я. — Сплю, — сказал Джек. Внизу, в конторе, Хоган сидел за столом и читал газеты. Он посмотрел на меня. — Ну, уложил своего дружка? — спросил он. — Готов. — Лучше так, чем совсем не спать, — сказал он. — Да. — А вот поди объясни это газетным писакам. — Ну, я тоже пошел спать, — сказал я. — Спокойной ночи, — сказал Хоган. Утром, часов в восемь, я сошел вниз и позавтракал. Хоган работал со своими клиентами в сарае. Я пошел туда и стал смотреть на них. — Раз! Два! Три! Четыре! — считал Хоган. — Хэлло, Джерри, — сказал он. — Джек встал? — Нет. Еще спит. Я пошел к себе в комнату и уложил вещи. В полдесятого я услышал, как Джек ворочается за стеной. Когда я услышал, что он спускается по лестнице, я тоже пошел вниз. Джек сидел за завтраком. Хоган тоже был там, он стоял у стола. — Как себя чувствуешь, Джек? — спросил я. — Ничего. — Хорошо спал? — спросил Хоган. — Спал на славу, — сказал Джек. — Во рту скверно, но голова не болит. — Вот видишь, — сказал Хоган. — Это потому, что виски хорошее. — Припиши к счету, — сказал Джек. — Когда вы едете? — спросил Хоган. — После завтрака. Одиннадцатичасовым. — Сядь, Джерри, — сказал Джек. Хоган ушел. Я сел к столу. Джек ел грейпфрут. Когда ему попадалась косточка, он выплевывал ее в ложку и сбрасывал на блюдце. — Я вчера здорово накачался, — начал он. — Да, выпил немножко. — Наболтал, наверно, всякого вздору. — Да нет, ничего особенного. — Где Хоган? — спросил он. Он доедал грейпфрут. — В контору ушел. — Что я там говорил насчет ставок? — спросил Джек. Он держал ложку и тыкал ею в грейпфрут. Вошла горничная, поставила на стол яичницу с ветчиной и убрала грейпфрут. — Дайте мне еще стакан молока, — сказал ей Джек. Она вышла. — Ты сказал, что ставишь пятьдесят тысяч на Уолкотта, — сказал я. — Это верно, — сказал Джек. — Это большие деньги. — Не нравится мне это, — сказал Джек. — Может еще и по-другому обернуться. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 185 — Нет, — сказал Джек. — Он до смерти хочет стать чемпионом. Эти жулики на нем не промахнутся. — Ничего нельзя знать наперед. — Нет. Ему нужно звание. Для него это важней денег. — Пятьдесят тысяч большие деньги, — сказал я. — Это простой расчет, — сказал Джек. — Я не могу победить. Ты же знаешь, что я не могу победить. — Пока ты на ринге, всегда есть шанс. — Нет, — сказал Джек. — Я выдохся. Это простой расчет. — Как ты себя чувствуешь? — Прилично, — сказал Джек. — Выспался, а это мне как раз и нужно. — Ты будешь хорош на ринге. — Да, будет на что посмотреть, — сказал Джек. После завтрака Джек вызвал жену по междугородному телефону. Он сидел в телефонной будке. — За все время первый раз ее вызывает, — сказал Хоган. — Он каждый день ей писал. — Ну да, — сказал Хоган, — марка ведь стоит только два цента. Мы попрощались с Хоганом, и Брюс, негр-массажист, отвез нас на станцию в двуколке. — Прощайте, мистер Бренная, — сказал он, когда подошел поезд. — Надеюсь, вы ему расшибете котелок. — Прощайте, — сказал Джек и дал Брюсу два доллара. Брюсу много пришлось над ним поработать. Лицо у него вытянулось. Джек заметил, что я смотрю на два доллара в руках у Брюса. — Это все оплачено, — сказал он. — Массаж Хоган тоже ставит в счет. В поезде Джек все время молчал. Он сидел в углу — билет у него был засунут за ленту шляпы — и смотрел в окно. Только раз он повернулся и заговорил со мной. — Я предупредил жену, что возьму на ночь номер у Шелби, — сказал он. — Это в двух шагах от Парка. А домой вернусь завтра утром. — Отличная мысль, — сказал я. — Жена тебя когда-нибудь видела на ринге? — Нет, — сказал Джек. — Никогда не видела. Я подумал — какого же он ждет избиения, если не хочет показываться домой после матча. На вокзале мы взяли такси и поехали к Шелби. Вышел мальчик и забрал наши чемоданы, а мы пошли в контору. — На какую цену у вас есть номера? — спросил Джек. — Есть только номера на две кровати, — сказал конторщик. — Могу вам предложить прекрасную комнату на две кровати за десять долларов. — Это дорого. — Могу предложить вам комнату на две кровати за семь долларов. — С ванной? — Конечно. — Ты можешь переночевать со мной, Джерри, — сказал Джек. — Да нет, — сказал я, — я остановлюсь у зятя. — Я это не затем, чтобы ты платил, — сказал Джек. — А так, чтобы деньги зря не пропадали. 186 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Запишитесь, пожалуйста, — сказал конторщик. Потом прочитал про себя наши фамилии. — Номер двести тридцать восемь, мистер Бреннан. Мы поднялись на лифте. Комната была большая и хорошая, с двумя кроватями и дверью в ванную. — Шикарно, — сказал Джек. Лифтер поднял шторы и внес наши чемоданы. Джек и не подумал дать ему на чай; тогда я дал ему двадцать пять центов. Мы помылись, и Джек сказал, что нужно пойти куда-нибудь поесть. Мы пообедали у Хэндли. Там было много знакомых. В середине обеда вошел Джон и сел за наш столик. Джек ел, а разговаривал мало. — Как у вас с весом, Джек? — спросил Джон. Джек уписывал солидный обед. — Хоть одетым могу взвешиваться, — сказал Джек. Он всегда легко сгонял вес. Он был прирожденным легковесом и никогда не толстел. У Хогана он еще потерял в весе. — Ну, это у вас всегда в порядке, — сказал Джон. — Да, это в порядке, — сказал Джек. Мы пошли в Парк взвешиваться. Условия матча были: сто сорок семь фунтов в три часа дня. Джек стал на весы, обернув полотенце вокруг бедер. Стрелка не шевельнулась. Уолкотт только что взвешивался и теперь стоял в сторонке; вокруг него толпился народ. — Дайте поглядеть на ваш вес, Джек, — сказал Фридмен, менеджер Уолкотта. — Пожалуйста. Но тогда и его при мне взвесьте. — Джек мотнул головой в сторону Уолкотта. — Сбросьте полотенце, — сказал Фридмен. — Сколько? — спросил Джек. — Сто сорок три фунта, — сказал толстяк, возившийся, у весов. — Здорово согнали, Джек, — сказал Фридмен. — Взвесьте его, — сказал Джек. Уолкотт подошел. Он был белокурый, с широкими плечами и руками, как у тяжеловеса. Зато ноги у него были коротковаты. Джек был выше его на полголовы. — Хэлло, Джек, — сказал он. Лицо у него было все в шрамах. — Хэлло, — сказал Джек. — Как самочувствие? — Очень хорошо, — сказал Уолкотт. Он сбросил полотенце и стал на весы. Таких широких плеч и такой спины я еще ни у кого не видел. — Сто сорок шесть фунтов и двенадцать унций. — Уолкотт сошел с весов и ухмыльнулся Джеку. — У вас разница в четыре фунта, — сказал ему Джон. — К вечеру будет еще больше, — сказал Уолкотт. — Я теперь пойду пообедаю. Мы пошли в уборную, и Джек оделся. — Крепкий паренек, — сказал мне Джек. — Судя по виду, ему часто доставалось. — О да, — сказал Джек. — В него попасть не трудно. — Вы теперь куда? — спросил Джон, когда Джек был одет. — Обратно в отель, — сказал Джек. — Вы обо всем позаботились? ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 187 — Да, — сказал Джон. — Там все сделают. — Пойду теперь прилягу, — сказал Джек. — Хорошо. А без четверти семь я зайду за вами, и мы пойдем ужинать. — Ладно. Когда мы пришли в номер, Джек снял башмаки и пиджак и лег. Я сел писать письмо. Время от времени я поглядывал на Джека. Он не спал. Он лежал совсем тихо, но глаза у него то и дело открывались. Наконец он встал. — Сыграем в криббедж, Джерри? — сказал он. — Давай, — сказал я. Он раскрыл чемодан и достал карты и доску для криббеджа. Мы сыграли несколько партий, и Джек выиграл у меня три доллара. Потом в дверь постучали, и вошел Джон. — Хотите сыграть в криббедж, Джон? — спросил Джек. Джон положил шляпу на стол. Она была вся мокрая. Пальто у него тоже было мокрое. — Дождь идет? — спросил Джек. — Льет как из ведра, — сказал Джон. — Я ехал в такси, но попал в затор, пришлось добираться пешком. — Давайте сыграем в криббедж, — сказал Джек. — Вам бы надо поесть. — Нет, — сказал Джек. — Пока еще не хочется. С полчаса они играли в криббедж, и Джек выиграл у Джона полтора доллара. — Ну, ладно, — сказал Джек. — Пойдем, что ли, ужинать. Он подошел к окну и выглянул на улицу. — Все еще дождь? — Да. — Поедим здесь, в отеле, — сказал Джон. — Хорошо, — сказал Джек. — Сыграем еще партию. Кто проиграет, платит за ужин. Немного погодя Джек поднялся и сказал: — Вам платить, Джон. — И мы пошли вниз и поужинали в большом зале. После ужина мы вернулись в номер, и Джек еще раз сыграл с Джоном и выиграл у него два с половиной доллара. Джек совсем развеселился. У Джона был с собой саквояж, и в нем все что нужно для матча. Джек снял рубашку и воротничок и надел фуфайку и свитер, чтобы не простудиться на улице, а костюм для ринга и халат уложил в чемоданчик. — Готовы? — спросил его Джон. — Сейчас велю вызвать такси. Скоро зазвонил телефон, и снизу сказали, что машина пришла. Мы спустились в лифте, прошли через вестибюль, сели в такси и поехали в Парк. Шел проливной дождь, но перед входом на улице стояла толпа. Все места были проданы. Когда мы проходили в уборную, я увидел, что зал набит битком. От верхних мест до ринга, казалось, было добрых полмили. В зале было темно. Только фонари над рингом. — Хорошо, что не вынесли на открытую сцену, — сказал Джон. — А то как быть под таким дождем? — Полный сбор, — сказал Джек. — На такой матч и больше бы пришло, — сказал Джон. — Зал не вмещает. 188 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Погоду наперед не закажешь, — сказал Джек. Джон подошел к дверям уборной и заглянул внутрь. Джек сидел там, уже в халате, скрестив руки, и смотрел в пол. С Джоном было двое секундантов. Они выглядывали из-за его плеча. Джек поднял глаза. — Он уже вышел? — спросил он. — Только что вышел, — сказал Джон. Мы стали спускаться. Уолкотт как раз выходил на ринг. Его хорошо встретили. Он пролез под канатом, поднял руки, сложенные вместе, улыбнулся, потряс ими над головой, сперва в одну сторону, потом в другую, и сел. Джеку много хлопали, когда он пробирался сквозь толпу. Джек ирландец, а ирландцев всегда хорошо встречают. Ирландец не сделает такого сбора в Нью-Йорке, как еврей или итальянец, но встречают их всегда хорошо. Джек поднялся на ступеньки и нагнулся, чтобы пролезть под канатом, а Уолкотт вышел из своего угла и наступил на нижний канат, чтобы Джеку удобней было пройти. Публике это страшно понравилось. Уолкотт положил Джеку руку на плечо, и они постояли так несколько секунд. — В любимцы публики метите? — спросил Джек. — Уберите руку с моего плеча. — Ведите себя прилично, — сказал Уолкотт. Публика любит такие вещи. Как они благородно держат себя перед боем! Как они желают друг Другу удачи! Когда Джек стал бинтовать себе руки, Солли Фридмен перешел в наш угол, а Джон пошел к Уолкотту. Джек просунул большой палец в петлю бинта, а потом гладко и аккуратно обмотал руку и крепко завязал ее тесьмой у кисти и дважды вокруг суставов. — Эй, эй, — сказал Фридмен. — Куда столько тесьмы? — Пощупайте, — сказал Джек. — Она же совсем мягкая. Не придирайтесь. Фридмен оставался с нами все время, пока Джек бинтовал другую руку, а один из секундантов принес перчатки, и я натянул их на Джека, размял и завязал. — Фридмен, — сказал Джек, — какой он национальности, этот Уолкотт? — Не знаю, — сказал Солли. — Датчанин, что ли. — Он чех, — сказал секундант, принесший перчатки. Рефери позвал их на середину ринга, и Джек вышел. Уолкотт вышел улыбаясь. Они сошлись, и рефери положил обоим руки на плечи. — Ну-с, любимчик, — сказал Джек Уолкотту. — Ведите себя прилично. — Что это вы выдумали назваться Уолкоттом? — сказал Джек. — Вы разве не знаете, что он был негр? — Выслушайте, — сказал рефери и прочитал им какое полагается наставление. Раз Уолкотт прервал его. Он ухватил руку Джека и спросил: — Могу я бить, если он захватит меня вот так? — Уберите руку, — сказал Джек. — Нас еще не снимают для кино. Они разошлись по углам. Я снял халат с Джека, он налег на канат и несколько раз согнул ноги в коленях, потом натер подошвы канифолью. Раздался гонг, и Джек быстро повернулся и вышел. Уолкотт подошел к нему, они коснулись ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 189 друг друга перчаткой о перчатку, и едва Уолкотт опустил руку, как Джек провел двойной джеб19 левой в голову. Не было на свете лучшего боксера, чем Джек. Уолкотт пошел на него, все время двигаясь вперед, опустив подбородок. Он предпочитает работать крюками20 и держит руки низко. Все, что он умеет, — это бить. Но всякий раз, как он приближался, Джек бил левой. Казалось, что это происходит само собой. Джек только поднимает руку — и удар уже нанесен. Три или четыре раза он опережал правой, но Уолкотт тогда подставлял плечо, и удар шел высоко в голову. Уолкотт как все файтеры21. Единственно, чего он боится, это такого же удара, как его собственные. Он закрыт всюду, где ему грозит сильный удар. А джебы левой его не беспокоят. На четвертом раунде у него уже шла кровь, и все лицо было разбито. Но всякий раз, как они сближались, Уолкотт бил крюками с такой силой, что у Джека пониже ребер с обеих сторон появились два больших красных пятна. Всякий раз, как он подходил близко, Джек связывал его, потом освобождал руку и бил его апперкотом, но если Уолкотту удавалось освободить руку, он наносил Джеку такой удар по корпусу, что на улице было слышно. Он файтер. Так продолжалось еще три раунда. Они не разговаривали. Они все время работали. Мы тоже усердно работали над Джеком между раундами. Он казался вялым, но он никогда не бывает очень подвижным на ринге. Он двигался мало, а левая у него работала как будто автоматически. Казалось, она соединена с головой Уолкотта, и чтобы ударить, Джеку нужно только захотеть. В ближнем бою Джек всегда спокоен и зря не тратит пороху. Он блестяще знает близкий бой; и теперь, когда они расходились, Джек всегда был в выигрыше. Сперва бой шел в нашем углу, и я увидел, как Джек связал Уолкотта, потом освободил руку, повернул ее и нанес ему апперкот в нос открытой перчаткой. У Уолкотта пошла кровь, и он наклонил голову над плечом Джека, чтобы его тоже замарать, а Джек резко поднял плечо и ударил его плечом по носу, а потом нанес удар правой сверху и снова ударил плечом. Уолкотт обозлился. На пятом раунде он уже смертельно ненавидел Джека. А Джек не злился; то есть не больше, чем всегда. Он умел доводить своего противника до бешенства. Вот почему он терпеть не мог Ричи Льюиса. Ему не удавалось его переиграть. У Ричи Льюиса всегда было в запасе два-три новых трюка, которых Джек не умел сделать. В близком бою Джек, пока не уставал, всегда был в полной безопасности. Он под орех разделал Уолкотта. Удивительней всего, что со стороны казалось, будто он ведет честный классический бокс. Это потому, что так он тоже умел работать. После седьмого раунда Джек сказал: — Левая у меня отяжелела. С этого момента он пошел на проигрыш. Сперва это было незаметно. Но если раньше он вел бой, теперь его вел Уолкотт. Раньше он был все время закрыт — теперь ему приходилось плохо. Он уже не мог держать Уолкотта на дистанции левой. Казалось, что все по-прежнему, но если раньше Уолкотт почти всякий раз промахивался, теперь он почти всякий раз попадал. Джек получил несколько сильных ударов по корпусу. — Который раунд? — спросил Джек. 19 короткий прямой удар, применяемый на близком расстоянии крюк — удар согнутой рукой, один из самых сильных в боксе 21 файтер — боксер, действующий не столько искусством, сколько силой удара 20 190 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Одиннадцатый. — Я долго не выдержу, — сказал Джек. — Ноги отказывают. До сих пор Уолкотт только задевал его. Джек успевал отстраниться, и получалось как при игре в бейсбол, когда игрок тянет за собой мяч и этим отнимает у него часть силы. А теперь Уолкотт начал бить крепче. Он работал, как машина. Джек только старался блокировать. Со стороны незаметно было, какое это ужасное избиение. Между раундами я массировал Джеку ноги. Мышцы дрожали у меня под пальцами все время, пока я его растирал. Ему было совсем плохо. — Как идет? — спросил он Джона, поворачивая к нему распухшее лицо. — Это его бой. — Я еще продержусь, — сказал Джек. — Не хочу, чтобы этот полячишка меня нокаутировал. Все шло так, как он ожидал. Он знал, что не может побить Уолкотта. У него не хватало силы. Но все было в порядке. Деньги были поставлены как надо, и теперь он хотел закончить бой по своему вкусу. Он не хотел, чтобы его нокаутировали. Раздался гонг, и мы вытолкнули его вперед. Он вышел медленно. Уолкотт пошел на него. Джек нанес ему удар левой, и Уолкотт принял его, потом вошел в близкий бой и начал бить по корпусу. Джек попытался связать его, но это было все равно что пытаться задержать механическую пилу. Джек вырвался, но промахнулся правой. Уолкотт провел крюк слева, и Джек упал. Он упал на руки и колени и посмотрел на нас. Рефери начал считать. Джек смотрел на нас и тряс головой. На восьмом счете Джон подал ему знак. Голоса бы Джек все равно не услышал, так ревела толпа. Джек встал. Рефери, пока вел счет, все время одной рукой держал Уолкотта. Как только Джек встал, Уолкотт пошел на него. Я услышал, как Солли Фридмен закричал: — Берегись, Джимми! Уолкотт подходил, глядя на Джека. Джек ударил левой. Уолкотт только головой тряхнул. Он прижал Джека к канату, оглядел его, послал очень слабый крюк слева в голову, а затем ударил крюком по корпусу изо всех сил и так низко, как только мог. Верных пять дюймов ниже пояса. Я думал, у Джека глаза выскочат. Они у него совсем на лоб полезли. Рот у него раскрылся. Рефери схватил Уолкотта. Джек шагнул вперед. Если он упадет, пропали пятьдесят тысяч. Он шел так, словно у него кишки вываливались. — Это не был неправильный, — сказал он. — Это случайность. Толпа так ревела, что ничего не было слышно. — Я в порядке, — сказал Джек. Они были как раз против нас. Рефери взглянул на Джона и покачал головой. — Ну иди, сукин сын, полячишка, — сказал Джек. Джон перевесился через канат. Он уже держал в руках полотенце. Джек стоял возле самого каната. Он шагнул вперед. Я увидел, что лицо у него залито потом, словно кто-то взял его и выжал. По носу скатилась большая капля. — Ну, иди, — сказал он Уолкотту. Рефери поглядел на Джона и махнул Уолкотту. — Иди, скотина, — сказал он. ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ 191 Уолкотт вышел. Он не знал, что делать. Он никак не ожидал, что Джек выдержит. Джек пустил в ход левую. Толпа ревела не переставая. Они были как раз против нас. Уолкотт ударил дважды. У Джека было такое лицо — ничего страшнее я не видал. Он держался только усилием воли, держал себя всего — все свое тело, и это было видно по его лицу. Он все время думал и напряжением мысли зажимал свое тело в том месте, куда ему был нанесен удар. Затем он начал бить. Лицо у него было ужасное. Он начал бить свингами22, низко держа руки. Уолкотт закрылся. Джек послал бешеный свинг ему в голову. Потом вдруг опустил руки и левой ударил в пах, а правой как раз в то место, куда сам получил удар. Гораздо ниже пояса. Уолкотт рухнул наземь, ухватился за живот, перевернулся и скорчился. Рефери схватил Джека и оттолкнул его в угол. Джон выскочил на ринг. Толпа все ревела. Рефери что-то говорил судьям, а затем глашатай с мегафоном вышел на ринг и объявил: — Победа за Уолкоттом. Неправильный удар. Рефери говорил с Джоном. Он сказал: — Что же я мог сделать? Джек не захотел признать неправильный удар. А потом, когда ошалел от боли, сам ударил неправильно. — Все равно он не мог победить, — сказал Джон. Джек сидел на стуле. Я уже снял с него перчатки, и он обеими руками зажимал себе живот. Когда ему удавалось обо что-нибудь опереться, лицо у него становилось не такое ужасное. — Подите извинитесь, — сказал Джон ему на ухо. — Это произведет хорошее впечатление. Джек встал. Пот катился у него по лицу. Я набросил на него халат, и он под халатом прижал ладонь к животу и пошел через ринг. Уолкотта уже подняли и приводили в чувство. В том углу толпились люди. Никто из них не заговорил с Джеком. Джек нагнулся над Уолкоттом. — Я очень сожалею, — сказал Джек. — Я не хотел ударить низко. Уолкотт не ответил. Видно было, что ему очень скверно. — Ну вот, теперь вы чемпион, — сказал Джек. — Надеюсь, получите от этого массу удовольствия. — Оставьте мальчика в покое, — сказал Солли Фридмен. — Хэлло, Солли, — сказал Джек. — Мне очень жаль, что так вышло. Фридмен только посмотрел на него. Джек пошел обратно в свой угол странной, запинающейся походкой. Мы помогли ему пролезть под канатом, потом провели мимо репортерских столов и дальше по коридору. Там толпился народ; многие тянулись похлопать Джека по спине. Джек, в халате, должен был пробираться сквозь всю эту толпу по пути в уборную. Уолкотт сразу стал героем дня. Вот как выигрывались пари у нас в Парке. Как только мы добрались до уборной, Джек лег и закрыл глаза. — Сейчас поедем в отель и вызовем доктора, — сказал Джон. — У меня все кишки полопались, — сказал Джек. — Мне очень совестно, Джек, — сказал Джон. — Ничего, — сказал Джек. Он лежал, закрыв глаза. 22 удар вытянутой рукой, применяемый на сравнительно далеком расстоянии 192 ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ — Перехитрить нас вздумали, — сказал Джон. — Ваши друзья, Морган и Стейнфелт, — сказал Джек. — Хорошенькие у вас друзья, нечего сказать. Теперь он лежал с открытыми глазами. Лицо у него все еще было осунувшееся и страшное. — Удивительно, как быстро соображаешь, когда дело идет о таких деньгах, — сказал Джек. — Вы молодчина, Джек, — сказал Джон. — Нет, — сказал Джек. — Это пустяки. Ernest Hemingway. Fifty Grand (1927). Пер. — О.Холмская. В кн. “Эрнест Хемингуэй”. М., “Правда”, 1984. OCR & spellcheck by HarryFan, 14 November 2000 Какими вы не будете Атака развертывалась по лугу, была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки и с прилегающих строений, не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки. Проезжая по дороге на велосипеде и временами соскакивая, когда полотно было слишком изрыто, Николас Адамс понял, что происходило здесь, по тому, как лежали трупы. Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги. В траве и в хлебах вдоль дороги, а местами и на самой дороге было брошено много всякого снаряжения: походная кухня, — видимо, ее подвезли сюда, когда дела шли хорошо; множество ранцев телячьей кожи; ручные гранаты, каски, винтовки — кое-где прикладом вверх, а штык воткнут в грязь: в конце концов здесь принялись, должно быть, окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевый инструмент, патронные ящики, ракетные пистолеты с рассыпанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые коробки от противогазов; посреди кучи пустых гильз приземистый трехногий пулемет, с выкипевшим пустым кожухом, с исковерканной казенной частью и торчащими из ящиков концами лент, трупы пулеметчиков в неестественных позах, и вокруг в траве все те же бумаги. Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навытяжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и раздувшиеся, они лежали в траве; агитационные открытки, на которых солдат в австрийской форме опрокидывал на кровать женщину: рисунки были весьма экспрессивные и приукрашенные, и все на них было не так, как бывает на самом деле, когда женщине закидывают на голову юбки, чтобы заглушить ее крик, а кто-нибудь из приятелей сидит у нее на голове. Такого рода открыток, выпущенных, должно быть, накануне наступления, было множество. Теперь они валялись вперемешку с порнографическими открытками; и тут же были маленькие снимки деревенских девушек работы деревенского фотографа; изредка карточка детей и письма, письма, письма. Вокруг мертвых всегда бывает много бумаги, так было и здесь после этой атаки. Эти были убиты недавно, и никто еще ничего не тронул, кроме карманов. Наших убитых, отметил Ник, или тех, о ком он все еще думал как о наших убитых, было до странности мало. У них тоже мундиры были расстегнуты и карманы вывернуты, и по их положению можно было судить, как и насколько умело велась атака. От жары все одинаково раздулись, независимо от национальности. Ясно было, что в конце боя город обороняли только огнем с дорожной выемки и почти некому из австрийцев было отступать в город. На улице лежало 193 194 КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ только три австрийца, видимо, подстреленных на бегу. Дома вокруг были разрушены снарядами, и улица вся завалена штукатуркой и мусором, и повсюду исковерканные балки, битая черепица и много пробоин, некоторые с желтой каемкой от горчичного газа. Земля была вся в осколках, а щебень усеян шрапнелью. В городе не было ни души. Ник Адамс не встретил никого от самого Форначи, хотя, проезжая по густо заросшей низине и заметив, как струится воздух над листьями, там, где солнце накаляло металл, он понял, что слева от дороги орудия, скрытые тутовой листвой. Потом он проехал улицей, удивляясь тому, что город пуст; и выбрался на нижнюю дорогу, проходившую под откосом берега, у самой воды. На окраине был большой открытый пустырь, по которому дорога шла под гору, и Нику видна была спокойная поверхность реки, широкий изгиб противоположного низкого берега и белая полоска высохшего ила перед линией австрийских окопов. С тех пор как он был здесь в последний раз, все стало очень сочным и чрезмерно зеленым, и то, что место это вошло в историю, ничуть его не изменило: все то же низовье реки. Батальон расположился вдоль берега влево. В откосе высокого берега были вырыты ямы, и в них были люди. Ник заметил, где находятся пулеметные гнезда и где стоят в своих станках сигнальные ракеты. Люди в ямах на береговом склоне спали. Никто его не окликнул. Ник пошел дальше, но когда он обогнул высокий илистый намыв, на него навел пистолет молодой лейтенант с многодневной щетиной и налитыми кровью воспаленными глазами. — Кто такой? Ник ответил. — А чем вы это докажете? Ник показал ему свою тессеру; удостоверение было с фотографией и печатью Третьей армии. Лейтенант взял ее. — Это останется у меня. — Ну, нет, — сказал Ник. — Отдайте пропуск и уберите вашу пушку. Туда. В кобуру. — Но чем вы мне докажете, кто вы такой? — Мало вам тессеры? — А вдруг она подложная? Дайте ее сюда. — Не валяйте дурака, — весело сказал Ник. — Отведите меня к вашему ротному. — Я должен отправить вас в штаб батальона. — Очень хорошо, — сказал Ник. — Послушайте, знаете вы капитана Паравичини? Такой высокий, с маленькими усиками, он был архитектором и говорит по-английски? — А вы его знаете? — Немного. — Какой ротой он командует? — Второй. — Он командует батальоном. — Превосходно, — сказал Ник. Он с облегчением услышал, что Пара невредим. — Пойдемте к батальонному. Когда Ник выходил из города, он видел три высоких шрапнельных разрыва справа над одним из разрушенных зданий, и с тех пор обстрела не было. Но КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 195 у лейтенанта было такое лицо, какое бывает у человека под ураганным огнем. Та же напряженность, и голос звучал неестественно. Его пистолет раздражал Ника. — Уберите это, — сказал он. — Противник ведь за рекой. — Если б я думал, что вы шпион, я пристрелил бы вас на месте, — сказал лейтенант. — Да будет вам, — сказал Ник. — Пойдемте к батальонному. — Этот лейтенант все сильнее раздражал его. В штабном блиндаже батальона в ответ на приветствие Ника из-за стола поднялся капитан Паравичини, замещавший майора, еще более сухощавый и англизированный, чем обычно. — Привет, — сказал он. — Я вас не узнал. Что это вы в такой форме? — Да вот, нарядили. — Рад вас видеть, Николо. — Я тоже. У вас прекрасный вид. Как воюете? — Атака была на славу. Честное слово. Превосходная атака. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Он показал по карте ход атаки. — Я сейчас из Форначи, — сказал Ник. — По дороге видел, как все это было. Атаковали хорошо. — Атаковали изумительно. Совершенно изумительно. Вы что же, прикомандированы к полку? — Нет. Мне поручено разъезжать по передовой линии и демонстрировать форму. — Вот еще выдумали. — Воображают, что, увидев одного американца в форме, все поверят, что недолго ждать и остальных. — А как они узнают, что это американская форма? — Вы скажете. — А? Понимаю. Я дам вам капрала в провожатые, и вы с ним пройдете по линии. — Словно какой-нибудь пустобрех-министр, — сказал Ник. — А вы были бы гораздо элегантней в штатском. Только в штатском выглядишь по-настоящему элегантным. — В котелке, — сказал Ник. — Или в мягкой шляпе. — Собственно, полагалось бы набить карманы сигаретами, открытками и всякой чепухой, — сказал Ник. — А сумку шоколадом. И раздавать все это с шуточками и дружеским похлопыванием по спине. Ни сигарет, ни открыток, ни шоколада не оказалось. Но меня все-таки послали проследовать по линии. — Ну конечно, стоит вам показаться, и это сразу воодушевит войска. — Не надо, — сказал Ник. — И без того тошно. В принципе я бы охотно прихватил для вас бутылочку бренди. — В принципе, — сказал Пара и в первый раз улыбнулся, показывая пожелтевшие зубы. — Какое прекрасное выражение. Хотите граппа? — Нет, спасибо, — сказал Ник. — Оно совсем без эфира. 196 КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ — Этот вкус у меня до сих пор во рту, — вспомнил Ник внезапно с полной ясностью. — Знаете, я и не подозревал, что вы пьяны, пока вы не начали болтать в грузовике на обратном пути. — Я накачивался перед каждой атакой, — сказал Ник. — А я вот не могу, — сказал Пара. — Я пробовал в первом деле, в самом первом деле, но меня от этого вывернуло, а потом зверски пить хотелось. — Ну, значит, вам не надо. — Вы же гораздо храбрее меня во время атаки. — Нет, — сказал Ник. — Я себя знаю и предпочитаю накачиваться. Я этого ни капли не стыжусь. — Я никогда не видел вас пьяным. — Не видели? — сказал Ник. — Никогда? А в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде, и я улегся спать, и укрылся велосипедом вместо одеяла, и все старался натянуть его до самого подбородка? — Так это же не на позиции. — Не будем говорить о том, какой я, — сказал Ник. — По этому вопросу я знаю слишком много и не хочу больше об этом думать. — Вы пока побудьте здесь, — сказал Паравичини. — Можете прилечь, если вздумается. Эта нора прекрасно выдержала обстрел. А выходить еще слишком жарко. — Да, торопиться некуда. — Ну, а как вы на самом-то деле? — Превосходно. Я в полном порядке. — Да нет, я спрашиваю, на самом деле? — В полном порядке. Не могу спать в темноте. Вот и все, что осталось. — Я говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но я знаю. — Ну, а они решили — пусть лучше рассосется. А что? Вам кажется, что я не в своем уме? — Почему. Вид у вас превосходный. — Нет хуже, когда тебя признали полоумным, — сказал Ник. — Никто тебе больше не доверяет. — Вы бы вздремнули, Николо, — сказал Паравичини. — Это вам, конечно, не тот батальонный блиндаж, к какому мы привыкли, но мы ждем, что нас отсюда скоро перебросят. Вам не следует выходить в такую жару, — это просто глупо. Ложитесь вот сюда на койку. — Пожалуй, прилягу, — сказал Ник. Ник лег на койку. Он был очень огорчен тем, что ему плохо, и еще больше тем, что это так ясно капитану Паравичини. Блиндаж был меньше того, где его взвод 1899 года рождения, только что прибывший на фронт, запсиховал во время артиллерийской подготовки, и Пара приказал ему выводить их наверх по двое, чтобы показать, что ничего с ними не случится, и сам он туго подтянул губы подбородным ремнем, чтобы не дрожали. Зная, что не удержаться, если бы атака не удалась. Зная, что все это просто чертова каша. Если он не перестанет нюнить, расквасьте ему нос, чтобы его малость встряхнуло. Я бы пристрелил одного для примера, но теперь поздно. Их еще пуще развезет. Расквасьте ему нос. Да, перенесено на пять двадцать. В нашем распоряжении только четыре КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 197 минуты. Расквасьте нос и тому сопляку и вытолкайте его коленкой под задницу. Как вы думаете, поднимутся они? Если нет, пристрелите двоих-троих и постарайтесь так или иначе выкурить их отсюда. Держитесь сзади, сержант. Совершенно бесполезно шагать впереди, когда никто за тобой не идет. Волоките их отсюда за шиворот, когда пойдете сами. Что за чертова каша. Так. Ну, ладно. Потом, поглядев на часы, спокойным тоном, этим веским, спокойным тоном: “Савойя”. Пошел не накачавшись, не успел глотнуть, а потом где было ее искать, когда завалило, завалился весь угол, тут оно и началось; и он пошел, не глотнув, туда, вверх по склону, единственный раз, когда шел не накачавшись. А когда вернулись обратно, оказалось, что головной госпиталь горит и кое-кого из раненых через четыре дня отправили в тыл, а некоторых так и не отправили, и мы снова ходили в атаку и возвращались обратно и отступали, — неизменно отступали. И, как ни странно, там была Габи Делис, вся в перьях, ты называл меня своею год назад, та-ра-ра-ра, ты говорил, меня обнять всегда ты рад, тара-ра-ра, и в перышках, да и без них, Габи всегда прекрасна; а меня зовут Гарри Пильцер, мы с вами, бывало, вылезали из такси на крутом подъеме на холм; и каждую ночь снился этот холм и еще снилась Сакре-Кер, вздутая и белая, словно мыльный пузырь. Иногда с ним была его девушка, а иногда она была с кем-нибудь другим, и это трудно было понять, но вспоминалось это ночами, когда река текла неузнаваемо широкая и спокойная, и там, за Фоссальтой, на берегу канала был низкий, выкрашенный в желтое дом, окруженный ивами, и с длинной низкой конюшней; он бывал там тысячу раз и никогда не замечал этого, а теперь каждую ночь все это было так же четко, как и холм, только это пугало его. Этот дом был важнее всего, и каждую ночь он ему снился. Именно этого он и хотел, но это пугало его, особенно когда лодка спокойно стояла там между ивами, у берега канала, но берега были не такие, как у этой реки. Они были еще ниже, как у Портогранде, там, где те переправлялись через затопленную луговину, барахтаясь и держа над головой винтовки, да так и ушли под воду вместе с винтовками. Кто отдал такой приказ? Если бы не эта чертова путаница в голове, он прекрасно бы во всем разобрался. Вот почему он пробовал запомнить все до последней черточки и держать все в строгом порядке, так, чтобы всегда знать, что к чему, но вдруг, безо всякой причины, все спутывалось, вот как сейчас, когда сам он лежит на койке в батальонном блиндаже, и Пара командир батальона, а тут еще на нем эта проклятая американская форма. Он привстал и огляделся; все на него смотрели. Пара куда-то вышел. Он снова лег. Начиналось всегда с Парижа, и это не пугало его, разве только, когда она уходила с кем-нибудь другим или когда было страшно, что им два раза попадется один и тот же шофер. Только это его и пугало. А фронтовое нет. Теперь он никогда больше не видел фронта; но что пугало его, от чего он никак не мог избавиться, — это желтый длинный дом и не та ширина реки. Вот он опять здесь, у реки, он проехал через тот самый город, а дома этого не было. И река другая. Так где же он бывает каждую ночь, и в чем опасность, и почему он каждый раз просыпается весь в поту, испуганный больше, чем под любым обстрелом, все из-за этого дома, и низкой конюшни, и канала? Он привстал, осторожно спустил ноги; они деревенели, если он долго держал их вытянутыми; посмотрел на глядевших на него сержанта и сигнальщиков и двух ординарцев у двери и надел свою каску в матерчатом чехле. 198 КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ — Очень сожалею, что у меня нет с собой шоколада, открыток, сигарет, — сказал он. — Но форма-то все-таки на мне. — Майор сейчас вернется, — сказал сержант. — Форма не совсем точная, — сказал им Ник. — Но представление она дает. Скоро здесь будет несколько миллионов американцев. — Вы думаете, что к нам прибудут американцы? — спросил сержант. — Несомненно. И какие американцы — вдвое выше меня ростом, здоровые, приветливые, спят по ночам, никогда не были ни ранены, ни контужены, ни завалены землей; не трусят, не пьют, верны своим девушкам, многие даже не знают, что такое вошь, — замечательные ребята, вот увидите. — А вы итальянец? — спросил сержант. — Нет, американец. Взгляните на форму. Шил ее Спаньолини, но только она не совсем точная. — Севере-или южноамериканец? — Севере, — сказал Ник. Он чувствовал, что опять начинается. Надо поменьше говорить. — Но вы говорите по-итальянски. — Ну так что же? Вам не нравится, что я говорю по-итальянски? Разве я не имею права говорить по-итальянски? — У вас итальянские медали. — Только ленточки и документы. Медали присылают потом. Или дашь их кому-нибудь на сохранение, а тот уедет, или они пропадут вместе со всеми вещами. Впрочем, можно купить новые в Милане. Важно, чтобы были документы. И вы не расстраивайтесь. Вам тоже дадут медали, когда вы подольше побудете на фронте. — Я ветеран Эритрейской кампании, — сухо сказал сержант. — Я сражался в Триполи. — Очень рад с вами познакомиться. — Ник протянул руку. — Должно быть, не легкая была кампания. Я сразу заметил нашивки. Вы, может быть, и на Карсо были? — Меня только что призвали в эту войну. Мой разряд слишком стар. — Еще не так давно я был слишком молод, — сказал Ник. — А теперь я уже готов, не гожусь больше. — А что же вы здесь делаете? — Демонстрирую американскую форму, — сказал Ник. — Что, по-вашему, это не дело? Она немного жмет в вороте, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнечик, — вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнечиком, — это та же саранча. Настоящий кузнечик маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо смешивать с саранчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор. — Поди-ка отыщи майора, — сказал сержант одному из ординарцев. — Видно, вы были серьезно ранены, — сказал он Нику. — В разные места, — сказал Ник. — Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузнечиках. То есть о том, что мы называем кузнечиками, а на самом деле это саранча. Это КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 199 насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. Возможно, вам это тоже будет интересно, а пока я говорю, вы можете изучать мою форму. Сержант сделал знак второму ординарцу, и тот вышел. — Смотрите внимательней на форму. Ее, знаете, шил Спаньолини. И вы тоже можете любоваться, — сказал Ник сигнальщикам. — У меня, видите ли, нет никакого чина. Мы состоим в ведении американского консула. Глазейте, не стесняйтесь. А я вам расскажу об американской саранче. Мы всегда предпочитали один вид, который мы называли коричневая средняя, она меньше всех размокает в воде, и рыба лучше всего идет на нее. А у тех, Что побольше, которые летают и производят при этом звук, несколько напоминающий гремучую змею, когда она гремит своими гремучками, — очень сухой звук, — у них крылья ярко окрашены, иногда красные, иногда желтые с черными полосами, но их крылья совсем расползаются в воде, и наживка из них плохая, а вот коричневые средние — это плотные, жирные, восхитительные кузнецы, которых я могу рекомендовать вашему вниманию, джентльмены, если только возможно рекомендовать вниманию джентльменов то, что они, по всей вероятности, никогда не встретят. Но я со всей настоятельностью должен подчеркнуть, что вы никогда не соберете запаса этих насекомых, достаточного для дневной ловли, если будете хватать их руками или сшибать битой. Это сущая чепуха и пустая трата времени. Повторяю вам, джентльмены, так у вас ровно ничего не получится. Единственный правильный способ, способ, которому следовало бы обучать всех молодых офицеров во всех стрелковых школах, это, — если бы меня спросили об этом, а очень возможно, что меня об этом и спросят, — это применение сети или невода из обыкновенной комариной сетки. Два офицера, держа кусок сети такой вот длины за противоположные концы, или, скажем, стоя по одному у каждого конца, наклоняются, берут нижний край сети в одну руку, а верхний в другую и бегут против ветра. Кузнецы, летя по ветру, натыкаются на этот кусок сети и застревают в ней. Таким способом каждый может наловить огромное количество кузнецов, и, по моему мнению, каждый офицер должен быть снабжен куском комариной сетки достаточной длины, пригодным для изготовления подобной саранчовой сети. Надеюсь, я понятно изложил этот способ, джентльмены? Есть вопросы? Если что-нибудь в коем изложении вам представляется неясным, пожалуйста, задавайте вопросы. Я слушаю. Нет вопросов? Тогда я хотел бы прибавить в заключение следующее. Говоря словами великого полководца и джентльмена сэра Генри Уильсона: джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы, или повелевать будут вами. Разрешите мне повторить. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы твердо это запомнили. Твердо запомнили и унесли с собой, уходя из этого зала. Джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы, или повелевать будут вами. Я кончил, джентльмены. Позвольте пожелать вам всего хорошего. Он снял каску в матерчатом чехле, снова надел ее и, пригнувшись, вышел в низкую дверь блиндажа. Паравичини в сопровождении обоих ординарцев приближался со стороны дорожной выемки. На солнце было очень жарко, и Ник снял каску. — Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих уродин, — сказал он. — Ну, а свою я искупаю в реке. — Он стал взбираться на парапет. — Николо, — окликнул его Паравичини. — Николо! Куда вы идете? 200 КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ — Да, собственно, и не стоит ходить. — Ник спустился обратно, держа каску в руках. — Что сухая, что мокрая, один черт. Неужели вы свою никогда не снимаете? — Никогда, — сказал Пара. — Я уже начинаю от нее лысеть. Пойдем в блиндаж. В блиндаже Пара усадил его. — От них ведь никакого проку, — сказал Ник. — Помню, как мы были рады, когда их только что выдали, но с тех пор я слишком часто видел их полными мозгов. — Николо, — сказал Пара, — по-моему, вам бы надо отправляться обратно. По-моему, пока вас не снабдят всем, что нужно, вам незачем сюда ездить. Вам здесь нечего делать. Если вы будете ходить по линии, даже раздавая что-нибудь стоящее, неизбежно скопление, которое вызовет обстрел. Этого я не могу допустить. — Я знаю, что это глупо, — сказал Ник. — Это не моя выдумка. Я услышал, что здесь наша бригада, ну и подумал, хорошо бы повидать вас или еще когонибудь из прежних. Я мог бы отправиться в Зензон или в Сан-Дона. Мне бы хотелось пробраться в Сан-Дона и поглядеть мост. — Я не могу разрешить вам разгуливать здесь без толку, — сказал капитан Паравичини. — Ну, ладно, — сказал Ник. Он чувствовал, что это снова начинается. — Вы меня понимаете? — Конечно, — сказал Ник. Он старался подавить это. — Такие обходы надо делать ночью. — Без сомнения, — сказал Ник. Он чувствовал, что не сможет удержаться. — Я ведь теперь батальоном командую, — сказал Пара. — А почему бы вам и не командовать? — сказал Ник. Вот оно. — Читать, писать умеете? — Разумеется, — мягко сказал Пара. — Только вот батальон-то у вас невелик. Как только его пополнят, вам опять дадут вашу роту. Почему не хоронят убитых? Я только что видел их. Мне вовсе не хочется опять на них глядеть. Хоронить их можно в любое время, я не возражаю, и чем скорее, тем лучше для вас же. А то потом намаетесь. — Где вы оставили велосипед? — В последнем доме. — Думаете, он там уцелеет? — Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Я скоро пройду. — Вы прилягте, Николо. — Спасибо. Он закрыл глаза и вместо бородатого человека, который смотрел на него сквозь прицельную рамку винтовки, придерживая дыхание перед тем, как нажать спуск, и белой вспышки и удара как будто дубиной, когда на коленях, давясь сладким горячим клубком, который он выхаркнул на камень, он понял, что они пробежали мимо, — он увидел желтый низкий дом с длинной конюшней и реку гораздо шире и спокойнее, чем на самом деле. — Ах, черт, — сказал он. — Пожалуй, надо идти. Он встал. КАКИМИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ 201 — Я пойду. Пара, — сказал он. — Поеду назад. Если там подвезли чегонибудь, я захвачу и привезу вам сегодня вечером. Если нет, приеду ночью, когда будет что везти. — Еще жарко вам ехать, — сказал капитан Паравичини. — Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Теперь на некоторое время я застрахован. Меня тут у вас скрутило, но это быстро прошло. Теперь с каждым разом все легче. Я уже знаю, когда это начинается, я тогда становлюсь болтлив. — Я пошлю с вами ординарца. — Нет, не надо. Я знаю дорогу. — Так, значит, скоро опять к нам? — Непременно. — Давайте, я все-таки... — Нет, — сказал Ник. — В знак доверия. — Ну, как хотите. — Ciaou, — сказал Ник. Он пошел назад по дорожной выемке, туда, где он оставил велосипед. К вечеру, как только он минует канал, дорога будет в тени. За каналом по обеим сторонам дороги деревья совсем не тронуты снарядами. Именно на этом участке как-то раз им встретились на походе кавалеристы Третьего савойского полка. С пиками, по снегу. Дыхание лошадей поднималось султанами в морозном воздухе. Нет, это было не здесь. Где же это было? — Только бы мне добраться до этого чертова велосипеда, — сказал себе Ник. — А то еще заблудишься и не попадешь в Форначи. Ernest Hemingway. A Way You’ll Never Be (1933). Пер. — И.Кашкин. В кн. “Эрнест Хемингуэй”. М., “Правда”, 1984. OCR & spellcheck by HarryFan, 14 November 2000 Рог быка В Мадриде полно мальчиков по имени Пако — уменьшительное от Франсиско, — и есть даже анекдот о том, как один отец приехал в Мадрид и поместил на последней странице “Эль Либераль” объявление: “Пако жду тебя отеле Монтана вторник двенадцать все простил папа”, и как пришлось вызвать отряд конной жандармерии, чтобы разогнать восемьсот молодых людей, явившихся по этому объявлению. Но у того Пако, который служил младшим официантом в пансионе Луарка, не было ни отца, от которого он мог ждать прощения, ни грехов, которые нужно было прощать. У него были две старшие сестры, служившие горничными в пансионе Луарка, куда они попали благодаря тому, что прежняя горничная Луарки, их землячка, оказалась честной и работящей и тем заслужила добрую славу своей деревне и ее уроженкам; и эти сестры дали ему денег на автобус до Мадрида и пристроили его младшим официантом в тот же пансион. Он был родом из Эстремадуры, где живут в первобытной дикости, едят скудно, а об удобствах не имеют понятия, и сколько он себя помнил, ему всегда приходилось работать с утра до вечера. Это был складный подросток с очень черными, слегка вьющимися волосами, крепкими зубами и кожей, которой завидовали его сестры; и улыбка у него была открытая и ясная. Он был расторопен и хорошо справлялся со своим делом, любил своих сестер, казавшихся ему красавицами и умницами, любил Мадрид, для него еще полный чудес, и любил свою работу, которой яркий свет, чистые скатерти, обязательный фрак и обилие еды на кухне придавали романтический блеск. В пансионе Луарка постоянно жило человек десять-двенадцать, но для Пако, самого молодого из трех официантов, прислуживавших в столовой, существовали только те, кто имел отношение к бою быков. Второразрядные матадоры охотно селились в этом пансионе, потому что Калье-Сан-Херонимо было респектабельным адресом, кормили там превосходно, а за стол и комнату брали недорого. Всякому тореро необходимо производить впечатление человека если не богатого, то, по крайней мере, солидного, поскольку в Испании декорум и внешний лоск ценятся выше мужества, и тореро жили в Луарке, покуда в кармане оставалась хоть песета. Не было случая, чтобы кто-нибудь из них сменил Луарку на лучший или более дорогой отель, — второразрядные тореро никогда не переходят в первый разряд; зато падение с высот Луарки бывало стремительным, потому что всякий, кто хоть что-нибудь зарабатывал, мог жить там спокойно, и если уж гостю подавали счет, не дожидаясь требования, — значит, хозяйка пансиона убедилась, что случай безнадежный. В то время в Луарке жили три опытных матадора, а кроме того, два очень хороших пикадора и один превосходный бандерильеро. Для пикадоров и бандерильеро, которым приходилось жить в Мадриде всю весну, а семью оставлять 203 204 РОГ БЫКА в Севилье, Луарка была роскошью; но им хорошо платили, и они имели постоянную работу у матадоров, подписавших несколько контрактов на весенний сезон, и этот подсобный персонал всегда зарабатывал больше, чем любой из трех матадоров, живших в Луарке. Из этих трех матадоров один был болен и тщательно скрывал это, другой когда-то привлек к себе внимание публики, но быстро вышел из моды, а третий был трус. Матадор-трус прежде, до страшной раны в живот, полученной им в одно из первых его выступлений на арене, был на редкость смелым и замечательно ловким, и у него еще сохранились кое-какие замашки от времен его славы. Он был всегда безудержно весел и хохотал по всякому поводу, а то и без всякого повода. В свои лучшие дни он любил подшутить над другими, но теперь он это бросил. Для этого нужна была уверенность в себе, которой он уже не чувствовал. У этого матадора было умное, открытое лицо, и он держал себя с большим достоинством. Матадор, который был болен, больше всего боялся показать это и считал своим долгом не пропускать ни одного блюда, которое подавалось к столу. У него было очень много носовых платков, которые он сам стирал у себя в комнате, и за последнее время он стал распродавать свои пышные костюмы. Один он задешево продал перед рождеством, а другой — в начале апреля. Костюмы были очень дорогие, он всегда очень бережно обращался с ними, и у него еще оставался один. До своей болезни он подавал большие надежды, имел даже шумный успех, и хотя был неграмотен, но хранил у себя вырезки из газет, где говорилось, что в свой мадридский дебют он превзошел Бельмонте. Он ел один, за маленьким столиком, почти не поднимая глаз от тарелки. Матадор, который вышел из моды, был очень маленького роста, смуглый и важный. Он тоже ел за отдельным столом, улыбался редко и никогда не смеялся. Он был родом из Вальядолида, где не любят шуток, и он был способным матадором, но его стиль устарел, прежде чем он успел заслужить симпатии публики своими главными достоинствами — мужеством и уверенным мастерством, и теперь его имя на афише не делало сборов. Вначале он привлек к себе внимание своим маленьким ростом: глаза его приходились на одном уровне с загривком быка, но, кроме него, были и другие невысокие матадоры, и ему так и не удалось стать любимцем публики. Из пикадоров один был седой, худощавый, с ястребиным лицом, тщедушный на вид, хотя руки и ноги у него были как из железа; он всегда носил охотничьи сапоги и брюки навыпуск, слишком много пил по вечерам и влюбленно глядел на всех женщин в пансионе. Другой был рослый детина, смуглый, красивый, с черными, как у индейца, волосами и огромными ручищами. Оба были отличные пикадоры, хотя о первом ходили слухи, что пьянство и разврат сильно вредят его искусству, а про второго говорили, что из-за своего упрямства и сварливости он ни с кем из матадоров не может проработать больше одного сезона. Бандерильеро был уже немолод, с проседью, невысокого роста, увертливый, как кошка, несмотря на свои годы, и когда он сидел за столом с газетой, то походил на дельца среднего достатка. Ноги у него еще были крепки, а когда они утратят силу, у него хватит смекалки и опыта, чтобы еще надолго удержаться на работе. Разница только в том, что, утратив быстроту движений, он постоянно будет испытывать страх, тогда как сейчас он всегда спокоен и уверен и на арене, и вне ее. РОГ БЫКА 205 В тот вечер все уже кончили ужинать, и в столовой оставались только пикадор с ястребиным лицом, который слишком много пил, бродячий ярмарочный торговец с родимым пятном на всю щеку, который тоже слишком много пил, и два священника из Галисии, которые сидели за угловым столом и пили, если не слишком много, то, во всяком случае, достаточно. В то время в Луарке за вино особой платы не брали, это входило в стоимость пансиона, и официанты только что подали по новой бутылке вальдепеньяс сначала торговцу, потом пикадору и, наконец, священникам. Все три официанта стояли у дверей. В Луарке было заведено, что официант мог уйти, только когда освобождались все его столы, но в этот вечер тот, за чьим столиком сидели священники, торопился на собрание анархо-синдикалистов, и Пако пообещал его заменить. Наверху матадор, который был болен, лежал ничком на постели, один в своей комнате. Матадор, который вышел из моды, сидел у окна и смотрел на улицу, собираясь отправиться в кафе. Матадор, который стал трусом, зазвал к себе в комнату старшую сестру Пако и чего-то от нее добивался, а она, смеясь, отмахивалась от него. Он говорил: — Да ну же, не будь такой дикаркой. — Не хочу, — говорила сестра. — С какой стати? — Просто из любезности. — Вы хорошо поужинали, а теперь сладкого захотели? — Один разочек. Тебя от этого не убудет. — Не приставайте. Говорят вам, не приставайте. — Ведь это же такие пустяки. — Говорят вам, не приставайте. Внизу, в столовой, самый высокий официант, тот, что опаздывал на собрание, сказал: — Вы только посмотрите, как они лакают вино, эти черные свиньи. — Что за выражения, — сказал второй официант.— Они вполне приличные гости. Они пьют не так уж много. — Самые правильные выражения, — сказал высокий. — Два бича Испании: быки и священники. — Но не каждый же бык и не каждый священник, — сказал второй официант. — Именно каждый, — сказал высокий официант. — Только борясь против каждого в отдельности, можно побороть весь класс. Нужно уничтожить всех быков и всех священников. Всех до одного перебить. Тогда мы от них избавимся. — Прибереги это для собрания — сказал второй официант. — Мадридская дикость, — сказал высокий официант. — Уже половина двенадцатого, а они еще торчат за столом. — Они только в десять сели, — сказал второй официант. — Ты же знаешь, блюд много. Вино это дешевое, и они заплатили за него. Это не крепкое вино. — С такими дураками, как ты, где тут думать о рабочей солидарности, — сказал высокий официант. — Слушай, — сказал второй официант, которому было лет под пятьдесят. — Я работал всю свою жизнь. Весь остаток жизни я тоже должен работать. Я на работу не жалуюсь. Работать — это в порядке вещей. — Да, но не иметь работы — это смерть. 206 РОГ БЫКА — Я всегда работал, — сказал пожилой официант. — Ступай на собрание. Можешь не дожидаться. — Ты хороший товарищ, — сказал высокий официант. — Но у тебя нет никакой идеологии. — Mejor si me falta eso que el otro, — сказал пожилой официант (в том смысле, что лучше не иметь идеологии, чем не иметь работы). — Ступай на свое собрание. Пако ничего не говорил. Он еще не разбирался в политике, но у него всегда захватывало дух, когда высокий официант говорил про то, что нужно перебить всех священников и всех жандармов. Высокий официант олицетворял для него революцию, а революция тоже была романтична. Сам он хотел бы быть добрым католиком, революционером, иметь хорошее постоянное место, такое, как сейчас, и в то же время быть тореро. — Иди на собрание, Игнасио, — сказал он. — Я возьму твой стол. — Мы вдвоем возьмем его, — сказал пожилой официант. — Да тут и одному делать нечего, — сказал Пако. — Иди на собрание. — Pues me voy, — сказал высокий официант. — Спасибо вам. Между тем, наверху сестра Пако ловко вывернулась из объятий матадора, как борец из обхвата противника, и сердито говорила: — Уж эти мне голодные. Горе-матадор. От страха едва на ногах стоит. Поберегли бы свою прыть для арены. — Ты говоришь, как самая настоящая шлюха. — Что ж, — и шлюха — человек, да только я не шлюха. — Ну, так будешь шлюхой. — Только не по вашей милости. — Оставь меня в покое, — сказал матадор; оскорбленный и отвергнутый, он чувствовал, как позорная трусость снова овладевает им. — В покое? А я, кажется, вас и не беспокоила, — сказала сестра. — Вот только приготовлю вам постель. Мне за это деньги платят. — Оставь меня в покое! — сказал матадор, и его широкое красивое лицо исказилось гримасой, как будто он собирался заплакать. — Шлюха. Дрянная шлюшонка. — Мой матадор, — сказала она, закрывая за собой дверь. — Мой славный матадор. Матадор сидел на постели. На его лице все еще была гримаса, которую во время боя он превращал в застывшую улыбку, пугая ею зрителей передних рядов, понимавших, что происходит перед ними. — Еще и это, — повторял он вслух. — Еще и это! И это! Он помнил то время, когда был еще в форме, и это было всего три года назад. Он помнил тяжесть расшитой куртки в тот знойный майский день, когда его голос еще звучал одинаково на арене и в кафе, и как он направил острие клинка в покрытое пылью место между лопатками, щетинистый черный бугор мышц за широко разведенными, могучими, расщепленными на концах рогами, которые опустились, когда он приготовился убить, и как шпага вошла, легко, словно в ком застывшего масла, а он стоял, нажимая ладонью головку эфеса, левая рука наперекрест, левое плечо вперед, тяжесть тела на левой ноге, — и вдруг нога перестала чувствовать тяжесть тела. Вся тяжесть была теперь внизу живота, и когда бык поднял голову, одного рога не было видно, рог был весь в РОГ БЫКА 207 нем, и он два раза качнулся в воздухе, прежде чем его сняли. И теперь, когда он готовится убить, а это бывает редко, он не может смотреть на рога, и где какойто шлюхе понять, что он испытывает, выходя на бой? А много ли пришлось испытать тем, что смеются над ним? Все они шлюхи, и черт с ними. Внизу, в столовой, пикадор сидел и смотрел на священников. Если в комнате бывали женщины, он разглядывал женщин. Если женщин не было, он с любопытством разглядывал какого-нибудь иностранца, un inglés, но, так как сейчас не было ни женщин, ни англичан, он разглядывал весело и дерзко двух священников за угловым столом. Между тем торговец с родимым пятном на щеке встал, сложил свою салфетку и вышел, оставив на столе наполовину недопитую бутылку. Если б его счет в Луарке был оплачен, он выпил бы все вино. Священники не смотрели на пикадора. Один из них говорил: — Вот уже десять дней, как я здесь, и целые дни я просиживаю в передней, а он меня не принимает. — Что же делать? — Ничего. Что можно сделать? Против власти не пойдешь. — Я уже две недели здесь, и тоже ничего. — Все дело в том, что мы из захолустья. Вот выйдут все деньги, и придется ехать назад. — В свое захолустье. Мадриду нет дела до Галисии. Провинция бедная, глухая. — Можно вполне понять поступок брата Базилио. — И все-таки я как-то не очень доверяю Базилио Альваресу. — В Мадриде многое научишься понимать: Мадрид — погибель Испании. — Хоть бы уж принял и отказал. — Нет. Раньше нужно вымотать человека, извести ожиданием. — Ну что ж, посмотрим. Я умею ждать не хуже других. В эту минуту пикадор поднялся с места, подошел к столу священников и остановился — седой, похожий на ястреба, разглядывая их и улыбаясь. — Torero, — сказал один священник другому. — И хороший torero, — сказал пикадор и вышел из столовой — тонкий в талии, кривоногий, в серой куртке, узких брюках навыпуск и сапогах скотовода, каблуки которых пощелкивали, когда он шел к выходу, ступая вполне твердо и улыбаясь самому себе. Его жизнь была замкнута в узком, тесном мирке профессиональных достижений, ночных пьяных подвигов и неумеренного хвастовства. В вестибюле он закурил сигару и, сдвинув шляпу на одно ухо, отправился в кафе. Священники вышли тотчас же за пикадором, смущенно заторопившись, когда заметили, что они позже всех задержались за столом и в комнате никого не осталось. Пако и пожилой официант убрали со столов и вынесли на кухню бутылки. На кухне сидел Энрике, парень, который мыл посуду. Он был тремя годами старше Пако и уже озлоблен и циничен. — На, выпей, — сказал ему пожилой официант, налил стакан вальдепеньяс и подал ему. — Можно, — Энрике взял стакан. — А ты, Пако? — спросил пожилой официант. — Спасибо, — сказал Пако. Все трое выпили. 208 РОГ БЫКА — Ну, я ухожу, — сказал пожилой официант. — Спокойной ночи, — ответили они ему. Он вышел, и они остались одни. Пако взял салфетку, которой утирал губы один из священников, и, выпрямившись, сдвинув пятки, опустил салфетку вниз и потом провел ею по воздуху, следуя головой за движением руки в неторопливой, размеренной веронике. Он повернулся и, чуть выставив вперед ногу, сделал второй взмах, затем шагнул вперед, заставляя отступить воображаемого быка, и сделал третий взмах, неторопливый, безукоризненно ритмичный и плавный, потом, собрав салфетку, прижал ее к боку и, сделав полуверонику, увернулся от быка. Энрике следил за его движениями критическим и насмешливым взглядом. — Ну, как бык? — спросил он. — Бык очень храбрый, — сказал Пако. — Смотри. Став в позу, стройный и прямой, он сделал еще четыре безукоризненных взмаха, легких, закругленных и изящных. — А бык что? — спросил Энрике, стоя у водопроводной раковины в фартуке, со стаканом вина в руке. — Еще хоть куда, — сказал Пако. — Не глядел бы я на тебя, — сказал Энрике. — А что? — Смотри! — Энрике сбросил фартук и, дразня воображаемого быка, исполнил четыре безукоризненных, томно-плавных вероники и закончил реболерой, описав фартуком четкий полукруг под самой мордой быка, перед тем, как отойти от него. — Видал? — сказал он. — А я посуду мою. — Почему же? — Страх, — сказал Энрике. — Miedo. Такой же страх и ты бы почувствовал на арене, перед быком. — Нет, — сказал Пако. — Я бы не боялся. — Leche! — сказал Энрике. — Все боятся. Только матадоры умеют подавлять свой страх, и он не мешает им работать с быком. Я раз участвовал в любительском бое быков, и мне было так страшно, что я не выдержал и убежал. Все очень смеялись. И ты бы тоже боялся. Если бы не этот страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором. Ты бы еще больше меня струсил — ведь ты деревенский. — Нет, — сказал Пако. Он столько раз проделывал все это в своем воображении. Столько раз он видел рога, видел влажную бычью морду, и как дрогнет ухо, и потом голова пригнется книзу, и бык кинется, стуча копытами, и разгоряченная туша промчится мимо него, когда он взмахнет плащом, и снова кинется, когда он взмахнет еще раз, потом еще, и еще, и еще, и закружит быка на месте своей знаменитой полувероникой, и, покачивая бедрами, отойдет прочь, выставляя напоказ черные волоски, застрявшие в золотом шитье куртки, а бык будет стоять как вкопанный перед аплодирующей толпой. Нет, он бы не боялся. Другие — может быть. Но он — нет. Он знал, что не боялся бы. А если бы он и почувствовал когда-нибудь страх, он знал, что сумел бы проделать все, что нужно. Он был уверен в себе. — Я бы не боялся, — сказал он. Энрике повторил ругательство. Потом он сказал: РОГ БЫКА 209 — А давай попробуем. — Как? — Смотри, — сказал Энрике. — Ты думаешь о быке, но ты не думаешь о рогах. У быка сила знаешь какая, — его рог режет, как нож, колет, как штык, и глушит, как дубина. Смотри. — Он выдвинул ящик и достал два больших кухонных ножа. — Я их привяжу к ножкам стула. Я буду за быка, и стул буду держать над головой. Ножи — это рога. Вот если ты так проделаешь все свои приемы, это уж будет всерьез. — Дай мне твой фартук, — сказал Пако, — мы это сделаем в столовой. — Нет, — сказал Энрике, вдруг забыв свою злость.— Не надо, Пако. — Давай, — сказал Пако. — Я не боюсь. — Будешь бояться, когда увидишь перед собой ножи. — Посмотрим, — сказал Пако. — Давай фартук. В то время, когда Энрике, взяв два тяжелых, отточенных, как бритва, кухонных ножа, накрепко привязывал их к ножкам стула грязными салфетками, до половины прихватывая нож, туго прикручивая и потом завязывая узлом, обе горничные, сестры Пако, направлялись в кино, смотреть “Анну Кристи” с Гретой Гарбо. Один из двух священников сидел на постели, в нижнем белье и читал свой требник, а другой надел уже ночную сорочку и бормотал молитвы, перебирая четки. Все тореро, за исключением того, который был болен, уже совершили свой вечерний выход в кафе Форнос, и высокий смуглый пикадор играл на бильярде. Маленький неразговорчивый матадор пил кофе с молоком за столиком, вокруг которого теснились пожилой бандерильеро и еще несколько настоящих профессионалов. Подвыпивший седой пикадор сидел за рюмкой коньяка и с удовольствием поглядывал на соседний стол, где матадор, который утратил мужество, сидел с другим матадором, который сменил шпагу на бандерильи, и с двумя довольно потрепанного вида проститутками. Торговец остановился на углу и беседовал с приятелями. Высокий официант сидел на собрании анархо-синдикалистов и ждал случая выступить. Пожилой официант расположился на террасе кафе Альварес и потягивал пиво. Хозяйка Луарки уже заснула, лежа на спине: большая, толстая, честная, опрятная, добродушная, очень набожная, все еще не переставшая оплакивать и каждый день поминать в своих молитвах мужа, который умер двадцать лет назад. Один в своей комнате, матадор, который был болен, ничком лежал на постели, зажимая рот платком. А в пустой столовой Энрике затянул последний узел на салфетках, которыми ножи были привязаны к ножкам стула, и поднял стул. Он повернул его ножками вверх и держал над головой так, что ножи торчали по обе стороны лица. — А тяжело, — сказал он, — Смотри, Пако, это очень опасно. Лучше не надо. — Он весь вспотел. Пако встал к нему лицом и во всю ширину расправил фартук, захватив по складке каждой рукой: большие пальцы вверх, указательные вниз, во всю ширину, чтобы привлечь внимание быка. — Кидайся прямо вперед, — сказал он. — А потом поворачивай, как бык. Кидайся столько раз, сколько захочешь. 210 РОГ БЫКА — А как ты узнаешь, когда делать последний взмах? — спросил Энрике. — Лучше всего, делай три полных и одну полуверонику. — Ладно, — сказал Пако. — Только ты иди прямо вперед. Ю-у, torito! Иди, бычок, иди! Низко пригнув голову, Энрике разбежался прямо на него, и Пако взмахнул фартуком в тот самый миг, когда острие ножа прошло около его живота. И когда оно мелькнуло перед ним, это был для него настоящий рог: черный, гладкий, с белым концом. И когда Энрике, проскочив мимо него, повернулся, чтобы снова броситься, — это разгоряченная, израненная туша быка прогрохотала мимо, потом извернулась по-кошачьи и снова пошла на него, когда он медленно взмахнул плащом. Потом бык снова повернул и, не сводя глаз с приближающегося острия, он ступил левой ногой вперед на два дюйма дальше, чем нужно. И нож не мелькнул мимо, но вонзился: легко, словно в мех с вином, и что-то брызнуло, обжигая, из-под внезапного упора стали внутри, и Энрике закричал: “Ай! Ай! Дай я вытащу!” — и Пако повалился, все еще не выпуская из рук фартука-плаща, а Энрике тянул стул к себе, и нож поворачивался в нем — в нем, в Пако. Наконец нож вышел, и он сидел на полу, в расплывающейся все шире теплой луже. — Приложи салфетку. Прижми ее! — сказал Энрике. — Крепче прижми! Я побегу за доктором. Постарайся сдержать кровотечение! — Нужно резиновый жгут, — сказал Пако. — Он видел, как это делают на арене. — Я шел прямо, — сказал Энрике плача. — Я только хотел показать, как это опасно... — Ничего, — сказал Пако, и голос его шел как будто издалека, — только приведи доктора. На арене тогда поднимают и несут, почти бегом, в операционную. Если почти вся кровь из бедренной артерии вытечет по дороге, тогда зовут священника. — Позови священника сверху, — сказал Пако. Он никак не мог поверить, что это случилось с ним. Но Энрике бежал уже по Каррера-Сан-Херонимо к пункту скорой помощи, и Пако оставался один до самого конца. Сначала сидел, потом скорчился на полу, потом упал ничком и так лежал, пока все не кончилось, чувствуя, как жизнь выходит из него, словно вода из ванны, когда откроют сток. Ему было страшно, у него кружилась голова, он хотел прочитать покаянную молитву и уже вспомнил начало... но едва он успел сказать скороговоркой: “Велика скорбь моя, Господи, что я прогневил тебя, который достоин всей любви моей, и я твердо... .” — голова у него закружилась, еще сильнее, и он уже ничего не мог вспомнить и только лежал ничком на полу. Все кончилось очень скоро. Кровь из бедренной артерии вытекает быстрее, чем думают. Когда врач скорой помощи поднимался по лестнице вместе с полицейским, который держал Энрике за плечо, обе сестры Пако все еще сидели в кинотеатре на Виа Гранде. Они все больше разочаровывались в фильме с Гарбо, где знаменитая звезда являлась в жалкой, нищенской обстановке, тогда как они привыкли видеть ее окруженной роскошью и богатством. Публика была очень недовольна фильмом и в знак возмущения свистела и топала ногами. РОГ БЫКА 211 Все остальные обитатели пансиона были заняты почти тем же, что и в момент несчастия, только оба священники кончили уже молиться и готовились лечь спать, а седой пикадор перенес свой коньяк на стол, где сидели потрепанные проститутки. Немного спустя он снова вышел из кафе с одной из них. Это была та, которую угощал матадор, утративший мужество. Мальчик Пако так и не узнал ни об этом, ни о том, что делали эти люди на следующий день и все другие дни. Он ничего не знал о том, как такие люди живут и умирают. Он даже не думал о том, что они вообще умирают. Он умер, как говорится, полный иллюзий. И он не успел потерять ни одной из них, как не успел прочесть до конца покаянную молитву. Он не успел даже разочароваться в фильме с Гарбо, что уже две недели разочаровывал весь Мадрид... Старик и море — Благовещенск: Хабаровское книжное издательство, 1979 (Та книга печаталась по четырехтомному изданию собрания сочинений М: Государственное издание художественной литературы, 1968) OCR: Сергей Зимин Che Ti Dice La Patria? * О чем говорит тебе родина? (итал.) Рано утром дорога через перевал была твердая, гладкая и еще не пыльная. Внизу были холмы, поросшие дубом и каштановыми деревьями, а еще ниже вдали — море. По другую сторону — снеговые горы. Мы спускались с перевала по лесистой местности. Вдоль дороги лежали груды угля, а между деревьями виднелись шалаши угольщиков. Был воскресный день. Дорога то поднималась, то опускалась, но все время удалялась от перевала, шла через деревни и мелкие кустарники. За деревнями раскинулись виноградники. Они уже потемнели, и лоза стала жесткой и грубой. Домики были белые, а на улицах люди, одетые попраздничному, гоняли мяч. Вдоль домиков росли грушевые деревья, и их ветки на фоне белых стен были похожи на канделябры. На листьях были заметны следы опрыскивания, и на стенах еще виднелись пятна, отливавшие сине-зеленым металлическим блеском. Вокруг деревень были небольшие расчищенные участки, где рос виноград, а за ними — леса. В деревне, в двадцати километрах от Специи, на площади собралась толпа. Какой-то молодой человек с чемоданом в руке подошел к нашему автомобилю и попросил довезти его до Специи. — Только два места, и оба заняты, — сказал я. У нас был старый двухместный форд. — Я поеду на подножке. — Вряд ли вам будет удобно. — Ничего. Мне нужно в Специю. — Возьмем его? — спросил я Гая. — Он все равно увяжется, — ответил Гай. Молодой человек протянул нам в окно сверток. — Возьмите это к себе, — сказал он. Двое мужчин привязали его чемодан поверх нашего сзади машины. Он попрощался с ними за руку, сказав, что для фашиста и человека, привыкшего к путешествиям, не существует неудобств, вскочил на левую подножку автомобиля, просунув правую руку в окно. — Можно ехать, — сказал он. Из толпы ему замахали. Он махнул в ответ свободной рукой. — Что он сказал? — спросил меня Гай. — Что мы можем ехать. — Хорош, а? — заметил Гай. Дорога шла вдоль реки. За рекой тянулись горы. Иней на траве таял на солнце. Холодный прозрачный воздух врывался через поднятый щит машины. 213 214 CHE TI DICE LA PATRIA? — Интересно, как он там себя чувствует? Гай смотрел вперед. С левой стороны наш спутник закрывал от него дорогу. Молодой человек торчал на подножке машины, как фигура на носу корабля. Он поднял воротник пальто и нахлобучил шляпу. Нос его посинел от холода. — Может быть, это ему скоро надоест. С той стороны у нас садится шина, — сказал Гай. — Да он живо соскочит, если шина лопнет, — ответил я. — Он не захочет испачкать в пыли свой дорожный костюм. — Ладно. Он мне не мешает, — сказал Гай. — Только здорово кренит машину на поворотах. Леса кончились; река осталась позади; дорога пошла в гору; вода в радиаторе кипела; молодой человек со скучающим и недоверчивым видом смотрел на пар и ржавую воду; машина кряхтела. Гай нажал педаль первой скорости, толчок вперед, еще вперед, потом назад, опять вперед, и машина взяла подъем. Кряхтенье прекратилось, и в наступившей тишине слышно было только бульканье воды в радиаторе. Мы были на самой высокой точке над Специей и морем. Дорога стала спускаться короткими крутыми петлями. Наш попутчик свешивался на виражах, почти опрокидывая на себя перегруженную машину. — Нельзя же запретить ему, — сказал я Гаю. — Ведь это инстинкт самосохранения. — Великий итальянский инстинкт. — Величайший итальянский инстинкт. Крутыми поворотами, сквозь густую пыль, мы спускались к морю. Оливы посерели от пыли. Внизу раскинулась Специя. Перед городом дорога выровнялась, Наш попутчик просунул голову в окно. — Мне здесь надо сойти. — Стой, — сказал я Гаю. Мы замедлили ход и остановились у края дороги. Молодой человек соскочил, подошел сзади к машине и отвязал чемодан. — Ну, я останусь здесь. Теперь у вас не будет неприятностей из-за пассажира. Мой сверток. Я протянул ему сверток. Он порылся в кармане. — Сколько с меня? — Ничего. — Почему? — Да так, — ответил я. — Ну что же, благодарю. Молодой человек не сказал: “благодарю вас”, или “очень вам благодарен”, или “тысяча благодарностей”, — словом, все то, что полагалось раньше говорить в Италии человеку, который протягивал вам расписание поездов или объяснял, как пройти куда-нибудь. Он выбрал самое сухое “благодарю” и очень подозрительно посмотрел на нас, когда Гай тронул машину. Я помахал ему рукой. Он был слишком преисполнен собственного достоинства, чтобы ответить. Мы въехали в город. — Этот молодой человек в Италии далеко пойдет, — сказал я Гаю. — Конечно, — ответил Гай. — На двадцать километров он уже продвинулся. Мы заехали в Специю, чтобы закусить. Улица была широкая, дома высокие и желтые. По трамвайным путям мы добрались до центра города. На стенах CHE TI DICE LA PATRIA? 215 домов виднелись сделанные при помощи трафарета портреты Муссолини с вытаращенными глазами, а под ними от руки “Vivas”; от двух V по стене шли брызги черной краски. Боковые улочки спускались к гавани. День был яркий, и все высыпали на улицу по случаю воскресенья. Мостовая была только что спрыснута, и струйки воды сбегали в пыли. Мы ехали вдоль тротуара, чтобы не столкнуться с трамваем. — Выберем ресторанчик попроще, — сказал Гай. Мы затормозили около двух ресторанных вывесок. Наша машина остановилась на противоположной стороне улицы. Я купил газеты. Оба ресторана были рядом. Женщина, стоявшая у входа одного из них, улыбнулась нам. Мы пересекли улицу и вошли. Внутри было темно. В глубине комнаты за столом сидели три девушки и старуха. Прямо против нас за другим столиком сидел матрос. Он ничего не ел и не пил. Еще дальше — молодой человек в синем костюме писал за столом. Волосы его были напомажены и блестели; он был хорошо одет и имел франтоватый вид. Свет проникал через входную дверь и окно, где на витрине были выставлены фрукты, овощи, ветчина. Одна из девушек подошла к нам принять заказ, другая стояла в дверях. Мы заметили, что платье ее было надето на голое тело. Девушка, принимавшая заказ, обняла Гая за шею, пока мы рассматривали меню. Девушек было три, и они по очереди выходили и стояли в дверях. Старуха, сидевшая в глубине комнаты за столом, пошепталась с ними, и они снова уселись вместе с ней. В комнате была только одна дверь, которая вела в кухню. На ней висела занавеска. Девушка, принявшая заказ, принесла из кухни спагетти. Она поставила перед нами блюдо, подала бутылку красного вина и подсела к столику. — Ну вот, — сказал Гай, — ты искал местечка попроще. — Да, здесь как будто совсем не просто. Скорее — наоборот. — Что вы говорите? — спросила девушка. — Вы немцы? — Южные немцы, — ответил я. — Южные немцы, приветливый, хороший народ. — Не понимаю, — сказала девушка. — Как здесь принято? — спросил Гай. — Обязательно, чтобы она меня обнимала за шею? — Конечно, — ответил я. — Муссолини уничтожил публичные дома. Это ресторан. На девушке было надето гладкое платье. Она облокотилась на стол, скрестила руки на груди и улыбнулась. С одной стороны лица улыбка у нее была привлекательнее, чем с другой, и она все время поворачивала эту сторону к нам. Очарование этой стороны подчеркивалось еще тем, что с другой нос ее был вдавлен, точно он был из теплого воска. Но, в сущности, ее нос не был похож на теплый воск. Он был очень холодный и твердый, только сбоку немного вдавлен. — Я вам нравлюсь? — спросила она Гая. — Он обожает вас, — сказал я. — Только он не говорит по-итальянски. — Ich spreche deutsch23, — сказала она и погладила Гая по волосам. — Гай, поговори с леди на твоем родном языке. 23 я говорю по-немецки (нем.) 216 CHE TI DICE LA PATRIA? — Откуда вы приехали? — спросила девушка. — Из Потсдама. — И побудете здесь? — В этой чудесной Специи? — спросил я. — Скажи ей, что мы собираемся уезжать. Скажи, что мы очень больны и у нас нет денег, — сказал Гай. — Мой друг — закоренелый женоненавистник. Он настоящий немец и ненавидит женщин. — Скажите, что я люблю его. Я сказал. — Перестань болтать вздор, и давай лучше удерем, — продолжал Гай. Девушка обняла его другой рукой. — Скажите ему, что он мой. Я сказал. — Уйдем мы отсюда когда-нибудь или нет? — Отчего вы ссоритесь? — сказала девушка. — Вы не любите друг друга? — Мы немцы, — ответил я с гордостью. — Настоящие немцы с юга. — Скажите ему, что он красивый малый, — сказала девушка. Гаю тридцать восемь лет, и он слегка гордится тем, что во Франции его принимают за путешествующего коммивояжера. — Ты красивый малый, — сказал я. — Кто это говорит? — спросил Гай. — Ты или она? — Конечно, она. Я всего-навсего переводчик. Ведь только потому ты и взял меня с собой. — Хорошо, что это она, — сказал Гай. — А не то пришлось бы нам тут расстаться. — Ну что же. Специя — приятное местечко. — Специя? — спросила девушка. — Вы говорите о Специи? — Приятное местечко, — сказал я. — Это моя родина. Специя — мой родной город, а Италия — моя родина. — Она говорит, что Италия — ее родина. — Оно и видно, что это ее родина. — Что у вас на десерт? — спросил я. — Фрукты, — сказала она. — Есть бананы. — Бананы, пожалуй, можно, — заметил Гай. — Они хоть с кожурой. — Ах, он любит бананы, — сказала девушка. Она обняла Гая. — Что она говорит? — спросил Гай, отворачивая лицо. — Она радуется, что ты любишь бананы. — Скажи ей, что я не люблю бананов. — Синьор не любит бананов. — Ах, — сказала девушка упавшим голосом, — он не любит бананов. — Скажи ей, что я люблю утром холодную ванну. — Синьор любит холодную ванну по утрам. — Не понимаю, — сказала девушка. Сидевший против нас бутафорский моряк не двигался с места. Никто в комнате не обращал на него никакого внимания. — Дайте нам счет, — сказал я. — Нет, нет, останьтесь! CHE TI DICE LA PATRIA? 217 — Послушай! — сказал франтоватый молодой человек из-за стола, за которым он писал. — Пускай они уходят, они ничего не стоят. Девушка взяла меня за руку. — Ну останьтесь! Попросите его остаться. — Нам нужно ехать, — сказал я. — Сегодня к вечеру мы должны попасть в Пизу, а если удастся, то и во Флоренцию. Мы можем вечером там поразвлечься. Сейчас еще рано. Мы должны доехать засветло. — Отдохнуть немного — тоже хорошо. — Путешествовать необходимо при дневном свете. — Послушай, — сказал франтоватый молодой человек. — Не трать с ними времени понапрасну. Говорю тебе, они ничего не стоят. Уж я-то знаю. — Подайте нам счет, — сказал я. Девушка взяла счет у старухи, вернулась обратно и села опять за стол. Другая девушка вошла из кухни. Она прошла через всю комнату и стала в дверях. — Не трать с ними времени понапрасну, — сказал опять франтоватый молодой человек недовольным голосом. — Садись и ешь. Они ничего не стоят. Мы заплатили по счету и встали. Все девушки, старуха и франтоватый молодой человек сели вместе за стол. Бутафорский моряк сидел, опустив голову на руки. Пока мы завтракали, никто с ним не заговаривал. Девушка принесла нам сдачу, которую отсчитала старуха, и вернулась к своему месту за столиком. Мы оставили ей на чай и вышли. Когда мы сели в машину, чтобы двинуться в путь, девушка вышла и стала в дверях. Машина тронулась, и я махнул рукой девушке. Она не ответила, только посмотрела нам вслед. Ernest Hemingway. Che Ti Dice La Patria? (1927) Пер. — Н.Георгиевская. В кн. “Эрнест Хемингуэй”. М., “Правда”, 1984. OCR & spellcheck by HarryFan, 14 November 2000 Десять индейцев Когда Ник возвращался из города с праздника 4 июля поздно вечером в большой повозке вместе с Джо Гарнером и его семьей, им попались на пути девять пьяных индейцев. Он запомнил, что их было девять, потому, что Джо Гарнер, погонявший лошадей, чтобы до ночи добраться домой, соскочил на дорогу и вытащил из колеи индейца. Индеец спал, уткнувшись носом в песок. Джо оттащил его в кусты и влез обратно в фургон. — Это девятый, — сказал Джо, — как из города выехали. — Уж эти индейцы! — проговорила миссис Гарнер. Ник сидел на задней скамье с двумя гарнеровскими мальчиками. Он выглянул из повозки посмотреть на индейца, которого Джо оттащил в сторону от дороги. — Это что, Билли Тэйбшо? — спросил Карл. — Нет. — А у него штаны совсем как у Билли. — У всех индейцев такие штаны. — Я его и не видел, — сказал Фрэнк. — Па так скоро соскочил и влез обратно, что я ничего не рассмотрел. Я думал, он змею переехал. — Ну, какая там змея! А вот индейцы — те сегодня действительно допились до зеленого змия, — сказал Джо Гарнер. — Уж эти индейцы! — повторила миссис Гарнер. Они поехали дальше. Фургон свернул с шоссе и стал подниматься в гору. Лошадям было тяжело; мальчики слезли и пошли пешком. Дорога была песчаная. Когда они миновали школу. Ник оглянулся с вершины холма. Он увидел огни в Питоски, а там вдали, за Литль-Траверс-Бей, огни Харбор-Спрингс. Они снова влезли в фургон. — Надо бы здесь дорогу гравием укрепить, — сказал Джо Гарнер. Теперь они ехали лесом. Джо и миссис Гарнер сидели рядом на передней скамье. Ник сидел сзади, между двумя мальчиками. Дорога вышла на просеку. — А вот здесь па хорька задавил. — Нет, дальше. — Неважно, где это было, — заметил Джо, не оборачиваясь. — Не все ли равно, где задавить хорька. — А я вчера вечером двух хорьков видел, — заявил Ник. — Где? — Там, около озера. Они по берегу дохлую рыбу искали. — Это, верно, еноты были, — сказал Карл. — Нет, хорьки. Что, я хорьков не знаю, что ли? — Тебе, да не знать! — сказал Карл. — Ты за индианкой бегаешь. — Перестань болтать глупости. Карл, — сказала миссис Гарнер. 219 220 ДЕСЯТЬ ИНДЕЙЦЕВ Джо Гарнер засмеялся. — Перестань смеяться, Джо, — заметила миссис Гарнер. — Я не позволю Карлу ерунду пороть. — Правда, ты за индианкой бегаешь, Ники? — спросил Джо. — Нет. — Нет, правда, па, — сказал Фрэнк. — Он за Пруденс Митчель бегает. — Неправда. — Он каждый день к ней ходит. — Нет, не хожу. — Ник, сидевший в темноте между двумя мальчиками, в глубине души чувствовал себя счастливым, что его дразнят Пруденс Митчель. — Вовсе я за ней не бегаю, — сказал он. — Будет врать! — сказал Карл. — Я их каждый день вместе встречаю. — А Карл ни за кем не бегает, — сказала мать, — даже за индианкой. Карл помолчал. — Карл не умеет с девчонками ладить, — сказал Фрэнк. — Заткнись! — Молодец, Карл! — заметил Джо Гарнер. — Девчонки до добра не доведут. Бери пример с отца. — Не тебе бы говорить. — И миссис Гарнер придвинулась поближе к Джо, воспользовавшись толчком повозки. — Мало у тебя в свое время подружек-то было. — Уж наверное, па никогда не водился с индианкой. — Как знать? — сказал Джо. — Ты смотри, Ник, не упусти Прюди. Жена что-то шепнула ему, Джо засмеялся. — Чего ты смеешься, па? — спросил Фрэнк. — Не говори, Гарнер, — остановила его жена. Джо опять засмеялся. — Пускай Ники берет себе Прюди. У меня и без того хорошая женка. — Вот это так, — сказала миссис Гарнер. Лошади тяжело тащились по песку. Джо хлестнул кнутом наугад. — Но-но, веселее! Завтра еще хуже придется. С холма лошади пошли рысью, повозку подбрасывало. Около фермы все вылезли. Миссис Гарнер отперла дверь, вошла в дом и вышла обратно с лампой в руках. Карл и Ник сняли поклажу с фургона. Фрэнк сел на переднюю скамью и погнал лошадей к сараю. Ник поднялся на крыльцо и открыл дверь кухни. Миссис Гарнер растапливала печку; она оглянулась, продолжая поливать дрова керосином. — Прощайте, миссис Гарнер! — сказал Ник. — Спасибо, что подвезли меня. — Не за что, Ники. — Я прекрасно провел время. — Мы тебе всегда рады. Оставайся, поужинай с нами. — Нет, я уж пойду. Меня па дожидается. — Ну, иди. Пошли, пожалуйста, домой Карла. — Хорошо. — До свидания, Ники! — До свидания, миссис Гарнер! Ник вышел со двора фермы и направился к сараю. Джо и Фрэнк доили коров. ДЕСЯТЬ ИНДЕЙЦЕВ 221 — До свидания! — сказал Ник. — Мне было очень весело. — До свидания, Ники! — крикнул Джо Гарнер. — А ты разве не останешься поужинать? — Нет, не могу. Скажите Карлу, что его мать зовет. — Ладно. Прощай, Ники! Ник босиком пошел по тропинке через луг позади сарая. Тропинка была гладкая, роса холодила босые ноги. Он перелез через изгородь в конце луга, спустился в овраг, увязая в топкой грязи, и пошел в гору через сухой березовый лес, пока не увидел огонек в доме. Он перелез через загородку и подошел к переднему крыльцу. В окно он увидел, что отец сидит за столом и читает при свете большой лампы. Ник открыл дверь и вошел. — Ну как, Ники? — спросил отец. — Хорошо провел время? — Очень весело, па. Праздник был веселый. — Есть хочешь? — Еще как! — А куда ты дел свои башмаки? — Я их оставил у Гарнеров в фургоне. — Ну, пойдем в кухню. Отец пошел вперед с лампой. Он остановился у ледника и поднял крышку. Ник вышел в кухню. Отец принес на тарелке кусок холодного цыпленка и кувшин молока и поставил их перед Ником. Лампу он поставил на стол. — Еще пирог есть, — сказал отец. — С тебя этого хватит? — За глаза! Отец сел на стул у покрытого клеенкой стола. На стене появилась его большая тень. — Кто же выиграл? — Питоски. Пять — три. Отец смотрел, как он ест; потом налил ему стакан молока из кувшина. Ник выпил и вытер салфеткой рот. Отец протянул руку к полке за пирогом. Он отрезал Нику большой кусок. Пирог был с черникой. — А ты что делал, па? — Утром ходил рыбу удить. — А что поймал? — Одного окуня. Отец сидел и смотрел, как Ник ест пирог. — А после обеда ты что делал? — спросил Ник. — Ходил прогуляться к индейскому поселку. — Видел кого-нибудь? — Все индейцы отправились в город пьянствовать. — Так и не видел совсем никого? — Твою Прюди видел. — Где? — В лесу, с Фрэнком Уошберном. Случайно набрел на них. Они недурно проводили время. Отец смотрел в сторону. — Что они делали? — Да я особенно не разглядывал. — Скажи мне, что они делали? 222 ДЕСЯТЬ ИНДЕЙЦЕВ — Не знаю, — сказал отец. — Я слышал только, как они там возились. — А почему ты знаешь, что это были они? — Видел. — Ты, кажется, сказал, что не разглядел их? — Нет, я их видел. — Кто с ней был? — спросил Ник. — Фрэнк Уошберн. — А им... им... — Что им? — А им весело было? — Да как будто не скучно. Отец встал из-за стола и вышел из кухни. Когда он вернулся к столу. Ник сидел, уставясь в тарелку. Глаза его были заплаканы. — Хочешь еще кусочек? Отец взял нож, чтобы отрезать кусок пирога. — Нет, — ответил Ник. — Съешь еще кусок. — Нет, я больше не хочу. Отец собрал со стола. — А где ты их видел? — спросил Ник. — За поселком. Ник смотрел на тарелку. Отец сказал: — Ступай-ка ты спать. Ник. — Иду. Ник вошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Он слышал шаги отца в соседней комнате. Ник лежал в постели, уткнувшись лицом в подушку. “Мое сердце разбито, — подумал он. — Я чувствую, что мое сердце разбито”. Через некоторое время он услышал, как отец потушил лампу и пошел к себе в комнату. Он слышал, как зашумел ветер по деревьям, и почувствовал холод, проникавший сквозь ставни. Он долго лежал, уткнувшись лицом в подушку, потом перестал думать о Прюди и, наконец, уснул. Когда он проснулся ночью, он услышал шум ветра в кустах болиголова около дома и прибой волн о берег озера и опять заснул. Утром, когда проснулся, дул сильный ветер, и волны высоко набегали на берег, и он долго лежал, прежде чем вспомнил, что сердце его разбито. Ernest Hemingway. Ten Indians (1927). Пер. — А.Елеонская. В кн. “Эрнест Хемингуэй”. М., “Правда”, 1984. OCR & spellcheck by HarryFan, 14 November 2000 Там, где светло и чисто Был поздний час, и никого не осталось в кафе, кроме одного старика — он сидел в тени дерева, которую отбрасывала листва, освещенная электрическим светом. В дневное время на улице было пыльно, но к ночи роса прибивала пыль, и старику нравилось сидеть допоздна, потому что он был глух, а по ночам было тихо, и он это ясно чувствовал. Оба официанта в кафе знали, что старик подвыпил, и хоть он и хороший гость, но если он слишком много выпьет, то уйдет, не заплатив; потому они и следили за ним. — На прошлой недели он пытался покончить с собой, — сказал один. — Почему? — Впал в отчаяние. — От чего? — Ни от чего. — А откуда ты знаешь, что ни от чего? — У него же уйма денег. Оба официанта сидели за столиком у стены возле самой двери и смотрели на террасу, где все столики были пусты, кроме одного, за которым сидел старик в тени дерева, листья которого слегка покачивались на ветру. Солдат и девушка прошли по улице. Свет уличного фонаря блеснул на медных цифрах у него на воротнике. Девушка шла с непокрытой головой и спешила, чтобы не отстать. — Патруль заберет его, — сказал официант. — Какая ему разница, он своего добился. — Ему бы сейчас лучше с этой улицы уйти. Прямо на патруль наскочит. И пяти минут нет, как прошли. Старик, что сидел в тени, постучал рюмкой о блюдце. Официант помоложе вышел к нему. — Вам чего? Старик посмотрел на него. — Еще бренди, — сказал он. — Вы будете пьяны, — сказал официант. Старик смотрел на него. Официант ушел. — Всю ночь просидит, — сказал он другому. — Я совсем не сплю. Раньше трех никогда не ляжешь. Лучше бы помер на прошлой неделе. Официант взял со стойки бутылку бренди и чистый стакан и направился к столику, где сидел старик. Н поставил стакан и налил его до краев. — Ну, что бы вам помереть на прошлой неделе, — сказал он глухому. Старик пошевелил пальцем. — Добавьте еще, — сказал он. Официант долил в рюмку еще столько, что бренди потек через край, по стакану, прямо в самый верхний из тех, что скопились перед стариком. 223 224 ТАМ, ГДЕ СВЕТЛО И ЧИСТО — Благодарю, — сказал старик. Официант унес бутылку обратно в кафе и снова сел за столик у двери. — Он уже пьян, — сказал он. — Он каждую ночь пьян. — Зачем ему было на себя руки накладывать? — Откуда я знаю. — А как он это сделал? — Повесился на веревке. — Кто ж его из петли вынул? — Племянница. — И зачем же это она? — За его душу испугалась. — А сколько у него денег? — Уйма. — Ему, должно быть, лет восемьдесят. — Я бы меньше не дал. — Шел бы он домой. Раньше трех никогда не ляжешь. Разве это дело? — Нравится ему, вот и сидит. — Скучно ему одному. А я не один — меня жена в постели ждет. — И у него когда-то жена была. — Теперь ему жена и к чему. — Ну, не скажи. С женой ему, может быть, лучше было бы. — За ним племянница ходит. — Знаю. Ты ведь сказал — это она его из петли. — Не хотел бы я дожить до его лет. Противные эти старики. — Не всегда. Он старик аккуратный. Пьет, ни капли не прольет. Даже сейчас, когда пьяный. Посмотри. — Не хочу и смотреть на него. Скорей бы домой шел. Никакого ему дела нет до тех, кому работать приходится. Старик перевел взгляд с рюмки на другую сторону площадки, потом — на официантов. — Еще бренди, — сказал он, показывая на рюмку. Тот официант, который спешил домой, вышел к нему. — Конец, — сказал он так, как говорят люди неумные с пьяными или иностранцами. — На сегодня ни одной больше. Закрываемся. — Еще одну, — сказал старик. — Нет, кончено. Официант вытер край столика полотенцем и покачал головой. Старик встал, не спеша сосчитал стаканы. Вынул из кармана кожаный кошелек и заплатил за коньяк, оставив полпесеты на чай. Официант смотрел ему вслед. Старик был очень сгорблен, шел неуверенно. Но с достоинством. — Почему ты не дал ему еще посидеть или выпить? — спросил официант, тот, что не спешил домой. Они стали закрывать ставни. — Ведь еще и половины третьего нет. — Я хочу домой, спать. — Ну, что значит один час. — Для меня — больше, чем для него. ТАМ, ГДЕ СВЕТЛО И ЧИСТО 225 — Час для всех — час. — Ты и сам, как старик, рассуждаешь. Может, купишь себе бутылку и выпьешь дома. — Это совсем другое дела. — Да, это верно, — согласился женатый. Он не хотел быть несправедливый. Просто он очень спешил. — А ты? Не боишься прийти домой раньше обычного? — Ты что, оскорбить меня хочешь? — Нет, друг, просто шучу. — Нет, — сказал тот, который спешил. Он запер внизу ставню и выпрямился. — Доверие. Полное доверие. — У тебя и молодость, и доверие, и работа есть, — сказал официант постарше. — Что еще человеку надо. — А тебе чего не хватает? — А у меня всего только работа. — У тебя все то же, что и у меня. — Нет. Доверия у меня никогда не было, а молодость прошла. — Ну, чего стоишь? Перестань говорить глупости, давай запирать. — А я вот люблю засиживаться в кафе, — сказал официант постарше. — Я из тех, кто не спешит в постель. Из тех, кому ночью нужен свет. — Я хочу домой, спать. — Разные мы люди, — сказал официант постарше. Он уже оделся, чтобы уходить. — дело вовсе не в молодости и доверии, хоть и то и другое чудесно. Каждую ночь мне не хочется закрывать кафе потому, что кому-нибудь оно очень нужно. — Ну что ты, ведь кабаки всю ночь открыты. — Не понимаешь ты ничего. Здесь, в кафе. Чисто и опрятно. Свет яркий. Свет — это большое дело, а тут вот еще и тень от дерева. — Спокойной ночи, — сказал официант помоложе. — Спокойной ночи, сказал другой. Выключая электрический свет, он продолжал разговор с самим собой. Главное, конечно, свет, но нужно, чтобы и чисто было и опрятно. Музыка ни к чему. Конечно, музыка ни к чему. У стойки бара с достоинством не постоишь, а в такое время больше пойти некуда. А чего ему бояться? Да не в страхе дело, не в боязни! Ничто — и оно ему так знакомо. Все — ничто, да и сам человек ничто. Вот в чем дело, и ничего, кроме света не надо, да еще чистоты и порядка. Некоторые живут и никогда этого не чувствуют, а он-то знает, что все это ничто и снова ничто, ничто и снова ничто. Отче ничто, да святится ничто твое, да приидет ничто твое, да будет ничто твое, яко в ничто и в ничто. Ничто и снова ничто. Он усмехнулся и остановился возле бара с блестящим титаном для кофе. — Что вам? — спросил бармен. — Ничто. — Еще один ненормальный, — сказал бармен и отвернулся. — Маленькую чашечку, — сказал официант. Бармен налил ему кофе. — Свет яркий, приятный, а вот стойка не начищена, — сказал официант. — Бармен посмотрел на него, но ничего не ответил. Был слишком поздний час для разговоров. 226 ТАМ, ГДЕ СВЕТЛО И ЧИСТО — Еще одну? — спросил он. — Нет, благодарю вас, — сказал официант и вышел. Он не любил баров и погребков. Чистое, ярко освященное кафе — совсем другое дело. Теперь, ни о чем больше не думая, он пойдет домой, в свою комнату. Ляжет в постель и на рассвете наконец уснет. В конце концов, сказал он сам себе, может быть, это просто бессонница. Со многими бывает. 1933 Оглавление Зеленые холмы Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предисловие автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Часть первая. Охота и разговоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава первая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава вторая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 20 Часть вторая. Начало Глава третья . . . Глава четвертая . . Глава пятая . . . . Глава шестая . . . Глава седьмая . . Глава восьмая . . Глава девятая . . . . . . . . . . . 27 27 36 45 60 65 68 78 Часть третья. Неудачная охота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава десятая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Глава одиннадцатая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 81 91 охоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Часть четвертая. Радости охоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Глава двенадцатая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Глава тринадцатая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Рассказы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Снега Килиманджаро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Пятьдесят тысяч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Какими вы не будете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Рог быка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Che Ti Dice La Patria? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Десять индейцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Там, где светло и чисто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 227