Zsuzsa HETÉNYI Синтез приемов в новеллистике Исаака Бабеля
advertisement
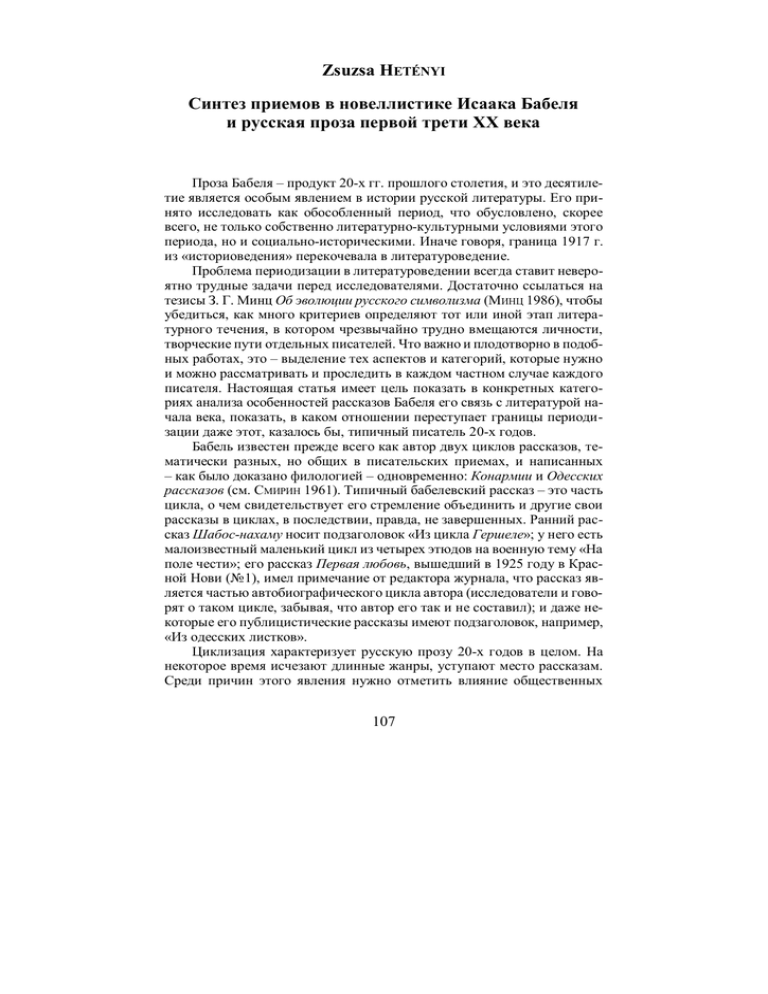
Zsuzsa HETÉNYI Синтез приемов в новеллистике Исаака Бабеля и русская проза первой трети ХХ века Проза Бабеля – продукт 20-х гг. прошлого столетия, и это десятилетие является особым явлением в истории русской литературы. Его принято исследовать как обособленный период, что обусловлено, скорее всего, не только собственно литературно-культурными условиями этого периода, но и социально-историческими. Иначе говоря, граница 1917 г. из «историоведения» перекочевала в литературоведение. Проблема периодизации в литературоведении всегда ставит невероятно трудные задачи перед исследователями. Достаточно ссылаться на тезисы З. Г. Минц Об эволюции русского символизма (МИНЦ 1986), чтобы убедиться, как много критериев определяют тот или иной этап литературного течения, в котором чрезвычайно трудно вмещаются личности, творческие пути отдельных писателей. Что важно и плодотворно в подобных работах, это – выделение тех аспектов и категорий, которые нужно и можно рассматривать и проследить в каждом частном случае каждого писателя. Настоящая статья имеет цель показать в конкретных категориях анализа особенностей рассказов Бабеля его связь с литературой начала века, показать, в каком отношении переступает границы периодизации даже этот, казалось бы, типичный писатель 20-х годов. Бабель известен прежде всего как автор двух циклов рассказов, тематически разных, но общих в писательских приемах, и написанных – как было доказано филологией – одновременно: Конармии и Одесских рассказов (см. СМИРИН 1961). Типичный бабелевский рассказ – это часть цикла, о чем свидетельствует его стремление объединить и другие свои рассказы в циклах, в последствии, правда, не завершенных. Ранний рассказ Шабос-нахаму носит подзаголовок «Из цикла Гершеле»; у него есть малоизвестный маленький цикл из четырех этюдов на военную тему «На поле чести»; его рассказ Первая любовь, вышедший в 1925 году в Красной Нови (№1), имел примечание от редактора журнала, что рассказ является частью автобиографического цикла автора (исследователи и говорят о таком цикле, забывая, что автор его так и не составил); и даже некоторые его публицистические рассказы имеют подзаголовок, например, «Из одесских листков». Циклизация характеризует русскую прозу 20-х годов в целом. На некоторое время исчезают длинные жанры, уступают место рассказам. Среди причин этого явления нужно отметить влияние общественных 107 кризисов, не позволяющих выделить точку опоры для создания более крупных форм. Но это явление двустороннее – не только рассказы объединяются в циклы (у Бабеля, у Всеволода Иванова, у Зощенко, у раннего Булгакова), но и романы распадают на слабо соединенные единицы, главы, эпизоды. Таков Голый год Бориса Пильняка, где распад построения становится органическим элементом философии автора; такова Россия, кровью умытая Артема Веселого; таковы романы Эренбурга Хулио Хуренито и Лазик Ройтшванец; такова дилогия Ильфа и Петрова Двенадцать стульев и Золотой теленок. Параллельно с этими тенденциями уже в середине 20-х гг. наблюдается стремление к длинным рассказам, повестям, особенно у авторов будущих больших романов, Булгакова и Платонова. Кстати, в воспоминаниях о Бабеле многие говорят о его планах написать роман о коллективизации (Великая Кринница). Естественно, при выделении общих тенденций и наблюдений над судьбой прозаических жанров в 20-е годы не нужно забывать о склонности писателей к определенным жанрам: Бабель, кажется, был прежде всего мастером рассказа, о чем свидетельствуют уцелевшие две главы из этого романа, связанные только общими героями. Если же рассматривать два цикла рассказов Бабеля, бросается в глаза одна особенность отдельных рассказов, а именно их анекдотическая основа, которая – в сочетании с циклизацией – появляется у истоков жанра новеллы, а именно у Боккаччо. Анекдотический сюжет в центре своем с одним фокусом фабулы, с неожиданной концовкой и линейным ходом своего сжатого по содержанию и строго по форме построения лежит в основе рассказов Жизнеописание Павличенко, Матвея Родионыча, Два Ивана, Конкин, Прищепа, История одной лошади и его Продолжение…, и Начальник конзапаса. А например в Письме можно увидеть и рамки, тоже восходящие к Декамерону Боккаччо, которые служат для создания дистанции между разными нарративными единицами – рассказчиком, нарратором, рассказчиком «сказа» и, конечно, автором. Эти новеллы соответствуют категориям в определении жанра новеллы Георга Лукача, который считает, что «новелла изображает один миг в судьбе индивидуума в рамках одного произведения», и что «новелла является жанром переходных эпох, потому что герои новеллы еще не сформировавшиеся типы» (L UKÁCS 1: 373, 387; LUKÁCS 2: 313–314). Однако в цикле Бабеля есть множество «глав», которые соответствуют скорее жанру рассказа, чем новеллы. Кладбище в Козине – просто лирический этюд о смерти, Костел в Новограде и У святого Валента содержат длинные для жанра новеллы (и по мерке Бабеля длинные) описания, а Пан Аполек и Сашка Христос построены на нескольких сюжетах, по весу вполне способные создать повесть или роман. Кроме того Бабель заставляет читателя выйти за пределы отдельных рассказов тем, что создает тематические связи между рассказами, иногда даже вынесенные в названия 108 (История одной лошади, Продолжение истории одной лошади; Рабби, Сын рабби). Аналогичные названия ставят рядом рассказы, в названии которых выступает собственное имя персонажей – Прищепы, пана Аполека, Сашки Христа, Конкина и т. п. Среди персонажей цикла выделяется группа близких к рассказчику фигур, вроде двойников – они поставлены в ситуацию, которая в чем-то совпадает с ситуацией рассказчика. Сын рабби тоже выбрал отход от традиций еврейства, от «отцов» во имя революции. Гедали ставит как раз те мучительные вопросы, на которые рассказчик не находит ответа. Пан Аполек, художник, на своих картинах рисует самых порочных жителей деревни в роли святых, создавая таким образом новый миф на языке искусства. Параллели этих двойников в чемто напоминают полифоническую систему романной конструкции. Более того, центр этих параллелей, ищущий герой-рассказчик поставлен в почти романную ситуацию – он один должен завоевать себе место во враждебном мире, где ценности пропали или потеряли свое прежнее место. Категория личности, безусловно, играет важную роль в этом цикле. По словам Мандельштама: …есть связь, которая существует между судьбой романа и положением в данное время вопроса о судьбе личности в истории… Ясно, что когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают (МАНДЕЛЬШТАМ 1928: 54). Поведение и характер рассказчика Конармии меняется в зависимости от приобретенного им жизненного опыта. Ему предстоит решить даже такой основной вопрос, какую позицию он может занять в войне, позиции постороннего наблюдателя или активно действующего человека. Однако он морально стоит несравненно выше, чем однородное общество казаков, не меняющихся и не сомневающихся. Казаки никак не психологические персонажи, их декоративно-театральная шеренга, их «органическое общество», для которого война означает жизненную стихию, напоминает скорее мир эпоса. Цикл рассказов предполагает двойную конструкцию: рассказ сам по себе, отдельно от цикла читается в другом ключе, чем в цепи остальных рассказов. А что касается формальной стороны единиц цикла, кажется, можно в них найти следующие общехарактерные черты. Они начинаются in medias res, констатацией ситуации, в большинстве случаев лаконичной, короткой, простой фразой «В деревне стон стоит» (Начальник конзапаса); «В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний» (Гедали); «Все смертно…» (Рабби); «Я скорблю о пчелах» (Путь в Броды). Такое начало характерно не только для Конармии, но и для Одесских рассказов, и для рассказов ранних и поздних лет. А концовка рассказов обычно более сложная по конструкции и более длинная фраза, всегда содержащая элемент или неожиданности (анекдотические рассказы), 109 или эмоциональной насыщенности (новеллы) – по содержанию, но блестяще, чуть ли не в музыкально оформленная и завершенная – по форме (см. Комбриг два, Сашка Христос, Берестечко, Король). Но нередко завершения, концовки еще короче, чем начала – общего правила установить нельзя, хотя общеизвестно легендарное стремление Бабеля к сжатости (см. концовки Гюи де Мопассан, Конкин, Замостье, Вдова, Вечер, Афонька Бида). Красочный мир и неожиданные образы Бабеля раскрываются иногда и в рамках одного рассказа, но их смысловой фон вырисовывается в своей полноте в контексте всего цикла. Например, образ звезды как путеводной звезды, звезды удачи и первой звезды, обозначающей для еврея наступление субботы в рассказе Гедали создают сложный образ, который поднимает вопрос о растерянности и внутренних конфликтах рассказчика, о его потере традиционных, еврейских корней и поисках новой, революционной принадлежности. Но очень трудно понять, например, значение разных цветовых мотивов или те круги понятий, в которых Бабель упоминает небесные светила. Не прочитав все рассказы, нельзя заметить, что постоянное присутствие небесных светил никак не сводится к одному «значению» солнца или луны, т. е. они не имеют постоянные роли, а являются элементами создания нового мифа. Обобщая сказанное выше, можем отметить, что Бабель «плетет» из повторений, вариаций лейтмотивы, характерные для орнаментальной прозы. Сложная и богатая форма орнаментальной прозы была разработана символистами, прежде всего Андреем Белым в его Симфониях. Общеизвестно, что русский символизм, в отличие от своих европейских параллелей, смог создать обширную и весомую ценность и в прозаических жанрах. Орнаментальная проза – хотя в ней легко упрощенно увидеть всего лишь стиховое отношение к слову в прозе – первоначально, в замыслах Андрея Белого, была музыкальным отношением к произведению в целом, в вагнеровском духе синтеза искусств (Gesamtkunstwerk). Андрей Белый в своих экспериментальных Симфониях впервые создал сочетание лейтмотивов по принципу музыкального контрапункта. Этот музыкальный элемент в создании структуры служил не только высокой (порою математической) организованности текста, а носил также философский груз выражения гармонии «мирового оркестра», противопоставленного мировому хаосу. Ритмизация текста; семантизация всех элементов языка и письма от звука и знаков препинания до деления текста и нулевых знаков; «звуко-образы и ритмо-смыслы»; создание лейтмотивов путем повторений, вариаций и градаций маленьких и больших единиц текста (метафор, описаний, кусков диалогов, деталей пейзажа и употребления цветовой гаммы) – все это было введено в русскую прозу символистами (СИЛАРД 1984). Кроме этого, символисты первыми использовали в качестве общего приема систему ссылок, реминисценций, аллюзий и 110 ассоциаций, взятых из сокровищницы культуры человечества – из мировой литературы, мифов, Библии и фольклора, воспринимая все это таким же реальным миром, как саму действительность. Это расширение мира художественного произведения происходило на основе идеалистической философии, трансцендентального осмысления мира как борьбы хаоса и гармонии, и это особенно важно подчеркнуть тогда, когда стараемся уловить те черты русской прозы 20-х годов, которые эта проза взяла или получила из наследства символизма, ибо, широко пользуясь названными выше достижениями прозы символизма, проза 20-х гг. уже не опиралась на мировоззренческие принципы символизма ни в философском плане (идеализм), ни в этическом плане (жизнетворчество, элитаризм, эзотеризм). Перспективы философской основы, пережившей разные постсимволистские течения и в особенности сосуществовавшей с авангардом, уже не предлагали общечеловеческих надежд – и как будто то, что казалось возможным, выражено в двух направлениях: в философии творчества и в философии общества, т. е., соответственно, в авангарде (в основном в поэзии) и в экспериментах осмысления общественных изменений в России (в основном в прозе). К последнему относится ряд произведений о гражданской войне, которая в течение 20-х гг. была постоянной темой для литературы. Бабеля нельзя отделить от таких произведений 20-х гг. как Чапаев Фурманова, Разгром Фадеева, Бронепоезд Всеволода Иванова, Белая гвардия Булгакова и Донские рассказы Шолохова. Только на их фоне можно оценить такие тематические особенности рассказов Бабеля как отсутствие в цикле изображения боев: подобно тому, как в драмах Чехова все значительные события, смерть, рождение, самоубийство происходят за кулисами и между действиями, в военных рассказах Бабеля основная тема почти не занимает места на страницах, всего лишь определяет все, что описано, и с роковой насильственностью вмешивается во все происходящее. Рассказы Бабеля и их стиль, таким образом, во многом обязаны достижениям символизма и авангарда. Конечно, его сжатые и насыщенные по смыслу метафоры, сравнения, изобилие оксюморонов, описания, звуковые и ритмические эффекты, «орнаменты» являются неотъемлемыми элементами его стиля, но настоящее величие этого текста раскрывается в сложной системе соответствий, в параллелях. На эту особенность обратили внимание уже современники Бабеля: …фабула не на событийной пометке происшествий, а по скрытым внутри рассказа ассоциациям. Смысл-фабула рождается на столкновении слов. Фабула развивается словесными ассоциациями, где слова и образы складываются, как костяшки в домино (СТЕПАНОВ 1928: 39). Параллелизмы играют роль не только связующей «паутины» в построении, но позволяют составлять целостную картину художественного 111 видения мира. Сравнение «девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря» (БАБЕЛЬ 1966: 27) получает новую перспективу, когда к нему присоединяется другое: «белые костелы блеснули в дали, как гречишные поля» (БАБЕЛЬ 1966: 57). Рассказ Жизнеописание Павличенко, Матвея Родионыча строится на сюжетной основе сказки, которую можно найти в фольклоре среднеевропейских и восточно-европейских народов, русский вариант называется Барин и плотник. Сюжет сказки – бедный, обиженный главный герой вынужден покинуть свое родное место, но в своих кочеваниях по миру он получает нечто (власть, знание или богатство), при помощи чего он может отомстить барину. Эта сказочная основа потом «одевается» в форму сказа и в реалии революции так же, как, например, ранний рассказ Шабос-Нахаму строится на анекдоте и к нему прибавлены элементы еврейского couleur locale. Параллелизмы, таким образом, выходят и за пределы текста, и ставят рядом друг с другом фольклор и современность, мифическое и историческое мышление, и вместе с тем два представления о времени: линейное и циклическое. В поэтическом языке, в метафорах и в сюжете то и дело встречаются библейские мотивы. Они, с одной стороны, показывают новых апостолов новой идеологии, и расширяют исторический масштаб войны; с другой же стороны, переключают все конкретно изображенное в условный план, в сферу мифотворчества. Культура и цивилизация еврейства и христианства, фольклор казаков и евреев, соответствия в 200-летней истории этой многонациональной области Европы (эпохи возникновения хасидизма, казачества и Речи Посполитой) сосуществуют на 100 с лишним страницах и создают бесконечное число параллелей, благодаря которым Конармия становится книгой универсальных проблем XX века, требующей напряженной интеллектуальной работы. Неотделимым и очень важным элементом литературы 20-х годов является употребление формы сказа, установки на живую устную речь, просторечие рассказчиков. Прием сказа переживает особый путь развития в России, который отделяет сказ от Icherzählung. Обособленная история сказа начинается с прозы Лескова. По теории Эйхенбаума, хотя Лесков «…эстрадник, рассказчик, говорун… и гораздо легче и охотнее идет к жанрам примитивным, иногда почти доходя до лубка…» (ЭЙХЕНБАУМ 1969: 338), он вырос на почве филологизма, обращенного к народному творчеству. Народность Лескова, его стилизации и его обращенность к анекдотам впервые обнаруживают настоящую «установку на устную речь» (термин Эйхенбаума), «артикуляционную игру» (термин Поспелова). Бахтин, когда дает дистинкцию двух типов сказа, первым выделяет именно «рассказ рассказчика в форме литературного слова», а вторым – рассказ «в формах устной речи, сказа в собственном смысле слова» (см. БАХТИН 1972: 325). Во втором приеме чужая речь социально определена и прежде всего связана с низшими социальными слоями. В сказе язык 112 употребляется как «манера видеть и изображать» (БАХТИН 1972: 325). Таким образом автор может использовать «чужое слово» как нарративный прием в осуществлении своего посыла. В случае бабелевского сказа перед нами сказ в квадрате. Весь цикл преподнесен сквозь глаза рассказчика (Лютова) в форме Icherzählung. Объемы настоящей статьи не позволяют остановиться на том, что даже этот рассказчик не единый, сопоставление географических мест его передвижения и его поведения в разных рассказах показывает, что Лютовых несколько (см. ХЕТЕНИ 1988). Лютов, с другой стороны, тоже является таким же слушателем собственно сказовых текстов, например, речей казаков, как сам читатель. Голос Лютова – голос чужого сознания в смысле дистанции от автора, но дистанциированный в значительно меньшей мере, чем стилизованная устная речь казаков. Целесообразно поэтому не называть одним и тем же термином сказа голос Лютова и язык казаков. (Два типа сказа «перепутаны» у Мущенко, который к тому же упрощенно разделяет рассказчиков Конармии на евреев и казаков; ср. МУЩЕНКО и др. 1978: 216.) В приеме сказа осуществляется перенос внимания с фабулы на слово, интонацию, семантику и лексику. Семантический весь отдельных слов возрастает и осложняется, неожиданное значение приобретают факторы интонационный и фонетический, необычайно выдвигается синтаксический момент (ГОФМАН 1926: 232). Проследив предшественников сказового расцвета 20-х годов в русской литературе начала века, мы увидим, что Бабель продолжает скорее ту разновидность сказа, которую можно впервые обнаружить в повести Евгения Замятина Уездное, а не психологически более углубленную, осложненную разновидность сказа, который берет свое начало от Крестовых сестер Алексея Ремизова и появляется иногда в прозе символистов, например в Серебряном голубе Андрея Белого. Замятинская ветвь сказа обогащена И. Бабелем приемом смешения. Смешиваются в полуобразованной речи персонажей устные и письменные элементы языка, смешиваются лексико-узуальные аспекты языка (фольклор, пропаганда, бюрократия и т. п.), лексика старого и нового мира, словоупотребление разных социальных слоев, разные ценностные аспекты, пафос и низость и даже есть смешные смешения образов (например, «лизуны из штаба удили жареных птиц в улыбках командарма»; «опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели»; «затемнил глаза собственной шкурой») (БАБЕЛЬ 1966: 84, 94, 124; см. еще WILLIAMS 1984). Бабеля причисляли и к прозе авангарда, и к романтицизму, и к натурализму – все эти неправильные определения были возможны благодаря синтетизирующей силе Бабеля, которой он сумел «влить воедино» много ценного из русской литературы начала века. Помимо того, что он стал одним из самых популярных писателей 20-х гг., влияние которого 113 почти каждый прозаик того времени испытывал на себе, он был русскоеврейским писателем, последним в этой двойной литературе. Его посторонний взгляд, его двойственная позиция, амбивалентность взгляда отражают и предвещают не только противоречивую связь интеллигенции и исторических изменений в XX веке, но и мрачное будущее еврейства. Эта удивительная гармоничность в раздвоенности делает Конармию уникальной книгой как в советской, так и в русско-еврейской литературе. Она – и самое лучшее, написанное Бабелем… (МАРКИШ 1979: 336–337). Это «общее дело» не оправдало надежды, и писатель замолкает. Рассказ Карл-Янкель (1931), хотя и составлен из тех же типично бабелевских элементов, все равно получился фальшивым. Одного лишь мастерства жанра не было достаточно для того, чтобы творчество продолжалось на прежнем уровне в условиях 30-х годов. Общая атмосфера лжи ворвалась в литературу. Литература БАБЕЛЬ 1966 = БАБЕЛЬ И. Избранное. Москва, 1966. БАХТИН 1972 = БАХТИН М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972. ГОФМАН 1926 = ГОФМАН Б. Фольклорный сказ Даля. В кн.: ЭЙХЕНБАУМ Б., ТЫНЯНОВ Ю. (ред.) Русская проза. Ленинград, 1926. 232–261. МАНДЕЛЬШТАМ 1928 = МАНДЕЛЬШТАМ О. Конец романа. В кн.: МАНДЕЛЬШТАМ О. О поэзии. Сборник статей. Ленинград, 1928. 54. МАРКИШ 1979 = МАРКИШ Ш. Русско-еврейская литература и Исаак Бабель. В кн.: БАБЕЛЬ И. Детство и другие рассказы. Иерусалим, 1979. 319–346. МИНЦ 1986 = МИНЦ З. Г. Об эволюции русского символизма. В кн.: Блоковский сборник VII. Tartu, 1986. 7–24. МУЩЕНКО и др. 1978 = МУЩЕНКО Е., СКОБЕЛЕВ В., КРОЙЧИК Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978. СИЛАРД 1984 = СИЛАРД Л. Вклад символизма в развитие русского романа. Studia Slavica Hung. 30 (1984): 185–207. СМИРИН 1961 = СМИРИН И. Одесские рассказы И. Э. Бабеля. В кн.: Труды кафедры русской и зарубежной литературы. Вып. 3. Алма-Ата, 1961. 42–62. СТЕПАНОВ 1928 = СТЕПАНОВ Н. И. Бабель. В кн.: И. Бабель. Статьи и материалы. Ленинград, 1928. ХЕТЕНИ 1988 = ХЕТЕНИ Ж. Носил ли Лютов очки? Проблема многоликого рассказчика в Конармии Бабеля. Dissertationes Slavicae Szegediensis 19. Szeged, 1988. 107–123. ЭЙХЕНБАУМ 1969 = ЭЙХЕНБАУМ Б. «Чрезмерный» писатель. К столетию рождения Н. Лескова. В кн.: ЭЙХЕНБАУМ Б. О прозе. Сборник статей. Ленинград, 1969. LUKÁCS = LUKÁCS György: Világirodalom 1–2. Budapest, 1973. WILLIAMS 1984 = WILLIAMS G. The Rhetoric in Revolution in Babel’s Konarmijа. Russian Literature 15 (1984): 279–298. 114
