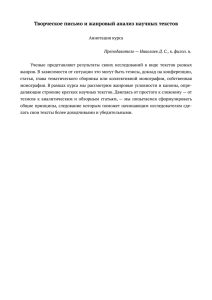Вестник - Научная библиотека ЧелГУ
advertisement
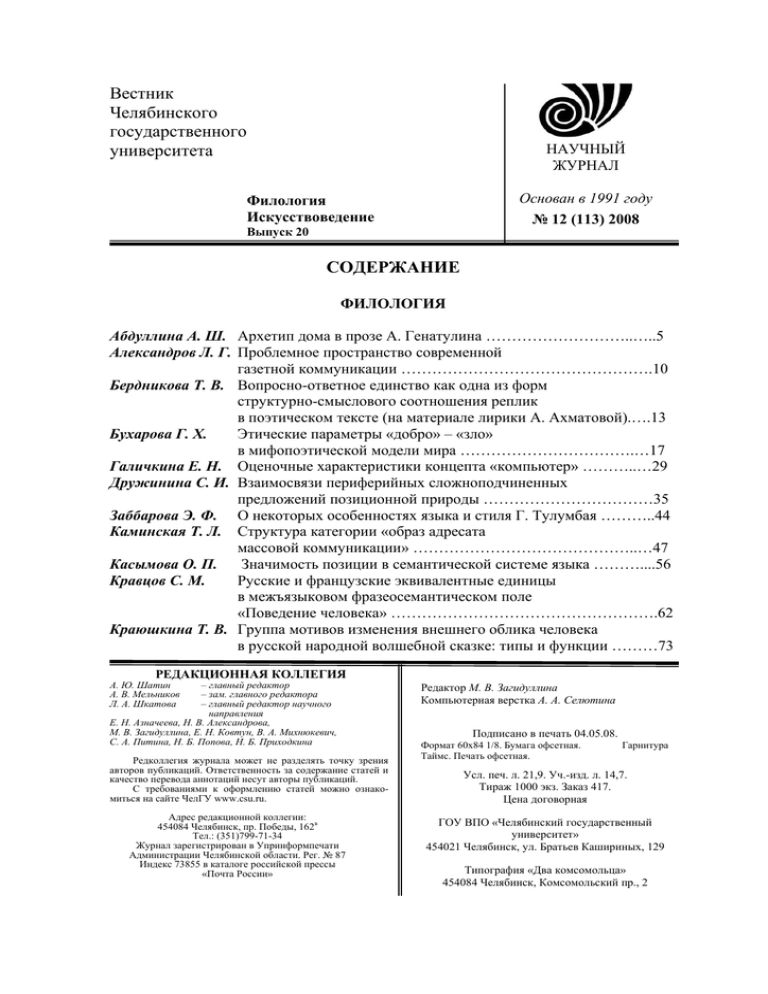
Вестник Челябинского государственного университета НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Основан в 1991 году № 12 (113) 2008 Филология Искусствоведение Выпуск 20 СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОЛОГИЯ Абдуллина А. Ш. Архетип дома в прозе А. Генатулина ………………………..…..5 Александров Л. Г. Проблемное пространство современной газетной коммуникации ………………………………………….10 Бердникова Т. В. Вопросно-ответное единство как одна из форм структурно-смыслового соотношения реплик в поэтическом тексте (на материале лирики А. Ахматовой).….13 Бухарова Г. Х. Этические параметры «добро» – «зло» в мифопоэтической модели мира …………………………….…17 Галичкина Е. Н. Оценочные характеристики концепта «компьютер» ………..…29 Дружинина С. И. Взаимосвязи периферийных сложноподчиненных предложений позиционной природы ……………………………35 Заббарова Э. Ф. О некоторых особенностях языка и стиля Г. Тулумбая ………..44 Каминская Т. Л. Структура категории «образ адресата массовой коммуникации» ……………………………………..…47 Касымова О. П. Значимость позиции в семантической системе языка ………....56 Кравцов С. М. Русские и французские эквивалентные единицы в межъязыковом фразеосемантическом поле «Поведение человека» …………………………………………….62 Краюшкина Т. В. Группа мотивов изменения внешнего облика человека в русской народной волшебной сказке: типы и функции ………73 РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ А. Ю. Шатин А. В. Мельников Л. А. Шкатова – главный редактор – зам. главного редактора – главный редактор научного направления Е. Н. Азначеева, Н. В. Александрова, М. В. Загидуллина, Е. Н. Ковтун, В. А. Михнюкевич, С. А. Питина, Н. Б. Попова, Н. Б. Приходкина Редколлегия журнала может не разделять точку зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание статей и качество перевода аннотаций несут авторы публикаций. С требованиями к оформлению статей можно ознакомиться на сайте ЧелГУ www.csu.ru. Адрес редакционной коллегии: 454084 Челябинск, пр. Победы, 162в Тел.: (351)799-71-34 Журнал зарегистрирован в Упринформпечати Администрации Челябинской области. Рег. № 87 Индекс 73855 в каталоге российской прессы «Почта России» Редактор М. В. Загидуллина Компьютерная верстка А. А. Селютина Подписано в печать 04.05.08. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Таймс. Печать офсетная. Гарнитура Усл. печ. л. 21,9. Уч.-изд. л. 14,7. Тираж 1000 экз. Заказ 417. Цена договорная ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет» 454021 Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 Типография «Два комсомольца» 454084 Челябинск, Комсомольский пр., 2 Кушнерук С. П. Синтаксическая устойчивость современного документного текста (параметрическая оценка) ……………....79 Лепилкина О. И. Провинциальная сатирическая пресса в России в начале XX века ………………………………………………....85 Литвиненко Т. Е. Лингвотеоретические аспекты изучения интертекста ………...92 Панова Е. Ю. Исповедально-аналитический характер поэтического словаря лирики З. Гиппиус ………………………………….…..97 Подобрий А. В. Принципы и направления анализа поликультурных текстов в русскоязычной литературе (на материале прозы 20–30-х годов ХХ века)……………….....101 Резепова Н. В. Национальный характер – миф или реальность? (в контексте трилогии К. Абрамова «Сын эрзянский») ……….107 Сиражитдинова Н. М. Человеческий мир в народных песнях (на примере народных песен башкир Челябинской области) …112 Сироткина Т. А. Категория этничности и локальная картина мира ……………116 Старкова Э. А. О художественном единстве сборников Н. Готорна «Дедушкино кресло», «Книга чудес» и «Истории Тэнглвуда» ……………………………………….…120 Султанбаева Х. В. К вопросу о происхождении служебных частей в тюркских языках ………………………………………………..125 Тетуев Б. И. Типологические особенности карачаево-балкарской авторской набеговой поэзии XIX века (на материале одной малоизвестной песни Д. Шаваева) …………………..…..128 Хвесько Т. В. Номинация как проявление творческой деятельности человека …………………………………………...134 Хизбуллина Д. И. Семантические представления и эволюция познания …………139 Чугаева Т. Н. Звучащий текст с позиции слушающего: уровневая структура и стратегии восприятия ……………….…144 Шаманова М. В. Когнитивная категория общение как структура …………….....155 Шарипова Г. Р. Иван Михеевич Первушин – фольклорист ……………………..161 Шелестюк Е. В. Стилистические и жанровые особенности текстов популярной психологии ………………………………………….168 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ Конфедерат О. В. Концептуальный видео-арт: опыт чистого восприятия ………..177 Abstracts ………………………………………………………………………………...182 Сведения об авторах ………………………………………………………………..…186 4 ФИЛОЛОГИЯ А. Ш. Абдуллина АРХЕТИП ДОМА В ПРОЗЕ А. ГЕНАТУЛИНА Статья посвящена изучению архетипа дома в прозе Анатолия Генатулина. Исследуемая категория является важной характеристикой художественного образа, основных координат художественного мира прозы башкирского писателя. Адресовано исследователям и преподавателям литературы. Ключевые слова: Генатулин, проза, архетип, дом, художественный мир, художественное пространство. В литературоведении архетип понимается как универсальный прасюжет или прообраз, зафиксированный мифом и перешедший из него в литературу. Архетипы могут реализовывать свои значения в виде различных элементов текста: сюжетов, образов, предметных и предикативных элементов. «Дом относится к числу основополагающих, всеобъемлющих архетипических образов, с незапамятных времен функционировавших в человеческом сознании <…> понятие дома связывалось также со своим народом, страной, нравом, нравственностью, памятью и верностью заветам»1. Архетип дома олицетворяет собой некоторое внутреннее пространство, противостоящее враждебному внешнему миру, некий космос, где человеку уютно и спокойно, в отличие от хаоса, царящего за стенами дома. В исследованиях Ю. М. Лотмана подчеркивается, что «язык пространственных отношений оказывается одним из основных средств осмысления действительности <…>. Самые общие социальные, религиозные, политические, нравственные модели мира, при помощи которых человек на разных этапах своей духовной истории осмысляет окружающую его жизнь, оказываются неизменно наделенными пространственными характеристиками»2. Свойство дома как пространственной единицы – обозначать сакральный центр – отмечено В. Н. Топоровым при анализе мифологемы пути. Ученый пишет об «индивидуальных образах пространства», которые формируются в авторском сознании, формируются особенностями самого писателя и выражают его мировосприятие и проявляются в «сцеплении мыслей, составе и устройстве языка»3. Одним из наиболее значимых пространственных ориентиров в произведениях А. Генатулина становится дом. Отношение к родному дому проявляет характер персонажа, его человеческую сущность. Герой повести «Переправа» гвардии рядовой Гайнуллин, прошагавший пешком через всю Европу и мечтающий о новых домах с черепичными крышами для своих односельчан, в родном доме начинает ощущать особые чувства: «Живя в родительской избе, я как бы исподволь возвращался к полузабытому родному. С бревенчатых стен, некрашеных потолочин, из углов и щелей проступали и узнавались какие-то детали»4. Пространство внутри и вокруг дома отражает характерное для военного времени бедственное положение крестьянства. В доме бабушки царят нищета и бедность: «Я видел сверху бабушкин дом. Маленький, оконца чуть выше завалинки, с сенями, крытыми дерном, зарастающим летом бурьяном»5. Оскудение дома, вместе с ним и оскудение жизненного пространства бабушки начинается с раскулачивания: «До колхозов бабушка жила через две избы за проулком в большом шестистенном доме под железом. Дед мой, тот, что вернувшись с 5 германской войны, умер до моего рождения, был мужик богатый. Я еще застал крытые тесом сараи, хлева, в недрах которых царил таинственный сумрак, пахло навозом, сухим сеном. Помню амбары. Где стояли лари с мукой и висели гусиные тушки. В тридцатом году бабушку объявили кулачкой, классовым врагом, шестистенный дом распилили пополам и одну половину увезли куда-то, амбары перенесли к колхозным складам, забрали в правление напольные часы с боем, оставили бабушке только швейную машинку “Зингер”, с которой я любил играть»5. В повести «Переправа» разрушение бытового уклада дома воспринимается как нарушение всех норм здравого смысла советской действительностью, как покушение на человеческую душу. Центром, организующим, ориентирующим пространство главного героя Сабита Баймурзина из рассказа «Холод» является дом бабушки, это обжитое пространство, родное, уютное, «бедная бабушкина изба помнилась теперь богатой и приютной, помнились довоенные, только что вынутые из печи теплые караваи»6. Дом – это и родные просторы, и теплое солнце, и сказочная луна, и белая кобылица Акбузат. Дом – это родной, теплый уголок, пространство в душе героя, но уход из этого дома неизбежен, вернуться в этот дом невозможно, как невозможно вернуться в детство: «Никаких теплых лунных ночей, никакой ржи и никакой белой кобылицы не было за околицей его деревни»6. Причина бездомности героя социальная – война. Она лишает его устойчивости в пространстве: «Он бредил теплыми лунными ночами, горой Трех жеребят и белой кобылицей Акбузат. Мнилось ему, что там, на родине, все еще лето, цветут луга, горы стоят зеленые и сияет над землей ласковое солнце его детства. А по ночам с неба глядит огромная сказочная луна. Он тосковал по теплому солнцу, хотелось домой, хотелось в детство…»6 Тема невозможности обретения дома в пространстве города реализуется в судьбе главного героя и его друга Сабита. Поэтому они бегут из города, где голодно и холодно, в теплый дом, в деревню. При характеристике пространства героя в городе автор подчеркивает его ограниченность, холод, убожество: «Жил он, – вернее, ночевал – в очень чистой и очень холодной комнате двухэтажного бревенчатого дома, что стоял в двух километрах от завода среди редких сосен. Когда, придя с работы, Сабит ложился в свою постель, простыни обжигали тело, как снежные сугробы. Пытаясь сохранить тепло своего маленького тощего тела, он наваливал на себя одеяла с двух пустующих кроватей и еще поверх одеял накидывал бушлат»7. Не случайно автор употребляет глагол «ночевал», а не «жил». Герой Генатулина постоянно чувствует голод, холод в отведенном пространстве. Сабит ощущает данное пространство как принципиально чуждое, даже – враждебное, закрытое для эмоционального контакта. «Чужое» пространство заставляет ощущать принципиальную разницу между «своим» и «чужим». Художественное пространство романа А. Генатулина «Загон» – сложный и очень насыщенный образ мира со знаковым характером пространственных образов, который создается благодаря постепенному проникновению героя в сущность окружающего мира, с одной стороны, процессу познания своей души, с другой стороны. «Внешнее» пространство и «внутреннее» пространство тесно взаимосвязаны, так как образ большого мира дается через восприятие главного героя. В древнейших представлениях людей мотив пути оказывается неразрывно связанным с мотивом дома. Это объясняется тем, что мифологическая модель мира обладает особой пространственной организацией. В ее основе лежит оппозиция космоса – пространства, относительно безопасного для человека, и хаоса – непространства, враждебного людям. 6 Структурообразующая роль в создании архаичной картины мира в романе «Загон» принадлежит дому. Малый мир – это мир дома, «средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода. Важнейшая символическая функция дома – защитная. Дом противопоставлен окружающему миру как пространство закрытое – открытому, безопасное – опасному, внутреннее – внешнему»8. По мнению Ю. Лотмана, в доме как определенном культурном пространстве, возникшем в результате накопления семьей, родом духовного опыта, происходит символизация быта. В творчестве А. Генатулина дом может восприниматься как идеальное родное место, как «средоточие основных жизненных ценностей, счастья»8, в качестве защиты от всех напастей, убежища, крепости, приюта, спасающего личность от агрессии внешнего мира. Но в большинстве произведений башкирского прозаика замкнутость человека в малом пространстве дома воспринимается негативно. Мир дома и мир природы существуют параллельно и равноправно, и связывает их окно. Состояние окна характеризует отношение двух миров. Во многих произведениях и в романе «Загон» Анатолия Генатулина окно еще больше разъединяет людей: «Во всех соседних домах полыхали окна. Желтые, оранжевые, розовые. В некоторых окнах шторы не были задернуты и свет верхний потушен и наряженные елки искрились в полутьме таинственным разноцветьем драгоценных камней. Там, в тепле этих квартир люди поздравляли друг друга с Новым годом, чокались бокалами и закусывали салатом и, захмелев, до четырех часов пополуночи будут болтать всякую праздничную милую чепуху. А меня никто не поздравил, никому я не нужен, неинтересен и в эту зимнюю ночь, ни одна душа не вспомнит о моем существовании»9. Замкнутость малого мира еще больше усиливает ощущение замкнутости большого мира. Мотив окна усиливает ощущение преграды, затрудненности общения, мотива одиночества, несвободы. Толя Гайнуллин – герой открытого пространства, он в движении, в пути, он не приемлет жизни в загоне, в замкнутом пространстве. Он – странник, ищет себя, свой путь в жизни, свою истину. Валя Светозарова и Саша Голубятов – тоже героибродяги, странники. У Толи Гайнуллина нет настоящего дома, его коммунальная квартира и квартира соседей отличаются отсутствием семейного тепла, уюта, чистоты. При внешних отличиях жилища героев сходны в пространственных характеристиках: теснота, бедность и нищета: «…скрытым презрением оглядела нищенскую комнатку»10; «достал из тумбочки все свое кухонное имущество – закопченную сковородку, на которой иногда жарил картошку, две алюминиевые вилки с загнутыми зубами, нож, тарелочку и два граненых стакана»10; «вместо кровати или дивана у стены, прямо на полу, лежал пружинный матрац»11. Все это определяет основную качественную характеристику локуса дома – отсутствие человеческого тепла и уюта. В таком жилище и соответствующее семейно-этическое пространство: злоба, пьянство, жестокость, безразличие друг к другу. Толя Гайнуллин, не желая встреч с неприятными соседями, очень редко выходит в общий коридор и на кухню, но и в своей комнате он слышит, как они выясняют отношения: «…звонок в дверь и топот ног отвлекли меня. Это пришли старики, родители Горшкова, громкий каркающий голос старухи и глухой басок отца. Потом то ли из комнаты, то ли из кухни донеслись повышенные, ругательные голоса, кричала бабка, вперемешку с ней жалующимся тоном бубнила соседка, что-то пьяно мычал Горшков. Потом что-то стукнуло, грохнуло, драка, что-ли началась или кто-то бросил, опрокинул на пол тяжелый предмет. И тут, невольно навострив уши, я услышал рыдание. Рыдал, видно, отец Горшкова, жутко, непереносимо, душераздирающе, как рыдают только застигнутые горем старики»12. Дом в пространстве «загона» утрачивает свои традиционные, древнейшие 7 функции: создание покоя, уюта, защиты для человека. Наверное, не случайно герой живет в коммунальной квартире. Исходной точкой скитаний героя-повествователя становится комната в коммунальной квартире. В ней нет ничего от традиционных представлений о доме. Своей необустроенностью, неуютностью комната напоминает тюремную камеру: «…в свою холостяцкую комнатку с давно немытыми полами, единственным стулом и железной кроватью, на которую небрежно накинуто неопрятное одеяло»13. В ней отсутствуют детали, указывающие на родственные связи, прошлое, интересы героя. Основное время герой проводит в так называемой бытовке, которая как две капли напоминает его коммунальную комнату: «…кроме трухлявого дивана, стоял еще колченогий канцелярский стол, давно списанный или тоже подобранный на свалке. На столе – телефон, черный, послевоенных времен, с толстым матерчатым шнуром»14. Некоторое «ощущение налаженности, надежности и даже комфортности жизни»15 Толя Гайнуллин обретает только здесь от возможности «писать, продолжать писать давно начатую повесть о войне, от предчувствия с л о в а [выделено автором. – А. А.], это же понимать надо, сердце опахивало тревожным дуновением счастья…»15. Но и этот локус пространства является лишь имитацией дома, представляет собой метафору нарушения нормального порядка вещей, трансформации традиционных человеческих ценностей и представлений. Признаком ненормального существования, внутреннего дискомфорта героя становится состояние одиночества, отчужденности и невозможности полного уединения, отдыха из-за перенаселенности коммунальной квартиры: «…доносились шумы, скрипы, шорохи, голоса, стоны окружающей жизни <…> доносились громкие голоса, упреки, проклятия, жалобы и снова невыносимый плач старика <…> пили водку по воскресеньям и дрались с грохотом и визгливым матом соседи по лестничной клетке…»16. Создается образ псевдодома. Отрицание дома в качестве постоянного места обитания свидетельствует об избрании личностью динамичного способа существования в противовес статичному пребыванию в доме, уход из дома знаменует поиск новых духовных горизонтов. Дом в деревне для Толи Гайнуллина был символом внутреннего покоя, пространством счастья и истины. Он не может определиться со своим местом в жизни, найти себя, все время находится в пути, в поиске. Поэтому в минуты огромного внутреннего напряжения, неопределенности и томления он тоскует о дорогах и вокзалах: «Где-то рядом по окружной дороге от вокзалов к вокзалам проходили поезда. Вокзалы эти казались мне отдушинами, выходами из каменного загона, куда я был загнан судьбой, обстоятельствами. В протяжных ночных криках поездов мне чудилось зовущее: у-е-е-дем, у-е-е-дем!»17 Таким образом, в романе «Загон» изображены постоянные перемещения, вызванные нравственно-психологической бездомностью героя, который не укоренился в своей деревенской среде и не нашел точку опоры в Москве. У Толи Гайнуллина нет своего дома, а жилище его в Москве не является для него домом. Дом создается самим человеком и несет на себе отпечаток его личности, то есть становится пространством индивидуализированным: это «свой», «родной» мир. И это делает категорию дома в произведениях Анатолия Генатулина не только пространственным понятием, но обнаруживает в нем и нравственно-этическую составляющую. Весь поэтический строй «Загона» нацелен на то, чтобы передать гнетущую атмосферу 70-х годов, ощущение трагической потерянности человека. Главным признаком неестественного течения жизни, всеобщего беспорядка является в романе 8 разрушение, потеря дома как сферы безопасности, уюта и тепла, как идейнонравственного ориентира. Дом оказывается для героев башкирского прозаика не только пространственной точкой, малым космосом, но и пространством в душе, который остался в прошлом и утерян навсегда. В результате гибели дома Толя Гайнуллин из романа «Загон» оказывается в пространстве абсолютного небытия, по определению М. Элиаде, он «ощущал себя лишенным своей “онтологической” субстанции, как бы растворенным в хаосе»18. Ситуация разрушения дома задевала также и глубинные слои психики человека, перекраивая структуру его личности. Таким образом, во многих произведениях Анатолия Генатулина разрушение сакральности дома трактуется как сознательное нарушение всех норм здравого смысла, как покушение на человеческую душу советской тоталитарной системы, выступает средством отрицательной оценки того образа жизни, при котором обесцениваются исконные нравственные ценности и совершается насилие над человеческим естеством в лучших его проявлениях. Примечания 1 Щукин, В. Литература и миф / В. Щукин. – М., 1994. – С. 33. Лотман, Ю. Структура художественного текста / Ю. Лотман. – М., 1970. – С. 67, 267. 3 Топоров, В. Об индивидуальных образах пространства / В. Топоров // Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1995. – С. 448. 4 Генатулин, А. Загон / А. Генатулин. – Уфа, 2004. – С. 19. 5 Там же. – С . 15. 6 Там же. – С. 295. 7 Там же. – С. 288. 8 Топорков, А. Дом / А. Топорков // Славянская мифология : энцикл. слов. – М., 1995. – С. 168. 9 Генатулин, А. Загон… С. 224–225. 10 Там же. – С. 192. 11 Там же. – С. 140. 12 Там же. – С. 124. 13 Там же. – С. 273–274. 14 Там же. – С. 109. 15 Там же. – С. 110. 16 Там же. – С. 272. 17 Там же. – С. 144. 18 Элиаде, М. Космос и история / М. Элиаде. – М., 2000. – С. 282. 2 9 Л. Г. Александров ПРОБЛЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ ГАЗЕТНОЙ КОММУНИКАЦИИ Данная статья касается проблемной зоны журналистики, которая сегодня, имея междисциплинарный статус, не всегда может в смешении разнородных форм найти оптимальный синтез. Примером являются, в частности, размытые жанры прессы, с трудом ухватывающей панораму событий и игнорирующей необходимость поиска стилистического единства. Ключевые слова: коммуникация, журналистика, жанр, пресса, стилистика. Язык современной журналистики – сложное, многостороннее и динамично развивающееся явление. Он вызывает пристальное внимание у лингвистов и социологов, правоведов и психологов. Одной из серьезных теоретических проблем современной коммуникативистики является поиск универсальной модели, в которой бы отразились своеобразие и уникальность журналистской профессии. Однако эти поиски пока не дали однозначных результатов. С одной стороны, у журналистики есть все средства достижения значительной степени коммуникативного универсализма. Средства массовой информации сообщают обо всех возможных фактах и явлениях, дают весь спектр мнений о современной действительности. В текстологии пространство газетной коммуникации рассматривается как объект адекватный и доступный для оценки. Оно может быть включено в более широкий масштаб исследования мира-как-текста в духе М. Бахтина и Ю. Лотмана. Журналисты используют многообразные устно-письменные вариации текста, владеют шрифтовыми и иконическими языками отображения реальности, сопровождают свои тексты также и широким набором менее значительных в семантическом плане графических элементов. Однако защитники журналистики как универсальной модели коммуникации признают и сложности рассмотрения журналистского текста как единого объекта, выводя эту тему в далекую перспективу лингвистической деятельности. Так, У. Эко, вводя в систему понятий массовой коммуникации такие жанровые виды, как кино и комиксы, реклама и легкая музыка, лишь предполагает дальнейший жанровый коммуникационный синтез, способный осуществиться в сфере СМИ: «…при изучении массовых коммуникаций, когда сводится воедино разнородный материал, можно и нужно, опираясь на междисциплинарные связи, прибегать к разнообразным методам, от психологии до социологии и стилистики, последовательно и целостно» [10. С. 407–409]. Тем не менее, и сегодня журналистские тексты, в том числе газетные, изучаются представителями структурно-систематического направления. Особенностью этого текстового пласта считаются подверженность воздействию социально-политической обстановки коммуникативной деятельности, диалектичность отражения динамичной реальности, гибкость и пространственная незамкнутость (претекстуальность, интертекстуальность, возможность подтекстов). Последнее качество обуславливается профессионально-техническими возможностями журналистики в плане включения в текст внешних, сторонних элементов, наложения одних ассоциативно-семантических структур на другие с образованием новых дополнительных значений, компилятивного заимствования информации, динамичного жанрообразования журналистских произведений, особенно накапливающиеся по мере усложнения жанрово-стилистической структуры. Хотя у журналиста всегда есть 10 выбор общих ориентиров изложения материала, хотя он осуществляет подбор подходящей видовой модели текстообразования в зависимости от своих разноплановых практических задач, тем не менее многие современные систематики печати декларируют некое профессионально-стилистическое единство журналистской коммуникации [5]. Одной из причин стилистической неопределенности журналистских произведений, создающих языковую проблематичность, справедливо считают свободу выбора жанра. Жанровая форма печатной журналистики зависит от многих факторов. Она приспосабливается к предмету отражения и изображения (событие, процесс, ситуация, личность), которые в зависимости от творческих целей и методов журналиста – как теоретических, так и художественных – могут реализовываться в различных жанровых формах, обретая все большую полноту и содержательную емкость. Три условных типа жанров журналистики – информационные, аналитические и художественно-публицистические – на современном этапе обретают ранее не имевшиеся в классической типологии жанров разновидности, например, блиц-опрос или некролог, мониторинг или рейтинг, версия или пресс-релиз, анекдот или эпиграф [8]. Влияет на жанровое многообразие и методология новейших электронных типов СМИ. Журналистика насыщает свое коммуникативное пространство все новыми и все более удобными формами, растворяя в них элементы классических жанровостилистических форм. Но если признать за журналистикой свободу выбирать свой стиль и жанр, то эта свобода ограничивается прежде всего познавательными, коммуникативными и социальными пристрастиями целевой аудитории. Ведь, выполняя любую из основных функций, журналист ориентируется на вкус своего «потребителя информации», упрощает текст, приближает стиль к обиходно-разговорному. Воздействие на аудиторию и взаимодействие с ней все более склоняет СМИ к разговорному, обиходному типу общения, поскольку именно он оказывается наиболее эффективным [4]. Взаимодействие с аудиторией – это постоянная коммуникативная практика журналистской деятельности. Однако не аудитория образует модели речевого поведения журналиста. Он опирается на собственные позиции и критерии информационного текстового творчества, порой неявно сообразуясь с основными положениями научной теории языка. Теоретики СМИ в исследованиях важных стилистических проблем достаточно долго ориентировались на понятие «публицистики», «публицистического стиля», видя в них перспективную модель развития языка журналистики. Порой журналистику даже отождествляли с публицистикой, а публицистический стиль рассматривали как уникальный, принципиально отличный, например, от языка науки или литературы. Однако на дилемме научного и художественного типов творчества, выражающихся в публицистических произведениях, продвижение этого исследовательского направление несколько застопорилось. Фактор массовости, являющийся для журналистики целевой установкой, вносил все новые критерии и коррективы. Истоки публицистики как типа творчества обнаруживали коммуникативные корни не в просветительской или образно-творческой функции, а в специфике «обслуживания» общественного мнения. Если также учесть, пишет Е. Прохоров, что публицистика в той или иной мере несет информацию, связанную с мировоззрением, миросозерцанием и историческим сознанием, то ее роль для журналистики оказывается тем более значимой: «…публицистика совокупностью своих произведений при нормальном функционировании СМИ воссоздает целостную панораму современности как “момента перехода” из прошлого в будущее. Текущая история может быть дана во всей полноте, если публицистика отображает действительность через посредство множества отдельных, наиболее характерных конкретных ситуаций, типических фрагмен11 тов настоящего. Поэтому панорама современности в публицистике складывается из множества произведений. Каждое из них имеет самостоятельную ценность, но подлинное свое значение оно обретает лишь, будучи на газетной странице или в программе телевидения состыкованным с другими. При этом объективная панорама жизни в публицистике носит субъективно-личностный характер» [7]. Диалектика классической теории массовой коммуникации очевидна. Однако в собственно языковом понимании публицистики есть разночтения. Моделирование единого речевого комплекса газетной публицистики уже давно и правомерно вызывает разногласия. С одной стороны, исследования Ф. Лазаро Карретера, Н. В. Шведовой и др. доказывают, что в определенных жанрах и в определенной мере публицистика использует элементы литературной, официально-деловой и разговорной речи, не приводя их в единую систему. Отчасти и по этой причине, например, в посмертном издании толкового словаря русского языка С. И. Ожегова [6] пометка «публицистический» просто не используется. Другая точка зрения – в известных работах В. Г. Костомарова, Г. Я. Солганика и др. – определяет газетный язык как функционально-стилевое единство. Анализ данных стилистических разногласий [2] не касается социально-исторических оснований второй точки зрения. Они, правда, подспудно выявляются в новейших исследованиях, согласно которым в советской науке, обусловленной монопартийной системой, подчиненной тенденции всеобщей стандартизации и унификации, не могла не культивироваться идея единого публицистического стиля. К публицистическому же стилю относили преимущественно политический лексикон официальных передовых статей советской эпохи. Иногда выдвигаются и гипотезы культурологического характера, согласно которым наличие или отсутствие устойчивого языкового комплекса публицистики в том или ином языке обусловлено самим характером языка. Например, в испанском языке выделяют ряд особенностей, не позволяющих толковать публицистику как единый комплекс, а только как промежуточный, смешанный. Попытки же соединить официальный канцеляризм, литературный пафос воспитания и выражающийся в разговорных интонациях публицистики эффект «своего человека» оказываются при этом неуместными. Современная практика журналистики в значительной степени подтверждает, что в журналистских текстах активно идут процессы пересечения и смешения жанрово-стилевых моделей. Одной из распространенных тенденций является повсеместное использование, в том числе, например, и в практике местных журналистов, гетерогенных стилей, создающих публицистический диссонанс. Иногда это выглядит дисбалансом, иногда рассматривается как стилистический прием, имевшийся уже в фельетонном «начале» публицистики XIX–XX веков. Для примера возьмем выдержки из двух проблемно-аналитических публикаций. Одна – о ситуации увольнения директора крупного предприятия. «Девятитысячный коллектив треста встал перед серьезным выбором: либо остаться без серьезного заказа и денег, но с “батькой”, либо “сдать” генерального и продолжать работать в Щучьем, где дел еще невпроворот… Общественности непонятно, чем руководствовались военные и американцы, когда ставили ребром вопрос о выборе партнера» [1. С. 1]. Другая – о митинге протеста против действия челябинской администрации: «Сам митинг в целом прошел спокойно, если не считать единственной кратковременной стычки между одним из его участников и каким-то деклассированным нетрезвым типом, плюнувшим пожилому человеку прямо в лицо и быстро ретировавшимся» [9. С. 1]. Каждая публикация – вариант того, что раньше назвали бы передовой статьей. В каждом случае анализируется достаточно серьезная ситуация, но стилистические средства для нее выбраны нарочито сниженные, ибо время требует парадоксов, играя которыми, публи12 цист может эффектно сообщить массовой аудитории о своих впечатлениях и размышлениях. Терминология, связанная с журналистской функцией воспитания и управления, переходит в свою противоположность – разговорно-просторечный стиль, иногда сниженный до уровня жаргона, особенно в связи с интенсивным распространением в российской прессе т. н. «криминальной» тематики. С точки зрения журналистской деятельности, это естественный процесс, поскольку все, что востребовано, должно быть воспроизведено. С точки зрения научной теории, эта практика в максимальной степени подтверждает зависимость журналистики от социальнополитических условий. Социолингвистическое направление исследований СМИ [3] сегодня является не теорией, готовой обосновать определенную модель речевого поведения журналиста, а междисциплинарной зоной поиска этой модели в практике профессиональной журналистской деятельности. Список литературы 1. Анасова, К. Трест «химичит» / К. Анасова, С. Крапивин, М. Пинкус // Челяб. рабочий. – 2003. – 28 июня. 2. Кайда, Л. Г. Эффективность публицистического текста / Л. Г. Кайда. – М., 1989. 3. Лысакова, И. П. Тип газеты и стиль публикации / И. П. Лысакова. – Л., 1989. 4. Мельник, Г. С. Mass media : психологические процессы и эффективность / Г. С. Мельник. – СПб., 1996. 5. Мисонжников, Б. Я. Отражение действительности в тексте / Б. Я. Мисонжников // Основы творческой деятельности журналиста / под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб., 2000. – С. 95–122. 6. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. В. Шведовой. – М., 1982. 7. Прохоров, Е. П. Введение в теорию журналистики / Е. П. Прохоров. – М., 2000. 8. Тертычный, А. А. Жанры периодической печати / А. А. Тертычный. – М., 2000. 9. Токарчук, В. Власть боится тех, кто ее не боится / В. Токарчук // Урал. обществ. ведомости. – 2003. – 24 сент. 10.Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб., 1998. Т. В. Бердникова ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЕ ЕДИНСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СТРУКТУРНОСМЫСЛОВОГО СООТНОШЕНИЯ РЕПЛИК В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ А. АХМАТОВОЙ) Статья посвящена изучению одной из разновидностей структурносмыслового взаимодействия реплик диалога – вопросно-ответной структуры. Анализ ее функционирования позволил определить несколько черт коммуникативных ролей собеседников и идиостилевые черты диалога в лирике А. Ахматовой: сочетание реплицирующего и нарративного режимов диалоговедения, близость диалогов к диалогам в драматургическом тексте. Ключевые слова: Ахматова, диалог, вопросно-ответная структура, лирика. В структуре художественного текста диалог изучался в основном в пределах драматических (М. М. Бахтин, М. Б. Борисова, Г. О. Винокур, Т. Г. Винокур, 13 С. Г. Ильенко, Г. Г. Полищук, О. Б. Сиротинина, А. П. Стельмашук и др.) и прозаических (А. Б. Кошляк, М. К. Милых, В. В. Одинцов и др.) произведений. В исследованиях же поэтического текста диалог был объектом анализа в коммуникативном (И. А. Бескровная, Ю. И. Левин), структурно-композиционном аспекте (В. В. Одинцов). Принципиальное значение для изучения диалогизма имеет исследование В. В. Виноградова о поэзии Ахматовой. В. В. Виноградовым был рассмотрен семантический аспект диалога, но все многообразие форм его реализации и разнообразные функции диалога до сих пор не были предметом специального исследования. Новизна нашего исследования заключается в многоплановости изучения диалогического фрагмента в структуре стихотворного текста А. А. Ахматовой, а также в комплексном методе его анализа – в синтезе современных методик изучения идиостиля писателя: семантико-стилистического, сопоставительного, структурно-композиционного с использованием элементов компонентного и коммуникативного анализа. Предметом анализа в настоящей статье служит одна из активных форм структурирования диалогических фрагментов А. А. Ахматовой – вопросно-ответное единство. В поэтической системе А. А. Ахматовой около 65% лирики занимают стихотворения с диалогическими фрагментами. Диалогические фрагменты выполняют сюжетообразующую функцию и функцию характеризации персонажей, передачи их эмоционального настроения, мыслей и чувств. Диалог в лирике Ахматовой близок к драматургическому диалогу: их сближает как взаимодействие реплик персонажей и авторского комментария (в драме – ремарки), так и передача напряженных событий, эмоциональных состояний персонажей, борьбы их чувств. Драматизации способствует структура диалога. В статье рассматривается одна из форм в системе структурно-смыслового соотношения реплик – вопросно-ответное единство. Теоретическую основу работы составляют исследования, посвященные изучению структуры вопросов и ответов в разговорной речи (Н. И. Борисовой, Т. Г. Винокур, Н. И. Голубевой-Монаткиной, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой и др.). Диалогическое единство в поэтическом тексте, как и в разговорной речи, представлено репликой-стимулом и репликой-реакцией. В поэтическом тексте структура диалога отражает структуру живого разговорного диалога, является его стилизацией (О. Б. Сиротинина). Анализу подвергаются особенности функционирования вопросно-ответного единства в идиостилевой системе А. А. Ахматовой. Реплика-стимул, представленная вопросом, информационно независима, более свободна, чем ответная реплика. Реплика-реакция связана с самим вопросом, зависима в отношении информации от вопроса. Однако ответная реплика, по преимуществу, более информативна, чем вопросная. Спрашивающий задает тон коммуникации, он определяет так называемый «мир» вопроса, которому необходимо разрешиться в соответствующем ответе. Спрашивающий несет ответственность за процесс диалоговедения. «Задавая вопрос, т.е. строя свои собственные возможные миры, спрашивающий более независим, чем отвечающий, который, выполняя “гносеологические обязанности”, лишь выбирает из того, что предлагает спрашивающий»1. В поэзии А. А. Ахматовой вопросно-ответное единство предполагает предситуацию, из которой следует и вопрос, и ответ: «Брат! Дождалась я светлого дня. В каких скитался ты странах?» «Сестра, отвернись, не смотри на меня, Эта грудь в кровавых ранах». 14 «Брат, эта грусть – как кинжал остра, Отчего ты словно далеко?» «Прости, о прости, моя сестра, Ты будешь всегда одинока»2. Лирический герой отвечает не непосредственно на вопрос героини, он рассказывает ей о своей непростой жизни. За вопросом о местонахождении персонажа следует реплика, содержащая косвенный ответ и подтекст: герой был там, где идет война. Духовная близость людей подчеркивается обращениями «брат» и «сестра». Таким образом, реплики соотносятся друг с другом по семантике (разговор о войне) и структуре (повторение обращений «брат», «сестра»). Исследователи рассматривают в диалоге два режима диалоговедения: реплицирующий и нарративный. Быстрый темп смены реплик характерен для реплицирующего режима диалоговедения, т.е. такого способа «организации речевого поведения коммуниканта, при котором в его речевой партии реализуется установка на быстрый темп речевого обмена перемежающимися репликами с передачей речевого хода»3. В поэзии А. Ахматовой, как и в разговорной речи, реплицирующий режим диалоговедения – частотное явление. Поэтические диалоги Ахматовой тем самым сближаются с живой речью и с драмой. «“Отталкивание от слов собеседника” как основа диалогического взаимодействия своеобразным способом трансформируется в некоторых специальных жанрах»4: для поэтического текста характерно отсутствие одной из реплик, поэтому нередко вопрос не предполагает ответа. Чаще всего такие вопросы адресованы самой героине или человеку, который не может дать ответа: Теперь ты там, где знают все, – скажи: Что в этом доме жило кроме нас?5 Если при опущении реплики-стимула реплика содержит вопрос, репликареакция служит стимулом к продолжению диалога. Таким образом, реплика-стимул и реплика-реакция меняют свои функции. Такое взаимодействие реплик порождает динамику диалога. При этом вопрос носит характер переспроса, уточнения времени, местонахождения какого-либо объекта: «Так значит направо? Вот здесь, за углом? Спасибо!» – Канава И маленький дом6. Большое количество вопросно-ответных форм связано с драматизмом ситуаций в текстах А. Ахматовой, которые сближают лирический диалог с драматургическим: Сжала руки под темной вуалью… «Отчего ты сегодня бледна?» – Оттого, что я терпкой печалью Напоила его допьяна7. Эмоциональное напряжение героини раскрывается в вопросно-ответной форме диалога. Происходит постепенное раскрытие эмоции персонажа: сначала дается описание жеста, затем вопросно-ответная структура. В диалоге использован анафорический прием (паронимическая аттракция соотносимых наречий «отчего / оттого»), повтор синтаксической организации реплик как типичная черта разговорной речи. Постепенное нарастание эмоции приводит к ее кульминации и разрешению в ответной реплике. 15 Ответная реплика в поэтическом диалоге может иметь установку на монолог, в этом случае имеет место монологизированный диалог. Реплика-реакция носит нарративный характер. «Нарративный диалог характеризуется таким распределением режимов диалоговедения, когда один из коммуникантов (условно обозначаемый как Рассказчик) строит свою речевую партию в нарративном режиме (с определенным замыслом и установкой на монологизирование), а другой (условно обозначаемый как Слушатель) – в режиме реплицирования»8. Коммуникативная инициатива остается за рассказчиком на протяжении всего диалога. «Где, высокая, твой цыганенок, Тот, что плакал под черным платком, Где твой маленький первый ребенок, Что ты знаешь, что помнишь о нем?» «Доля матери – светлая пытка, Я достойна ее не была. В белый рай растворилась калитка, Магдалина сыночка взяла. Каждый день мой – веселый, хороший, Заблудилась я в длинной весне, Только руки тоскуют по ноше, Только плач его слышу во сне. Станет сердце тревожным и томным, И не помню тогда ничего, Все брожу я по комнатам темным, Все ищу колыбельку его»9. Реплика-стимул порождает развернутый рассказ лирической героини о своем горе. Постепенное нарастание эмоциональности в реплике-стимуле (вопросе) достигает своей кульминации в последней строке. В ответе же представлено объяснение, которое характеризуется эмоционально сдержанным тоном. Строфы ответной реплики строятся таким образом, что каждая последующая строфа передает иное проявление волнения, страдания лирической героини: в первой строфе представлено мистическое понимание горя (связь с библейским сюжетом), во второй – отражение физического восприятия (плач во сне), в третьей строфе описание внутренних волнений достигает кульминации и представляет собой сочетание внутренних и внешних проявлений переживаний героини. Таким образом, в вопросно-ответной структуре в поэтических текстах А. Ахматовой реализуются реплицирующий и нарративный характер диалоговедения. Представленность вопросно-ответного единства отражает живую разговорную речь и сближает поэтический текст с драматургическим. Тяготение к драме как литературному роду – одно из свойств диалогов А. Ахматовой. Примечания 1 Голубева-Монаткина, Н. И. Классификационное исследование вопросов и ответов диалогической речи / Н. И. Голубева-Монаткина // Вопр. языкознания – 1991. – № 1. – С. 134. 2 Ахматова, А. А. Соч. : в 2 т. Т. 2 / А. Ахматова. – М. : Правда, 1990. – С. 10. 16 3 Борисова, И. Н. Русский разговорный диалог : Структура и динамика / И. Н. Борисова. – М. : ЛКИ, 2007. – С. 183. 4 Винокур, Т. Г. Говорящий и слушающий : Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : ЛКИ, 2007. – С. 86. 5 Ахматова, А. А. Соч. : в 2 т. Т. 1 / А. Ахматова. – М. : Правда, 1990. – С. 262. 6 Там же. – С. 234–235. 7 Там же. – С. 28. 8 Борисова, И. Н. Русский разговорный диалог… С. 190. 9 Ахматова, А. А. Соч.… Т. 1. – С. 99–100. Г. Х. Бухарова ЭТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ «ДОБРО» – «ЗЛО» В МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА В статье описываются этические параметры в мифопоэтической модели мира с точки зрения их соответствия ценностным координатам добро – зло, хорошее – плохое, правильное – неправильное. Реконструкция нравственного сознания башкирского народа через призму фольклорного текста – эпос «Урал-батыр» – осуществляется на основе привлечения широкого мировоззренческого и культурологического контекста употребления языка. Ключевые слова: мифопоэтика, модель мира, этические параметры, фольклор, эпос «Урал-батыр». В языке закрепляется как общечеловеческий, так и национальный общественно-исторический опыт в виде картины мира. Описание этнической языковой картины мира, языковой модели мира, в том числе и мифопоэтической модели мира – одна из приоритетных тем этнолингвистики. Модель мира представляет собой определенным образом организованные знания о мире, обобщающие опыт индивида и социума, т. е. когнитивные структуры, существующие на так называемом базовом уровне категоризации. «Мифопоэтическая модель мира» в самом общем виде определяется как сокращённое и упрощённое отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах. Само понятие «мир», модель которого описывается, целесообразно понимать как человека и среду в их взаимодействии; в этом смысле мир есть результат переработки информации о среде и о самом человеке [7. С. 161]. Описание мифопоэтической модели мира предполагает выявление космологизированного modus vivendi и основных параметров вселенной – пространственновременных, причинных, этических, количественных, семантических и т. д. [7. С. 162]. Исследование архаичного фольклорного текста, в особенности его мифологических номинант, является ценным при построении мифопоэтической модели мира. Моделирование фрагментов логико-понятийных систем, связанных с традициями и особенностями народной культуры, в свою очередь, является определенным шагом к реконструкции народного мышления в целом. Цель данной статьи – путем описания этических параметров в мифопоэтической модели мира через призму фольклорного текста (эпос «Урал-батыр»), через его 17 изображение в языке с позиций ценностных координат добро – зло, хорошее – плохое, правильное – неправильное, т. е. с точки зрения ее соответствия этическим нормам, реконструировать нравственное сознание башкирского народа и проиллюстрировать, как ментальность отражается в языке. Как известно, для традиционного башкирского общества была характерна очень высокая степень регламентации всего жизненного уклада: строго были определены отношение человека к природе, к родителям, к старшему и младшему поколению, к самому себе, отношение к животным и растениям, отношения полов, семейные и социальные роли, речевое поведение, еда и т. д. Эти регламентации имели форму запретов и предписаний, существующих в устной традиции. Они передавались из поколения в поколение и в какой-то степени передаются и поныне в устной форме через посредство фольклора. В башкирском устном народном творчестве, особенно в пословицах и поговорках, также в семейно-обрядовом фольклоре, в сказках и эпосе, в легендах и преданиях находит отображение система этикетного поведения. Опираясь на эти источники, можно охарактеризовать поведение народа относительно ценностных ориентиров, оценивая его мотивы и результаты в категориях добра и зла, исследовать его нравственную жизнь с точки зрения ее соответствия моральным нормам традиционного общества. Самое главное, на наш взгляд, на материале фольклорного текста можно описать зафиксированную в нем народную «этику» через его отображение в языке. Как известно, этика исследует нравственную жизнь человека с точки зрения ее соответствия моральным нормам. Если в современном нам понимании этика изучает поведение человека относительно ценностных ориентиров, оценивая его мотивы и результаты в категориях добра и зла [8. С. 33], то в традиционной нормативной системе не слишком отчетливо очерчивается область этического, тем более что граница между природным и человеческим не совпадает с привычным нам делением. В мифологической системе нормативных установок в принципе не разграничиваются правила, регулирующие отношение человека к природе, и правила, регулирующие отношения между людьми. Так, отношение человека к природе в традиционной культуре, безусловно, включается в систему этических норм. В эпосе «Урал-батыр» мораль, этика и нравственность, как и в традиционном башкирском обществе, тесно связаны с обрядом и ритуалом, а последние в свою очередь – с мифом и мифологическим сознанием. О первоначальной связанности языкового сознания с мифически-религиозным сознанием писал немецкий философ Э. Кассирер: «Теоретическое, практическое и эстетическое сознание, мир языка и познания, искусства, права и нравственности, основные формы сообщества и государства – все они первоначально как бы связаны в мифически-религиозном сознании. Эта связь настолько сильна, что там, где она становится слабее, миру духа грозит полный упадок, что отдельные формы, выходя из целого и противопоставляя себя ему с притязанием на специфическое своеобразие, тем самым как будто теряют свои корни и часть собственной сущности». По его мнению, первоначальная связанность языкового сознания с мифически-религиозным сознанием выражается, прежде всего, в том, что все языковые образования одновременно выступают как мифические, как обладающие определенными мифическими силами. Слово языка становится своего рода исконной потенцией, в которой коренится все бытие и все происходящее [4. С. 354–355]. «И в нем [в слове. – Г. Б.] коренится как все физическое и психическое бытие, так и все нравственные требования, и весь этический порядок. Религии, основывающие свой образ мира и свою космогонию прежде всего на фундаментальной этической противоположности, на дуализме доброго и злого, почита18 ют в слове языка исконную силу, посредством которой хаос только и мог превратиться в нравственно-религиозный космос» [4. С. 356]. Еще в мифологическом сознании башкир сформировалась своя особая система регламентации и норм – йола, соблюдение которых оказывается необходимым условием поддержания равновесия жизни и ее продолжения. В традиционном башкирском обществе мораль, этика и нравственность восходят к обычаю – йола. В эпосе «Урал-батыр» термином йола обозначается и обряд, и ритуал, и обычай, и все нравственные каноны тесно связаны с данным понятием. Но в контексте эпоса можно уловить различные коннотации термина йола и разграничить обряд и ритуал, когда речь идет об обычае. Под обычаем понимается издавна укоренившийся в быту и ставший традиционным порядок совершения каких-либо общественных действий, традиционные правила поведения в определенных ситуациях [3. С. 9]. Э. Сепир в «Избранных трудах по языкознанию и культурологии» [6], посвятивший отдельную статью обычаю, пишет, что слово «обычай» употребляется применительно к целой совокупности схем поведения, опирающихся на традицию и закрепившихся в группе, в отличие от более случайных проявлений личной деятельности индивида [6. С. 574]. По его мнению, на основе обычая сформировалось более строгое и научное антропологическое понятие культуры. В термине «обычай» Э. Сепир видит некоторый аффективный оттенок, который проявляется в том, что он, как правило, употребляется применительно к географически далеким, примитивным или к древним обществам, а не к своему собственному социуму [6. С. 574]. Обычай определяется как стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычным для их членов [1. С. 829]. Обряд представляет собой более локальное явление, чем обычай. Это традиционный порядок совершения каких-либо действий [2. С. 194]. Под обрядом понимаются традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни человеческого коллектива [1. С. 827], а ритуал – вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного символического поведения, упорядоченная система действий (в том числе и речевых), которая выражает определенные социальные и культурные взаимоотношения, ценности. В древних религиях он служил главным выражением культовых отношений [1. С. 1019]. Поскольку эпос «Урал-батыр» в основе своей мифологический, в нем события не соотносятся с реальными историческими событиями, они – вымышленные. Но, тем не менее, в эпосе «Урал-батыр» можно уловить потенциально реальные события, связанные с историей башкирского, в том числе, и многих других тюркских народов. Например, многочисленные обычаи, обряды и ритуалы, как ирк2к й2нлекте8 башын ашау «поедание головы хищника», ор4асы й2нлекте8 й0р2ген с2йн2п ашау йола3ы «поедание сердца хищницы», 7ан эсе1 йола3ы «питье крови травоядного животного», табын 7ороу йола3ы «организация трапезы», шыба4а тотоу йола3ы «бросание жребия», 7орбан бире1 йола3ы «обряд жертвоприношения»: кешене 3уяр йола «обряд жертвоприношения человека», 3ыу4а 7орбан килтере1 «жертвоприношение воде», ата-2с2 ха7ы 0с0н 7орбан килтере1 «жертвоприношение в честь отца и матери», 16е 0с0н 32м тыу4ан к0н0 0с0н 7орбан килтере1 «жертвоприношение в честь себя (правителя) и своего дня рождения», Т28ре 0с0н 7анлы 7орбан у66ырыу «кровавое жертвоприношение в честь Тенгри», 7ы66ы к1лг2 3алыу «утопление девушек в озере», ир6е утта яндырыу «сжигание мужчин в огне», тотем 7оштар6ы 3ыйлау «угощение тотемных птиц», алма биреп й2р 3айлау йола3ы «выбор жениха путем вручения яблока», ата-2с2 316ен тотоу йола3ы «послушание родителей», димл21 йола3ы «обряд сватовства», б1л2к бире1 йола3ы «дарение подарка», 19 б1л2кт2н баш тартыу йола3ы «отказ от подарка», туй йола3ы «свадебный обряд», а7 316 бире1 йола3ы «дать клятву (честное слово)», ер 1беп ант ите1 йола3ы «поклясться, целуя землю», халы7 алдында баш эйе1 «преклонять голову перед народом», 3ы7тау «обрядовый плач после смерти героя», 7ан илау йола3ы «обрядовый плач кровавыми слезами», ал4ыш 2йте1 «произнесение благопожеланий», 7ар4ыш 2йте1 «произнесение проклятия», батыр6ар 2йтеше «айтыш батыров», башлы7 3айлау «выбор вождя» и т. д., имеющие отношение к исторической действительности и характеризующие данное общество. Возможно, в традиционном башкирском обществе за перечисленными выше стереотипами этикетного поведения стояла система определенных мифологических представлений. В них проявляется не только социо-регулирующее, коммуникативное и прагматическое, а знаковое и символическое значение. Поэтому строгое соблюдение обычаев определялось не только морально-этическими, но и магическими интересами. Нарушение этих норм поведения могло привести к негативным последствиям не только для индивида, но и для всего коллектива. В мифопоэтическом тексте «Урал-батыр» понятие обычай (йола) воспринимается как стереотипный способ поведения и репрезентируется посредством лексем и словосочетаний: йола табыу «найти обычай», йола булып ките1 «стать обычаем», йола тотоу «соблюдать обычай», йола 7ылыу «соблюдать обычай», т0п йоланы беле1 «знать основной обычай», 7ыла тор4ан йола «обычай, подлежащий совершению», йоланы белм21 «не знать обычая», йоланы бо6оу «нарушать обычай», йола 0йр2те1 «научить обычаю», йоланан баш тартыу «отказаться от обычая» и т. д. Йола в контексте понимается как способ действия социума: я7шылы77а я7шылы7 7ыла тор4ан йола «обычай отвечать на добро добром», к0сл0 к0с30660 ейг2н йола «обычай поедания сильным слабого», ата 316ен ты8лау, ата 316ен тотоу «послушание отцовкого совета», б1л2к алыу «принимать подарок», б1л2к бире1 «дарить подарки», б1л2к биреп 6урлау «возвеличить одаривая», 3ыйлау «угощение», 7он алыу «отомстить», сер тотоу «держать тайну», ата ха7ын 3а7лау «беречь честь отца», 2с2 726ерен 3а7лау «беречь честь матери», ту4ан ха7ын 3а7лау «беречь честь родни», шыба4а тотоу «бросать жребий», алма биреп й2р 3айлау «выбор жениха путем вручения ему яблока» и т. д. Под термином йола в эпосе понимается и обряд – традиционные действия, связанные с важными моментами жизни коллектива. Так, жертвоприношение относится к обряду. Обряд жертвоприношения связан с существующим в традиционном башкирском обществе культом Неба, Воды и Огня, культом птиц, культом предков и культом личности правителя: Девушки смерть находят на дне Озера. …Терел2т2, 3ау к0йг2 ?ы6ын к1лг2 3алдыра, А егеты – в огне. Ирен ут7а яндыра; Каждый год в день рождения царя, …№2р йыл батша тыу4ан к0н В честь его матери и отца, Ата-2с23е ха7ы 0с0н, В честь колодца, чьею водой Батша тыу4ас, 3ыу алып Ребенком омывали царя, Йыу4ан 7ойо3о 0с0н, Он приносит в жертву людей. №2р ырыу6ан йыл 3айын Утвердился обычай сей. У владыки есть Черный Ворон – ?орбан бирер йола бар. …Батшаныщ тыу би62ге – С его знамени взирает он гордо. ?ара 7о64он 7ошо бар, Ворону набивают утробу Шул 7оштар6ы йыл 3айын Каждый год в этот день особый. №ыйлай тор4ан к0н0 бар. 20 В эпосе описывается древнейший обряд человеческих жертвоприношений: кеше 3уяр йола. Я еще такого царя – Батша тигəн нəмəне, Кеше һуяр йоланы И обычаев таких, Ишетеп тə, белеп тə, Чтоб резали так людей живых, И не видел, и не слыхал, Нисə йылдар йөрөп тə, һис бер ерə күрмəнем, Хоть и много земель повидал. Барлығын да белмəнем. В. Г. Котов относит данный обряд к эпохе патриархального рабства (до развитого рабовладельческого общества «с его налаженным сбытом рабов-пленников»). Привлекая для сравнения ряд мифологических источников, он приходит к следующему выводу. «Приведенный в эпосе кровавый ритуал имеет под собой историческую основу. Он является описанием архаического новогоднего праздника, который совершался в день весеннего равноденствия, и его основным содержанием было повторение мифической мистерии сражения и победы над силами Хаоса (в образе различных чудовищ) и связанным с этим обновлением Природы-Жизни. По традиции в этот день устраивались воинские состязания и даже сражения, а также совершались обильные жертвоприношения божествам и предкам. Яркой иллюстрацией этого являются многочисленные параллели в мифологии многих индоиранских народов, например, праздник Ареса в Колхиде, описанный в Аргонавтике, или же новогодние ритуальные представления по Ригведе» [5. С. 109]. В чем заключается смысл обряда жертвоприношений? Возможно, в том, что нет созидания без жертвы, нет жизни без смерти. Такая идея является общей для мифологий большинства народов. Под термином йола в эпосе понимается и вид обряда – ритуал. В отличие от современного общества, еда в традиционном обществе, например, табын 7ороу «трапеза», ирк2к й2нлекте8 башын с2йн2п ашау «поедание головы хищника», ор4асы й2нлекте8 й0р2ген с2йн2п ашау «поедание сердца хищницы», 7ан эсе1 «питье крови» включается в систему не этикетного поведения, а ритуального. Как повествуется в эпосе, после коллективной охоты устраивалось коллективное поедание добычи: К1п й2н тотоп, 3унар6ан С богатой добычей вернулись домой Ата-2с23е 7айт7ан, ти. Старик со старухою, говорят, Йола буйынса, к1м2кл2п, По обычаю, всей семьей Распотрошили дичь, говорят. Табын 7ороп, д1рт21л2п, Бары й2нде ботарлап, И перед обильною едой Былар аш7а утыр4ан. Уселись, довольные собой. Исходя из данного контекста, можно предположить, что у башкир существовал обычай «есть всем вместе» – табын 7ороу йола3ы. Возможно, такой обряд носил сакральный характер. Об этом свидетельствует языковые данные. В корне слова табын лежит общетюркское tар-, современное башкирское табыныу «поклоняться». Возможно, башкиры, как и остальные тюркские народы, поклонялись жертвенному животному, мясо которого съедали во время трапезы. Употребление в пищу определенной части животного – головы хищника и сердца хищницы – также связано с ритуальной едой: Бик борондан бу4анмы, С древности тот обычай дошел Й2нбир6е 16е 7ыл4анмы, И навеки с ними остался, Бара-тора шу ер62 Янбирде ли его завел: Йола булып китк2нме, Когда зверь-самец попадался, Йырт7ыс й2нлек тото и32, Старики его убивали, 21 Й2нлек ирк2к булды и32, Голову его поедали, Ирле-бис2 ик213е Шульгену же и Уралу, Башын с2йн2п аша4ан, А также льву-арслану, Ш1лг2н м2н Урал4а, Соколу и прожорливой щуке Эте м2н ары9лан4а, Остальное поесть бросали. Шо87ар м2н суртан4а Когда ж самку зверя они убивали, ?ал4ан я4ын ташла4ан; Для пищи лишь сердце ее вырезали. Йырт7ыс й2нлекте тот3а, Й2нлек ор4асы бу3а, Ирле-бис2 ик213е Й0р2гене 3айла4ан. Ритуальная еда, описанная в эпосе «Урал-батыр», охватывает и питьё крови травоядного жертвенного животного: !л2н емш2р й2н тот3а, Ну а черных пиявок болотных ?ара 30л0к 7а6а4ан, В травоядных вонзали животных, №0л0г0н2н 3ур6ырып, Чтобы из выцеженной крови ?анды 3ыу3ын я3а4ан Себе напиток изготовить. В мифопоэтической модели мира все причастно космосу, связано с ним, выводимо из него и проверяется и подтверждается через соотнесение с космосом. Один из двух сыновей первых людей на земле Шульген (башк. Ш1лг2н), нарушив йола – родительский запрет употреблять кровь, – приходит к духовной гибели. Нарушение им йола приводит также и к природному катаклизму – потопу. Он становится коварным и злым повелителем водной стихии – волшебного моря, которое потом превращается в озеро Шульген (Ш1лг2н к1л). Шульген является воплощением, олицетворением стихии воды и хаоса как отрицательного, опасного и губительного для жизни людей начала. Как видно из содержания эпоса, в традиционном башкирском обществе йола выступает как основа жизни, является регулятором отношений между людьми и природой, определяет, что «хорошо» и что «плохо», и устанавливает нормы поведения. Обряд, его происхождение, как и весь окружающий мир, пространство и время, эпический ландшафт в эпосе связываются с мифическим временем, с эпохой первотворения. Как повествуется в нем, обычай (йола) мог появиться еще в мифическое время, очень давно (бик борондан) или его могли установить мифический первопредок Й2нбир6е (Й2нбир6е 16е 7ыл4анмы) или его семья: Ямандар6ы8 яманы, Скажи, не мы ли здесь вчетвером В глазах животных и птиц – злодеи? Шу йоланы табыусы, Не мы ли гибель повсюду сеем, Ер62 1лем с2се1се Бе6 булабы6 т1гелме? Страх на всех наводя кругом? Обряд мог установиться по истечении некоторого времени (бара-тора): Бик борондан бу4анмы С древности тот обычай дошел Й2нбир6е 16е 7ыл4анмы, И навеки с ними остался, Бара-тора шу ер62 Янбирде ли его завел. Йола булып китк2нме... Таким образом, происхождение обряда связывается с мифическим временем, временем «первотворения» современного состояния не только физического, но и духовного мира – культуры. Связь обряда (йола) с мифом проявляется еще и в том, что обрядом регламентируется жизнедеятельность во всех описываемых странах, даже в ирреальных обществах (в эпосе они мыслятся вполне реальными), описываемых в эпическом тексте: в стране царя птиц Самрау, царя змей Кахкахи и царя дивов Азраки. 22 Таким образом, йола функционирует во времени и пространстве. Так, в стране Урал-батыра существует обычай к0сл0 к0с30660 ейг2н йола (обычай, когда сильный ест слабого), который заключается в охоте на зверей и птиц, в истреблении растительности и т. п. Этот обычай и с позиций гуманистической этики, и самим ее носителем Урал-батыром соотносится с представлениями о смерти и оценивается как 1лем с2се1 «сеяние смерти», йырт7ыслы7 «зверство», «свирепость». – !лем тиг2н яуызды8 Злодейку, по прозванию Смерть, Т0р0н 3анап бел2йек, Мы всегда узнавать должны. К0сл0 к0с30660 ейг2н Обычай сильных слабого есть йоланы бе6 062йек... Мы отвергнуть навек должны. Йырт7ыслы7ты б0т0р2йек. С позиции Ворона, олицетворяющего собой мудрость, этот обычай служит гарантом гармонии жизни. По его мнению, К0с0 етк2н к0с306г2 3унарлы7 7ылыу (йола) – это обычный круговорот жизни, и все в природе должно подчиняться йола. Иначе нет смысла жизни: К0с0 етк2н к0с30г2 Если сильные на слабых Вдруг охотиться перестанут, №ис 3унарлы7 7ылма3а; «с2н2н тыу4ан бер21 62 Иль всякого, кто рожден на свет, Бы донъяла үлм232; Отныне обходить будет Смерть; Ер уттары, ағастар Если осенью в строгие сроки Йола4а буй3онма3а; Не выпадут заморозки, а деревья, !6 ми6геле етк2нд2, Изменив законам природы, К06г0 7ырау т0шк2нд2, Не сбросят листву на зимнее время, – Есть ли прок в том живым на земле? 3ис й2шеллек б0тм232, – Анда бе6г2 ни фай6а? …Что мы станем делать тогда? ...У са7та бе6 нишл2рбе6? Откуда пища живым и вода? ?ай6ан утты табырбы6, Хоть голод и нужду испытал, 3ыу6ы нисек эс2рбе6? Бывало, рискуя головой, Башым 3алып, яу асып, Понапрасну вступал я в бой; К1п са4ында талпынып, Терпел лишения и страдал, Аслы7, тарлы7 к1р32м д2, Все же, если в три дня хоть раз Не поклюю у падали глаз, К1п зары4ып й0р32м д2, Мин 7ан эсм2й, ит ейм2й, Если чью-то кровь не попью, Мяса кусочек хотя б не вкушу, !л2к32нен к16 майын Жизнь не жизнь мне на этом свете, )с к0нд2 бер со7омай, 3ис донъяла торалмам – Уволить меня потому прошу От поисков Смерти. !лемде э6л2п табыр4а Мин 316емде бир2 алмам. Таким образом, Ворон выступает за существующий обычай, т. е. против нарушения круговорота жизни, сам став ее регулятором, т. е. символом гармонии. Отсюда следует, что обычай йола поддерживает круговорот жизни, служит его продолжению, а его нарушение может привести к гибели физической или духовной. В стране царя птиц Самрау живет обычай отвечать на добро добром: я7шылы77а я7шылы7 7ыла тор4ан йола. В этой стране нет ни печали, ни горя и боли, и все равны: ?ай4ы-этлек к1рм2йсе, Там, забот и вражды не зная, Барлы4ын да белм2йсе, В полном согласии живут: Р2х2т й2ш2п байманда: Волки и овцы на вольных лугах, 23 Б1ре, 3ары7 – яланда, Лисицы и куры в густых лесах, Птицу Самрау всем сердцем чтут, Т0лк0, тауы7 – урманда Берг2 й2ш2п, ду9 булып, Не едят мясо, кровь не пьют, Самрау 7ош7а баш эйеп, Смерти дорогу не дают. ?ан да эсм2й, ит ейм2й, Вот такая там есть страна. На добро отвечать добром №ис !лемг2 юл 7уймай Й2ш2п килг2н бер ил бар Обычай в краю благодатном том. Я7шылы77а – я7шылы7 Эшл2й тор4ан йола бар. В стране царя змей Кахкахи, царя дивов Азраки и в стране царя Катила обычаем является Зло – Яманлы7. Во всех странах, упоминаемых выше, действует йола, регулируя отношения между ее членами и природой, между ее членами и обществом. В каждой стране йола имеет свои отличительные признаки, которые соотносятся или с добром – Я7шылы7, или со злом – Яманлы7. Представления башкир о Добре и Зле – Я7шылы7 и Яманлы7, – нашедшие отражение в эпосе «Урал-батыр», связаны с основным стержнем повествования – демонстрацией двух возможных путей: пути истинного и пути ложного. По истинному пути идет этический герой – Урал, следующий в своих словах и делах этическим нормам. Зло в его понимании это все, что направлено против жизни, все доброе служит ее сохранению и развитию. Ему противопоставляется его брат Шульген, который им не следует и нарушает йола. Урал наделен всеми достоинствами: честен, правдив, храбр, знает и свято хранит моральные законы своей страны, им движет, в отличие брата Шульгена, не стремление к личной славе, а чувство долга, и главным его достоинством является не столько сила, сколько доблесть. Народом оцениваются не только физические качества героя, но и душевные, оценивается его личность. Он скромен, отказывается от всякого рода почестей. В сознании народа Урал-батыр является этическим эталоном, воплощением человеческих норм, ревнителем этики и морали. Урал-батыр свято хранит моральные законы своей страны. Ему чужды и неприемлемы законы, царящие в чужой стране. Урал отвергает любовь дочери царя Катила, нарушая обычай (йола) его страны. Но в итоге он вынужден подчиниться обычаю чужой страны: прислушавшись к совету аксакалов (опять им движет йола), он женится на дочери царя Катила. Уралу противостоит брат его Шульген, который преступает моральные законы, нарушает йола ради своих интересов, личной выгоды и славы. В итоге он приходит к духовной гибели, став повелителем водной стихии – стихии Хаоса. «Мифологическая» мораль основывается на представлении о прямой связи поведения человека с состоянием космоса и космических последствий человеческих действий, поступков, деяний. Как правило, нарушения запретов и предписаний, закрепленных данной традицией, караются стихийными бедствиями. Добро – Я7шылы7 – раскрывается в семантическом пространстве эпоса посредством следующих лексем и словосочетаний: изге уй6а булыу (я7шы уй6а булыу) «быть в чистых помыслах», изге булыу «быть святым», кер3е6 уй «чистые помыслы», кешене 7от7арыу «спасать человека», я7лашыу «заступиться», изгелек ите1 «делать добро», яр6ам ите1 «помогать», б1л2к биреп 6урлау «возвеличить одаривая», я7шы4а юлдаш булыу «быть спутником доброте», я7шы юлды табыу «найти праведный путь», илд2 данлы булырлы7 я8ы кеше булыу «быть новым человеком, способным стать славным сыном страны», 7улдан кил32, яр6амсы булыу «при возможности быть помощни24 ком», йола тотоу «соблюдать обычай», олоно оло тейе1, к282ш алып й0р01, кесене кесе тейе1, к282ш биреп й0р01 «почитать старших, советоваться с ними; почитать младших, дать им совет» и т. д. Зло – Яманлы7 – репрезентируется через концептуальное поле: яуызлы7та дан алыу «прославиться в злости», 7ай4ы-этлек к1р32те1 «подвергать горю и страданиям», 7анлы й2ш т1ктере1 «заставить лить кровавые слезы», кеше 1лтере1 «убивать людей», тау-тау кеше-30й2ге «горы костей людских», ер6е 7ан4а батырыу «затопить землю в крови», кешег2 тейе1 «обидеть человека», кеше 7анын 7ойоу «пролить людскую кровь», ер62 1лем с2се1 «сеять на земле смерть», илде талау «грабить страну», 7ан 7ойоу «лить кровь», халы7 байлы4ын й2шере1 «прятать народное богатство», 7ы64а 2с2 бу4анды хурлау «позорным именем клеймить женщину, родившую дочь», к2м3ете1 «унижать», бала3ын 3ыу4а ташлау «бросить в воду дитя», алдап-йолдау «обманывать», х2йл2к2р булыу «быть хитрым», 7ан к0921 «жаждать крови», й2ш т1ктере1 «заставить лить слезы», кеше башына ете1 «довести человека до смерти, убить», 7ан эсерг2 у7талыу «жаждать крови», я7шылы77а к16 йомоу «закрыть глаза на доброту», 7ан 7ойор4а ынтылыу «жаждать крови», ата 316ен тотмау «не прислушаться к совету отца», яуызлы77а ы7лау «призывать к злу», я7шылы7ты ташлау «уйти от доброты», дейе162р6е ду9 ите1 «быть на стороне дивов», кешел2р6е хур ите1 «позорить людей», яуызлы7ты ат ите1 «быть на стороне зла», й0р2кте таш ите1 «окаменеть сердцем», ата й060н ят ите1 «стать чужим отцу», 2с2 30т0н ыу ите1 «принять материнское молоко за яд», дейе162рг2 буй бире1, дейе162рг2 алданыу «поддаться соблазну дивов», кеше 7аны т1ктере1 «лить людскую кровь», 31662 тормау «не держать слово», яуыз4а 7аршы бармау «не бороться против зла», я7шылы7ты ти83енм21 «не признавать доброту», кешел2р6е иш3енм21 «не признавать людей» и т. д. Морально-нравственные концепты реализуются в тексте через такие этические термины, как таплау «очернить», «обвинить», а7лау «оправдать», намы9 «честь», намы9 тапау «растоптать честь, совесть», «не считаться с совестью и честью», 30тт2й та6а «как молоко чистое» в смысле «святое», «священное», а7 й0р2к, букв. «белое сердце» в значении «чистое сердце», «чистая душа», 7ара й0р2к, букв. «черное сердце», «злой, плохой», йырт7ыс й2н, букв. «звериная душа» в смысле «бессердечный», яуыз «злой, плохой», 7ара й06 йыуыу, букв. «помыть черное лицо», т. е. «оправдать зло, плохой поступок», ер 1беп ант ите1, а7 316 бире1 «обещать», «дать честное слово», 7ара 7ая ите1, букв. «превратить в черную скалу» в смысле «наказать», «карать», «проклинать», 16 09т0н2 алыу «брать на себя», 42йеплелекте таныу «признать вину», 31662 тороу, букв. «стоять на слове» в смысле «держать слово», а7 й06, букв. «белое лицо» в смысле «хороший», 7ара й06, букв. «черное лицо» в смысле «плохой», й2н а4арыу, букв. «беление души» в смысле «очистить душу», 7ара 7ан 7ы6арыу, букв. «покраснение черной крови» в смысле «очищение души», у9ал й0р2к «злое сердце», б24ерле й0р2к, букв. «сердце, имеющее душу», т. е. «великодушный», ыулы й0р2к «сердце, имеющее яд» или же «сердце, наполненное ядом» в смысле «коварный», «злой», йырт7ыслы7 «злость», «свирепость». Правила поведения, моральные нормы, определенные установки героев, их оценки в контексте эпоса связываются с цветом. Бинарная оппозиция белое – черное соотносится с оппозициями хорошее – плохое, добро – зло. В тексте кубаира данная оппозиция используется для характеристики человека, его морального облика. Слово а7 употребляется не в прямом цветовом значении «белый», а в переносном – «чистый», «светлый», «священный», «святой». Так, например, чистое, светлое начало в человеке выражается словосочетаниями 30тт2й та6а «как молоко чистое», а7 й0р2к, 25 букв. «белое сердце» в значении «чистое сердце», точнее, «чистая душа». Согласно религиозно-мифологическим представлениям башкир, сердце является вместилищем души человека. №0тт2й та6а бер216е8 – Царя благородного чистую дочь, К16 7аралай ик216е8 Греющий жизнь его нежный цветок, Берен димл2п бир6ер6ем, Выдать я за тебя помог, Й0р2ге8 а7 булыр тип, Надеясь, что сердце твое уймется. №ине ма7тап 30й60р60м. Словосочетание а7 й0р2к в современном башкирском языке не употребляется, обычно часто употребляется его антоним – 7ара й0р2к, букв. «черное сердце» для характеристики плохого человека. В эпосе злое, плохое начало в человеке связывается с черным цветом – 7ара: Йырт7ыс бу4ан й2нд2рг2, Тому, чья душа истекает злобой, ?ара т0н0 к0н булыр, День будет мраком глаза затмевать; К16е 7ал4ыр бай4ошто Ночью светлый день обернется. Т0нд2 аулап, шат булыр. Будет он ночью охотиться, чтобы Птиц, ослепших во тьме, подбивать. Как видно из контекста, Урал-батыр хочет превратить брата Шульгена в черную скалу. Возможно, в таком желании героя кроется идея остановить зло, заблуждения брата Шульгена. Имеются сказания и легенды многих народов, где речь идет о превращении плохих и злых людей в камень. Интересно отметить, что в легендах в камень превращаются непослушные, ревнивые, нехорошие, злые люди. Подобный мотив наблюдается и в башкирских легендах. Согласно народной философии башкир, превратить в камень, значит, остановить зло, заблуждения людей. Значение «оправдать зло, плохой поступок, плохое поведение» передается устойчивым словосочетанием 7ара й06 йыуыу, букв. «помыть черное лицо». Как видно из контекста, оправдать зло, заблуждение можно только хорошими делами, поступками. Только в этом случае можно предстать перед людьми с чистой совестью (букв. «с белым лицом») – а7 й06 мен2н: ... )с0нс0г2 – кит2йем, В третий раз мне уйти позволь, Дейе16е тар-мар ит2йем, Лик, почерневший, я свой отмою, ?ара й060м йыуайым, С обеленным лицом пред тобою А7 й06 м2н алды8да Я предстану и, землю целуя, Килеп ер6е 1б2йем, Стану равным среди людей, Кешел2рг2 иш булып, Стану жить я в стране твоей. Берг2 торла7 7орайым. Стать настоящим человеком возможно лишь, очистив душу, совесть. В тексте значение «очистить душу» передается словосочетанием й2н а4арыу, букв. «беление души». В башкирской народной культуре очищение души связывается также с покраснением черной крови 7ара 7ан 7ы6арыу: Й0р2ге8де 3ы6латып Пусть почерневшая кровь твоя Й2не8 3ы7тап а4арһын; Напоминаньем о прошлой судьбе Й0р2ге8д2ге 7ара 7ан Будет сердце твое сжимать, Тело болью одолевать; Кибеп 7абат 7ыҙар3ын, Пусть скверная кровь, что в тебе течет, Шунда кеше булыр3ы8, Иссохнув, красный цвет обретет. Илд2 берг2 7алыр3ы8, Тогда человеком станешь опять, Яу6а батыр булар3ы8 С нами останешься в нашей стране, 26 Будешь батыром на войне… Слово а7 сохранилось в обычае а7 316 бире1, букв. «дать белое слово» в смысле «обещать не делать плохое»: Коль, землю целуя, слово не дашь, Ер 1беп ант итм2328, Голову перед людьми склонив, А7 316е8де бирм2328, Клятву священную не дашь, Б0т2 халы7ты8 к16 й2шен Коль не признаешь, что слезы людей !6 09т082 алма3а8, Атам килг2н са4ында, Лишь на совести черной твоей, ;2йеплемен тим2328, И, повстречавшись с нашим отцом, Башы8 сар6ай сор4отоп, Не расскажешь ему обо всем, Он-тал7андай итермен. Голову тебе отрублю, В муку-толокно ее сотру. В тексте эпоса все чистое, светлое связывается с белым. Так, например, как говорит Хумай (башк. №омай), после смерти Урал-батыра его будущий потомок родится уже не человеком, а птицей, а цвет его будет белым, как светлые чувства и мысли Урал-батыра: Дитя родится – птицею будет, Балам бу3а, 7ош булыр, №ине8 кер3е6 уйы8дай, Цвета белого оно будет, Т090 бу3а, а7 булыр. Как самые чистые мысли твои. Человеческое существо – й2н эй23е – в семантическом пространстве эпоса отождествляется с растением – с цветком, которое каждое последующее поколение «окрашивало» – т0рл0 т09к2 би62г2н – в определенный цвет: или очерняло – тапла4ан, или оправдывало – а7ла4ан: Донъя – у бер ба4 ик2н Мир – это благоухающий сад, Й2н эй23е донъяла А существа, живущие там, Донъя быуынынан 3ана4ан, Подобны растениям и цветам. ?ай3ы быуын тапла4ан, Одни тот сад засоряют собою, ?ай3ы быуын а7ла4ан, Другие растут, восхищая красою. Т0рл0 т09к2 би62г2н, Разные краски и уют Бары 19емлек, г0л ик2н. Саду растения те придают. Башкиры хороших, душевных людей называют кеше й2нле, а плохих и злых – йырткыс й2н, букв. «звериная душа», «животная душа», 7ара й2н, букв. «черная душа» в смысле «плохой человек». Последнее закреплено в эпосе в следующем контексте: Йырт7ыс бу4ан й2нд2рг2, Ночью светлый день обернется. ?ара т0н0 к0н булыр, Тому, чья душа истекает злобой, К16е 7ал4ыр бай4ошто День будет мраком глаза затмевать, Т0нд2 аулап, шат булыр Будет он ночью охотиться, чтобы Птиц, ослепших во тьме, подбивать. Таким образом, посредством языковых средств, имеющих отношение к цвету, осуществляется та или иная категоризация, концептуализация действительности, потому что цветообозначения характеризуются большой образностью, смысловой емкостью, обладают символическим значением, вызывают у носителей данной культуры различного рода ассоциации. В башкирской национальной культуре, как и в любой другой (материальной и духовной), цветообозначения связываются с представлениями и знаниями этноса о мире и имеют определенную не только эстетическую, но и этическую ценность. В эпической картине мира нравственные каноны передаются и посредством паремий. Например, Ил батыры шул булыр – Кеше 30й0р ир булыр – Лишь тот зо27 вется батыром страны, чьи помыслы людям посвящены; Ир б0т32 л2, ил б0тм29 – Не переведутся батыры вовек, пока на свете жив человек; Ил батыры – батыр6ан, Батыр ир62н тыуар ул – От батыра батыр родится; Я7шынан эск2не – 3ыу булыр, Ямандан эск2не – ыу булыр – Добрые руки дадут воду, а подлые – только яд и т. д. Особое место в контексте эпоса занимает этический концепт «ирлек», выражающий способность и творческую силу мужчины, которые направлены на совершение блага для себя и других людей. Ирлек связывается со способностью проявления мужественности. Например, «В руках отцовских алмазный меч Атайымды8 7улында Булат дейе1 тураны; Мог змей и дивов-драконов сечь; Уралдан тыу4ан ул булып, От Урала пришедший в мир Халы7ты 3ыу3ы6 7алырып, Достоин ли имя носить – батыр, Кто мужчиной меня назовет, Батыр исеме к1т2реп, №ыу табалмай тилмереп, Если жаждой страдает народ Тороу ирлек буламы? Без воды, без живительных рек?» Тиг2н д2, И6ел, ир2йеп, Так промолвил Идель, и вот Гору мечом он алмазным сечет; Тау6ы яра сап7ан, ти. К0м0шт2й бер а7 йыл4а Воды белые, как серебро, Шылтырап шунда а77ан, ти. Заструились тотчас с горы. В современном башкирском языке вместо ирлек чаще всего употребляется егетлек. Если в современном понимании ирлек связывается с нравственной силой мужчины, с мужской гордостью, в контексте эпоса выявляются отголоски связи ирлек также с сексуальной силой мужчины. Об этом свидетельствует фаллический символ – булатный мечь, с помощью которого Идель разрывает земное лоно, давая живительную влагу земле. Таким образом, в эпосе «Урал-батыр» находит отражение система представлений башкир о мире, и значительное место среди них занимают этические концепты «Добро» и «Зло». В концептуальном пространстве текста эпоса этические базовые концепты Я7шылы7 («Добро») и Яманлы7 («Зло») актуализируются в виде фраз и высказываний, через строй мыслей и чувств Урал-батыра, моральную подоплеку его отношения к окружающему миру и социуму, систему его ценностных ориентаций, через основные критерии оценки и самооценки, сложившихся в русле традиционной народной культуры. Этические (духовные) концепты являются продуктом и одновременно составной частью национальной ментальности. Особо актуальным для мифологического сознания башкир является базовый концепт архетипического характера «добро», наиболее ярко характеризующий национальный менталитет. Концепт «добро» коррелирует с такими чертами национального характера и менталитета башкир, как ирлек «мужественность», жертвование своей жизнью ради жизни на земле, творение блага во имя народа, честь, честность, скромность, долг, сыновья почтительность. Зафиксированные эпосом главные нравственные регуляторы «добро» и «зло» (я7шылы7 – яманлы7, изгелек – яуызлы7) в семантическом пространстве текста связаны с такими морально-нравственными категориями, как вежливость, великодушие, верность, гуманность, доблесть, доверие, жалость, коварство, мудрость, обман, прощение, скромность, согласие, сострадание, сочувствие, справедливость, стыдливость (по отношению к женщине), терпеливость, хитрость, храбрость, чистота (святость), чувство вины. Список литературы 28 1. Большой энциклопедический словарь. – М. : Большая рос. энцикл., 1998. 2. Золотых, Л. Г. Когнитивно-дискурсивные истоки фразеологических единиц (на материале народных обычаев и обрядов) / Л. Г. Золотых // Новое в когнитивной лингвистике : материалы I Междунар. науч. конф. «Изменяющаяся Россия : новые парадигмы и новые решения в лингвистике» (Кемерово, 29–31 авг. 2006 г.) / отв. ред. М. В. Пименова. – Кемерово : КемГУ, 2006. – С. 194–200. 3. Капица, Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы : справочник / Ф. С. Капица. – М. : Флинта : Наука, 2005. – 216 с. 4. Кассирер, Э. Избранное : Индивид и Космос / Э. Кассирер. – М. ; СПб. : Университет. кн., 2000. – 654 с. 5. Котов, В. Г. Башкирский эпос «Урал-батыр». Историко-мифологические основы / В. Г. Котов. – Уфа : Гилем, 2006. – 408 с. 6. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. – М. : Прогресс, 2002. – 656 с. 7. Топоров, В. Н. Модель мира / В. Н. Топоров // Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. Т. 2. – М. : Сов. энцикл., 1992. – С. 161–164. 8. Шрейдер, Ю. А. Этика : Введение в предмет / Ю. А. Шрейдер. – М. : Текст, 1998. – 270 с. Е. Н. Галичкина ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА «КОМПЬЮТЕР» В статье рассматриваются ценностные характеристики концепта «компьютер». В результате анализа оценочных суждений выявляются положительные и отрицательные характеристики, приписываемые компьютеру, антропоморфные признаки. Ключевые слова: компьютер, концепт, ценностная характеристика. Для всестороннего анализа средств объективации концепта «компьютер» представляется существенным рассмотреть языковые способы репрезентации изучаемого концепта в английской паремиологии. Известно, что в пословично-поговорочный фонд языка входят речения, как правило, широко известные, прошедшие цензуру коллективного использования, а также отражающие многовековой социально-исторический опыт народа. Компьютер же, – это изобретение XX века, это особый знаковый, может быть, символический предмет нашего времени и поэтому еще не представлен в паремиологическом фонде языка. Однако в последнее время наблюдается появление оценочных суждений в сети Интернет, представляющих богатое поле для изучения исследуемого концепта. Цель данной работы – проанализировать собранные оценочные суждения и выявить ценностные компоненты исследуемого концепта «компьютер». В данной работе мы будем исходить из следующих положений: язык фиксирует все или почти все фрагменты человеческого бытия; человек генетически предрасположен к оценке практически любого «сегмента» человеческой деятельности. Оценка может даваться по самым разным признакам (важность – неважность и др.), однако основная сфера значений, которые обычно относят к оценочным, связана с признаком «хорошо – плохо»1; все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» как объектов ценностного отношения2. 29 Материалом исследования послужили следующие электронные источники3. Всего было собрано 185 оценочных суждений, связанных с концептом «компьютер». Авторами собранных оценочных суждений являются люди различных профессий. В основном это писатели (Sir Arthur C. Clarke, J. Updike, R. Orben, Isaac Asimov и др.), инженеры (T. Leary, J. Pierce), политики (J. Kennedy), архитекторы (F. Wright), ученые в области искусственного интеллекта (Marvin Minsky), актеры (J. Crichton), драматурги (D. Adams), физики (J. Bernstein, E. Winger, R. Feyman), психологи (F. Skinner), журналисты (E. Murrow, A. Rooney) и многие другие. Отметим, что некоторые из оценочных суждений приближаются по своим характеристикам к афоризмам, отражая индивидуальный авторский взгляд на окружающую действительность, но не могут в полной мере считаться таковыми, поскольку лишены лаконичности, общезначимости и образности. Афоризм – это лаконичное, законченное авторское речение, как правило, основанное на опыте и рассуждении морально-этического плана. Кроме того, афоризмы характеризуются принятостью языком и культурой, в то время как собранные суждения в основном еще не вышли за пределы Сети. Склонность человека классифицировать собственные и чужие действия, поступки, а также явления объясняется его генетической предрасположенностью к оценке практически любого «сегмента» бытия. Критерием отбора, как правило, выступает ценностная шкала «хорошо – плохо»4. Анализ практического материала позволяет отметить, что отношение человека к компьютеру также имеет как положительную, так и отрицательную оценку. С одной стороны, суждения констатируют положительное отношение к компьютерам, отмечая: 1) удобность компьютера и способность «вмещать» большое количество информации – The great thing about a computer notebook is that no matter how much you stuff into it, it doesn’t get bigger or heavier5; 2) способность выполнять вычисления с легкостью – The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard loom weaves flowers and leaves6. В данном высказывании компьютер сравнивается с ткацким станком Жаккарда (станок, изобретенный известным изобретателем М. Фалконом в 1728 г. вошел в историю под названием «станок Жаккарда»/ Jacquard loom7): он с такой же легкостью выполняет алгебраические вычисления, как и ткацкий станок узоры; 3) глобальность действия, позволяющая связывать отдаленные точки Вселенной – A computer terminal is not some clunky old television with a typewriter in front of it. It is an interface where the mind and body can connect with the universe and move bits of it about8; 4) инструментальность – I think it is fair to say that personal computers have become the most empowering tool we’ve ever created. They are tools of communication, they are tools of creativity and they can be shaped by their user9. Билл Гейтс утверждает, что компьютер – это не просто технический инструмент, а инструмент творчества, адаптируемый в соответствии с запросами пользователя и наделяющий его широчайшими возможностями; 5) логичность операций, выполняемых компьютером, – Computers are composed of nothing more than logic gates stretched out to the horizon in a vast numerical irrigation system10. Сравнение компьютера с системой орошения (irrigation system), которая несет жизнь в засушливые, бесплодные районы, подчеркивает мысль о его широчайших возможностях, однако говорит об их ограниченности (nothing more than) только логикой, об отсутствии в них эмоций; 6) универсальность – If it is not in the computer ….. it doesn’t exist !!! В высказывании говорится: «Если это не в компьютере – это не существует». Бесспорность данного авторского речения, отмечающего могущество компьютера, очевидна, т. к. 30 современное развитие коммуникационных технологий удовлетворяет малейшие запросы пользователя – от поиска нужной информации посредством глобальной сети Интернет до покупки товаров; 7) значимость компьютера для будущего человечества – If it wasn’t for the computer today, where would man be tomorrow?; 8) интеллектуальное превосходство – We used to have lots of questions to which there were no answers. Now with the computer there are lots of answers to which we haven’t thought up the questions. Данное утверждение, из области парадоксальных, отмечает интеллектуальное превосходство компьютера, который способен дать ответы еще до того, как человек задает вопрос. Таким образом, компьютер получает достаточно высокую оценку своих возможностей. Несмотря на высокую оценку компьютера, человеку свойственно быть недовольным тем, что он имеет, т. к. всегда хочется большего. Анализ практического материала позволил выделить ряд оценочных высказываний констатирующих отрицательное отношение к компьютеру. Среди ярко выраженных отрицательных характеристик выделим: 1) ненадежность – Computers are unreliable, but humans are even more unreliable. В высказывании не только отмечается ненадежность компьютера, но и значительно большая ненадежность человека, по сравнению с компьютером; 2) медлительность – No matter how fast your computer system runs, you will eventually come to think of it as slow. В данном суждении дается косвенная оценка человека, который настолько привыкает к возможностям компьютера, что начинает высказывать недовольство последним и требует все большего и большего его совершенства; 3) склонность совершать ошибки – To err is human but to really foul things up requires a computer11. Высказывание «человеку свойственно ошибаться, но чтобы все окончательно запутать, нужен компьютер» скрывает аллюзию на известный афоризм «To err is human, to forgive is divine», произнесенный в 1711 году Александром Попом. Обыгрывание афоризма, сравнение компьютера с человеком показывает, что способность компьютера ошибаться гораздо выше, чем у человека: даже малейшая ошибка компьютера может привести к серьезным последствиям. С одной стороны, способность компьютера действовать быстро оценивается положительно, но с другой – иронично говорится о том, что он быстро и точно совершает ошибки: Computers make very fast, very accurate mistakes. Использование компьютера может привести к множеству ошибок. По скорости их совершения компьютеру нет равных, а единственным исключением являются ошибки, совершаемые человеком, когда он держит в руках оружие или выпил много спиртного: A computer lets you make more mistakes faster than any invention in human history - with the possible exceptions of handguns and tequila (Mitch Ratliffe). Известный фантаст Исаак Азимов отмечает возрастающее количество ошибок, совершаемых людьми, использующими компьютер. При этом ошибки могут противоречить здравому смыслу, например, врачи контролируют ход беременности у мужчин: All sorts of computer errors are now turning up. You'd be surprised to know the number of doctors who claim they are treating pregnant men (Isaac Asimov); 4) некоммуникативность, односторонность действия – Computers are useless. They can only give you answers (Mrs. Pablo Picasso). В словах жены Пикассо находит свое выражение мысль о том, что компьютеры некоммуникативны, они могут отвечать на поставленные вопросы, но не могут их задавать; 5) механичность выполняемых операций – Computers are anti-Faraday machines. He said he couldn’t understand anything until he could count it, while computers count everything 31 and understand nothing12. По мнению Ральфа Корнза, в отличие от Фарадея, который понимал только то, что он мог просчитать, недостаток компьютера в том, что он механически выполняет вычисления, но не понимает того, что делает. Выделим еще одну группу оценочных суждений, в которых одновременно отмечаются как достоинства компьютера, так и его недостатки. Приведем несколько наиболее показательных примеров: Computers make it easier to do a lot of things, but most of the things they make it easier to do don’t need to be done (Andy Rooney). Из приведенного суждения становится ясно, что компьютер облегчает многие процессы, однако оказывается, что сами эти процессы вообще не нужны. A modern computer is an electronic wonder that performs complex mathematical calculations and intricate accounting tabulations in one ten-thousand of a second and then mails out statements ten days late (Paul Sweeney). С одной стороны, компьютер – это электронное чудо (electronic wonder), он выполняет сложнейшие математические расчеты с огромной скоростью в тысячные доли секунды, но с другой стороны, передача полученной информации по требуемым адресам может задерживаться на несколько дней, сводя на нет скорость действий компьютера. Анализ собранных английских оценочных высказываний, объективирующих концепт «компьютер» в языке, показывает, что человеческое сообщество уже сейчас тревожит все растущая зависимость человека от компьютера и возможные отрицательные последствия усиления такой зависимости в будущем. Данные опасения могут быть сведены к следующим суждениям: Компьютер может оказывать отрицательное воздействие на человека в случае чрезмерного использования – If it keeps up, man will atrophy all his limbs but the pushbutton finger (F. L. Wright). Компьютер стал настолько важен для человека, что зависимость от него может грозить серьезными последствиями. На современном этапе компьютер способен заменить человека при выполнении многих физических действий, и высказывается опасение, что дальнейшее расширение сферы применения компьютера приведет к атрофии всех других конечностей человека, кроме пальца. В случае чрезмерного использования компьютер может угрожать здоровью человека – The PC is the LSD of the 90’s / ПК (персональный компьютер) – это ЛСД (наркотик) 90-х (T. Leary). Человек, создатель компьютера, зависим от него – One of the most feared expressions in modern times is “The computer is down” (N. Augustine). Самое большое несчастье для современного человека – это выход компьютера из строя. Зависимость от компьютера может привести к тому, что человек перестанет выполнять свою функцию существа разумного: Think? Why think! We have computers to do that for us (J. Rostand). Известно, что каждая вещь, которая окружает человека, представляет для него определенную ценность. Ценность вещи определяется, главным образом, количеством и качеством функций, которые она способна выполнить. С годами ценность компьютера возрастает. День ото дня он играет все большую роль в жизни общества, и если компьютер выходит из строя, то это приводит уже не просто к сбою, а к «параличу» в функционировании общества. Именно поэтому такая зависимость человека от компьютера многим ученым представляется опасной в перспективе: We are reaching the stage where the problems we must solve are going to become insoluble without computers. I do not fear computers, I fear the lack of them (I. Asimov). Известного писателя-фантаста тревожит все растущая неспособность человека решать что-либо самостоятельно, без компьютера. 32 Компьютер представляет опасность для взаимоотношений в семье – We used to know where our children were going when they left the house. Today (because of television, video games, e-chat, internet, e-mail and so on) we don’t even know where they are when they’re in their bedrooms (M. D. Lerner). Компьютер открывает доступ в огромный внешний мир, куда человек уходит, не покидая своей комнаты. Особую опасность в этом видят родители и педагоги, поскольку ребенок уходит из-под их контроля, неизвестно, с кем он общается в Сети, под влиянием которой формируются его взгляды и интересы. Не только ребенок, но и взрослый теряет связь с реальностью, погружаясь в виртуальный мир. В результате исчезает контакт между супругами, компьютер заменяет мужу жену и любовницу: Not tonight dear... I have a modem. Компьютер принес в жизнь человека компьютерные игры, которые в настоящее время оказались более серьезным наркотиком, чем химические препараты. В мире, на данный момент, почти 60 млн. человек страдают зависимостью от компьютерных игр. Печально, но человек теряет контроль над созданным устройством. Компьютер представляет угрозу для человека, оказывая воздействие на его интеллект, навязывая ему мысли, вкусы, пристрастия, мнения, проникая в его сознание и подсознание. Данная мысль находит подтверждение в следующем оценочном суждении: A television may insult your intelligence, but nothing rubs it in like a computer. Самым большим злом до сих пор считался телевизор, который приковывал к себе внимание людей, требуя от них всего времени. Эта опасность была ярко изображена в романе Бредбери «451º по Фаренгейту»13. Компьютер оказался еще большей опасностью для человека, поскольку он не позволяет отвлечься от того, что происходит на экране дисплея, он требует отрыва человека от реальности, полного его погружения в виртуальный мир, который для многих становится более реальным чем настоящий, окружающий. Только если компьютер вышел из строя, человек может вернуться к своим привычным домашним обязанностям: A clean house is a sign of a broken computer! Человека тревожит стремительное развитие компьютера и отставание человека: The danger from computers is not that they will eventually get as smart as men, but we will meanwhile agree to meet them halfway. Несмотря на высокий уровень достижений информационных технологий, компьютер пока еще не может превзойти человека. Данный факт находит отражение во многих оценочных высказываниях, подчеркивающих превосходство человека над компьютером: Man is still the most extraordinary computer of all; The best computer is a man. And it’s the only one that can be mass-produced by an unskilled labor. Человек – это существо разумное, основной характеристикой которого является способность мыслить. Думать – это прерогатива человека. В следующем высказывании человек противопоставляется компьютеру как существо более высокого уровня, ибо во все времена интеллектуальный труд ценился выше физического: Computer’s must work, man must think; Machines work, people should think. Человек, хотя и отмечает свое превосходство, наделяет компьютер человеческими качествами. На основе метафорического переноса компьютер, как и человек, может заболеть – My computer is sick. I think my modem is a carrier; испытывать чувства, например, компьютеру может что-то нравиться (Whether you’re successful with computers or not depends on how much your stupid computer likes you) или не нравиться (Don’t anthropomorphize computers. They don’t like it). Он также может сердиться на кого-либо, выражать неудовольствие (You must realize that the computer has it in for you. The irrefutable proof of this is that the computer always does what you tell it to do); заблуждаться – Computers are not intelligent. They only think they are; заставить кого33 либо что-либо делать – My computer made me do it!; обвинить кого-либо в чем-либо – They’ve finally come up with the perfect office computer. If it makes a mistake, it blames another computer; намеренно совершать какие-либо действия, наносящие вред хозяину, – Computers don’t make mistakes. What they do they do on purpose! Человек настолько очеловечивает компьютер, что рассматривает его как объект наказания, который можно «отшлепать» за плохую работу: The most overlooked advantage to owning a computer is that if they foul up, there’s no law against whacking them around a little (E. Paterfield). Человек склонен обвинять компьютер в совершенных ошибках, снимать вину с себя. При таком положении дел человек рассматривает компьютер как равного себе: At the source of every error which is blamed on the computer you will find at least two human errors, including the error of blaming it on the computer. Однако антропоморфные возможности компьютера пока еще ограничены. В отличие от человека, компьютер не может рассуждать, убеждать, отстаивать какуюлибо точку зрения – Logic cannot perceive and logic also cannot convince. You need rhetoric. And that a computer cannot do (P. Drucker). Компьютер не имеет воображения и не может выполнять творческие виды заданий – Computers have lots of memory but no imagination. Компьютер не может заменить рассуждение, логику, как карандаш не заменит грамотности: A computer doesn’t substitute for judgement any more than a pencil substitutes for literacy. But writing without a pencil is no particular advantage» (R. Namare). Компьютер не может предугадать намерения, желания. Он может только выполнять то, что человек вводит в него: Computers follow your orders, not your intentions; I really hate this damned machine I wish they would sell it. It never does quite what I want but only what I tell it. Наука и техника развивается так стремительно, что 100 лет назад ученые не могли предвидеть, какими будут компьютеры и какова будет их роль в жизни общества. Одни считали, что компьютер будет огромным, весом до 1.5 тон (Computers in the future may weigh no more than 1.5 tons), и их несомненно бы поразили современные микрокомпьютеры, которые вмонтированы в телефоны, бытовые приборы. Другие не видели широких возможностей компьютера, считая, что на весь мир хватит и пяти штук (I think there is a world market for maybe five computers, T. Watson, chairman of IBM), а также не представляли, что компьютеры понадобятся в быту (There is no reason anyone would want a computer in their home). Подведем основные итоги. Склонность человека к оценке практически любого «сегмента» деятельности проявляется в отношении человека к компьютеру. На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что человек пытается дифференцировать свое отношение к компьютеру. Главным образом оценка проходит по ценностной шкале «хорошо – плохо». Оценочные высказывания на эту тему констатируют положительное и отрицательное отношение к компьютерам. Положительно оцениваются функциональные возможности компьютера: вариативность, универсальность выполняемых функций; аккумулирование, хранение большого количества информации; скорость выполнения вычислений; глобализация всех стран мира. Отрицательные характеристики, приписываемые компьютеру, весьма вариативны: ненадежность, ошибочность действий, некоммуникативность, механичность выполнения операций. Таким образом, прослеживается амбивалентное отношение к компьютеру. В свою очередь выделяются оценочные высказывания, в которых одновременно отмечаются как достоинства компьютера, так и его недостатки. В оценочных высказываниях 34 также подчеркивается растущая зависимость человека от компьютера, отрицательное воздействие компьютера на физическое, интеллектуальное и социальное здоровье человека в случае чрезмерного использования. Подобно человеку, компьютеру присваивается способность к различным витальным состояниям (чувствам, восприятию, желаниям и т. д.). На современном этапе человек сохраняет за собой прерогативу реализации функции общения, эмоционального осмысления действительности, творческой активности (способность помнить прошлое и предвосхищать намерения), интенциональности мотивов и желаний и др. Примечания 1 См. : Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 280 с. 2 Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. 3 Funny Computer Quotes [Электронный ресурс] : http: //www.comedyone.net/ quotes/Science_and_Technology/computers.htm; http://corpsstudio.com/aphorisms.htm; http: // www.quotesandsayings.com; www.great-quotes.com/computer_quotes.htm; www.great. com /computer_quotes.htm и др. 4 Вольф, Е. М. Функциональная семантика оценки… 1 Bill Gates Business @ The Speed of Thought. – Warner Books, Inc., N-Y, USA, 1999. – 480 p. 6 Ada Lovelace 1815–1852 : of Babbage’s mechanical computer. 7 Britanica. – Vol. 23. – p. 462. 8 Douglas Adams (1952–2001), English novelist. 9 Bill Gates Business @ The Speed of Thought... 10 The Oxford Dictionary of the 20-th Century Quotations / еdited by E. Knowles. – Oxford Univ. Press, 1998. – 482 p. 11 Там же. – С. 77. 12 Там же. – С. 50. 13 Бредбери, Р. 451º по Фаренгейту / Р. Бредбери. – М. : Радуга, 1983. – 384 с. С. И. Дружинина ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПОЗИЦИОННОЙ ПРИРОДЫ Статья посвящена описанию взаимосвязей периферийных позиционных сложноподчиненных предложений. На шкале переходности подробно анализируются конструкции с синкретичными значениями атрибутивности и изъяснения, изъяснения и образа действия. В статье исследуются механизмы появления синкретизма в этих структурах, акцентируется их семантический потенциал, уточняется характер взаимодействия. Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, синкретизм, шкала переходности. Известно, что в языке есть не только типичные факты, но и переходные (синкретичные) случаи, связывающие языковые явления в единую систему. Типичные факты представляют собой лингвистические категории, в которых сосредоточен полный набор их дифференциальных признаков. Между ними располагается зона синкретизма. Синкретизм понимается как совмещение (синтез) дифференциальных 35 структурных и семантических признаков единиц, противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности1. При функционально-семантическом описании взаимосвязей сложноподчиненных предложений (далее – СПП) нами используется шкала переходности, разработанная В. В. Бабайцевой2. Шкала переходности наглядно показывает соотношение свойств сопоставляемых явлений: А Аб АБ аБ Б Точки А и Б являются центрами (ядрами) оппозиций. В этих точках сосредоточен полный набор дифференциальных признаков сопоставляемых реалий. Обозначения Аб, АБ, аБ – переходные звенья, образующие зону синкретизма, в которой дифференциальные признаки членов оппозиции совмещаются. Синкретичные явления неоднородны: в звене Аб преобладают признаки типа А, в звене аБ – признаки типа Б, в сегменте АБ, области промежуточных образований, наблюдается примерное равновесие сочетающихся свойств. В данной статье на шкале переходности рассматривается взаимодействие СПП, имеющих позиционную природу. Согласно структурно-семантической классификации, различаются две группы СПП: предложения нерасчлененной структуры (одночленные) и предложения расчлененной структуры (двучленные). В основе такого деления лежит идея о различной грамматической природе СПП – об их разном семантико-структурном устройстве. Эта идея интерпретируется нами как мысль о противопоставлении СПП по наличию / отсутствию незамещенной синтаксической позиции по отношению к опорному компоненту главного предложения. Опорные слова, являющиеся семантически недостаточными, нуждаются в замещении незанятой позиции какого-либо члена предложения. Она семантически восполняется придаточным предложением, выступающим в определенной синтаксической функции: подлежащего, дополнения, определения, реже – обстоятельства, сказуемого. СПП такой структуры относятся к группе позиционных конструкций. Ярко выраженную позиционную природу имеют СПП со значениями изъяснения, атрибутивности, меры, степени, образа действия. Следует сказать, что СПП с синтаксическими отношениями меры, степени, образа действия позиционны, поскольку имеют особые обстоятельственные значения: в СПП с такой обстоятельственной семантикой речь идет о неком признаке и следствии, характеризующем степень его проявления. Значит, по справедливому мнению И. Н. Кручининой, конструкции со значениями меры, степени, образа действия тесно связаны с определительным значением3. В пределах структурно-семантической группы СПП позиционной природы наиболее тесные связи наблюдаются между атрибутивными и изъяснительными СПП, поскольку данные связи опираются в основном на морфолого-синтаксические свойства опорных слов – отглагольных существительных. Можно также выделить СПП с синкретичным значением изъяснения и образа действия, синкретизм которых базируется на синтаксической функции указательного слова и определенной семантике опорных слов – глаголов со значением, характерным для изъяснения. Надо заметить, что семантика изъяснения пересекается также и с семантикой меры (После этого спросил, сколько мне лет..; Н. Дурова), степени (Если б вы знали, Жанна, до чего мне стыдно; Д. Гранин), а атрибутивное значение связано со значением степени (То была на редкость лютая зима с заносами, морозами, буранами и такими свирепыми, колючими ветрами, которых ко всему привычная донецкая 36 степь не помнила; Б. Горбатов). Однако подобные связи реализуются на уровне ядерных СПП, а наши научные интересы связаны с периферийными структурами, поскольку в них синкретизм проявляется наиболее ярко. Рассмотрим на шкале переходности СПП, иллюстрирующие оппозиции, которые связывают между собой общие семантические категории «атрибутивность – изъяснение» и «изъяснение – образ действия». Оппозиция «атрибутивность – изъяснение» Шкала переходности имеет следующий вид: А – атрибутивность: Рукой в перстнях Надя подняла бокал, в нем шипело и постреливало, а она смотрела на меня тем взглядом, от которого когда-то таяла моя душа, распластаться готова была у ее ног (Г. Бакланов); Он приехал ночью, уже под утро, на запоздалой леспромхозовской машине, что везла на лесоучасток горючее (В. Белов). Аб – атрибутивность + изъяснение: … лишь только после многократного и с доверием слушанья можно было, уловив, свести его [знахаря. – С. Д.] говоренье к той мысли, что беды человеческие от самого человека (В. Маканин). АБ – атрибутивность + изъяснение: Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение (А. Пушкин); Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича (И. Бунин). аБ – изъяснение + атрибутивность: аБ1: Мысли тревожат, что жизнь сложна и непредсказуема. аБ2: В его голове мелькнула глупая мысль, что Мурин хочет его застрелить (Ф. Сологуб). аБ3: Даже одна мысль о том, что придется просить милостыню, кидала в краску (В. Белов). Б – изъяснение: Итак, все надежды мои провалились сквозь землю… попробую еще [спросить. – С. Д.]… быть может, она мыслит, что Заруцкой ее любит… (М. Лермонтов). Между глаголом и именем существительным постоянно осуществляются тесные связи, поскольку, по свидетельству И. В. Высоцкой4, В. И. Коряковцевой5, в русском языке постоянно образуются глаголы, мотивированные существительными, и существительные, мотивированные глаголами. В синкретичных атрибутивноизъяснительных СПП в качестве опорных слов используются отглагольные существительные типа мысль, чувство, молва, рассказ, разговор, надежда или глагольные сочетания дать слово, слова текут, томиться думой, прошел слух, ходят слухи, отдать приказание. В данных опорных компонентах реализуется способность имени существительного как части речи сочетаться с именем прилагательным, то есть на синтаксическом уровне опорные слова, выраженные существительными, или опорные слова, в составе которых есть существительное, указывают на незамещенную позицию определения, а значит, на наличие атрибутивного придаточного. С другой стороны, глагольные свойства этих опорных слов предопределяют незамещенную позицию объекта или субъекта. Это говорит о том, что анализируемые СПП имеют также признаки изъяснительных конструкций. В центре А на шкале переходности располагаются собственно-атрибутивные СПП. В этих структурах определительное значение реализуется без каких-либо других семантических оттенков. В центре Б находятся собственно-изъяснительные СПП с опорными компонентами, выраженными глаголами, от которых образованы существительные, высту37 пающие в качестве опорных слов в определительно-изъяснительных СПП: мыслить, чувствовать, думать, рассказать, извещать, сообщать, слушать и т. д. Проанализируем зону синкретизма. В синкретичных атрибутивноизъяснительных и изъяснительно-атрибутивных СПП обычно используется полисемантический союз что. В структурах, располагающихся в звене Аб, преобладают атрибутивные свойства. В этих СПП при опорных словах есть корреляты, выполняющие функцию определения, что активизирует в конструкциях атрибутивную семантику: … он опускал руки, как солдат, вытягивался с тою только разницей, что не отменял наклоненья головы и потупленных глаз (Н. Павлов). В СПП звена аБ превалируют признаки значения изъяснения. В редко встречающихся конструкциях типа аБ1 приоритет свойств изъяснения обусловлен структурой главного предложения: отглагольные существительные находятся в препозиции по отношению к глаголу-сказуемому, который требует объектного распространения: Молва идет, что он и умывается даже в перчатках (В. Даль). В звене аБ2 располагаются СПП, в которых при опорном слове – существительном – уже употреблено прилагательное, выступающее в функции определения, что и является причиной активизации объектной семантики, типичной для изъяснительного СПП: И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь (И. Бунин). В предложениях типа аБ3, в которых в большем объеме реализуются свойства изъяснительных структур, присутствуют указательные слова, выполняющие функцию дополнения: Надежда на то, что через день-два он вернется домой, все еще не покидала его… (В. Белов). В звене АБ функционируют СПП с примерно равным соотношением сем атрибутивности и изъяснения, поскольку в таких конструкциях нет указательных слов, определений, выраженных прилагательными, существительные – опорные слова или элементы опорных слов − чаще всего находятся в постпозиции по отношению к глаголу: – Безобразие! – проговорил Никита Сергеевич и тут же дал себе слово, что впредь этого не будет… (К. Станюкович). СПП из прозы А. Пушкина, приведенное в качестве иллюстрации к звену АБ на шкале переходности, имеет такие же характеристики за исключением того, что придаточное в нем интерпозитивно. Это, однако, не обеспечивает приоритет значения атрибутивности, поскольку опорный компонент – существительное мысль – имеет явно отглагольное происхождение и при нем нет коррелята в функции определения. Необходимо особо сказать об СПП, в которых в качестве опорных слов выступают существительные пословица, новость, факт, версия, акт, документ, анекдот, пари, аксиома и т. п., не мотивированные глаголами, однако по значению близкие к отглагольным существительным, таким, как известие, весть, рассказ, сообщение, суждение, спор и т. п. Некоторые из таких опорных слов − существительных − имеют иноязычное происхождение. При этих словах может быть указательное слово о том, а также определение, выраженное прилагательным. Значит, СПП с таким опорным компонентом тоже можно разместить на шкале переходности и признать синкретичными. Например, в звене АБ находятся СПП типа Хоть есть пословица, что на Иване недалеко уедешь, однако ж этот постоит за себя и своих, он вынесет их к славе (И. Лажечников); звено аБ2 представлено структурами типа Вот, сегодня с самого утра пожилые дамы и старые девицы уже бегают по городу с важной новостью, что дело ре- 38 шено… (О. Сенковский); в звене аБ3 функционируют такие конструкции, как Документ о том, что я когда-то был комэском, я сумел сохранить… (М. Шолохов). На шкале переходности, на которой рассматривается оппозиция «атрибутивность – изъяснение», можно также расположить СПП с союзами и союзными словами, привносящими дополнительные семантические оттенки. Так, в синкретичном звене Аб находятся конструкции с преобладанием атрибутивного значения, что поддерживается наличием указательного слова, выполняющего функцию определения, напр.: В поведении его не было ничего особенного, но я все никак не мог забыть того разговора, когда он собирался отбить у Орлова Зинаиду Федоровну (А. Чехов) (привносится оттенок значения времени). К звену аБ2, с большим проявлением семы изъяснения, относятся СПП с определением при опорном компоненте: Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точное указание, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все пять лет учения (Б. Васильев) (оттенки пространственного, временного, субъектного значений). В звене аБ3, тоже с преобладанием семы изъяснения, располагаются конструкции с коррелятами, выполняющими функцию дополнения: Мурашев, выйдя из себя, погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна… прищурила один глаз, улыбнувшись в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату (К. Масальский) (оттенок значения степени качества); Опять дорогой ему пришла мысль о том, как примет Катюша свое помилование (Л. Толстой) (оттенок значения образа действия); … вопрос о том, кому должна принадлежать земля, ни у кого не вызвал сомнений (А. Ким) (оттенок субъектного значения). В звене АБ находятся СПП типа На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось... (А. Пушкин); Ходили даже слухи, будто они [Лозинские. – С. Д.] были когда-то и за что-то пожалованы дворянством (В. Короленко) (в обоих СПП отмечается семантический оттенок сомнения, предположения); Лекарь прописал несколько лекарств и, дав наставление старой Ульяне, когда и сколько давать их, поехал к Р* (Н. Дурова) (семантические оттенки времени и меры). Среди синкретичных определительно-изъяснительно-целевых СПП (целевой оттенок привносится союзом чтобы) можно отметить конструкции, относящиеся к звену Аб: Антон Антоныч выехал с Еленой Ивановной с таким расчетом, чтобы приехать за день до суда (С. Сергеев-Ценский); к звену аБ2: Казак подошел к колодцу, послушал, поглядел в черную пустоту, у него шевельнулось тайное желание, чтобы старуха подала голос и ее можно бы было вытащить… (А. Серафимович); к звену аБ3: Являлись заботы о том, чтобы забить трещины [в загоне. – С. Д.], через которые к нам пробивался свет (Н. Лесков). Но в основном определительно-изъяснительные СПП с семантическим оттенком цели размещаются в звене АБ, с равным соотношением атрибутивного и изъяснительного значений: Анна Петровна подала ей знак, чтоб она села подле нее (О. Сенковский); Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона (Б. Васильев). Среди атрибутивно-изъяснительных конструкций выделяются СПП, в которых, помимо указанного значения, можно квалифицировать и семантику причины. Она поддерживается типизированной лексикой со значением чувства, эмоционального состояния. В основном такие СПП располагаются в звене АБ: По его мнению, сестры должны бы плакать от печали [какой?; по чему?; почему?], что он их отверг (Ф. Сологуб). 39 Здесь же, в промежуточном звене АБ, находятся атрибутивно-изъяснительнопричинные СПП с оттенком значения следствия. В них используется союз чтобы: – Чей это почерк? – спросил Маус, показывая записку и держа ее крепко в руке, из опасения [какого?; чего?; почему?], чтобы Ханыков ее не вырвал (К. Масальский). Оттенок следствия здесь проявляется потому, что существительные типа опасение, боязнь, страх обозначают негативное состояние, переживания человека, что исключает здесь присутствие значения цели, указывающей именно на положительный, желательный результат. Иногда главное и придаточное предложения СПП с синкретичным определительно-изъяснительно-причинным значением связываются союзом когда, привносящим в структуру семантический оттенок времени (данное СПП – тоже в звене АБ): Началось [чувство любви. – С. Д.], может быть, с жалости, когда Люся, снисходя, надумала пожалеть болезного малого… (В. Маканин). Атрибутивно-изъяснительно-причинные СПП могут находиться и в звеньях, в которых преобладает значение изъяснения. Так, в нашей выборке встретились структуры типа аБ2 – с определением, связанным с опорным словом: Сердце Карташева на мгновение замерло в непередаваемом восторге, что он, Карташев, может быть, уже писатель и, следовательно, уже выше всей этой прозябающей толпы (Н. Гарин-Михайловский); структуры типа аБ3 – с указательным словом, выполняющим функцию дополнения: Когда он шел по коридору, у него вдруг явилось сожаление о том, что, кроме него, никто не слышал речей Матрены (М. Горький). На шкале переходности, с помощью которой иллюстрируется оппозиция «атрибутивность – изъяснение», можно распределить и СПП с местоименносоотносительной связью: А – атрибутивность: …этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получал, попав к ним в дом из казармы (К. Станюкович); Ничто не нарушало той отдаленно-гулкой тишины, что наступила вокруг (А. Фадеев). Аб – атрибутивность + изъяснение. АБ – атрибутивность + изъяснение: Все, что составляло его тело, было священно и необходимо (В. Токарева); Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила: – А разве тот, кто в газетах пишет, не человек? (М. Горький). аБ – изъяснение + атрибутивность: аБ1: И тебя не испугало всё, что в вашем городе про меня рассказывают? (В. Одоевский); Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия… (Н. Гоголь). аБ2: Что сделал бы Суворов на месте Салтыкова, того именно и боялся прусский король (Н. Гейнце); Кто не бывал в Гамбурге, тот не может понять, что значит переулок, закоулок, нора, чердачок, дырочка (П. Анненков). Б – изъяснение: Половина наших зарубежных агентов перевербована и сообщает то, что нужно их хозяевам (А. Рыбаков); Неужели вам неясно, Кто насылает на нас музыку, Кто является настоящим композитором [о Боге. – С. Д.] (А. Ким). В точке А располагаются собственно-атрибутивные СПП с различными союзными словами. Опорным словом здесь является существительное, часто – в сочетании с коррелятом, который может быть опущен. Коррелят выполняет синтаксическую функцию определения и предсказывает наличие в СПП атрибутивных отношений. В центре Б находятся собственно-изъяснительные структуры, придаточное предложение которых распространяет опорный компонент определенной семантики. 40 Чаще всего это глаголы со значением речи, мыслительной деятельности, ощущения, чувства, бытия. В СПП центра Б выражаются объектные и субъектные отношения, инвариантные для изъяснительных структур, коррелят, выполняющий синтаксическую функцию дополнения или подлежащего, факультативен. В зоне синкретизма находятся местоименно-соотносительные СПП – конструкции, построенные по особой структурной модели. Соотносительное слово в этих СПП – указательное, определительное и др. местоимение – субстантивировано и обозначает обобщенный предмет или лицо. В таких структурах можно констатировать совмещение изъяснительной и атрибутивной семантики. В синкретичном звене аБ, с превалированием семы изъяснения, находятся местоименно-соотносительные СПП, приоритетное значение которых определяем по синтаксической функции коррелята. В предложениях типа аБ1 придаточное находится в постпозиции. Здесь, как и в изъяснительных конструкциях, наблюдаются объектные и субъектные отношения: коррелят выполняет синтаксические функции дополнения, подлежащего, к придаточному можно задать вопросы что? или кто? (в определенных падежах). И все же эти СПП несколько отличаются от изъяснительных: конструктивно обязательные корреляты имеют обобщенный характер; в состав опорного компонента могут входить слова, которые не относятся ни к одной семантической группе опорных слов, характерной для изъяснительных СПП; если опорный компонент все-таки можно соотнести с определенной группой опорных слов, свойственных изъяснительным структурам (см. пример из прозы Одоевского, опорное слово – глагол с эмотивным значением), то в этих СПП, как правило, коррелят не является факультативным. Однако в таких СПП можно констатировать и слабое значение атрибутивности: указательные слова – местоимения, входящие в состав опорного компонента, субстантивированы, то есть употребляются в значении существительных, придаточное находится в постпозиции, что характерно не только для изъяснительных, но и для атрибутивных СПП, в главном предложении иногда возможно искусственное восстановление опорного существительного: Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании (В. Астафьев) (Ср.: Тут же назначены были младшие политруки и агитаторы из тех людей, что поплывут за реку, кто проявлял активность на собрании). Конструкции звена аБ2 еще более приближены к изъяснительным, атрибутивное значение в них только наметилось. Грамматические характеристики этих предложений почти такие же, как у СПП типа аБ1, отличие же состоит в препозиции придаточного предложения. Препозиция придаточного не свойственна атрибутивным СПП, так как при таком положении зависимого предложения происходит его отрыв от определяемого слова, кроме того, препозиция придаточного вообще не допускает восстановления существительного: Что посеешь, то и пожнешь (Посл.) (Ср.: Что посеешь, то зерно и пожнешь – нельзя!). Некоторое тяготение к атрибутивным структурам обусловлено морфологической природой коррелята. В промежуточном звене АБ находятся СПП с примерно равным соотношением сем атрибутивности и изъяснения: Те, которым жизнь мила, вот – поют (М. Горький). Придаточное предложение занимает интерпозицию, что характерно для атрибутивных СПП. С другой стороны, указательное слово в данных структурах выполняет синтаксическую функцию подлежащего или дополнения, и это предопределяет 41 наличие у конструкций изъяснительного значения. Таким образом, в рассматриваемых СПП уравниваются оба значения. Звено Аб, с преобладанием атрибутивного значения, не выделяем, поскольку местоименно-соотносительные СПП по своей грамматической природе отличаются от определительных, а возможные трансформации местоименно-соотносительных структур в атрибутивные выглядят искусственными. На шкале переходности можно расположить и СПП с местоименно-союзной связью – с союзом что. Например, в звене аБ1 располагаются СПП типа Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни (Б. Васильев); в промежуточном звене АБ − конструкции типа Был убежден, что его арестовали из-за истории в институте. То, что это не так, ошеломило его, всё смешало, спутало (А. Рыбаков). Оппозиция «изъяснение – образ действия» Данная оппозиция представлена на шкале следующим образом: А – изъяснение: Выходило по всем расчетам, что он родился более чем десятимесячным (А. Ким). Аб – изъяснение + образ действия. АБ – изъяснение + образ действия: Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваньшиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота (Б. Васильев). аБ – образ действия + изъяснение: Выходило так, что Коч и Лещов заживают чужой век, что вроде бы уже и стыдно эдак-то [долго жить. – С. Д.] (В. Белов). Б – образ действия. В центре А располагаются собственно-изъяснительные СПП с инвариантными для них значениями субъекта или объекта. В этих конструкциях нет никаких других семантических оттенков. Главное и придаточное связаны союзом что, опорные слова, находящиеся в главном предложении, имеют различную семантику, например, бытия, речи, мысли и др.: А бывало, что и жили хорошо в замужестве (В. Распутин); … вернулись все к той же фронтовой теме – недаром же говорится, что язык всегда вокруг больного зуба вертится (В. Астафьев); Мог ли я думать, что вот этому человеку я фактически переломаю всю его жизнь? (Г. Бакланов). Предложений звена Б, со значением собственно-образа действия, не выявлено. Выборка иллюстративного материала показала, что СПП, в которых присутствует сема образа действия, всегда синкретичны. Это конструкции, в которых кроме значения образа действия присутствуют семантические оттенки изъяснения (примеры см. ниже), следствия (Эти слова он произнес так, что голос его как будто ущемил меня за сердце; А. Вельтман; ср.: Эти слова он произнес проникновенно, так что голос его как будто ущемил меня за сердце) или сравнения (Даша говорила о нем, как говорят о чем-то не вполне постижимом человеческим рассудком; Ю. Нагибин). В СПП, входящих в звено аБ, превалирует значение образа действия, так как в их главном предложении есть коррелят так, выполняющий функцию обстоятельства образа действия и находящийся в позиции после сказуемого, непосредственно перед придаточным. Элемент изъяснительного значения сохраняется под влиянием глагола-сказуемого главного предложения, изъясняющегося придаточным. Присутствие в таких СПП семантического оттенка изъяснения подтверждается возможностью трансформации их в собственно-изъяснительные: Бывает так, что время исчезает и ты можешь пролежать двести или пятьсот лет и остаться таким же… 42 (П. Проскурин); К году на этом участке пришел хороший урожай, и случилось так, что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому (Н. Лесков) (Ср.: Бывает [что?], что время исчезает…; …случилось [что?], что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому). В немногочисленных СПП звена АБ примерное равновесие значений изъяснения и образа действия достигается с помощью позиции указательного слова так: оно находится перед глаголом-сказуемым, который требует изъяснения, конкретизации. Такая позиция коррелята, обусловливающая некоторый сдвиг его морфологического статуса от наречия к частице, несколько актуализирует изъяснительное значение, что и позволяет двум семам, изъяснения и образа действия, находиться примерно в равном положении: Но как-то так получалось, что в том и другом случаях – и когда похваливали, и когда на смех подымали, относились к Сене будто к сироте, с добродушием (В. Распутин); Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными разговорами (А. Лиханов). Предложений звена Аб не выявлено, так как, если из СПП с синкретичным значением изъяснения и образа действия убрать коррелят так, являющийся грамматическим средством выражения семантики образа действия, конструкция станет собственно-изъяснительной и будет находиться в точке А. Иногда в синкретичных СПП с рассматриваемым значением употребляется союз чтобы. Так, в звене аБ располагаются конструкции типа Никогда не было так, чтобы он не приходил на занятия (М. Рощин); в звене АБ – такие структуры, как …да они, говорит, уж так и условились, чтобы Сашенька один у меня жил (Ф. Сологуб). Эти СПП имеют те же характеристики, что и структуры с союзом что. Однако следует добавить, что в примере, выбранном из прозы Ф. Сологуба, присутствует семантический оттенок цели, а в примере из прозы М. Рощина – оттенок значения следствия, так как в главном предложении данной конструкции отмечается отрицательная модальность, цель же всегда предполагает желательный результат. Подведем итоги. Наблюдения над иллюстративным материалом подтвердили, что периферийные СПП позиционной природы тесно взаимодействуют. Выяснилось, что синкретизм атрибутивно-изъяснительных структур зависит от морфологосинтаксических свойств опорного слова, синтаксической функции коррелята (если он имеется), наличия / отсутствия прилагательного, выступающего в функции определения, от позиции отглагольного существительного по отношению к глаголусказуемому, от позиции придаточного предложения (в СПП с местоименносоотносительной и местоименно-союзной связью). Синкретизм СПП со значением изъяснения и образа действия связан с синтаксической функцией коррелята, с определенной семантикой опорного слова, с позицией коррелята по отношению к глаголу-сказуемому. Синкретичные атрибутивно-изъяснительные СПП частотны. По нашим подсчетам, по употребительности они занимают четвертое место среди всех выбранных нами синкретичных СПП (1261 СПП из 15000 синкретичных структур; 8,4%) – после пространственно-атрибутивных, причинно-изъяснительных СПП и СПП со значением сравнения и образа действия. Широкое употребление СПП с синкретичным значением атрибутивности и изъяснения объясняется усиливающейся общей языковой тенденцией к созданию недифференцированной связи – к активизации полифункциональных структур, к реализации различных смысловых оттенков высказывания. 43 Тесные взаимосвязи периферийных позиционных СПП свидетельствуют о высокой организованности, развитости и этих конструкций, и всей системы СПП в целом, о способности данных СПП передавать тончайшие оттенки человеческой мысли, об их высоком семантическом потенциале. Примечания 1 См.: Бабайцева, В. В. Явления переходности в грамматике русского языка / В. В. Бабайцева. – М., 2000. – С. 235. 2 Там же. – С. 132−134. 3 См.: Кручинина, И. Н. Русская грамматика. Т. 2 : Синтаксис / И. Н. Кручинина. – М., 1980. – С. 470, 493–495, 501–503. 4 См.: Высоцкая, И. В. Синкретизм в системе частей речи современного русского языка / И. В. Высоцкая. – М., 2006. – С. 102−103. 5 См.: Коряковцева, Е. И. Деривационные процессы и направление мотивации в словообразовательных парах «глагол – имя действия» / Е. И. Коряковцева // Филол. науки. – 1993. – № 3. – С. 107−114. Э. Ф. Заббарова О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА И СТИЛЯ Г. ТУЛУМБАЯ Статья посвящена обобщенной характеристике языка и стиля произведений татарского литературного деятеля начала ХХ в. Писатель, живший и творивший в 20–30 гг. прошлого столетия, оказал положительное влияние на процесс формирования татарского литературного языка. Язык и стиль этого писателя еще не был объектом монографических исследований. Использованные им языковые средства достойны анализа с лингвистической точки зрения. Ключевые слова: Тулумбай, стиль, татарский литературный язык. Проблемы изучения языка художественной литературы, проблемы языкового мастерства писателя привлекают все большее внимание исследователей-лингвистов. «Язык литературно-художественного произведения, – писал В. В. Виноградов, – вливаясь в общий поток развития языка в целом, может рассматриваться как памятник истории этого языка» [1. С. 271]. Несмотря на свою специфику, язык художественной литературы был и остается общенародным. Ведь, как пишет В. В. Виноградов, «язык подлинно художественного произведения не может далеко отступать от основы общенародного языка, иначе он перестанет быть общепонятным (относительно свободные отходы от общенациональной языковой нормы возможны для художественного произведения лишь в области лексики)» [2. С. 5]. Поэтому так важно исследовать принципы использования писателем возможностей общенационального языка, стилистической обработки словесного материала, почерпнутого из национальной языковой сокровищницы. Чтобы проникнуть в творческую лабораторию писателя, наметить то характерное, что создает его творческий «почерк», следует рассматривать лексику и фразеологию в системе художественно-изобразительных средств, а также в самой тесной связи с идейно-художественным содержанием его произведений. С точки зрения 44 стилистической язык художественного произведения неотделим от идейных замыслов писателя, от системы образов и той особой манеры повествования, которая характерна для писателя. Гумер Тулумбай (Габделхак Шагиахметович Шагиахметов) является своеобразным литературным деятелем татарской литературы 20–30-х гг. XX века, перу которого присущ большой талант. Он – представитель той эпохи, которая характеризуюется довольно сложными, противоречивыми социальными явлениями, где писатель смог найти свое духовное направление и только ему присущий творческий путь. Главными требованиями, предъявляемыми Тулумбаем к языку, были требования простоты, ясности, понятности. Этими требованиями Г. Тулумбай руководствовался на всем протяжении своей творческой деятельности. Язык его произведений прост и понятен, ясен и доходчив. Справедливо отмечает А. Ефимов, что «простота и изящность – вот идеальные качества, которых должен добиваться писатель от языка. Эта талантливая, подкупающая красота требует большого искусства и тщательной отделки каждого выражения, в результате чего слог освобождается от неровностей, пестроты и шероховатостей» [4. С. 133]. Однако простота языка Тулумбая – это не примитивность: он прост, но сложен, богат и многообразен, как сложна, богата, многообразна жизнь, которую изображает писатель. Основным средством достижения и претворения в жизнь замыслов, стремлений и целей у Тулумбая была великая сила слова и сила мысли, сила обобщения и типизации. Целая галерея классово-различных типов, вереницы людей с самой различной психологией проходят перед нами в произведениях писателя. Одни из героев Тулумбая беспокойно ищут лучшей доли («Баржада», «Читəн буе», «Яз көне»), другие – справедливости в жизни («Мужик фəлсəфəсе», «Саматов», «Фамилия ясаучылар»), третьи – мечтают и глубоко верят, что придет пора, когда человек будет Человеком, а не рабом наживы («Нигə кыр үрдəге булмаганнар», «Кызыл Армиядəн кайткач», «Егет»). Привлекает язык произведений, умение Г. Тулумбая описывать события, давать характеристику действующих лиц, посредством слова выражать тончайшие оттенки в психологическом состоянии людей. Он не фотографирует человека, он его типизирует, обобщает его черты, расширяя и углубляя наше знакомство с жизнью людей при помощи языковых средств. Особенностью стиля Тулумбая является и то, что его произведения изобилуют прозвищами: Мүскə Вафа, Умач Фəттах, Бүкəн Гайнетдин, Акма Гыйният, Бүре Мостафа, Əрлəн Гыймраны, Шалкан Шəрəпи, Шакмак Латый и др. Таким путем автору удается наиболее точно характеризовать того или иного персонажа. Следует отметить и тот факт, что это является характерным для той территориальной местности, выходцем из которой автор является. Даже в современный период это село не имеет ни одного человека без прозвища. Огромный труд вкладывал Тулумбай, чтобы найти нужное слово для выражения мысли. Ведь «слово попадает в “эстетический поток” и подчиняется динамическим законам движения более сложного, чем то, что присутствует и реализуется в изолированном элементе» [3. С. 164]. Произведения Г. Тулумбая отличаются богатством лексики. Из общенародного языка он выбирает то, что отвечает его индивидуальным вкусам, его мировоззрению: 1) «Көзнең яңгырлы көннəре авылның кулын да бəйлəгəн, аягын да тышаулаган» (Егет: 119), «Ташу суының үкереп торып, тəгəрəп, мəтəлчек ата-ата күлгə килеп төшкəнен, күлнең ташып чыкканын күреп, күңелен иркенəйтмəкче иде» (Язгы ташкыннарда: 40) – описываются явления природы; 2) «Ул шуннан үзенə бертөрле чырай белəн язгы ташу суларына иркенлəп карый, мəчеттəн дə үзенə тигəн өлешне 45 алган төсле була» (Язгы ташкыннарда: 43), «...агач башмагын əыпылт-шыпылт өстерəп, үрдəк сыман əле бер якка, əле икенче якка янтая-янтая атлап, Кадыйр агай килеп чыкты» (Читəн буе: 85) – дается характеристика персонажам. Умело использовал Тулумбай в своих произведениях диалектизмы. Он полагал, что надо использовать слова общелитературного языка, а диалектные слова вводить только для более конкретного и правдивого изображения крестьянской жизни, характеристики персонажей. Писатель, являясь представителем западного диалекта татарского литературного языка, вкладывает в уста персонажей диалектизмы, характерные для этой местности: фонетические (җөдəп бетү вместо йөдəп бетү, катын вместо хатын), морфологические (салма келəү вместо салырга телəү), лексические (йəплəшкə вместо арба, мөллəле вместо мөгаен, мүскə вместо туп) и т. д. Просторечные элементы, обильно насыщающие речь персонажей из народа, не портят язык, а оживляют его, не привнося вульгарного оттенка. Ср., например, слова тамызып алу, сүтү (в значении ашау), кəҗəлəнү, дөмбəслəү, ырылдау и т. п. Тулумбай прибегает и к менее нейтральным, к грубым, даже бранным просторечным выражениям, например: саран пəри, чукынган, карт шайтан, кадал и др., но употребляет их в стилистически оправданных случаях. Очень много в языке действующих лиц фразеологических конструкций: сүз кушу, тəм табу, кикрик шиңү, эсселе-суыклы булу, гайрəт кайту, эт каешы и др. Иногда в устах героя общенародное фразеологическое выражение перифразируется, как бы обновляется и тем самым становится более ярким и свежим, например: «Норвежски белəн шуарлык булгач, адəм рəтле генə булмый инде» (Яз көне: 158); «... кешелəрнең йөрəклəре хатын-кыз алдында йомшый да төшə» (Яз көне: 142); «Эчтə утын кисəлəр» (Җəйге җил: 131); «...Вахит абзый шыр җибəргəн» (Читəн буе: 109). Кроме словотворчества, каждый талантливый мастер художественного слова обогащал литературный язык новыми образными выражениями, которые с течением времени приобщались к золотому запасу крылатых изречений, фразеологизмов, пословиц и т. п. Например, «Хатын булса да дөрес əйтə, дигəн уйлар үтте Ибрашов башыннан» (Яз көне: 156), «Шулай уйларга аңа йөрəк биргəн сыман була» (Егет: 119) и др. На творчестве Г. Тулумбая очень сильно сказалось и влияние фольклора. Тулумбаевские произведения содержат фольклорные вставки, органически вплетенные в авторский текст. Например, «Камəр хаҗиның хатыны сəнəктəн көрəк булган нəрсə генə» (Мужик фəлсəфəсе: 61); «Ничек дилəр əле, “син дə мулла, мин дə мулла, атка печəн кем сала”, – дилəрме?» (Мужик фəлсəфəсе: 58). Особенно интересна афористичность речи самого Тулумбая, вложенная в уста его персонажей: «Əхмəтҗаннан булмый инде, аңардан он суы да юк, тоз суы да юк...» (Читəн буе: 98); «Кечкенə булса да төш кенə ул» (Читəн буе: 87); «Биш тапкыр үлчə, бер тапкыр кис, улым...» (Мужик фəлсəфəсе: 58); «Ата аркасы – кала аркасы» (Мужик фəлсəфəсе: 52); «Катыкка буяп ташласаң, мəче дə яламас инде үзен» (Читəн буе: 90). На основе этих примеров можно сделать вывод, что его пленял лаконизм и выразительность народных пословиц и поговорок. В данной статье следует показать еще одну важную особенность – силу и выразительность синтаксиса языка Г. Тулумбая. Из анализа произведений автора виден своеобразный синтаксический строй речи его персонажей – структура предложений, строение словосочетаний. Как пластичны образы людей у писателя, когда их признаки выражены определениями: «Əнə гомер буе рəтлəп көн күрмəгəн, гомер буенча мəчетнең эчке йөзен күрмəгəн, “Кара Шəрип” дип йөртелə торган Шəрип абзый» (Язгы ташкыннарда: 43); «... саварга кыска аяклы, озын гəүдəле, бер чилəк сөт бирə торган сыерым булса...» (Мужик фəлсəфəсе: 54). 46 Не только образы людей рисовал Тулумбай посредством яркого выражения их признаков, но и природа находила у писателя нетускнеющие краски для своего описания: «Алар зəңгəр чырайлы усал бозларның үзара сугыша-сугыша китүлəреннəн тəм табалар» (Язгы ташкыннарда: 44). Важную стилистическую функцию выполняют у Тулумбая и другие синтаксические средства. Так, писатель использует как в авторской, так и в речи персонажей вопросительные риторические предложения, создавая интонацией вопросительности и строем вопросительных конструкций особую возбуждающую тональность всего отрезка речи: «Алай булгач, ни пычагыма дөньяда торырга?!» (Мужик фəлсəфəсе: 54); «Бу хəсрəтне күрер өчен нигə тудык, ник үстек? – дип җырлап, йөрəкнең януын көчəйттелəр» (Мужик фəлсəфəсе: 53). Итак, Г. Тулумбай боролся за типическое, отбрасывая случайное, при этом сохраняя индивидуальное в языке действующих лиц. Художественно обрабатывать языковой материал по Тулумбаю – это значит: отбросить все временное, случайное, не соответствующее общенациональному языку и стилистически не оправданное в тексте, и в то же время «освежить» стертые, обесцвеченные частым употреблением слова и конструкции живыми элементами народно-поэтической, а иногда и разговорной речи, оригинальной трактовкой слова или оборота. Список литературы 1. Виноградов, В. В. Проблема авторства и теория стилей / В. В. Виноградов. – М. : Госиздат, 1976. – 614 с. 2. Виноградов, В. В. Язык произведения / В. В. Виноградов // Вопр. языкознания. – 1954. – № 5. – С. 5. 3. Гей, Н. К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль / Н. К. Гей. – М., 1975. – 471 с. 4. Ефимов, А. И. Об изучении языка художественных произведений / А. И. Ефимов. – Минск, 1953. – 140 с. 5. Тулумбай, Г. Хикəялəр. Повестьлар. / Г. Тулумбай. – Казань : Татар. кит. нəшр., 2000. – 351 с. Т. Л. Каминская СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ «ОБРАЗ АДРЕСАТА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» Автор статьи рассматривает структуру категории «образ адресата» применительно к дискурсу медиа. Элементами данной категории являются: оппозиция «свой – чужой», ориентация на речевой опыт адресата, картина мира, стиль жизни и социальный статус адресата. В статье используется речевой материал различных качественных и массовых изданий последнего десятилетия. Ключевые слова: массовая коммуникация, коммуникативная семантика, дискурс, образ адресата, языковая картина мира. Признание существования различных общественных групп с различными запросами в отношении получения информации делает правомерным исследование лингвистических методов конструирования образа этих групп, то есть образов адре47 сатов, в текстах массовой коммуникации (МК). Обоснованным представляется постановка вопроса о категории образа адресата, представляющей собой мысленно конструируемый автором образ адресата, для которого предназначен данный текст. Образ адресата – категория, соотносительная с образом автора и так же, как и категория образ автора1, она имеет значительный текстообразующий потенциал. В каждом конкретном тексте она проявляется в выборе обозначений для автора и адресата (посредством системы местоимений, обращений и характеристик адресата), а также в лексическом и стилистическом отборе языковых средств, имплицитных знаках принадлежности / непринадлежности к определенной общности. Для структурирования категории образа адресата актуален тот прагматический раздел языкознания, который изучает коммуникативную семантику и использование языка с целью воздействия на адресата. Язык в этом случае считается, прежде всего, инструментом социального взаимодействия, а компетенция в плане использования языка связывается с ее коммуникативной составляющей и определяется как способность выполнять социальное взаимодействие посредством языка. Известные современные лингвисты подчеркивают важность адресата для прагматики высказывания2. Говоря о категории образа адресата, следует говорить о некотором комплексе явлений, объединенных общностью признаков. Для наших наблюдений над текстами МК актуально рассмотрение «специфических когнитивных категорий, регулярно представленных в текстах, где речевое воздействие планируется»3. О. С. Иссерс называет их РВ-категориями, или персуазивными, указывая на такие особенности категорий, как регулярность и универсальность. Данные категории формируются на основе пересечения некоторых свойствпризнаков. Категориальный признак понимается нами как некий знак, который используется для реализации коммуникативной потребности. Кроме того, категориальный признак присутствует в текстах, в правилах и ограничениях их написания. Для выявления категориальных признаков образа адресата в текстах нами использовались наблюдения лингвистов, относящиеся к сфере типового общения, а также работы, описывающие языковую картину мира. Признаки текстовой категории адресата показаны на схеме. Несомненно, существуют случаи жесткого проявления признаков и размытые зоны проявления, например, когда в одном и том же тексте употреблены сленговая и научная лексика. Это связано с размытостью самих целевых аудиторий текстов, среди которых социально устойчива только их ядерная часть. Про представителей такой части можно сказать «типичный интеллигент» или «типичный предприниматель». В текстах массовой коммуникации образ адресата может возникать на пересечении нескольких социолингвистических портретов. Представляется важным зафиксировать именно яркие проявления признаков; некоторые из данных признаков рассматриваются лингвистами в рамках описания социокультурных параметров общения, преимущественно в устной речи. 48 Рисунок Структура категории «образ адресата» как текстовой категории Наличие в тексте оппозиции «свой – чужой» Ориентация на речевой опыт аудитории • • • • • Атрибуция Стереотипизация • Навешивание ярлыков Система норм и правил общения Нарушение универсальных постулатов общения – импликатуры, фатическая речь и другое Употребление лексики из сфер ограниченного употребления (сленг, научная и т. д.) • Цитация, речевой фоновый контекст Элементы, репрезентирующие картину мира • • • • • Основные ценности Отношение к собственности Отношение к власти (политика) К построению собственной судьбы Гражданские отношения Элементы, характеризующие стиль жизни и социальный статус • Тип дистанции между автором и адресатом, автором и героями публикаций Номинация социальных качеств и социальных действий Текстовая категория образ адресата • Рассмотрим подробнее элементы категории. Оппозиция «свой – чужой» рассматривалась лингвистами в разных контекстах. Оппозиция «свой – чужой», «плохой – хороший», «враг – не враг», описанная А. П. Романенко применительно к языку тоталитаризма4, становится характерным явлением для российской журналистики в переломные исторические периоды. Образ «своего» читателя данного издания зачастую реализовывается, в частности, методом «отрицания» − посредством создания образа его политического противника / врага / чуждого. Этот прием часто используется и в современных оппозиционных газетах: ...все эти бывшие советские, приличные люди реформами либералов были поставлены в такие условия, что иначе им было не только не заработать себе на прожитье, но и не выжить вовсе. ...Нет сил цитировать, какой мрак разлит в душах «трудовых коллективов» эпохи приватизации! Какими безжизненными, фальшивыми являются по сути даже корпоративные вечеринки в этой среде. Тосты звучат пышные, но холодные, поцелуи отпускаются иудины. Кажется, мы, простодушные пылкие русские люди, на самом деле становимся волками друг для друга. По крайней мере, в производственные отношения проникло что-то хищное. Трудно, а может быть, невозможно уберечь душу в предлагаемых обстоятельствах. Но все-таки душа – это не печень и не сердце. Есть такой тип людей – подвижники. Они поступают вопреки обстоятельствам, так как идеалисты по натуре. И бьются ни много, ни мало – сразу за саму матушку русскую землю (газета «Завтра», февраль 2005, № 6, С. 5, из материала с характерным названием «Гримасы рынка»). 49 Как видно уже из приведенного отрывка, «свои» для читателей газеты «Завтра» – «бывшие советские люди», «идеалисты по натуре» в противовес «либералам» и «реформаторам», сторонникам рыночной идеологии. В российской практике создания текстов массовой коммуникации конца 1990-х – начала 2000-х годов актуализация противопоставления «свои − чужие» связана с трансформациями в российском обществе, которые изменили принципы его социальной стратификации, трансформировали ценности различных общностей пространства постсоветской России. Разрыв между образами мира различных групп стал отражаться в текстах МК последнего десятилетия прошедшего века все более выпукло. Так, различные издания, отражающие информационные, идеологические и культурные горизонты различных групп и слоев стали по-разному реагировать на события и процессы, происходящие в обществе. Проявление в текстах отношения «свои – чужие», реализуемого в вербальных противопоставлениях «наши – не наши», «мы – они» актуализировалось с развитием политической коммуникации. В этом смысле символично название молодежного движения «Наши». Концепт чуждости может существовать в текстах, даже если отсутствуют его ключевые слова «чужой», «чуждый». Он часто заменяется описанием, развернутым объяснением явления, которое для адресата текстов может обозначаться паролем «я не рядом», «я не такой»: На станции «Марк» покупатели сами о себе говорят: «Мы выброшены с корабля экономической реформы». Доктор наук Геннадий Петрович до сих пор работает в московском НИИ физиком и, судя по изношенному в хлопья пиджаку, обманывает, конечно, что покупает здесь вещи не для себя, а в подарок. Но сюда приезжают не только нищие ученые («КоммерсантЪ Деньги», июнь 2004, № 24, С. 50). Читатели «Коммерсанта» и, в частности, данной статьи с симптоматичным названием «Похоже на правду», без сомнения, не ассоциируют себя с образом покупателя на блошином рынке, который описан глазами стороннего наблюдателя, впервые познакомившегося с привычной картиной происходящего на рынке. Общение членов каждой целевой группы СМИ между собой специфично, поэтому ориентация на речевой опыт аудитории, связанная со способом общения автора тестов, соблюдением и нарушением норм и правил общения, выбором языковых единиц и использованием импликатур и цитации, является также категориальным признаком образа адресата. Способы и принципы общения (постулаты) также изучаются в русле прагматики языка и являются одним из ее направлений. Нарушение правил общения затрудняет общение или делает его невозможным. То есть соблюдение правил общения связано с таким условием, как совпадение представления о речевой ситуации говорящего и адресата. К ряду таких случаев относится косвенное речевое общение, рассмотренное в теории речевых актов (например, «непрямые высказывания», относящиеся к сфере вежливости и такта – косвенные просьбы, намеки и прочие). Но в ряде случаев правила нарушаются намеренно, с манипулятивной целью. В случаях манипуляции адресат не предполагает различия между тем, что сказано и тем, что подразумевал автор высказывания. То есть адресат должен располагать некоторыми ассоциативными знаниями, которые подразумевает автор высказывания, чтобы данное общение невозможно было отнести к сфере манипуляции. С этой точки зрения интересно рассмотреть, например, тексты, в которых адресату сообщаются сведения о нем самом. Такого рода общение нарушает постулат информативности и, на первый взгляд, абсурдно по сути. И в самом деле, зачем рассказывать человеку (в данном случае читателю) то, что ему и так должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было. Однако тексты, описывающие читателя, чи50 тателю же и адресованные, не такая уж редкость в практике современной массовой коммуникации. Зачастую в периодике публикуются целые программные статьи, в которых содержится описание адресатов текстов. Приведем отрывок из материала «Обратная связь», опубликованном в газете «Завтра», целиком посвященного адресату: Для кого мы пишем в газете «Завтра»? <...> Но главное, мы пишем для читателей. Для Вас. Ведь Вы – это все, что у нас есть. Вы, читатели наши, – какие же вы разные, непохожие, подчас противоположные во взглядах и в делах, вас и вместе-то собрать нельзя, потому что тут же такая буча начнется! Какие Вы? Все вы – верующие: кто в Иисуса Христа, кто в Аллаха, кто в коммунизм, кто в Род, кто лишь в себя – но ни один из вас не обходится без чистой, истовой, полной веры, дающей вам силы жить дальше в окружающем мраке. В этом вы ощущаете общность: когда в метро рядом сидят пятеро читателей «МК» – это случайность; когда в одном месте вдруг окажутся пять человек с «Завтра» под мышкой – это заговор, секта, шайка, это не напрасно, это свои. Вы – небезразличные, не смирившиеся, не сдавшиеся на волю рока, стойкие и сопротивляющиеся: легенда о лягушке в молоке никогда не была для вас пустым звуком. Не «Завтра», но вы сами для себя – символ сопротивления злу, случайностям, хаосу, смерти. Газетный номер – это просто, как значок на лацкане, как повязка нацбола: атрибут человека, который еще не сдался. Вы читатели преданные. Никогда до конца не соглашаясь с «Завтра», чтото в нас не принимая абсолютно, со многим отчаянно споря, вы не бросаете газету. Это не рутина, не привычка, а скорее еженедельный вызов: каждый новый номер вы воспринимаете как нечто, что нужно преодолеть, передумать, пропустить через себя, приняв или отвергнув. Любой из вас готов написать передовицу. Ну или в крайнем случае, «тиснуть статейку в подвал». <...> Разбередить каждого из вас – и получишь атомный взрыв: такие вы наполненные сосуды. Жаркие споры или долгие одинокие размышления, или прямое действие, или экзальтированные сцены – но всегда внутри вас клокочет реактор, всегда до дна еще далеко, и ваше цельнометаллическое нутро притягивает в зону своей гравитации других людей – вялых, разреженных, аморфных. Мир для вас до сих пор раскрашен, он цветной или хотя бы резко черно-белый. Вам противны «белые воротнички», теплый кисель, болотистая местность, еда в Макдональдсе, жвачка по ТВ и партия «Единая Россия» – словом, все усредненное, «среднеклассовое», «хакамадо-мещанское», энтропийное, никакое. Чувство великого течет в твоих жилах, читатель. Грандиозное будущее или мировая катастрофа – вы мыслите именно в этих категориях («Завтра», январь 2005, № 1. С. 7). Это пример интегративного текста, который представляет собой, скорее, фатическое общение, то есть в нем процесс общения направлен как бы сам на себя, на отношения между коммуникантами, текст, почти лишенный информативности. Рисуемый в тексте образ представляет собой идеальный для издателей и авторов газеты образ ее адресата, именно поэтому данный текст призван выполнить интегрирующую функцию, служит делу сплочения приверженцев взглядов газеты «Завтра», ориентирован на возможность испытать читателям чувство солидарности. Интересна трансформация жанра программной статьи в постсоветскую эпоху: от модальности «поучения» (разъяснения читателям, как необходимо относиться к тому или иному явлению общественной жизни) СМИ перешли к подчеркиванию общности интересов и одинакового образа жизни у предполагаемых реципиентов: 51 Мы с вами – агенты экономического роста. Он возник незаметно для нас, но его влияние на нашу жизнь становится неизбежным: сначала перестаешь постоянно занимать у коллег «до получки», потом на субботних посиделках с друзьями начинаешь с интересом прислушиваться к разговорам о кредите на машину, еще месяц – и жена убеждает тебя купить плоский телевизор. Ты начинаешь испытывать нехватку ассортимента в ближайшем к дому продуктовом, пробуешь «Ленту», исследуешь «О Кей». До кучи начинаешь бороться с коллегами за ограниченное количество пропусков, выделенных твоей фирме сетью METRO. В начале уик-энда включаешь телевизор, чтобы посмотреть «квартирный вопрос», и постепенно впадаешь в уверенность, что обстановку определенно пора менять. Магазин IKEA становится объектом ознакомительной экскурсии. Со знанием дела рассуждаешь о сезонных распродажах. Насытившись испаниями, болгариями и турциями, начинаешь соображать, как устроить себе отпуск на Карибах, ну, на крайний случай – в Гоа. Твой сын, в конце концов, рассказывает, что ПИФ – это не только имя персонажа мультфильма, и ты ради эксперимента относишь первую скопленную тысячу в инвестиционный фонд, а потом, как ребенок, радуешься каждой приросшей за день десятке. Все – ты в матрице. Матрица владеет тобой... Дальше два выхода – либо в тайгу, подальше от соблазнов, либо снова в бой. Матрица нас не отпустит. Удачи нам! (из статьи главного редактора журнала «Наши деньги» – приложения к «Эксперт-Северо-Запад», апрель 2004, № 13) Очевидно, что в этом примере из журнала «Эксперт» эксклюзивное «МЫ» − автор + читатель − существенно отличается по своим социальным и личностным характеристикам от «МЫ» газеты «Завтра». Из приведенных примеров видно, что нарушения правил речевого общения в массовой коммуникации могут нести дополнительную нагрузку, связанную с уточнением образа адресата текста. Нарушением постулата о ясности и недвусмысленности речи является и использование импликатур. Широкое использование ситуации подтекста, скрытых цитат в текстах массовой коммуникации связано с категорией образа адресата: автор текста использует эти приемы «для своих», для тех читателей, которым под силу расшифровка именно этих скрытых смыслов. «Литературная газета» и «Известия», например, широко используют цитаты из произведений классической литературы, не указывая источник цитирования: Хотя в русской политической культуре речи, подобные зюгановским, не являются новостью – «Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш…». Возможно, интервьюировавшие лидера КПРФ работники СМИ тщательно подготовились к беседе – «А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки-толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера, неказиста на вид, а слона повалит с ног». С ног или не с ног, мы не знаем, но перенести Орел на вершины Кавказа толстобрюшка оказалась вполне в состоянии («Известия», февраль 2006, № 29). Автор текста, из которого приведен отрывок, рассчитывает не только на узнаваемость персонажа гоголевского «Ревизора», но и на хорошее знание читателем текста данной комедии. В связи с этим знанием только и возможен предполагаемый автором комический эффект текста. Предполагается, что читатель должен понять аналогию между Хлестаковым и Зюгановым, которые рассказывают о несуществующих фактах собственной биографии, и между журналистами и городничим, «подготовка к беседе» которых заключается в выпивании определенного количества спиртного. То есть соблюдение правил и принципов общения связано, в частности, и с вариативностью в отборе языковых средств, прежде всего в сфере лексики. Намерен52 ный отбор определенных языковых средств зачастую наглядно представлен в нескольких вариантах однотипных текстов (слоганов, телероликов), которые предлагают субъекты политической коммуникации для работы с различными типами аудиторий. Такие вариативные способы обращения одного субъекта к разным целевым аудиториям становятся особенно актуальными, например, во время выборов. Существуют тексты предвыборного дискурса, ориентированные, в первую очередь, на пенсионеров, молодежь и другие аудитории, характеризующиеся адресата таким образом, в котором подчеркивается преимущественно одна его социальная роль (профессиональная, гендерная, возрастная и т. д). Такой эффект текста связан, по нашим наблюдениям, прежде всего, либо со специфической позицией кандидата на пост и стремлением «отстроиться от конкурентов», используя эту специфику (например, кандидат – единственная женщина в списке претендентов), либо со спецификой электората5. Образ адресата влияет не только на способ общения, но и на выбор темы для обсуждения, интерпретацию событий и тип аргументации. Такой признак категории адресата, как картина мира или модель мира, существующая в сознании адресата определенного типа, рассматривается современными обществоведами в контексте изучения произошедших в обществе ценностных изменений. В лингвистике в последнее время широко используется термин «языковая картина мира» (реже – «языковая модель мира»), прежде всего, связанный с интересом лингвистов к выраженным в лексике особенностям этноса и его культурных стереотипов. Применяя эту дефиницию к текстам массовой коммуникации, элементы картины мира следует искать в системе действующих лиц в них и культурных концептов (ключевых слов). О «картине мира», создаваемой журналистикой, говорится как о «совокупности эмпирических воззрений на окружающую действительность»6. Однако существует не только картина мира, которую моделируют тексты массовой коммуникации в совокупности, но и картина мира для определенных социальных общностей, создаваемая, например, теми СМИ, которые направлены на эти общности как на собственную целевую аудиторию. Издателям для эффективной работы на информационном рынке необходимо, в частности, представить, как оценивает та или иная аудитория опыт прошлого или же какие идеальные образы будущего представляет, отталкивается ли от эмоционального отношения к событиям или от здравого смысла. Данные лингвистики, изучающей тексты политической коммуникации, в том числе тексты современных СМИ, становятся все более значимы для политологов, так как для выявления существующих в данном обществе группировок важнее выявить то, как люди отвечают на вопросы, чем то, что они отвечают, очень важно понять, в каком контексте представители разных аудиторий используют те или иные слова политической лексики и какой смысл они вкладывают в эти понятия. И в самом деле, часто употребляемое понятие «реальность» является уже не онтологической реальностью, а только тем, что человек может выразить через язык: существующие и несуществующие объекты, понятия и представления. При этом понятия «рынок», «справедливость», «наш образ жизни», даже словосочетание «русские люди» наполняются разными смыслами, скажем, для читателей газет «Завтра» и «КоммерсантЪ». Эти смыслы зависят как раз от той аудитории, для которой предназначен текст. Так, например, рекламный выпуск «Коммерсанта» в сентябре 1992 года провозглашает: Аудитория «Коммерсант-Daily» образует верхушку пирамиды, называемой «новым классом». Этих людей в России отличает высокий уровень доходов, интен53 сивная работа, вера в успех, позитивное мышление. Они сами строят свою жизнь, не надеясь на поддержку государства или счастливый случай, поэтому для такой аудитории, как упоминается в статье про ценовые категории аэропланов и вертолетов, покупаемых в личное пользование, купить и даже подарить летательный аппарат стало легче, чем посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка («КоммерсантЪ Деньги», июнь 2004, № 24, С. 44). Без сомнения, существует связь между картиной мира и образом действий людей. Ценностные и жизненные установки людей с разным достатком в России расходятся исключительно далеко. Индивидуалисты и прагматики, склонные верить в себя и полагаться на свои силы, уверенные в том, что судьба человека зависит, прежде всего, от него самого, проявляют активность в построении собственной жизни. Другие осуждают индивидуализм тех, «кто высовывается», и скорее верят в коллективные действия, склонны надеяться на помощь внешних сил, прежде всего, государства. Отсюда пассивность, стремление не столько «жить», сколько «выживать», отсутствие готовности взять на самих себя ответственность за свою судьбу, стремиться к успеху, принимая на себя связанные с этим риски. Выстраивание долговременной политики на информационном поле требует комплекса критериев, по которым определяются относительно устойчивые целевые аудитории. Безусловно, в комплексе характеристик целевой аудитории ведущие ценности играют важную роль, и коммуникатору для «попадания» в свою целевую аудиторию важна на лексическом уровне апелляция к ее ценностям. Ценности различных общностей интересуют как философов, так и практиков издательского дела. Например, в 2004 году журнал «Эксперт» в русле собственных масштабных исследований своей целевой аудитории «Образ жизни среднего класса в России» сделал попытку описать ценности представителей данной аудитории7. Результаты опросов читателей журнала показали, что наибольшее количество баллов набрали такие ценности, как профессионализм, интеллект и ответственность, а меньше всего – талант и статус в обществе. Социальный статус адресата и его стиль жизни, неразрывно связанный с моделью мира и способами общения, а, следовательно, и с правилами общения, является также категориальным признаком образа адресата. Дифференциация всей системы российских СМИ последнего десятилетия, в частности, разделение их на «качественные» и «массовые» издания, связана с ориентировкой на социальноинтеллектуальный круг читателей. Различный тип дистанции между автором и адресатом в зависимости от представления о социальной роли адресата эксплицирует автор текста массовой коммуникации. Например, общение на короткой дистанции преимущественно используют авторы молодежной и развлекательной периодики и изданий, ориентированных на домохозяек. Так, читатели и герои журналистских публикаций мужского пола в «Комсомольской правде» 2000-х годов часто именуются с использованием эмоционально окрашенной, при этом преимущественно сниженной лексики: «парни» и «мужики». Под привычным для «КП» наименованием «простые люди» имеются в виду адресаты «Комсомолки»: С простыми людьми все понятно. На призывы властей держать заначки в рублях откликнулись далеко не все – на руках у россиян от 30 до 50 наличных долларов. И если курс «зелени» падает, наши заначки худеют. А кому такое понравится? («Комсомольская правда», август 2005, № 131, С. 16) Социальный статус адресата может быть описан с помощью имеющихся в текстах номинаций его социальных качеств и описания социальных действий: На демонстрации мы ходим, не забывая о насущном,− с саженцами и домашними пи54 томцами («Новая Новгородская газета», май 2001, № 18). Социальный статус может выражаться путем отрицания принадлежности адресата к определенной профессиональной или социальной группе: Чтобы «выгнать» менеджера из языка, надо истребить менеджеров и вернуться в корявую фельдфебельскую экономику, из которой мы еле-еле унесли ноги. Длина этого ряда – свидетельство не запутанности, а богатства языка. Я лично хочу быть богаче. А вы? Тем более, что это богатство – единственное, которое грозит нам с вами. Мы же не депутаты («Новая новгородская газета», февраль 2003, № 7). Одним из способов реализации образа адресата в текстах массовой коммуникации является представительство. Кто-либо должен высказываться о той или иной группе или от имени группы. Репрезентацию того адресата, на которого направлен текст, часто осуществляют герои публикаций в СМИ, интервьюируемые лица, действующие лица в рекламных текстах. Таким образом, описать образ адресата, содержащийся в тексте МК, можно только с помощью пересекающихся, взаимодополняющих параметров, вербализованных в тексте на различных языковых уровнях. Примечания 1 Виноградов, В. В. О теории художественной речи : учеб. пособие / В. В. Виноградов. – М. : Высш. шк., 1971. – 240 с. 2 См., например: Арутюнова, Н. Д. Фактор адресата / Н. Д. Арутюнова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 356–367; Арутюнова, Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Лингвистическая прагматика : [сб. ст.] / сост. и вступ. ст. Н. Д. Арутюновой и Е. В. Падучей; общ. ред. Е. В. Падучева. – М., 1985. – С. 3–14. – (Новое в зарубежной лингвистике; Вып. 16); Dik, S. C. Functional Crammar / S. C. Dik. – Amsterdam, North Holland Linguistic Series, 1979. – 230 p.; Шмелева, Т. В. Речевой жанр / Т. В. Шмелева // Русистика. – 1990. – № 2. – С. 20–32. 3 Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – 3-е изд., стер. – М. : УРСС, 2003. – С. 42. 4 Романенко, А. П. Советская словесная культура : образ ритора / А. П. Романенко; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского; под ред. О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2000. – 210 с. 5 Подробнее об этом: Каминская, Т. Л. Целевые аудитории в текстах политической коммуникации : лингвистические методы конструирования / Т. Л. Каминская // Государственная власть и местное самоуправление в России : история и современность : III Междунар. науч. форум / Сев.-Зап. акад. гос. службы. – СПб., 2005. – С. 31–40; Каминская, Т. Л. Ориентация на адресата как принцип создания текста массовой коммуникации / Т. Л. Каминская // «Я» и «Другой» в пространстве текста : межвуз. сб. науч. тр. – Пермь ; Любляна, 2007. – С. 193–205. 6 Мансурова, В. Д. Журналистская картина мира как становление медиасобытий / В. Д. Мансурова // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2002. – № 6. – С. 99–108; Мансурова, В. Д. Журналистская картина мира как тип социокультурной реальности : автореф. дис. … д-ра филос. наук / В. Д. Мансурова ; Алт. гос. ун-т. − Барнаул, 2003. – 38 с. 7 Стиль жизни среднего класса // Исследовательский проект журнала «Эксперт» 2001–2004 годов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : htpp://www.middleclass. ru/inddex.shtml. 55 О. П. Касымова ЗНАЧИМОСТЬ ПОЗИЦИИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА Статья посвящена актуальной проблеме современной русистики: языковым явлениям, относящимся к периферии языковой системы, а именно текстам, содержащим ошибки, и неузуальным текстам. На примере языковой игры и текстов бреда, глоссолалий, экспериментальной прозы и поэзии автор определяет роль значимости языковой позиции и способность неузуальных текстов выполнять те или иные функции языка. Ключевые слова: семантическая система языка, языковая позиция, неузуальный текст. Позиция – это общесистемное понятие, определяющее свойства элемента, заполняющего позицию. Другими словами, позиция – это место какой-либо единицы в системе; возможности и особенности позиции связаны с ее системным окружением. В языкознании понятие позиция используется достаточно плодотворно, но в разных разделах языкознания оно имеет разное содержание, и к тому же само понятие позиция не получило четкого и однозначного определения. Широкое использование термина создало эффект узнавания, но анализ его употреблений приводит к выводу о том, что используется этот термин неоднозначно. Чаще всего это понятие используется в фонетике и синтаксисе. Как элемент системы языковая позиция обладает собственной значимостью; на наш взгляд, это важнейшее свойство позиции. В современном языкознании значимость понимается как отражение «в нашем сознании (в виде специфического знания) свойств единиц языка, обусловленные их статусом в системе языка и речемыслительной деятельности: их системными связями, нормами употребления в речи и т. д.» [2. С. 76]. Находясь в языковой системе (а именно микросистемами являются слова, словосочетания, предложения и другие композиционные единицы), значение языковой единицы в нашем сознании сливается со значимостью позиции, и обычно они воспринимаются синкретично как целостное значение. Эта слитность значимости и значения в узуальных, нормативных текстах является фактором, затрудняющим выделение значимости позиции как самостоятельного языкового феномена. В отечественной лингвистике термины значение и значимость часто употребляются как взаимозаменяемые. В тех же случаях, когда значимость позиции и значение языковой единицы не соответствуют друг другу, значимость позиции обнаруживается в полной мере. Как элемент системы языковых единиц (слóва, словосочетания, предложения, текста) значимость позиции обладает структурными свойствами, которые определены местом позиции в системе, это та часть значения, которая присуща любой единице, находящейся в данной позиции. Можно сказать, что значимость позиции – это понимание места единицы в системе. Существенно то, что значимость автономна по отношению к собственному значению языковых единиц как средств номинации. Система определяет набор свойств элементов, составляющих ее, их соответствие или, по меньшей мере, лояльность по отношению к ее свойствам. Нами значимость позиции понимается как условия, определяющие возможность или невозможность употребления единицы языковой системы в определенном окружении других единиц. Важным, на наш взгляд, является то, что понятие позиции соотнесено с пара56 дигматикой и синтагматикой, это связывает системные понятия в одно целое. Парадигматические отношения объединяют единицы по их внутрисистемным связям, а синтагматика – это контекстуальное, речевое окружение. Своего рода «скрепой», объединяющей эти два важных понятия языкознания, является, в нашем понимании, позиция. Позиция, находясь на пересечении парадигматики и синтагматики, регулирует связь между единицами и создает условия для их соединения: парадигматический ряд форм, занимающих ту или иную позицию в системе, обусловлен позицией, т. е. свойствами системы. Семантический блок в системе языка как относительно самостоятельную структурную единицу выделяет Л. М. Васильев [2. С. 27]. На семантическом уровне систему образуют взаимосвязанные значения слов в составе словосочетания, предложения, текста. В семантическую систему языка входят также парадигматические группы лексических и грамматических синонимов, антонимов, омонимов и др. Элементарной единицей семантической системы является сема, которая служит для образования комплексных семантических единиц – лексических значений слов и пропозиций. В семантической системе языка значимость позиции определяется лексическим значением опорного компонента и семантическими свойствами структурной схемы предложения. Когда значимость соответствует значению языковой единицы (таких случаев большинство в письменных текстах), значимость гармонично сливается со значением. В предложении Я говорю позиция субъекта занята словом, специализирующимся на значении агенса, а в предложении Ребенок ест яблоко позиция объекта занята словом, специализирующимся на выражении именно этого значении и пр. Обычно в таких случаях говорят о том, что то или иное слово или класс слов «выполняет роль агенса (объекта и пр.)», что это «морфологизованный способ представления члена предложения», «прототипическая репрезентация члена предложения» и т. д. Если значимость позиции компонента семантической системы не соответствует значению языковой единицы, то в этом случае отчетливо выступает самостоятельная роль значимости и ее отличие от значения. Так, в предложениях: И это раскатистое, заливчатое «ха-ха-ха» завершило все: и сватовство, и земное существование Беликова (А. Чехов); Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича (Н. В. Гоголь) – позиция подлежащего-субъекта занята словами, которые осознаются говорящим и слушающим как субъекты действий только благодаря тому, что занимают позицию агенса при глаголах-сказуемых, нормально (узуально) сочетающихся в нашем сознании с субъектом действия. Различие между значимостью позиции и лексическим значением слова отчетливо видно в этих примерах. Такие «структурно-семантические оксюмороны» приводят к семантическим сдвигам в сознании языковой личности: в языковом пространстве предмет или явление представлен как действующее или ощущающее лицо, в отличие от реальной картины мира, где лексема обозначает явление, не способное к действию или ощущению. В тех случаях, когда позицию агенса занимает слово, лишенное лексического значения или употребленное в необычной для него позиции (в наших примерах – междометие и глагол в личной форме), именно значимость позиции позволяет определить синтаксическую роль слова. На семантическом уровне такое необычное замещение позиции проецирует имплицитную ситуацию («ха-ха-ха» – смех /она смеялась, не хочу – слова собеседника, цитируемая прямая речь). В семантической подсистеме языка несочетающиеся по смыслу лексемы обнаруживают несовпадение значимости позиции с лексическим значением слова: Ответил вялый женский голос с маленьким окладом (М. Задорнов); Ты живешь мимо 57 меня (Из фильма «Таежный роман»); Сколько раз ты был в Америке? – Почти ни разу (Развлекательна телепередача «33 кв. м»); Когда я работал в Парке культуры имени отдыха (из устной речи: интервью с певцом Маршалом 17.01.2004, канал СТС); Туловище в коленях было согнуто (АиФ, янв. 2004, №31, с. 21). Возможен комический эффект в тех случаях, если позиция допускает двусмысленность: Берегут свой пятачок хоккеисты сборной Казахстана (из речи спортивного комментатора). Необычные сочетания слов создают «семантический шок», что привлекает и задерживает внимание читателя и слушателя. В обычных текстах слово и контекст взаимодействуют таким образом, что контекст создаёт условия (морфологические, синтаксические, семантические) для появления того или иного слова. Варианты контекста в пределах нормы позволяют актуализировать то или иное словарное значение слова: его лексико-семантический вариант или оттенок значения. Особенно наглядно видны нарушения консолидации позиционной значимости и лексического значения слова в семантической системе предложения в случае иронии. Этот троп заключается в том, что контекстное окружение слова смещает его лексическое значение до противоположного. То значение, которое зафиксировано в словарях, невозможно в определенном контексте, и позиция слова в тексте «выворачивает наизнанку» его лексическое значение. Широко известен пример иронии в басне И. А. Крылова в словах, обращенных к Ослу: «Откуда, умная, бредешь ты, голова?» Близко к рассмотренному выше широкое использование в разговорной речи слов «хорошо», «ладно» не для выражения одобрения, а для регулирования процесса общения (в значении «я принял к сведению вашу информацию»), оно может считаться явлением, близким к случаям обесценивания значения: Обследование закончено. К сожалению, все показания за операцию.– Ну, хорошо; У меня отец умер. Остановка сердца. – Хорошо. Ой, извините (Сериал «Тайны следствия»). Ситуация явно не может быть оценена как положительная, слово «хорошо» утратило свое положительное и одобрительное значение и использовано в качестве регулятивного маркера ситуации общения. В ряде случаев употребление слов в необычном контексте является преднамеренной языковой игрой, в других случаях – ошибочным употреблением, связанным с незнанием существующих норм. Языковую игру отличает установка на комический эффект, а нарушения норм имеют эстетическую и психологическую ценность, обусловленную особенностями национального менталитета. Поэтому языковая игра, как правило, не поддается переводу. Гридина Т. А. увязывает способность выделить функцию объекта и предложить его новое использование с креативностью языковой личности [4. С. 15]. Калганова С. О. считает, что «когда норма словоупотребления нарушается с целью выразительности, между словом и контекстом возникает рассогласование, которое и вызывает сбой в процессе восприятия, привлекая особое внимание адресата, однако потом семантическое согласование между словом и контекстом восстанавливается на новом смысловом уровне. А нарушение ожиданий адресата, если оно не несет никакой стилистический или смысловой нагрузки, является сигналом ошибки» [6. С. 10]. Особенно отчетливо проявляются свойства значимости позиции в семантической системе языка в случае неузуальных текстов. К неузуальным текстам относятся такие, которые не выполняют или выполняют ограниченно языковые функции. Это бредовые тексты, глоссолалии, шаманские заклинания и пр. 58 По свидетельству ученых, исследования бредовых текстов ведется начиная с 1960-х гг. (см. [5]), но как объект исследования лингвистики они не рассматривались, а изучались в основном в психиатрии. Бред представляет собой текст, в котором нарушены представления о реальности, нарушаются понятия истинного / ложного. Но вместе с тем ученые отмечают, что существуют тексты, в которых нарушены постулаты истинности (фантастика, сказки, художественные произведения и пр.), а бредом они не считаются. С другой стороны, в бредовых текстах могут быть отражены вполне реальные факты, т. е. они могут быть вполне корректными по содержанию, но их видимая истинность не свидетельствует о психическом здоровье человека. В психиатрии критерием определения того, является ли данный текст бредовым, служит 1) фиксированность пациента на какой-либо идее и 2) оценка поведения с учетом этой идеи. Порождение текста бреда тождественно говорению во сне или речи в измененном состоянии сознания (см. подробный обзор в работе Спивака Д. Л. [9]). Если существует традиция передачи нормативных текстов и обучения им, то бредовому дискурсу не обучают, за исключением симуляции. Тем более знаменательна их языковая типизированность, которая отражает особенности как нормального, так и больного сознания. Бредовые тексты обладают внутренней структурой и устойчивостью, поэтому их можно рассматривать как феномен речи с привлечением теоретических положений лингвистики наряду с привычными и более исследованными сферами речи. В крайних формах, выражая паралогическое мышление, бредовая речь становится бессвязной и на уровне смысла, и на уровне грамматики: Я хочу есть. Жратва пить дать, не смотрите, любовь, огонь сжег. Они веселятся через поры любого существа, вот женщина, весь род на земле происходит... [3. С. 19–20] Как видим, в этом тексте наблюдаются разорванные синтаксические и семантические связи. Во многих случаях бредовая речь остается грамматически связной. Бред в этом случае осознается как бред лишь на уровне лексики (возможно употребление необычных слов) и лексической сочетаемости: семантические позиции замещаются необычным образом, ассоциативные связи понятий нетипичны и редки: Я не верю ни в какие лекарства врачей, не доверяю людям, потому что это помачане, помахтане, вэрхмахтане, вэрхмахт. Я это знаю, ты не имеешь понятия об этом (пример из работы Белянина В. П. [1]). Такой текст при внешней своей верной грамматической оформленности не выполняет важнейшие функции языка (коммуникативную и экспликативную) и не может считаться образцом речи. Позиционные языковые структуры обычного, здравого менталитета и ущербного, таким образом, не совпадают, а «набор» нормативных сочетаний в памяти перестает быть эталоном, с которым сверяют порождающиеся тексты. Бредовый текст может симулироваться, но обучаться ему, как обычной речи, нельзя, так как он тематически очень разнообразен. Близкими по языковым особенностям к бредовым текстам являются глоссолалии – псевдоязыковые образцы необычного речевого поведения, которое в многочисленных религиозных обществах считают ритуально-религиозными, возникающими в состоянии транса. Исследователи (психологи и лингвисты) пришли к выводу, что глоссолалии следует рассматривать как недоразвитое образование знакомой речи, пограничный феномен между внутренней и внешней речью. Вот образец глоссолалий (цитируется по статье Э. А. Саракаевой [8]): Амина, супитер, амана… регедигида, треги, регедигида, регедигида… супитер, супитер, арамо… 59 По мнению лингвистов, можно провести параллели между глоссолалиями и детским лепетом (7–8,5 месяцев) и модулированным лепетом (8,5–9,5 месяцев). Другой аналогией является речь при некоторых патологиях сознания, в частности, при шизофрении. Отсутствие узнаваемых морфем делает эти тексты непонятными, из всей языковой системы здесь присутствуют только фонетические признаки. В художественных текстах (например, в поэзии футуристов или в произведениях для детей Д. Хармса, Л. Петрушевской, Г. Остера и др.) представлено принципиально иное использование позиции: позиционная значимость или элиминируется, или представляет собой очень аморфное, неопределенное образование. В языковом сознании говорящего отсутствуют лексические единицы, которые имеются в поэтических и прозаических текстах, а значимость позиции далеко не всегда заполняет эту лакуну. Псевдолексемы в научной литературе называются «абсурдными лексемами», «абсурдными языковыми субстанциями» (см. [7. С. 490]). Так, в произведении В. Хлебникова «Зангези» семантическая структура включает в себя смысловые зияния, заполнить которые достаточно сложно: Вечернего воздуха дайны, // Этавель задумчивой тайны, // По синему небу бегуричи, // Нетуричей стая, незуричей, // Потопом летят в инеса, // Летуры летят в собеса! Возможность морфологической интерпретации псевдолексем не восполняет этого зияния. Реальные слова своими валентностными свойствами определяют значимость позиций. Так, в словосочетаниях нетуричей стая, незуричей стая, летуры летят, летят в собеса позиция при существительном стая и глаголе лететь предполагает, что в ЛЗС должна присутствовать сема «живое существо, птица». Но непонятно, об одном и том же существе (нетуричи, незуричи, летуры) идет речь. Собеса и инеса созвучны слову небеса и позиционная значимость (лететь в …) позволяет предположить, что это позиция для близкой слову небо лексемы, но не исключаются и другие заполнения (ср., например, лететь в пропасть). В известных лингвистических сказках Л. С. Петрушевской узуальные слова полностью отсутствуют, как в знаменитой фразе Л. В. Щербы «Глокая куздра…». Узуальными являются только морфемы и служебные слова, что позволяет сохранить синтаксический строй предложений в пределах норм, хранящихся в памяти носителей языка: Пуськи бятые Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увязила Бутявку и волит: – Капушата! Капушаточки! Бутявка! Капушата присякали и Бутявку стрямкали. И подудонились. А Кулуша волит: – Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, спритюкнулась и усякала с напушки. Эта языковая игра достаточно распространена в русской литературе, она имеет давние традиции тайного языка офеней и фольклорных «нескладушек», абсурдных песен и загадок. В случае такого насыщенного употребления «абсурдных лексем» не может идти речи о выполнении текстом коммуникативной функции, читателю или слушателю остается слишком большой простор для домысливания. Семантическая система текста в этом случае не выстроена, возможными опорами для создания минимальной семантической связности являются суффиксы существительных (-очк-, -ат-), окончания и суффиксы глаголов (-ит,-а, -и, -л-), экспрессивные частицы (-то), предлоги. 60 Существование художественных текстов с разрушенной семантикой объясняется стремлением писателей и поэтов к языковому экспериментированию, с потребностью ощутить границы возможностей языковой системы, а также поиском новых возможностей художественной выразительности. Таким образом, понятие значимости позиции является общеязыковым и выделяется во всех разделах современного русского языка. В обычных текстах, созданных с целью реализовать коммуникативную и когнитивную функцию, значение языковой единицы и значимость занимаемой ею позиции находятся в гармонии. Нарушения значимости позиции в семантической подсистеме языка является следствием языковой игры или речевой небрежности. При большом количестве таких нарушений текст не может выполнять коммуникативную и когнитивную функции. Преднамеренное рассогласование практически всех значений слов и значимости позиций возможно только в экспериментальных текстах. Список литературы 1. Белянин, В. П. Психолингвистика / В. П. Белянин. – М. : МПСИ : Флинта, 2003. – 232 с. 2. Васильев, Л. М. Современная лингвистическая семантика / Л. М. Васильев. – М. : Высш. шк., 1990.– 176 с. 3. Глазов, В. А. Шизофрения / В. А. Глазов. – М. : Медицина, 1965. – 226 с. 4. Гридина, Г. А. Ассоциативный контекст слова и его реализация в речи (явление языковой игры) : автореф. дис. … докт. филол. наук / Г. А. Гридина. – М., 1996. – 45 с. 5. Зислин, И. Структура бредового текста [Электронный ресурс] / И. Зислин, В. Куперман. – Режим доступа : http // www. rutenia. // ru / folklore / kuperman _ zislin1. htm. 6. Калганова, С. О. Семантические нарушения в отношениях слова и контекста : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. О. Калганова. – Екатеринбург, 1997. – 19 с. 7. Новикова, В. Ю. Абсурдные языковые субстанции в слове и предложении / В. Ю. Новикова // Предложение и Слово : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. Э. П. Кадькалова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2002. – С. 490–494. 8. Саракаева, Э. А. Глоссолалия как психолингвистический феномен [Электронный ресурс] / Э. А. Саракаева. – Режим доступа : http://www.krotov.info/history/20/ sara2003.html. 9. Спивак, Д. Л. Измененные состояния сознания : Психология и лингвистика / Д. Л. Спивак. – СПб. : Ювента, 2000. – 293 с. 61 С. М. Кравцов РУССКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ В МЕЖЪЯЗЫКОВОМ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» В статье исследуются межъязыковые эквиваленты на материале фразеосемантического поля «Поведение человека» в русском и французском языках. Выявляются интегральный и дифференциальные семантические признаки единиц данного поля, выделяется отличительное свойство эквивалентных фразеологизмов, определяются причины их немногочисленности. Рассматриваются также наиболее многочисленные группы русских и французских эквивалентных фразеологических единиц в зависимости от источника их происхождения. Ключевые слова: фразеосемантическое поле, межъязыковые эквиваленты, французский язык. В современной лингвистической литературе фразеосемантическое поле (ФСП) обычно интерпретируется как вид семантического поля (СП), который образуется совокупностью фразеологических единиц (ФЕ), обслуживающих в языке определённую понятийную сферу, объединённых интегральным семантическим признаком, но обладающих дифференциальными семантическими признаками и имеющих определённое категориальное значение1. ФСП «Поведение человека», обслуживающее общечеловеческую концептосферу, является межъязыковым. Его исследование, позволяющее рассмотреть механизм отражения в языковой картине мира представления об одной из самых важных форм самореализации личности, имеет особое значение. Оно приобретает ещё большую актуальность, если производится на материале разных языков, в частности русского и французского, поскольку предполагает анализ ФЕ в сопоставительном аспекте, позволяющем выявить не только национальное различие, но и определённое тождество. Опираясь на дефиницию в словарях русского2 и французского3 языка лексемы «поведение» (по-французски «la conduite»), объективирующей исследуемое поле, мы рассматриваем его интегральный семантический признак как «совокупность действий (или их преднамеренное отсутствие); образ жизни». Категориальным значением ФСП «Поведение человека» (по-французски «La conduite d’un individu»), следовательно, является значение действия, реализующееся единицами, которые в соот-ветствии со структурным типом представляют собой глагольные словосочетания. К дифференциальным семантическим признакам ФЕ данного поля относятся такие, как 1) материальный или духовный характер действий; 2) зависимость / независимость осуществления действия от влияния окружающей среды; 3) их направленность / ненаправленность на окружающую среду в качестве ответной реакции; 4) значимость / незначимость условий осуществления действия (времени, места, меры интенсивности действия и т. д.); 5) соответствие / несоответствие действий, образа жизни человека принятым в обществе правовым или нравственным нормам, окружающей обстановке. В составе русского и французского ФСП «Поведение человека» нами выявлено по 185 единиц, особенностью которых является тождество семантики, лексикограмматического состава, внутренней формы, функционально-стилевых свойств. 62 Они образуют межъязыковые эквивалентные пары. При наличии вариантов в составе фразеологизмов той или иной пары мы выбираем из них идентичные. Благодаря тождеству лексико-грамматического состава эквивалентных ФЕ совпадает их дословный перевод с одного языка на другой. Немногочисленность межъязыковых эквивалентов в пределах исследуемого поля обусловливается рядом причин. Во-первых, к ним не относятся русские и французские единицы, различающиеся объёмом семантической структуры: «высунуть нос» («выйти, показаться где-либо») и «montrer le nez» («выйти, показаться гделибо»; «выдать свои намерения»). Во-вторых, среди них не рассматриваются фразеологизмы, один из которых, являющийся полукалькой другого, содержит не переведённые с языка-источника компоненты, не ассимилировавшиеся заимствующим языком и воспринимающиеся как иностранные: «дать карт-бланш» кому и «donner carte blanche» à qqn (досл. «дать белую карту» кому – «дать кому-либо неограниченные полномочия, полную свободу действий»). В-третьих, немногочисленность межъязыковых эквивалентов объясняется ограниченностью источников их происхождения, которые носят лишь универсальный характер и ассоциируются с общечеловеческой концептосферой. Тем не менее, большинство ФЕ образовалось не на универсальной, а на более многогранной национальной основе. В зависимости от источника происхождения русские и французские эквивалентные фразеологизмы ФСП «Поведение человека» могут быть разделены на несколько групп, каждая из которых соответствует определённой идеографической рубрике картины мира. Мы рассматриваем три наиболее многочисленные из них: 1) ФЕ с компонентом, называющим часть человеческого организма (63 пары); 2) ФЕ, образ которых связан с объектом биосферы (58 пар); 3) ФЕ, появившиеся в различных сферах человеческой деятельности (56 пар). Организм человека представляет собой комплекс согласованно действующих внешних и внутренних органов, обеспечивающих его жизнедеятельность и контакт с окружающим миром. Расположение и функции человеческих органов мотивируют первоначальный денотат связанных с их названием фразеологизмов. В русском и французском ФСП «Поведение человека» наиболее многочисленными являются эквиваленты, которые содержат соматизмы, номинирующие такие части человеческого тела, как голова, руки, спина, глаза. Голова, содержащая мозг, являющийся органом мышления у человека, служит средоточием ума, мысли. Эта функция головы отражается, например, во фразеологических оборотах «вбивать себе в голову» и «s’enfoncer dans la tête» («твёрдо останавливаться на определённой мысли; упорно, крепко держаться чего-либо»)4. Представление о голове как вместилище различных сведений, знаний, впечатлений фиксируется ФЕ «забивать голову» кому и «bourrer la tête» à qqn («перегружать память множеством сведений, знаний и т. п., обычно ненужных»); «вбивать в голову» что кому и «enfoncer qqch dans la tête» de qqn («внушать кому-либо чтонибудь, убеждать кого-либо в чём-нибудь»)5. Человек может терять способность трезво мыслить, рассуждать, когда он сильно влюблён, что породило полисемичные ФЕ «терять голову» и «perdre la tête» («попав в затруднительное положение, приходить в растерянность, не знать, как поступить»; «безрассудно влюбляться»)6; «кружить голову» кому и «tourner la tête» à qqn («лишать кого-либо возможности здраво рассуждать, трезво относиться к окружающему»; «увлекать кого-либо, влюблять в себя»)7. 63 Поднятое или опущенное положение головы ассоциируется с позитивным или негативным психологическим состоянием человека, уверенностью или отсутствием уверенности в себе, что проявляется в соответствующем поведении: «поднимать голову» и «relever la tête» («обретать уверенность в себе, в своих силах, начинать активно проявлять себя»); «склонять голову» и «courber la tête» («признавать себя побеждённым, сдаваться, уступать в борьбе, покоряться»). В русской и французской фразеологии запечатлён обычай мыть голову. Представление о том, что человек, моющий голову другому, применяет при этом определённую физическую силу, поворачивая её в разные стороны и взъерошивая волосы, дало жизнь ФЕ «мыть голову» кому и «laver la tête» à qqn («сильно бранить, распекать кого-либо»). Не менее многочисленны межъязыковые эквиваленты с соматизмом «руки». Следует отметить, что значение большинства из них содержит негативную оценку. Так, основная функция руки – служить орудием для выполнения различных действий – отражается в ряде ФЕ, значение которых имеет негативную окраску: «связывать руки» кому и «lier les mains» à qqn («лишать кого-либо возможности свободно действовать»); «складывать руки» и «croiser les bras» («переставать действовать»). Рука, как мы уже отмечали, воплощает ряд символов, известных русской и французской культурам. Однако лишь некоторые из символов запечатлены в межъязыковых эквивалентах. Так, восприятие руки как символа власти, силы отражается, например, в моносемичных ФЕ «держать в руках» что и «tenir qqch en mains» («обладать чем-либо»); полисемичных ФЕ «попадать в руки» кого, чьи, кому, к кому и «tomber entre les mains» de qqn («оказываться в чьём-либо владении, распоряжении»; «быть пойманным, схваченным кем-либо»). Простое соединение рук нескольких человек является символом их союза, согласия, дружбы, что отмечается во фразеологизмах «просить руки» кого, чьей и «demander la main» à qqn, de qqn («обращаться с предложением к девушке или к её родителям дать согласие на брак с ней»); «протягивать руку» кому и «tendre la main» à qqn («помогать кому-либо, оказывать содействие, поддержку») и т. д. Такой орган человеческого тела, как спина, обладая большой подвижностью, способен легко сгибаться, когда, например, человек делает поклон. В русской и французской культурах существовал обычай, согласно которому слуги в знак приветствия и почтения должны были низко кланяться своим хозяевам при встрече с ними, что маркируется ФЕ «гнуть спину» перед кем и «courber l’échine» («унижаться, заискивать, раболепствовать перед кем-либо»). Когда человек по определённым причинам не желает общаться с окружающими, он поворачивается к ним спиной. Подобное поведение получило соответствующее переосмысление, закрепившееся в эквивалентных ФЕ «поворачивать спину» к кому и «tourner le dos» à qqn («проявлять безразличие, пренебрежение к кому-либо»). Другой орган человеческого тела – глаз – занимает достойное место во фразеологии обоих языков, поскольку с его помощью человек видит и воспринимает окружающий мир. Функция глаз служить органом зрения, а также самим зрением запечатлена во фразеологизмах «есть глазами» кого, что и «manger des yeux» qqn, qqch («пристально смотреть на кого-либо или что-либо»); «попасть на глаза» кому и «tomber sous les yeux» de qqn («cлучайно привлечь к себе чьё-либо внимание»). Взгляд человека, которым он смотрит на окружающих, может отражать его отношение к ним, а также психоэмоциональное состояние: «смотреть прямо в глаза» кому и «regarder qqn droit dans les yeux» («чувствовать себя свободным, независимым 64 перед кем-либо в выражении своих мыслей, взглядов и т. п.»); «опускать глаза» и «baisser les yeux» («смущаясь или волнуясь, направлять взгляд вниз»). Традиция закрывать глаза умершему человеку породила появление ФЕ «закрывать глаза» кому и «fermer les yeux» à qqn («быть рядом с умирающим в последние минуты жизни»). Основой человеческого организма, рассматриваемого в его внутренних формах, является сердечно-сосудистая система, состоящая из сердца и сосудов, заполненных кровью. Благодаря работе сердца как нагнетающего насоса кровь непрерывно циркулирует по сосудам, снабжая организм кислородом, питательными веществами, поддерживая постоянную температуру тела. Первостепенное значение сердца и крови для жизнедеятельности человека обусловило их широкую репрезентацию в русской и французской фразеологии. Однако в русском и французском ФСП «Поведение человека» обнаружено немного эквивалентов с компонентом «сердце» или «кровь», т. к. подавляющее большинство из них при совпадении плана содержания различается планом выражения. Роль сердца как центрального органа кровообращения породила представление о нём как центре физической и психической жизни человека, что закреплено во фразеологических оборотах «находить путь к сердцу» кого, чьему и «trouver le chemin du cœur» de qqn («добиваться, вызывать чьё-либо расположение, любовь, симпатию и т. п.»). В русской и французской культурах сердце – средоточие различных чувств, в частности, чувства любви. Это объясняется тем, что, согласно библейской мифологии, чувства сравниваются с жидкостью, которой в данном случае является непрерывно проходящая через сердце кровь. Текучесть как свойство жидкости ассоциируется с динамикой и, следовательно, с изменчивостью и разнообразием чувств. Подобное представление о сердце передаётся, например, во фразеологизмах «побеждать сердце» чьё и «gagner le cœur» de qqn («внушать любовь к себе, заставлять полюбить себя»); «надрывать сердце» чьё и «déchirer le cœur» à qqn («вызывать чьи-либо душевные страдания, муки»). Подобное восприятие сердца объясняет то, что некоторые ФЕ с номинирующим его компонентом по своему содержанию близки к ФЕ, принадлежащим к ФСП «Эмоциональное состояние человека». В сознании человека сердце представляется также как вместилище души, поэтому «посягательство» на сердце ассоциируется с «посягательством» на внутренний, психический мир: «разбивать сердце» кому и «briser le cœur» à qqn («причинять кому-либо душевную боль»). Среди межъязыковых фразеологических эквивалентов, содержащих компонент «кровь», в составе исследуемого поля выявлены всего две подгруппы. Образ ФЕ первой из них основан на мысли о возможной потере крови человеком, связанной с её пролитием. Одной из самых распространённых причин потери крови человеком является его ранение, которое, как правило, бывает следствием физического воздействия (иногда с применением холодного или огнестрельного оружия). Кровь, льющаяся из раны человека, может ассоциироваться как с истекающей ею жертвой, так и с убийцей, по вине которого она льётся. Подобный образ крови запечатлён, например, во фразеологизмах «пролить кровь» за кого, что и «verser le sang» pour qqn, qqch («погибнуть, пострадать, защищая кого- или что-либо»); «проливать кровь» кого, чью и «répandre le sang» de qqn («убивать кого-либо»). Существование животных, пьющих человеческую кровь, и очень неприятные ощущения, испытываемые при этом людьми, послужили причиной возникновения эквивалентных ФЕ второй подгруппы: «пить кровь» кого, чью и «boire le sang» de 65 qqn («мучить, изводить кого-либо»); «высасывать кровь» из кого и «sucer le sang» de qqn («жестоко эксплуатировать, доводить до крайней нужды кого-либо»). Деятельность человека, а также его внутренний мир во многом определяются биосферой, которая всегда играла очень важную роль в его жизни, оказывая непосредственное влияние на условия и среду его обитания. Биосфера понимается как область распространения активной жизни, включающая верхнюю часть земной коры (литосферу), воды рек, озёр, морей и океанов (гидросферу) и нижнюю часть атмосферы (тропосферу)8. В биосфере живые организмы (люди, животные, растения) и среда их обитания тесно связаны и взаимодействуют друг с другом. Многовековой опыт наблюдений человека за окружающей средой передаётся от поколения к поколению, отражаясь в языке, в частности, во фразеологии. В составе русского и французского ФСП «Поведение человека» наиболее многочисленными являются те эквиваленты, образ которых связан с основными объектами биосферы (землёй, водой, огнём) и животным миром. Следует отметить, что в пределах поля нами не обнаружены эквивалентные ФЕ, называющие вохздух, – четвёртый (последний) основной объект биосферы. Земля всегда воспринималась человеком как «фундамент» универсума, что с течением времени породило представление о нём как опоре, основе, на которой можно создавать что-либо. Эта мысль запечатлена в русских и французских эквивалентных ФЕ с компонентом «почва» («le terrain»), называющим верхний слой земной коры: «подготовить почву» для кого, чего и «préparer le terrain» («создать благоприятные условия для кого- или чего-либо»); «нащупывать почву» и «tâ-ter le terrain» («заранее выяснять что-либо, заранее узнавать возможность чего-нибудь с какойлибо целью»). Размякшая от воды почва – грязь – пачкает человека, идущего по ней. Грязный человек обычно чувствует себя неловко перед неиспачкавшимися людьми. Представление о нём легло в основу образа ФЕ «вытаскивать из грязи» кого и «tirer qqn de la boue», употребляющихся, когда речь идёт о человеке, которого избавляют от унизительных условий существования. Традиционное отношение к земле как к месту погребения тела также нашло своё отражение в межъязыковых фразеологическиx эквивалентах: «предать земле» кого и «mettre en terre» qqn («похоронить кого-либо»). Вода, образующая гидросферу, является одним из самых распространённых веществ в природе, занимая 71% поверхности Земли. Потребность людей в воде и невозможность их существования без неё подтверждаются тем, что она составляет 65% человеческого тела. Огромное значение, которое имеет вода для живых организмов, а также её некоторые физические свойства нашли своё отражение в русских и французских эквивалентах ФСП «Поведение человека». По своим физическим свойствам вода представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, что отмечается в таких ФЕ, как «мутить воду» и «troubler l’eau» («умышленно запутывать какое-либо дело, вносить неразбериху во что-либо»). Прозрачность воды, а также её способность образовывать различные водные пространства, в которых можно ловить рыбу, отражается в таких ФЕ, как «ловить рыбу в мутной воде» и «pêcher en eau trouble» («извлекать выгоду из чьих-либо затруднений, корыстно пользоваться неясностью обстановки»). Отношение к воде как к самому доступному и необходимому для жизни человека напитку обнаруживается во фразеологических оборотах «сажать на хлеб и воду» кого и «mettre qqn au pain et à l’eau» («наказывать кого-либо голодом, ограничением пищи»). 66 Направление потока воды в водных пространствах может облегчать или затруднять плавание в зависимости от того, в какую сторону оно совершается человеком: «плыть по течению» и «suivre le courant» («действовать так, как вынуждают обстоятельства»); «идти против течения» и «aller contre le courant» («действовать наперекор господствующим традициям, мнениям и т. п.»). Огонь, представляющий собой раскалённые светящиеся газы, выделяющиеся при горении, издревле используется человеком для приготовления пищи, что отражается в эквивалентных ФЕ «таскать каштаны из огня» для кого, кому и «tirer les marrons du feu» («выполнять очень трудную работу, результатами которой пользуется другой»). Однако в этом случае эквивалентность обусловлена тем, что русская единица является полной фразеологической калькой соответствующей ей французской – выражения из басни Лафонтена «Обезьяна и Кот». Обезьяна заставляет Кота доставать из огня жареные каштаны, Кот обжигает себе лапы, а каштаны съедает Обезьяна. Переосмысление данного образа стало причиной рождения рассматриваемых ФЕ. Разрушительная сила огня, способного уничтожать дотла, опасность, которую он может представлять для жизни человека, запечатлены также в образной составляющей эквивалентных ФЕ исследуемого поля: «играть с огнём» и «jouer avec le feu» («поступать неосмотрительно, неосторожно, не думая о последствиях»). Свойство огня резко активизироваться после добавления в него горючих материалов, в частности, минеральных масел обусловило появление ФЕ «подливать масла в огонь» и «verser de l’huile sur le feu» («обострять отношения, усугублять какиелибо чувства, настроения и т. п.»). Хозяйственная деятельность человека всегда отличалась многогранностью и была связана с немалыми физическими усилиями, что обусловило его потребность в помощи животных. Они использовались им во время обработки земли, преодоления труднопроходимой местности, охоты на диких зверей с целью обеспечения пищей себя и своей семьи. Человек нуждался в помощи домашних животных для охраны жилища, борьбы с грызунами и т. д. Играя важную роль в жизни человека, животные неизбежно становились объектом его внимания. Наблюдение за домашними и дикими животными, а также знания о них способствовали формированию определённого отношения к ним. С течением времени внутренние и внешние качества человека, а также его поведение стали сравниваться с характерными свойствами, присущими конкретному представителю того или иного вида (класса) животных. В связи с этим подобные ФЕ обладают анималистическим компонентом, под которым мы понимаем наименование отдельного объекта животного мира, и часто содержат сравнительный оборот. Популярность сравнения поведения человека с отличительными особенностями определённых представителей фауны мотивирует её широкую манифестацию в русских и французских эквивалентах исследуемого ФСП. Такое хищное млекопитающее, как лев, длина тела которого может достигать двух метров, отличается большой силой и способностью отчаянно и храбро драться с другими крупными дикими животными. Данное свойство льва мотивирует появление фразеологических оборотов «сражаться как лев» и «se battre comme un lion», которые употребляются, когда речь идёт об очень храбро сражающемся (подобно льву) человеке. Маленькая муха и огромный слон запечатлены во фразеологизмах «делать из мухи слона» и «faire d’une mouche un éléphant», используемых, когда говорится о человеке, который сильно преувеличивает что-либо, придаёт чему-нибудь незначительному (как размеры мухи) большое (как размеры слона) значение. 67 Говорящий попугай обладает способностью запоминать и повторять услышанные им слова, не понимая при этом их значения. Такое свойство птицы легло в основу образа эквивалентных ФЕ «повторять как попугай» и «répéter comme un perroquet», объект вторичной номинации которых – человек, повторяющий (подобно попугаю) чужие слова, не имея собственного мнения. Змея, представляющая класс пресмыкающихся, в бестиарии – содержащем аллегорические истолкования восточном средневековом сборнике статей о реальных и фантастических животных – является символом предательства. Подобное восприятие змеи дало жизнь ФЕ «отогревать змею на своей груди» и «réchauffer un serpent sur son sein», употребляющимся, когда речь идёт о человеке, который платит неблагодарностью за проявленные к нему внимание, заботу, любовь и т. п. В пределах исследуемого поля выявлены также ФЕ с анималистическим компонентом, план содержания которых мотивируется не свойством животного, а действиями человека, которые он совершает во время или в результате контакта с ним. Так, при необходимости овладения быком человек должен взять его за рога, что возможно только благодаря решительной и отчаянной атаке. Образ такого человека обусловливает значение фразеологизмов «брать быка за рога» и «prendre le taureau par les cornes» («начинать действовать энергично, решительно и сразу с самого главного»). Укус человека мухой вызывает у него неприятные ощущения, способные резко повлиять на его поведение, что объясняет содержание ФЕ «какая муха его укусила» и «quelle mouche l’a piqué» («чем вызвано его такое странное, непонятное поведение»). Следует отметить, что среди межъязыковых эквивалентов поля встречается немало ФЕ, в составе которых отсутствует компонент, номинирующий конкретную особь животного мира. Образ подобных ФЕ связан с особями различных видов (классов, семейств), обладающими общим свойством, а в их составе содержится лексема, обозначающая какую-либо часть тела (или какой-либо орган) или действие неназванного представителя фауны, имеющие непосредственное отношение к одному из его свойств. Например, люди обратили внимание на то, что животному (из семейства собачьих, кошачьих и т. д.) нравится, когда его гладят в направлении шерсти. Представление о человеке, гладящем таким образом животное, дало жизнь ФЕ «гладить по шерсти» кого и «caresser qqn dans le sens du poil» («говорить или делать что-нибудь в соответствии с чьим-либо желанием, в угоду кому-либо»). Данные ФЕ мы рассматриваем как пару межъязыковых эквивалентов, поскольку предлог «по» упот-ребляется в значении «в направлении чего-нибудь» (по-французски «dans le sens de qqch»). Животные могут также проявлять агрессивность: представители семейства собачьих при этом рычат, обнажая клыки, а представители семейства кошачьих выпускают когти. Такое поведение животных отражается в эквивалентных фразеологизмах «показывать зубы» и «montrer les dents», «показывать когти» и «montrer les griffes», которые употребляются, когда речь идёт о человеке, проявляющем враждебность, нетерпимость, обнаруживающем (подобно данным животным) готовность защитить себя. У рогатых животных рога являются органами защиты, у самцов многих видов это «турнирное оружие» в борьбе за самку. Такая функция рогов, символизирующих силу животного, запечатлена во фразеологизмах «обломать рога» кому и «abattre les cornes» à qqn («укротить, усмирить, заставить покориться кого-либо; победить»). Среди русских и французских эквивалентных ФЕ в составе поля «Поведение человека» очень немногочисленными являются те из них, образ которых связан с таким объектом биосферы, как небо. Представление человека о небе как видимом высоко над поверхностью земли необитаемом воздушном пространстве породило образ 68 фразеологизмов «падать с неба» и «tomber du ciel», объект вторичной номинации которых – человек, неожиданно (как будто упавший с неба) появившийся где-нибудь. В пределах исследуемого поля также не многочисленны эквивалентные ФЕ, содержащие компонент, который называет явление природы, периодически наблюдаемое в биосфере. Например, такое явление природы, как молния представляет собой гигантский искровой разряд скопившегося в атмосфере электричества длиною несколько километров и длительностью десятые доли секунды8. Благодаря большой мощности данный искровой разряд стал ассоциироваться со сверкающими гневом человеческими глазами. Подобное переосмысление молнии наблюдается во фразеологических оборотах «метать молнии» и «lancer des éclairs» («злобно, сердито смотреть»). К эквивалентным можно отнести некоторые русские и французские ФЕ с компонентом, обозначающим одно из геологических образований, также присутствующих в биосфере. Они появляются в результате естественного развития земли как на её поверхности, так и под нею и неизбежно оказывают влияние (положительное или отрицательное) на практическую деятельность человека. Такое геологическое образование, как песок представляет собой «сыпучие крупинки кварца или иных твёрдых материалов»9. Отношение человека к песку как к рыхлому, рассыпчатому веществу, на котором возведённые объекты не будут стоять прочно, запечатлено в тождественных фразеологических оборотах «строить на песке» и «bâtir sur le sab-le» («основываться на очень ненадёжных, шатких данных»). Наличие межъязыковых эквивалентных ФЕ в составе поля «Поведение человека» обусловливается не только универсальностью сфер человеческой деятельности, но и многолетними связями, существующими между русской и французской культурами. Фразеологическая интерпретация данной идеографической рубрики картины мира отражает различные реалии общественной, в частности, профессиональной жизни, характерные для обеих культур. Они служат благоприятной почвой для рождения многочисленных ФЕ, часть из которых имеет под собой профессиональную основу и потому относится к «терминологическому» пласту фразеологии. В составе исследуемого поля наиболее представленными русскими и французскими эквивалентами являются такие сферы человеческой деятельности, как социальноэкономическая жизнь, искусство, военное дело, активный отдых, спорт. Социально-экономическая сфера играет главную роль в жизни любого языкового коллектива, т. к. именно здесь производятся материальные и духовные ценности. Следовательно, состояние данной области общественной жизни существенным образом влияет на характер развития остальных сфер человеческой деятельности. Огромную роль в социально-экономической жизни культурного сообщества играют финансы – денежные средства как элемент народно-хозяйственного оборота. Поскольку деньги являются мерой стоимости при купле-продаже, средством платежа, их количество, имеющееся в распоряжении определённого человека, служит критерием его финансовых возможностей. Деньги воспринимаются как состояние, капитал, от размера которого может зависеть социальный статус его владельца. Их способность влиять на жизнь человека обусловливает его потребность зарабатывать их как можно больше. Подобная мысль легла в основу внутренней формы ФЕ «делать деньги» и «faire de l’argent» («зарабатывать деньги, обычно в большом количестве»). Финансы тесно связаны с банковской системой, т. к. в банке человек может открыть личный счёт, фиксирующий состояние его финансовых расчётов и обязательств, наличие денежных вкладов, приход и расход денежных средств и т. д. Совершение различных банковских операций, отражающихся на счёте определённого 69 клиента, породило образ ФЕ «принимать на свой счёт» что и «prendre qqch sur son compte» («cчитать что-либо относящимся лично к себе»). Неотъемлемой областью социально-экономической сферы человеческой деятельности является торговля. Согласно правилам торговли, товар должен иметь ярлык, на котором указывается вся необходимая для покупателя информация об изделии. Обычно ярлык с подобными сведениями наклеивают на упакованный товар. С течением времени практическая реализация данного правила торговли получила переосмысление (товар – человек, ярлык – характеристика человека), давшее жизнь фразеологизмам «наклеивать ярлыки» и «coller des étiquettes», употребляющимся, когда речь идёт о человеке, которому дают поверхностную характеристику, необоснованно приписывая определённые свойства, качества. Межъязыковые эквивалентные ФЕ объективируют также характер человеческих взаимоотношений, который существовал в такой нематериальной сфере общественной жизни, как образование. Например, некогда в образовательных заведениях России и Франции одним из педагогических приёмов воздействия на неуспевающих учеников служило их наказание непосредственно на уроке в присутствии товарищей, которые, как предполагалось, из страха быть наказанными подобным образом не должны плохо заниматься. В сознании учеников уроки, на которых применялся такой педагогический приём, стали вызывать мысль о возможном наказании. Подобная коннотация обнаруживается в эквивалентных ФЕ «дать урок» кому и «donner une leçon» à qqn («наказать, проучить кого-нибудь в назидание»); «получить урок» и «recevoir une leçon» («понести наказание»). Искусство как творческое отражение, воспроизведение человеком действительности в художественных образах занимает достойное место в русских и французских эквивалентных единицах ФСП «Поведение человека». Наибольшей репрезентацией отличается такая его область, как театр – искусство изображения драматических произведений на сцене. Так, уход артиста со сцены, на которой происходит с его участием театральное представление, получил переосмысление, породившее коннотацию, присутствующую в содержании эквивалентных ФЕ «уйти со сцены» и «quitter la scène» («оставить поле деятельности»). Иногда актёр играет в маске с изображением лица воплощаемого им персонажа, поэтому в обеих культурах маска символизирует притворный вид, фальшь, лицемерие. Подобная коннотация отражается во фразеологизмах «срывать маску» с кого и «arracher le masque» à qqn («разоблачать кого-либо, показывая его подлинную сущность, настоящее лицо»); «сбрасывать маску» и «jeter le masque» («обнаруживать свою истинную сущность; переставать притворяться кем- или чем-либо»). В межъязыковых эквивалентах ФСП «Поведение человека» маркируется такая сфера человеческой деятельности, как скульптура, являющаяся одним из видов изобразительного искусства. Многолетний опыт возведения скульптурных изображений прославленных людей в России и Франции обусловливает существование ФЕ «поднимать на пьедестал» кого и «élever qqn sur un piédestal» («возвеличивать, превозносить кого-либо»). Литература как явление искусства («искусство слова»), эстетически выражающее общественное сознание и в свою очередь формирующее его, также находит отражение в русских и французских эквивалентных ФЕ. Многие из них появились благодаря авторам литературных произведений. Например, словами «вернёмся к нашим баранам» (по-французски «revenons à nos moutons») в фарсе «Адвокат Пьер Патлен» (написанном около 1470 года), первом из цикла анонимных фарсов об адвокате Патлене, судья прерывает речь богатого суконщика. Возбудив дело против пастуха, по70 хитившего у него овец, суконщик, забывая о своей тяжбе, осыпает упрёками защитника пастуха, адвоката Патлена, который не уплатил ему за шесть локтей сукна. Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» приводит цитату из «Адвоката Пьера Патлена», заменяя, однако, слово «revenons» синонимом «retournons» («вернёмся»)10. С течением времени оборот «revenons («retournons») à nos mou-tons» получил метафорическое переосмысление и дал жизнь соответствующему фразеологизму. Русская ФЕ «вернёмся к нашим баранам» появилась в результате его полного калькирования. Обе единицы применяются как обращение к человеку, напоминающее ему об основной теме его речи, от которой он отвлекается (подобно суконщику из указанного выше фарса). Военное дело как отдельная сфера человеческой деятельности представлено в межъязыковых эквивалентных ФЕ, отражающих его развитие в России и Франции, переживших немало вооружённых конфликтов, в том числе между собой. Например, такое холодное оружие, как копьё было главным оружием пехоты и конницы в древнем мире и в средние века. Представляя собой древко с каменным, костяным или металлическим наконечником, оно широко использовалось как колющее или метательное оружие. В средневековую эпоху древнерусские и западноевропейские воины искусно овладели копьём. В странах Западной Европы часто устраивались турниры, на которых конные рыцари, состязаясь в силе и умении владеть копьём, вступали в единоборство друг с другом. Во время боя задача рыцаря заключалась в том, чтобы, сохранив своё копьё, сломать копьё соперника, который взамен получал целое. Победителем считался тот, у кого по окончании боя было меньше сломанных копий. Подобный поединок дал жизнь основанным на метафорическом переносе эквивалентным ФЕ «ломать копья» и «rompre des lan-ces» («бороться за что-либо; с жаром спорить о чём-либо»). Часто во время вооружённой борьбы одна из воюющих сторон в целях добиться победы предпринимала штурм – решительную атаку крепости, укрепления или опорного пункта противника. Образ воинов, берущих штурмом позицию врага, запечатлён в эквивалентных ФЕ «брать штурмом» что и «prendre qqch d’assaut» («брать, получать что-либо ценой больших усилий»). Такая сфера деятельности человека, как активный отдых, включающий разнообразные развлечения и удовольствия, имеет важное значение в его жизни. Несмотря на то, что эта сфера в большей степени фиксируется во французской фразеологии, в пределах ФСП «Поведение человека» нами выявлены несколько русских и французских эквивалентных ФЕ, отражающих наиболее распространённые развлечения и удовольствия – игры, песни, рыбалку, охоту. Одной из самых популярных игр в интересующих нас языковых сообществах являются карты, оставившие свой след во фразеологии. Иногда их смешивали, путали, что делало невозможным продолжение партии или игры: «путать карты» и «brouiller les cartes» («расстраивать, разрушать чьи-либо планы, намерения»). Первая ФЕ является полукалькой французского эквивалента, однако, её заимствованный компонент «карты» полностью ассимилирован русским языком. Географические особенности обоих государств (наличие рек, морей, лесов) способствуют увлечению их жителей рыбной ловлей, охотой, что некогда для многих было жизненной необходимостью, основным средством существования. В наше время для большинства людей это одно из развлечений и удовольствий, один из способов активного проведения досуга. Во время рыбной ловли или охоты, как известно, часто расставляют сети. Попавшая в них рыба или птица послужила образной составляющей эквивалентных ФЕ 71 «попасть в сети» чьи и «tomber dans les filets» de qqn («оказаться в неприятном положении, поддавшись чьим-либо хитрым уловкам»). На охоте для ловли зверей живьём применяют специальное приспособление – западню. Образ попавшего в неё животного, оказавшегося во власти охотника, породил эквивалентные фразеологизмы «попасть в западню» и «tomber dans un piège» («оказаться в невыгодном, опасном положении в результате чьего-либо искусного манёвра»). Большую роль в сохранении и улучшении здоровья людей всегда играл спорт. Представляя собой совокупность физических упражнений для развития и укрепления организма, он пользуется огромной популярностью в мире. Отдельные его виды, распространённые как в России, так и во Франции, представлены в межъязыковых эквивалентных ФЕ. В некоторых командных спортивных играх (например, в футболе, хоккее), согласно международным правилам, предусматривается положение вне игры. Оно распространяется на спортсмена, оказавшегося за линией последнего защитника на половине поля соперника (в футболе) и пересёкшего раньше шайбы синюю линию в зоне соперника (в хоккее), и становится причиной остановки матча арбитром. Положение вне игры, в которое попадает один из спортсменов, противопоставляется положению «в игре», относящемуся ко всем остальным спортсменам. Образ такого футболиста (хоккеиста) послужил основой для появления ФЕ «быть [оказаться] вне игры» и «être [se trouver] hors jeu» («не принимать участия в каком-либо деле, будучи отстранённым от него»). В боксе в соответствии с международными правилами запрещено наносить сопернику удар ниже пояса. Нарушение правил обычно осуждается, вызывает негативные эмоции, что мотивирует содержание эквивалентных ФЕ, внутренним образом которых является подобная ситуация в боксе: «бить ниже пояса» кого и «frapper qqn au-dessous de la ceinture» («вести себя нечестно, непристойно по отношению к кому-нибудь»). Итак, в пределах русского и французского ФСП «Поведение человека» существуют единицы с идентичным планом выражения и содержания, обладающие общей образной составляющей и тождественными функционально-стилевыми свойствами, что позволяет их квалифицировать как эквивалентные. Причиной существования межъязыковых эквивалентных ФЕ служит общий источник их происхождения, имеющий универсальную основу и связанный с общечеловеческой концептосферой, а также полное калькирование. Однако эквивалентные фразеологические обороты образуют небольшой разряд в составе исследуемого поля, что обусловливается следующими причинами: 1) исключением из их числа русских и французских единиц, имеющих различие в объёме семантической структуры; 2) исключением из их числа полукалек, непереведённые компоненты которых не ассимилировались заимствующим языком; 3) ограниченным количеством источников происхождения межъязыковых эквивалентов. Примечания 1 См.: Новиков, Л. А. Русский язык : энцикл. / Л. А. Новиков ; под ред. Ю. Н. Караулова. – М., 2003. – C. 458. 2 Cм.: Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. – СПб., 2001. – C. 850. 3 См.: Le Petit Larousse illustré. – P., 2005. – С. 278. 4 Словарь современного русского литературного языка. – М. ; Л., 1954. 72 5 Le Robert. Dictionnaire des expressions et locutions / A. Rey et S. Chantreau. – P., 1997. Фразеологический словарь русского языка / под. ред. А. И. Молоткова. – М., 1987; Жост, М.-Л. Учебный русско-французский фразеологический словарь / М.-Л. Жост, А. И. Молотков. – М., 2001. 7 Новый большой французско-русский фразеологический словарь / под ред. В. Г. Гака. – М., 2005. 8 См.: Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – М., 1989. – C. 141. 9 Ожегов, С. И. Словарь русского языка. – М., 1989. – C. 416. 10 Cм.: Ашукин, Н. С. Крылатые слова / Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. – М., 1988. – C. 48. 6 Т. В. Краюшкина ГРУППА МОТИВОВ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ: ТИПЫ И ФУНКЦИИ Статья посвящена группе мотивов изменения внешнего облика человека в русской народной волшебной сказке. В фольклористике эта группа мотивов выделяется впервые; анализируются указанные мотивы и их место в сказочном фольклоре. В статье сделан вывод о том, что идеальным для сказки является человеческий облик. Ключевые слова: мотив, волшебная сказка, русский фольклор. Мотивы состояний тела героя-человека в русской народной волшебной сказке делятся на пять основных групп: признаки тела; экстерорецептивные ощущения и примыкающие мотивы; органические ощущения, физиологические потребности организма и примыкающие мотивы; особые состояния тела; изменения внешнего облика. Одни из анализируемых мотивов (их большинство) являются отражением существующих у людей состояний тела. Это признаки тела (за исключением мотивов получения красоты и молодости); экстерорецептивные ощущения; органические ощущения, физиологические потребности организма; болезнь, исцеление, обморок, смерть, опьянение; мотивы «быть одетым и обутым», нагота, маскарад. Другие мотивы (их меньше) принадлежат области сказочной фантастики (оборотничество, особенный сон, получение красоты и молодости). В группу мотивов состояний изменения внешнего облика входят оборотничество, мотивы «быть одетым» и «быть обутым», маскарад, нагота, обнажение и заголение, прятки. Мотивы оборотничества и «быть одетым» и «быть обутым» в сказке используются чаще, а мотивы маскарада, наготы, обнажения, заголения и пряток – реже. Как правило, трансформацию внешнего облика претерпевают главные герои и героини сказок. Изменение облика антагонистов или второстепенных персонажей в сказке дано или как необходимое условие перемены облика главного персонажа, или же как наказание. Сказка выделяет три основных вида оборотничества – высокое (которое своими корнями восходит к тотемизму), оборотничество героев, принадлежащих нашему миру, и низкое оборотничество (возникает позже двух первых типов, когда животное в системе мировосприятия стоит ниже человека). Высокое оборотничество характерно для героев, принадлежащих иному миру. При высоком оборотничестве герой (животное, птица, земноводное, насекомое) вступает в брак с человеком, принимает человеческий облик. После нарушения супругом запрета или (реже) 73 по другим обстоятельствам герою возвращается его животный облик или он сам принимает его. Супруг-человек отправляется на поиски, после ряда приключений человеческий облик супругу-тотему возвращается. Для высокого оборотничества характерна четырехсоставная модель превращения: тотемное животное – человек – тотемное животное – человек. Реже встречается и трехсоставная (усеченная) модель: тотемное животное – человек – тотемное животное. Второй вид оборотничества – оборотничество героя, не принадлежащего иному миру. Это оборотничество в сказках бывает двух типов. При первом герой добровольно меняет облик (сам или с помощью другого персонажа) или же героя превращает в животное антагонист. При первом типе герой без труда возвращает себе человеческий облик, а при втором ему требуется помощь другого человека (какогонибудь родственника, чаще всего – супруга (супруги) – будущего или настоящего). При первом типе оборотничества (и при высоком изменении облика) герой, чтобы поменять свой облик, должен совершить какое-либо физическое действие: удариться о землю (т. е. разбить первоначальный облик), перекувыркнуться (изменение положения тела в пространстве, изменение верха и низа, по логике сказки, приводит к изменению внешнего облика). Герой-человек при превращении его другим персонажем в животное или в неодушевленные предметы никогда самостоятельно в традиционной сказке прежний облик не возвращает: ему нужна помощь другого персонажа, способного оборачивать, принадлежащего к другому миру. Для сказок, в которых оборотничество происходит против воли героя, характерна следующая модель превращений: человек – животное (птица) – человек. Чтобы вернуть превращенным героям первоначальный облик, их родственники должны совершить некоторое физическое действие. Но для сказок с этим типом оборотничества возможна и усеченная модель: человек – животное (птица). В этом случае превращение в животное является наказанием антагониста. Для русской народной волшебной сказки характерны следующие способы изменения облика: через удар (о землю, пощечину, кнутом); волшебные капли, кольцо и другие чудесные предметы; съедение части тела животного или выпивание воды из следа животного. Изменение облика и возвращение человеческого обличья в русской народной волшебной сказке может происходить по одной и той же причине: герой съедает ягоды с одного куста, и у него вырастают рога, съедает ягоды с другого куста – рога исчезают. Но облик может изменяться с помощью одного способа и возвращаться с помощью другого. Прежний облик возвращается герою после кувыркания (одного из архаических подтипов оборотничества). Герой (если его образ исторически не восходит к тотему) всегда в начале сказки дан в облике человека. Трансформация человеческого облика героя является одной из составляющих развития сюжета. Человеческий облик героя может меняться следующим образом: дурак может стать богатырем, красавцем (т. е. происходит изменение низкого облика на высокий). В сказке на сюжет Сивко-Бурко1 герой меняет свой облик и удивляется: «Откудова что взелося – стал я могучий, сильный богатырь»2. Меняется не только внешний вид героя, но и его внутренняя сущность: «Ваня залез в лево ухо, вылез в право и сделался богатырем, приобрел все богатырские приемы. Ваня сам удивился – откуда что взялось»3. Сказки с мотивом оборотничества могут быть сгруппированы и таким образом: в первую группу вошли сказки о чудесных супругах, во вторую – сказки о богатырях и героях, получивших чудесные предметы, в третью – сказки о чудесных помощниках, в четвертую – об антагонистах и персонажах, не вошедших в первые три груп74 пы. Сказки каждой из выделенных групп объединяет общая цель, достижению которой способствует оборотничество. Так, в сказках о чудесных супругах жених и невеста вступают в брак и убегают от преследователей. Богатыри используют способность к оборотничеству, чтобы подслушать тайный разговор антагонистов и этим предупредить свою гибель и гибель своих братьев. Герой, получивший чудесный предмет, также спасает своего брата от невольного оборотничества. В третьей группе сказок чудесные помощники благодаря оборотничеству помогают герою добыть невесту и спасают его от смерти. Для четвертой группы сказок характерно соревнование в оборотничестве между героем и антагонистом, которое, как правило, приводит к уничтожению антагониста. Если мотив оборотничества в русских народных волшебных сказках может служить нескольким целям, то для оборотничества вообще характерны следующие модели: 1) возрастное оборотничество: превращение молодого мужчины в старика, старухи – в молодую женщину; 2) принятие облика другого ролевого плана (герой, будь он крестьянский сын или царевич, может принимать облик монаха, мельника, пастуха и др.); 3) изменение сущности: превращение в животное (птицу) или неодушевленный предмет (в цветы, церковь, речку) или окаменение тела. Основные характеристики оборотничества связаны со временем. Так, прослеживается связь со временем суток: днем герой находится в зверином или птичьем обличье, а ночью принимает человеческий облик. Оборотничество связано и с определенным временным (годовым или состоящим из нескольких лет, то есть продолжительным) циклом, который не завершается из-за того, что супруг-человек уничтожил шкурку чудесного супруга. Чудесный супруг улетает в иной мир не в тот же самый миг, как его шкурка уничтожена, а лишь тогда, когда узнает об этом. Оборотничество связано не только со временем, но и с пространством. Так, принятие иного облика происходит тайно, в особом закрытом пространстве. Герой, изначально нашему миру не принадлежащий, связан с ним через звериный (птичий) облик. Как только эта связь нарушается, так сразу же герой перемещается в иное пространство. Для сказок о чудесном супруге и для сказок об антагонистах характерна парность. Так, жених и невеста принимают связанные между собой образы: старика и старухи, монаха и церкви. Морской царь превращается в существо, которое может их уничтожить: если жених и невеста превращаются в уток, то их антагонист становится орлом или ястребом. Колдун принимает образы тех птиц и животных, которые могут уничтожить ученика в образе карася или кольца. В сказке на сюжет Чудесное бегство невеста, спасаясь от преследователей, «ударилась об землю, сделала речку быструю из его <…>, а сама сделалась белой лебедицею и по речке плавала»4. Согласно логике сказки, человеческое тело легко трансформируется в другое состояние – герой принимает облик животного, птицы, рептилии, насекомого. Сказка отмечает, что изменение облика не влияет на сущность героя. Смена облика не приводит и к изменению сознания: человек остается по своей сущности человеком. Герой лишь внешне становится зверем. Человеческое тело с легкостью становится неодушевленным предметом и возвращается к первоначальному облику. Сказка отражает интересную закономерность: целое и часть целого равны (это видно из того, что герой, оборачиваясь, рассыпается многими зернами, а потом из одного зерна снова становится человеком). Мотив добывания одежды или обуви невесты и мотив одежды для свадьбы других героев (или так или иначе связанный с заключением брака) занимают в рус- 75 ской народной волшебной сказке одно из ведущих мест среди мотивов состояний тела героя-человека. В сказке на сюжет Три подземных царства одежда царевен выполняет функцию знака, благодаря которому они понимают, что солдат в городе, а не на том свете. Генералы заставляют царевен сказать царю, что это они их спасли, царь готовит свадьбу. Дочери говорят отцу: «– Што вот што, папаша, ковда оне нас сумели достать, и пускай нам достанут чулки, которые у нас на том свете были»5. В волшебной сказке мотив свадебной одежды и одежды для свадьбы выполняет две основные функции: во-первых, действия, с ними связанные, служат для развития сюжета, во-вторых, является показателем богатства или бедности героев. Состояние тела, которое условно обозначено как «быть обутым и одетым (или стремиться к этому состоянию)», состоит из следующих подтипов: украсть невесту с помощью обуви или одежды героини; получить доступ к невесте; добыть, сшить подвенечное платье; метить жениха или невесту; нарядиться; быть одетым и обутым. Мотив «быть одетым (или стремиться к этому состоянию)» (не связанный с заключением брака) в русских народных волшебных сказках может влиять на развитие сюжета волшебной сказки или быть одним из сопутствующих мотивов, не играющих роли для развития сюжета. В этом случае он является характеристикой героя, показателем его бедности, богатства или улучшения материального благополучия. Этот мотив имеет огромное множество подтипов. Герой получает одежду в результате дарения, продажи, подмены от другого персонажа или если он ее покупает сам. Мотив «быть одетым» в свою очередь распадается на две подгруппы: «быть одетым + признак одежды» и «быть одетым + действие, связанное с одеждой, в которую герой одет». В первом случае мы выделили следующие признаки одежды: «быть одетым», «быть одетым хорошо», «быть одетым лучше, чем прежде», «быть одетым лучше, чем другие, равные прежде», «быть одетым плохо», «быть одетым в подходящую одежду», «быть одетыми одинаково», «быть одетым в теплую или худую одежду», «быть одетым, чтобы скрыть наготу», «быть одетым лишь в эту одежду», «быть одетым по возрасту», «быть одетым в траур», «быть одетым для узнавания». Во втором случае выявлены подтипы: «быть в одежде и выполнить действие, связанное с этой одеждой», «быть одетым и подвергнуться действию» и «подвергнуться действию от другого в одежде». Мотив маскарада в русской народной волшебной сказке имеет следующие особенности. Положительные герои понижают свой социальный статус переодеванием, отрицательные персонажи – повышают (слуга – переодевается в царевича). Маскарад в сказке является основной составляющей смены социального статуса. Маскарад в сказке выполняет следующие основные функции. Он служит для опознавания истинного героя, помогает спрятаться, сохранить тайну своего происхождения (или другого истинного положения вещей) или жизнь. Одним из отличий маскарада от оборотничества можно считать то, что при помощи маскарада изменяется еще и социальный статус героя. Переодевание героя или героини, как правило, выстраивается по следующей модели: обычное состояние – принятие облика низкого социального статуса – определение себя в этом статусе в чужом пространстве и выполнение действий, характерных для высокого статуса (битва со змеем – у героя, презентация себя как красавицы – для героини) – принятие облика высокого социального статуса как доказательство выполнения действий именно героем (или героиней), а не кем-то другим. Одной из особенностей маскарада является его тайность: смена облика героя остается в тайне или о ней знает только один человек, который тайну всегда сохра76 няет – это помогающий добыть одежду другого статуса персонаж или тот персонаж, с которым происходит обмен обликами. Существует прикрепление облика героя к определенному локусу: герой сохраняет тайну своего облика в том пространстве, в котором находится в данный момент, – будь то его родная деревня или чужое государство. Нахождение в пространстве всегда продолжительно: герой там живет. Но если герой находится в пространстве временно (например, переодетая в красивую одежду героиня – в церкви, богатырь – на поле боя), то там он являет свою принадлежность высокому статусу, сохраняя свою анонимность. Героиня сказки на сюжет Свиной чехол убегает из родного дома от отца, решившего жениться на ней. Она меняет облик – надевает свиной чехол: в своем пространстве принимает чужой облик. В чужом облике она приходит в чужое пространство (другой город, другое государство) и нанимается в услужение в богатый дом. Героиня трижды отправляется на бал, изменяя облик с низкого на высокий (надевает чудесные платья, подаренные ей отцом): происходит еще одна смена чужого облика (свиного чехла) для героини на чужой облик (в чудесных платьях) для того пространства, где она сейчас живет. В девушку влюбляется сын хозяина дома, в котором она работает. Герои женятся. Героиня возвращает себе облик, изначально свойственный ей. Налицо взаимосвязь пространства и внешнего облика героини. Герой или героиня и второстепенные персонажи могут с помощью маскарада принимать облик низшего или высшего социального статуса, в сравнении с тем статусом, который они имеют на самом деле. Как правило, герой или героиня с помощью маскарада принимают облик своего пола. Для мотива маскарада характерна следующая черта: переодетого героя в традиционной сказке никогда не узнают в новом облике, его воспринимают как персонаж, чей облик он принял. Мужской маскарад, как и женский, может снижать или повышать социальный статус героя или персонажа. Изменение облика героя (переодевание) может происходить с согласия или против воли героя. Прибегая к маскараду, герои изменяют свой социальный статус или пол. Все окружающие (как правило) не замечают подмены и ведут себя с ними так, как следует вести с представителями принятого при маскараде статуса и пола. Маскарад может быть добровольным или навязанным. При добровольном маскараде герой без труда возвращается к настоящему облику, а при навязанном маскараде он сначала должен выполнить ряд заданий, которые докажут его истинный статус. В сказке на сюжет Три языка обмен героя со слугой статусами спасает герою жизнь. Слуга защищает своего господина от грозящей ему опасности: невеста может уничтожить жениха в первую брачную ночь. Ивашко покупает три кнута – медный, оловянный и серебряный, говорит царевичу в брачную ночь: «– Ну, – говурит, – давай раздевайся, я твою надену одежду. Переобулись. Джэ вошел. Стал драть менным кнутом. Кровь посла. Стали выскакивать мишки, черви <…>»6. Невеста принимает переодетого слугу за своего жениха. Мотивы наготы, обнажения, заголения и потери элемента обуви (туфельки) в большинстве волшебных сказок связаны с брачными мотивами. Обнажение может иметь эротический характер или не иметь его. Героиня обнажается или заголяется по собственной инициативе, по просьбе героя или же по стечению обстоятельств остается без одежды (одежду крадет герой или платье героини ветшает). В сказке с контаминацией сюжетов Животные-зятья, Приметы царевны и Муж ищет исчезнувшую жену царевич обещает отдать героине волшебную скатерть, если она станцует 77 перед ним нагая. «Они были одне, без слуг. Василиса Премудрая разделась и стала танцевать перед ним»7. Героиня может обнажаться только перед одним героем или перед многими мужчинами. Мужское обнажение или заголение для традиционной волшебной сказки не характерно, как и обнажение героини перед представительницами своего пола. Если для оборотничества и маскарада характерна шкала «я – уже не я», то для пряток используется иной принцип – «я есть в этом пространстве – меня как будто нет в этом пространстве». Мотив пряток, включенный в группу мотивов изменения внешнего облика, в русских народных волшебных сказках имеет шесть основных типов. Герои могут прятаться сами или искать спрятавшегося антагониста. Прятки как особое состояние выполняют следующую основную функцию: герой как будто отсутствует в пространстве, в котором он на самом деле есть. Герой может прятаться в освоенном (в доме) или неосвоенном пространстве (в лесу, на берегу озера), а также на другом герое (превращенный в предмет или спрятанный в корзине). Мотив пряток может соединяться с мотивами других состояний тела, связанных с изменением облика: оборотничеством и маскарадом. Если при оборотничестве и маскараде герой изменяет свой настоящий облик (принимая образ животного или птицы или же изменяя свой социальный статус или пол), то в прятках он прячется сам. Мотив пряток в сказках важен для развития сюжета: с их помощью герой получает важную для него информацию, заручается помощью чудесной героини или спасает свою жизнь. В сказке с контаминацией сюжетов Отдай, чего дома не оставил и Чудесное бегство старичок советует Ивану спрятаться у синего озера: «Туда придешь, не кажись. У этого озера ты спрячься в кустики. <…> Погодя прилетит двенадцата колпица. <…>. Потанцует, покушает. Ты сиди. Она будет купаться, унырнет, ты в это время у нее платье украдь и под кустиком сиди. <…> А как скажет: “Будь милый мой…” – тогда спрашивай: “Не врете?” Она скажет: “Царско слово не секется, не рубится”»8. Итак, сказка как норму дает человеческий облик: герои его лишаются (или их облик подвергается трансформации по шкале «статус – пол – нагота – отсутствие в данном локусе») и стремятся самостоятельно восстановить или же им помогают это сделать другие персонажи. Но облик героя может и не возвращаться к исходному (Иван-дурак при помощи коня становится красавцем-богатырем, это состояние окончательно закрепляется за ним в финале сказки). Примечания 1 В статье использована классификация из: Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. – Л. : Наука, 1979. – 437 с. 2 Русские народные сказки Сибири о чудесном коне. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1984. – С. 30. 3 Там же. – С. 91. 4 Русские волшебные сказки Тункинской долины. – Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2001. – С. 146. 5 Русские сказки Восточной Сибири. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985. – С. 204. 6 Там же. – С. 406. 7 Русские сказки Забайкалья. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – С. 108. 8 Там же. – С. 153. 78 С. П. Кушнерук СИНТАКСИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА (ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА) Представлены результаты системы экспериментов, ориентированных на получение формальных показателей синтаксической организации документных текстов. Показаны диапазоны распределительных характеристик, отражающих влияние унифицирующих процессов на синтаксические параметры функциональных групп текстов, входящих в основные классы официально-деловых документов. Ключевые слова: синтаксис, параметрическая оценка, официально-деловой документ. Когда большинство исследователей современного русского языка говорит о синтаксических особенностях объектов, имеющих признаки документных текстов, они солидарно отмечают качества, хорошо знакомые всем, кто изучал такие тексты, либо занимался специальной коммуникативной практикой. В том числе, речь идет о разнообразии синтаксических решений, о сложности и различиях используемых средств связи1; о наличии структуры микротекстов, имеющих собственную сложную организацию2; о физической и комбинаторной сложности синтаксических конструкций, реализуемых в документных текстах3; о громоздкости коммуникативных единиц и об их значительных линейных размерах4. Очевидность этих особенностей, приятие их как впечатлений совершенно недостаточны в той ситуации, когда мы обращаемся к оценке функциональной структуры документных текстов. Возникает вопрос о том, в какой степени вышеприведенные априорные качества проявляются в реальных текстах различных документных групп. В какой степени синтаксически однородны тексты документов при их рассмотрении с точки зрения типологической однородности коммуникативных задач? Влияют ли унифицирующие и стандартизирующие правила создания и функционирования документов на синтаксические параметры их текстов? Классификация предложений по составу, несмотря на многообразие толкований термина «предложение», в российской лингвистической науке имеет довольно последовательный характер. Заметим, что композиционные и синтаксические параметры документных текстов находятся в некоторой зависимости от формальных правил документирования и коммуникативных условий, действие этих правил исключено при создании недокументных, художественных, например, текстов. Различия синтаксических параметров, интервал их колебаний находятся в заметной зависимости от унифицирующих правил, которые предлагают так называемые документные формуляры – своеобразные «лекала» документных текстов. Это обстоятельство способствует сужению вариантности синтаксических решений в документных текстах. С другой стороны, отметим необходимость поддержки на синтаксическом уровне таких качеств, как точность и определенность документного изложения, что предполагает реализацию синтаксических конструкций с большим количеством уточнителей, конкретизаторов, определителей – линейных расширителей текста. Образуются предложения с различным уровнем сложности, объединяемые в основные классификационные группы: простые предложения (ПрП), союзные предложения (СоП), бессоюзные предложения (БсП). 79 Оттолкнувшись от противоречий, которые часто проявляются в практике создания и редактирования документных текстов5, выдвинем гипотезу, включающую два положения. Во-первых, одновременное действие языковых правил и правил создания и функционирования документных объектов порождают основания для предположения о действии реализационного закона, который обеспечивает относительно высокую устойчивость показателя, характеризующего пропорции реализации синтаксических типов в различных видах исследуемых текстов. Во-вторых, различия параметров, которые характеризуют распределения разных видов предложений в текстах функциональных подгрупп документов, могут иметь принципиальный характер. Проявление синтаксической неоднородности документных текстов характеризует внутристилевые различия, что позволяет строить систему функционально-видовой классификации объектов на лингвистических основаниях. Постановка этой задачи лежит в основном русле развития документной лингвистики, теоретического и практического направления современного языкознания. В результате первичной обработки экспериментальных данных получены значения средних выборочных частот, которые могут представлять самостоятельный интерес как система данных. Однако в большей степени они ценны в качестве представительного материала для формальной обработки. Исходные положения лингвостатистики показывают, что достаточная надежность эксперимента может быть обеспечена при выборах, объемы которых составляют 500 предложений. Степень синтаксической устойчивости и однородности документных текстов с точки зрения реализуемости в них основных видов предложений проявляется в значениях параметра χ². Этот параметр рассчитывается по стандартной формуле, широко применяемой в теоретических, типологических и сравнительных лингвистических исследованиях. Особенности применения этого инструмента хорошо описаны6. Средние значения встречаемости предложений, различающихся по основным составным признакам, представлены в Таблице 1. Фоном ячеек выделены экстремальные значения средних частот (минимальные – темный фон; максимальные – средний тон заливки), оказывающие наибольшее воздействие на расчетные значения коэффициента χ². Таблица 1 Предложения документных текстов, различающиеся по составу: средние частоты встречаемости (абсолютные частоты; объемы выборок – 500 предложений) Функциональные группы Средние значения частот Ui текстов ПрП СоП БсП Тексты деловых писем Тексты организационнораспорядительных документов Тексты договорных документов Тексты учредительных документов Научные тексты (управление) Научные тексты (лингвистика) Технические тексты (радиотехника) Обобщенный средний показатель по каждому виду предложений (Ũi) 80 327,1 366,3 149,2 95,5 23,7 38,1 397,1 326.1 267,2 202,6 285,0 76,8 105,6 155,2 207,4 186,8 26,0 67,2 77,5 89,9 28,1 310,2 139,5 50,1 Таблица 2 Уровень синтаксической однородности документных текстов Виды предложений по составу ПрП СоП БсП Значения параметра χ² для всего ряда Ui. 81,36 99,8 89,47 Степеней свободы (df) – 6; критическое значение χ² = 12,59 Значения параметра χ² при исключенных экстремальных значениях Ui. 18,63 39,89 46,53 Степеней свободы (df) – 4; критическое значение χ² = 9,49 Анализ значений коэффициента χ², представленных в Таблице 2, показывает, что в исследованных видах текстов русского языка отсутствует однородность реализации основных синтаксических типов предложений. Максимальная неоднородность значений отмечается для союзных предложений. Минимальная неоднородность характерна для простых предложений, однако и в этом случае расхождения между значениями параметра существенно более высокие, чем те, которые можно было бы ожидать от действия сложного механизма, предусматривающего вероятностную устойчивость реализации синтаксических моделей. Неоднородности синтаксической организации исследуемых текстов обнаруживают интересную закономерность. Наибольший возмущающий эффект, проявляющийся в синтаксической неоднородности текстов, вносят экспериментальные материалы, которые являются своеобразными функционально-коммуникативными «условиями-полюсами» текстовых решений. С одной стороны, это материалы текстов договорных документов, в отношении которых максимально реализуются унифицирующие правила, сформулированные в сфере теории и практики документоведения. Противостоят им ускользающие от постоянного воздействия внеязыковых влияний тексты деловых писем. Можно предположить, что уровень синтаксической вариантности формализованных документных объектов, степени их видового своеобразия влияют на формирование оснований для выделения и структурной оценки таких особых объектов, как тексты-документные формулы. В текстах-документных формулах проявляется действие синтаксических моделей, представляющих текстовые фрагменты различного уровня сложности: от нетерминологического устойчивого сочетания в составе предложения (документное клише) до микротекста, который образует функциональный раздел документного текста. Устойчивые примеры микротекстов-формул представляют собой, например, разделы контрактных текстов. Например, переходящий без изменений из текста в текст раздел «Форс-мажорные обстоятельства». Степень высокой синтаксической неоднородности документных текстов подтверждается развитием эксперимента, в процессе которого коэффициент χ² был рассчитан для данных с исключением параметров Таблицы 1, имеющих экстремальные (минимальные и максимальные) значения. Ограниченная система значений χ² представлена в предпоследней строке Таблицы 2. 81 Значения χ², полученные на ограниченной группе средних частот, превышают критические, установленные теорией распределений (условия определяются значениями параметров df и χ² в последней строке Таблицы 2). Этот факт принципиален при вероятностно-статистической оценке количественных данных: даже после исключения возмущающих параметров однородность системы не подтверждается. Но в исследуемой ситуации важны два обстоятельства. Во-первых, при ограничении экспериментального спектра сохраняется синтаксическая неоднородность документных текстов, остающихся в экспериментальном массиве. Во-вторых, очевидны различия возмущающего воздействия со стороны отдельной функционально-видовой группы текстов – отметим существенное уменьшение соответствующих значений коэффициента χ² после исключения экстремальных значений средних частот. На первый взгляд, экстремальные характеристики отражают синтаксические особенности текстов, которые входят в документы различных функциональнокоммуникативных областей. Однако анализ экспериментальных данных показывает, что максимальные значения уровня синтаксической неоднородности обусловлены либо параметрами текстов, которые подвергаются самому активному воздействию формальных механизмов, либо особенностями текстов с наиболее свободными правилами их формирования. К первой группе относятся, например, тексты договорных документов. Мы имеем дело с текстами-формулами, в которых под влиянием правил, исходящих из коммуникативной прагматики и внешних условий функционирования, задано и закреплено собственное распределение единиц синтаксического уровня. Вторую группу образуют тексты официально-деловых писем с их высокой внутривидовой вариантностью, относительно слабыми ограничениями в выборе и в синтаксической организации лексико-фразеологических единиц. Кстати, в отличие от синтаксиса, для композиционных параметров писем действия ограничивающих правил проявляются более жестко и последовательно. Уже в этих ситуациях проявляются различия лингвистической технологии, связанной с созданием и оценкой текстов документной коммуникации. Параметры реализации синтаксических единиц, входящих в научнотехнические тексты, характеризуются наибольшим своеобразием. Перераспределение долей синтаксических единиц этих текстов свидетельствует о действии собственных механизмов, при создании текстов также действует сочетание лингвистических законов построения и правил формального характера, опирающихся на унифицирующие основания. Исследование этих особенностей научно-технических текстов требует расширения эмпирической базы исследования. Однако эксперимент позволяет предположить, что рост активности сложных предложений всех видов в большинстве текстов научной коммуникации связан с целенаправленным созданием информационной избыточности текстов. Избыточности, обеспечивающей точность, объектную определенность, поясняющие возможности. Речевая реализация доказательности, обязательной для научного текста, связана с комплексной развернутой аргументацией, формы ее воплощения порождают синтаксические осложнения, которые реализуются в различных структурных формах. Например, по мнению специалистов, возрастает доля распространенных простых предложений, осложненных обособленными и необособленными конструкциями, «простых предложений усложненной структуры»7. Хотя состав компонентов, структура и вербальная реализация документных реквизитов максимально унифицированы, тенденция к реализации усложненных синтаксических моделей оказывает влияние на размерные характеристики документных текстов. Попутно заметим, что уровень синтаксической сложности текста влияет на его восприятие и коммуникативную эффективность8. Увеличение сложности синтак82 сических конструкций (при этом, соответственно, снижаются темповые параметры документного текста) ведет к снижению уровня информационного ожидания. Одновременно увеличивается время на осознание содержания прочитанного текстового фрагмента; предполагается, что при этом оптимизируется аргументационные основания и достоверность информационного прогнозирования в отношении содержания последующих текстовых фрагментов (словосочетаний и целых предложений). Проведенный нами анализ процессов восприятия документных текстов позволяет высказать следующее соображение: тексты любых видов документов, построенные на основе коротких завершенных синтаксических конструкций, часто воспринимаются коммуникантами как поверхностные, недостаточно аргументированные, не отражающие в полной мере принципиальные свойства документируемого события. Текст воспринимается как фрагментированный, создается впечатление искусственной парцелляции, фрагментарности обоснований при изложении документного содержания. Ниже представлены фрагменты текстов, использованные в качестве экспериментального материала9. Текст 1. Объяснительная записка Опоздание на работу произошло из-за моего присутствия на судебном заседании. О его сроках и времени проведения я заранее не знал. Меня вызвали повесткой. Эту повестку принесли рано утром Позвонить я не смог. У нас дома нет телефона. Мобильный у меня украли. Текст 2. Устав организации Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимость долей всех участников Общества в Уставном капитале Общества и(или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала станет меньше минимального размера Уставного капитала, установленного законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества. Исследование коротких документных текстов с высокой степенью унифицированности (тексты распорядительных и организационных документов)10 показало, что синтаксическое варьирование инициальных частей текстовых фрагментов имеет ограниченный характер из-за действия правил, основанных на требованиях государственного стандарта. Ограничения касаются вариантности инициальных формул, объемов и составов синтаксических парадигм регулируемых текстовых фрагментов. Ограничения в вариантности определяются содержательными задачами этих фрагментов, каждое из предусмотренных парадигмой решений служит функциональнологическими маркером микротекста11. Примеры маркирования содержания текстовых фрагментов выделены в тексте полужирным шрифтом: Уважаемый Николай Васильевич! Просим Вас рассмотреть возможность заключения договора о партнерских отношениях, содержательные аспекты которого оговаривались нами во время Регионального семинара по экономическому развитию. Предлагаем Вам расширенный спектр услуг, которые оказывает наша фирма (список прилагается). Будем признательны за Ваш ответ с конструктивными предложениями по реализации достигнутых соглашений. С уважением, Генеральный директор С. Т. Захаров 83 Проведенный эксперимент позволяет сделать ряд выводов. 1. Исследование синтаксических параметров документных текстов позволяет увидеть существенные статистические расхождения в реализации простых и сложных предложений. При относительно высокой насыщенности текстов сложными предложениями их общие распределительные характеристики обладают устойчивостью, которая позволяет разработать интралингвистическую классификацию документных текстов в рамках документной лингвистики. 2. Понимая синтаксическую устойчивость документных текстов как статистическую стабильность долей представленных в текстах типов предложений, отметим наличие распределительных признаков, которые свидетельствуют об отсутствии статистической устойчивости; множество текстов, входящих в основные документные группы, разбивается на однородные подгруппы, формирующие подстили со сходными синтаксическими признаками. 3. Действие языковых правил и одновременно реализуемых в разной степени формальных ограничений при построении документных текстов имеют следствием не только ограничение лексико-фразеологического состава, но и проявляются на синтаксическом уровне. Для документов с высоким уровнем стандартизации (например, для контрактов, договоров) можно говорить о непрямой корреляционной зависимости между степенью применения стандартизирующих правил и уровнем синтаксической однородности текстов. Также, характером сочетания языковых и формальных условий построения текстов определяются относительные доли и синтаксический вид конструкций, которые имеют статус документного клише или документной формулы. Примечания 1 См.: Введенская, Л. А. Русский язык : культура речи, текст, функциональные стили, редактирование / Л. А. Введенская, А. М. Пономарева. – М. ; Ростов н/Д., 2005. 2 См.: Культура устной и письменной речи делового человека / сост. Н. С. Водина и др. – М., 1997. – С. 95; Кушнерук, С. П. Лингвистика документной коммуникации : теоретические аспекты / С. П. Кушнерук. – Волгоград, 2007. – С. 159–169; Филиппов, К. А. Лингвистика текста : курс лекций / К. А. Филиппов. – СПб., 2003. – С. 133–134, 155–176. 3 См.: Гайда, С. Проблемы жанра / С. Гайда // Функциональная стилистика : теория стилей и их языковая реализация : межвуз. сб. науч. тр. – Пермь, 1986. – С. 22–28; Ларьков, Н. С. Документоведение / Н. С. Ларьков. – М., 2006. – С. 241–245. 4 См.: Сиротинина, О. Б. Характеристики типов речевой культуры в сфере действия литературного языка / О. Б. Сиротинина // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов, 2003. – С. 3–20. 5 См.: Кушнерук, С. П. Документная лингвистика / С. П. Кушнерук. – Волгоград, 2007. – С. 120–193. 6 См.: Галяшина, Е. И. Основы судебного речеведения. – М., 2003; Головин, Б. Н. Язык и статистика. – М., 1971; Журавлев, А. Ф. Лексико-статистическое моделирование системы славянского языкового родства. – М., 1994; Кендэл, М. Дж. Теория статистики. – М., 1960; Корж, В. В. Методы кодирования текстовой информации для построения нейросетевых классификаторов документов : дис. … канд. техн. наук. – М., 2000; Levy, C. M. Statmaster for business and economics. – Illinois, Boston, London, 1988; Pierce, Ch. The simplest mathematics C.S.P. Call. – Pape 4. – Cambrige ; Mass., 1933. 84 7 См.: Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. /под. ред. В. А. Алексеева, К. А. Роговой. – М., 1982. – С. 47. 8 См.: Chabris, C. The mind is not a camera, the brain is not a VCR : some psychological guidelines for designing charts and graphs / C. Chabris, S. M. Kosslyn // Aldus magazine. – 1993. – September – October. – p. 33–36. 9 Эксперимент проведен в рамках семинарского занятия по курсу «Документная лингвистика», раздел «Языковые уровни и параметры документного текста». 10 См.: ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. – М., 2003. 11 См.: Кушнерук, C. П. Документная лингвистика / С. П. Кушнерук. – Волгоград, 2007; Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л. В. Рахманин. – М., 1997. – С. 177–182. О. И. Лепилкина ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПРЕССА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА Статья представляет типологические характеристики, специфику информационной картины мира и художественные особенности провинциальной сатирической прессы, получившей широкое распространение в период первой русской революции. Типоформирующим для сатирических изданий стало их целевое назначение, обусловившее остальные типологические признаки и особенности существования в подцензурных условиях. Ключевые слова: информационная картина мира, сатирическая провинциальная пресса, первая русская революция. Русская провинциальная пресса, несмотря на появление в последнее время целого ряда интересных работ по истории отечественной журналистики, в том числе учебных изданий, до сих пор остается наименее изученной. В равной степени это относится и к сатирическим изданиям, которые возникли как новый компонент системы провинциальной печати в период первой русской революции. Сам факт активного развития в то время в России сатирических журналов зафиксирован всеми историками отечественной печати начала XX века (Е. В. Ахмадулиным, А. Ф. Бережным, Б. И. Есиным, С. Я. Махониной, Р. П. Овсепяном, С. В. Смирновым и др.). Вместе с тем незаслуженно остается в тени большинство сатирических изданий, возникших в тот период в провинциальных городах. Так, С. Я. Махонина в серьезном исследовании «История русской журналистики начала XX века», констатируя наличие большого отряда сатирических еженедельников, ограничивается примерами столичных изданий, действительно послуживших эталоном для их последователей в годы первой русской революции, и в связи с талантливейшим русским юмористом А. Аверченко упоминает харьковские журналы «Штык» и «Меч»1. Стабильный интерес журналистской науки к типологическим изысканиям, которые, по мысли авторитетного теоретика и историка журналистики Б. И. Есина, «всегда требуют большого сравнительного материала, в том числе и историческо85 го»2, тоже делает актуальным обращение к большому пласту слабо изученной провинциальной сатирической прессы начала XX века. Ее возникновение в регионах в период первой русской революции было связано с изменением социально-политических условий существования журналистики. Информационная картина мира, «мира, считающегося, – по мысли ставропольского фельетониста И. Д. Сургучева (Феникса), – только с двумя наименованиями: “раб” и “господин”», не могла в то революционное время не претерпеть изменений. Актуальным стало членение на «своих» и «чужих», в связи с чем характерным явлением стало повсеместное развитие сатирических изданий, что вполне вписывается в трактовку комического в русской культуре как конструирования антимира3. До 1 января 1907 года по предварительным подсчетам историков печати в целом по стране вышло около трехсот сатирических изданий4. Сохранились воспоминания об интересе к сатирической прессе в провинции. Так, в одном из номеров журнала «Северо-Кавказский коллекционер» за 1930 год П. Горцев рассказывал: «Между прочим, я довольно хорошо помню газетчика, торговавшего сатирическими журналами у нас в Ростове в 1905 г. у окна булочной Филиппова (около Московской гостиницы). Вся решетка снаружи окна была усеяна различными пестрыми журналами, которые я успешно скупал в то время»5. Хотя в столицах сатирическая пресса стала возникать еще в 1905 году, в провинциальных центрах массовое появление сатирической прессы пришлось на 1906 год. Как правило, это были первые для своей местности, но не единичные издания подобного типа. В Томске возник «первый в Сибири литературно-сатирический листок» «Осы», а помимо этого появились сатирические издания «Бубенцы» (как приложение к газете «Сибирские отголоски»), «Бич», «Ерш», «Красный смех», «Рабочий юморист», «Негативы», «Силуэты Томска», «Силуэты Сибири». В Иркутске издавались «Овод» (1906), «Паут» (вначале выходивший как отдел газеты «Сибирская почта») (1906), «Жало» (1906), в Ярославле – «Ярославская колотушка» (1906–1908), «Ярославский колокол» (1906–1907), в Калуге – «Калужская жизнь» (1907), «Калужский щелчок» (1907–1909), «Калужское тесто» (1907), в Астрахани – «Чилим» (1906), «Смех сквозь слезы» (1906–1907), в Саратове – «Карандаш» (1906), «Жгут» (1906–1907), «Щелкунчик» (1907) и т. д. Еще одной особенностью сатирической прессы в регионах стало ее развитие на национальных языках. Так, в 1906 году в Оренбурге появились журналы «Чикертка» («Кузнечик») (часть материалов печаталась на русском языке), «Уклар» («Стрелы»), «Карчыга» («Ястреб»), «Чукеш» («Молот»), в Тифлисе – «Молла Насреддин», «Комар», «Кукареку», в Киеве – «Шершень» и т. д. Сатирические журналы чаще всего выходили объемом 8–12 полос и форматом чуть больше (на 3–6 см) современного А-4. Однако в зависимости от технических возможностей местной типографии формат мог варьироваться. Большинство из изданий сатирической прессы в провинции позиционировало себя как журналы общественной сатиры и соответствовало общей направленности сатирической журналистики того времени, по поводу которой В. Г. Короленко в статье «Петербург смеется» писал: «Сатира вся сплошь превратилась в политическую»6. В то же время вывод одного из обозревателей той поры, сделанный на основе анализа столичных сатирических изданий «Сигнал», «Зритель», «Пулемет» и др., что «партийные симпатии большинства рассмотренных сатирических журналов едва ли поддаются сколько-нибудь точному определению»7, в полной мере приложим и к провинциальным изданиям. Они, как правило, выражали политические настроения широких демократических слоев населения. 86 Именно специфика целевого назначения – служить способом формирования и отражением общественного мнения о социальной и политической ситуации в стране – стала ведущим типоформирующим признаком для сатирической прессы в регионах, обусловившим другие ее типологические характеристики. Решая одни и те же общественно-политические задачи, провинциальные сатирические еженедельники обладали сходной внутренней структурой. На титульном листе, как правило, располагалась заголовочная часть, украшенная изображением, соответствующим названию издания, и снабженная в подзаголовке подходящим девизом. Здесь же обычно приводились сведения о редакции и расценки на журнал и рекламу. Оставшуюся часть полосы занимали карикатура на злобу дня, рисунки плакатного характера или текстовые материалы большого объема. У последней полосы тоже была постоянная модель: верхняя часть занята карикатурой, нижняя – объявлениями (чаще всего сатирическими), в «подвале» указаны фамилия редактораиздателя и сведения о типографии. Одной из важных характеристик внутренней структуры журналов являлось наличие постоянных текстовых рубрик, которые порой повторяли обычные газетные («Телеграммы (нашего провокационного агентства, беспроволочного телеграфа и т. д.)», «Местная хроника», «Фельетон», «Герои дня» и т. д.). Оформление местных сатирических изданий зависело от креативности и художественных способностей сотрудников. Карикатуры (по 5–6 и более в каждом номере) имели чаще всего не иллюстрационное, а самостоятельное значение, однако вписывались в общую концепцию издания «общественной сатиры» и в контекст развития сатирической графики в тот период. Первый номер ставропольского журнала «Бомба», например, открывался карикатурой, в которой по усеянному трупами полю шествовал российский император, узнаваемый по короне на голове. Характерным элементом оформления были разного рода виньетки, служившие и визуальному членению материалов на полосе, и внесению дополнительной семантической нагрузки. Популярными были изображения черта, скелета, черепа. Аркадий Аверченко в связи с этим писал: «Теперь редакторов хлебом не корми – дай им только череп…»8. О составе редакций местных сатирических журналов говорить сложно, поскольку и текстовые, и графические материалы подписывались псевдонимами или инициалами. Популярными были Бомбист, Инкогнито, Миг, Пуля, встречавшиеся во многих сатирических изданиях. Семантика избираемых псевдонимов, в основном, была прозрачна. Например, Фланера, фигурировавшего в нескольких журналах, очевидно, можно интерпретировать как беспристрастного наблюдателя, Абрека – как человека, давшего зарок довести до конца какое-то дело, и т. д. В некоторых изданиях были псевдонимы с региональной спецификой. К примеру, Чапруша – псевдоним автора сатирических текстов в ставропольском журнале «Бомба» – этимологически связан со словом «чапра», что на южном наречии означает дробь для заряда ружья, виноградные выжимки. Большинство псевдонимов, как правило, ранее в периодике не фигурировало, что может быть косвенным признаком появления новых сил в местной журналистике. Продуктивными для решения сатирических задач были формы сказки, рекламного объявления, шарады, загадки, арифметической задачи, энциклопедического словаря, театральной программы и др. Из малых сатирических форм популярными были телеграммы («Таганрог. Вода из Азовского моря из боязни дальнейших репрессий бежала в Керчь»9) и диалоги («Дяденька, дозволь на виселицу взглянуть? В целую жисть не видал. – Ну, ну, проваливай, очки-то не втирай: ты что, из русских 87 али французов? – Вестимо, из русских. – Из русских, так и разговаривать нечего: проваливай»10). Среди сатирических изданий в провинции в тот период доминировали еженедельные журналы с карикатурами, хотя известен и единичный факт использования газетного формата: 18 июня 1906 г. вышел первый (возможно, единственный) номер «еженедельной сатиро-юмористической иллюстрированной газеты» «Одесситка». Выбор еженедельной периодичности был неслучайным, поскольку именно эта форма позволяла редакциям оперативно откликаться на актуальные события, создавая сатирические обобщения на злобу дня. Интерес к карикатуре обосновывался журналистами начала XX века тем, что «карикатура есть наилучший способ представить конкретно какую угодно отвлеченную идею и внушить ее толпе, недоступной отвлеченностям. Она дает понять глазам образ того, идею чего ум едва ли уразумел бы без этой наглядности»11. Карикатура была классическим средством создания образа «Чужого», способом с помощью гиперболизации передать авторское отношение к идеям и ценностям, не разделяемым им. Воплощение в сатирической печати полярности социума приводило к доминированию оппозиции «свет – тьма», восходившей к противопоставленности добра и зла и находившей дальнейшую реализацию в оппозиции «свобода – рабство». Показателен факт, что в одном из номеров красноярского журнала «Фонарь» на последней полосе (абсолютно чистой) редактор-издатель Ф. Филимонов чернилами написал стихотворение «Свобода», где утверждал: «И кто хоть раз вдохнул ее благоуханье, // Тот не вернется к рабству и цепям»12. Подобные тексты встречаются во многих провинциальных изданиях. Конструирование на страницах местной сатирической прессы полярного мира вело к появлению фигуры, антагонистической бюрократическому режиму, – народа, который представал чаще всего в двух ипостасях – страдальца и героического борца. Например, в томском журнале «Осы» было опубликовано стихотворение «Голод», где характерным было противопоставление «мы» и «они»: «Из сумрачной дали, из глубины отчизны, // Из бедных деревень, с заброшенных полей, // Для мщенья страшного, для долгожданной тризны // Идет, идет он к вам все ближе, все смелей. // <…> Навеки, без возврата // Сгорит ваш подлый мир насилья и разврата…»13. Противостояние находило отражение и в графике журналов. Известно, что советский карикатурист Борис Ефимов выделял три вида карикатуры как средства отражения действительности: сатирическую (оружие в политической борьбе), развлекательную и гневно-трагическую14. Если принять этот подход, то следует признать, что сатирической прессе периода первой русской революции были свойственны первая и последняя, как наиболее полно реализующие идейные установки демократической журналистики того периода. Внимание журналистов-сатириков было приковано, в первую очередь, к столичным событиям, но в журналах находили сатирическое отражение и региональные конфликты и явления. Издания обращались к теме выборов в Государственную Думу, взаимоотношений журналистики и власти, порядков в местных гимназиях и т. д. По своей направленности местная сатира представляла собой «сатиру на лица», свойственную, как правило, эпохам политических потрясений. Приоритетность общественно-политической тематики диктовала выбор объектов сатирического обличения, каковыми становились высшие государственные чиновники, известные на всю страну аферисты, отдельные политические партии и политики, в том числе местные, и реакционная пресса. 88 Популярными фигурами для сатирического осмеяния у провинциальных журналистов были бывший премьер-министр, граф С. Ю. Витте, прежде всего как автор ряда важнейших законопроектов той поры, и петербургский генерал-губернатор Трепов, отдавший войскам в октябре 1905 года печально знаменитый приказ: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть!» В одном из сатирических текстов воспроизводился диалог между просящими милостыню и почтенной публикой: «Подайте Витте ради! Подайте хоть кусочек свободы, 100 лет не видали. Подайте манифеста ради. Подайте, батюшка, матушка!» – «Трепов подаст…»15. В другом издании в сатирическом тексте «Символ веры» помещен пункт: «Верую в бывшего народа отца Трепова мертвеца: в его державную плеть и в милое “патронов не жалеть”»16. Часто олицетворением зла в современной России для журналистов в регионах являлся премьер-министр П. А. Столыпин, называемый «военно-полевым врачом». Сатирики давали следующую оценку результатам его политики: «Вместо мира – военно-полевые суды, вместо порядка – анархия, вместо “Конституции” – вавилонское столпотворение»17. Текстовая сатира получала подкрепление в визуальном ряде. В том же номере в карикатуре «Российская конституция гр. Витте, исправленная и дополненная Столыпиным» конституция была изображена в виде большой фиги, поддерживаемой штыками, пушками и окруженной виселицами. Постоянные объекты сатиры в провинциальной сатирической прессе – «Союз 17 октября» и «Союз русского народа», причем журналисты зачастую стремились к конкретике и называли имена своих сограждан, ставших для них олицетворением черносотенного движения. Иногда выпуск полностью был посвящен погромной деятельности «истинно русских людей» против инородцев, «скубентов», «тентелигенции»18. Карикатуры и сатирические тексты создавали объемный образ этого деструктивного явления современности. Названия журналов были прозрачной аллюзией для читательской аудитории. Так, слово «чилим», использованное в названии сатирического журнала в Астрахани, по данным словаря В. И. Даля, являлось в XIX веке прозвищем астраханцев19, а название «Самарский горчишник» было связано с местной традицией называть подобным образом хулиганов, оборванцев (в пользу этого утверждения свидетельствует и выбор названия для журнала, появившегося чуть позднее, в 1908 году, – «Хулиган»). В провинциальной сатирической прессе были популярны редакционные статьи, обосновывающие выбор названия и его соответствие программе издания. Создатели саратовского «Жгута», к примеру, объясняли: «Пока слабейший не наберется достаточно смелости и не начнет хлестать жгутом сильнейшего, никакое движение вперед немыслимо», и приводили исторические примеры, когда многочисленные народные бунты заставляли монархов даровать свободы. В связи с этим сатирики обозначили свою критическую нацеленность на современную «обнаглевшую реакцию»20. Сатирические журналы в провинции создавались с опорой на фоновые знания нюансов столичной и местной общественно-политической жизни. Так, формулировка в ставропольском журнале «Бомба», что при губернаторе Вельяминове «либеральничать можно было, но в меру, точно определенную кровопусканием 7 июня», отсылает читателей к трагедии, разыгравшейся в Ставрополе 7 июня 1905 года. В тот день состоялся религиозный диспут между миссионером Святейшего синода отцом Ксенофонтом Крючковым и старейшиной ставропольских молокан Ларионовым в церкви при большом стечении народа. Обе стороны не удержались от резких выпадов в адрес друг друга. В толпе стали звучать угрозы в адрес молокан. Церковь удалось освободить, но толпа не расходилась в ожидании их выхода. Она становилась все агрессивнее и около 22 часов двинулась на приступ церкви. Началась беспорядочная стрельба. В ходе столкновения было убито 15 и ранено около 70 89 человек21. Хотя, согласно архивным документам, губернатор А. Н. Вельяминов пытался успокоить толпу, но в общественном сознании его деятельность получила негативную оценку, чему свидетельство публикация в «Бомбе». Нарицательными в тогдашней сатирической прессе стали имена Лидваля и Гурко – участников громкой финансовой аферы. Известно, что министерство внутренних дел поставило вопрос о выделении денег для закупки 10 миллионов пудов зерна для голодающих. Товарищ министра В. И. Гурко, минуя этап конкурса для определения наиболее выгодных условий, распорядился выдать подряд на поставку хлеба и аванс в 800 тысяч рублей Э. Л. Лидвалю, известному в России поставщику усовершенствованных ватерклозетов и совладельцу игорных заведений с шансонетками в нескольких городах страны. Хлебом Лидваль никогда не торговал и договора не выполнил. Пресса писала, что соответствующую сумму получил и Гурко. Без знания всех этих деталей трудно понять смысл карикатуры в саратовском журнале «Жгут», где в клозет, на котором надпись «Лидвалю», высыпаются монеты из бумажного мешка с надписью «Задаток 800000 руб.». В целом, характерными признаками провинциальных сатирических журналов стало обильное использование прецедентных феноменов: прецедентных имен и ситуаций, прецедентных высказываний, в том числе стихотворных и прозаических цитат, названий художественных произведений, строк из известных песен, пословиц и поговорок, крылатых выражений, фразеологизмов. Создавая мир антиидеального, журналисты широко и талантливо использовали прием, который В. Я. Пропп называл травестией, подразумевая под этим использование готовой литературной формы в иных целях, чем те, которые имел в виду автор. Они включали литературные реминисценции в качестве сознательного приема, рассчитанного на память и ассоциативное восприятие читателя. С этой целью провинциальные сатирики обращались к творчеству А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Фета, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова и др. Карикатуристы активно использовали сказочные, былинные, басенные сюжеты, библейские мотивы и пр., создавали ассоциации с известными живописными полотнами и т. д. Так, например, карикатура «Кандидат в министры» в ставропольском журнале «Бомба», на наш взгляд, сохраняет ассоциацию с фольклорным образом осла как персонифицированной глупости, хотя в то же время для подготовленного читателя был очевиден еще один подтекст, связанный со знаменитой политической карикатурой И. Я. Билибина в петербургском журнале «Жупел», где он нарисовал осла в широко известной рамке портрета Николая II. Прецедентные феномены, включенные в художественное целое журналов, позволяли их создателям конструировать сатирическую картину современного мира и усиливать прагматический потенциал изданий, нацеленных на формирование общественного мнения по актуальным проблемам российской и местной жизни. Активно декларируемая общественная позиция обусловила еще одну характеристику сатирической прессы того периода – ее кратковременность, что было связано со спецификой цензурных условий ее существования. Широко известны стихи о положении сатирической печати, опубликованные в журнале «Бурелом»: «Нельзя писать о бюрократе, // Об офицерстве, о солдате, // О забастовке, о движеньи, // О духовенстве, о броженьи, // О мужике, о министерстве, // О казни, о казачьем зверстве, // О полицейских, об арестах, // О грабежах, о манифестах, // Но остальное все печать // Должна сурово обличать. // Когда ж напишешь – посмотри // “128” и “103”22»23. Об этом же многократно писали сатирики в провинции. В научной литературе восстановлена цензурная история некоторых провинциальных сатирических изданий. Так, Е. В. Ахмадулин привел архивные данные о переписке таган90 рогских властей с департаментом полиции, из которой следует, что «юмористический журнал “Саламандра” первое время осмеивал распоряжения таганрогского генералгубернатора и таганрогской полиции, но получил предупреждение и в настоящее время существование прекратил»24. И такие случаи были массовыми. Таким образом, провинциальная сатирическая пресса в России, возникшая в период первой русской революции, обладала рядом общих признаков. Типоформирующим стало целевое назначение сатирических изданий, их направленность на формирование общественного мнения по актуальным вопросам политической ситуации в России. Общими тенденциями стали широкое использование фольклорных традиций, прецедентных текстов, малых жанровых форм сатиры. Примечания 1 Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века / С. Я. Махонина. – М., 2002. – С. 191–192. 2 Есин, Б. И. Ещё раз о типологии / Б. И. Есин // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. Журналистика. – 2005. – № 6. – С. 67. 3 См.: Лихачев, Д. С. Смех в Древней Руси / Д. С. Лихачев. – Л., 1984. 4 См.: Спиридонова, Л. А. Русская сатирическая литература начала XX века / Л. А. Спиридонова. – М., 1977. – С. 19. 5 Горцев, П. Сатирические журналы 1905–1906 гг. / П. Горцев // Сев.-Кавказ. коллекционер. – 1930. – № 12. 6 Короленко, В. Г. Петербург смеется / В. Г. Короленко // Полтавщина. – 1906. – № 1. 7 Кранихфельд, В. О русской сатирической журналистике / В. Кранихфельд // Мир божий. – 1905. – № 12. Отд. II. – С. 118–119. 8 Штык. – Харьков, 1907. – № 9. 9 Фаланга. – Ростов н/Д., 1906. – № 19. 10 Бубенцы. – Томск, 1906. – № 30. 11 Новое время. – 1900. – 10 февраля. 12 Фонарь. – Красноярск, 1906. – № 8. 13 Осы. – Томск, 1906. – № 10. 14 См.: Ефимов, Б. Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил / Б. Ефимов. – М., 2000. 15 Крутогорский ерш. – Вятка, 1906. – № 8. 16 Брызги. – Владивосток, 1906. – № 5. 17 Бомба. – Ставрополь, 1906. – № 2. 18 См.: Голос правды. – Саратов, 1906. 19 Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. Р – V / В. И. Даль. – М., 1982. – С. 604. 20 Жгут. – Саратов, 1906. – № 1. 21 См.: Кемпинский, Э. В. Революции 1905–1907 годов в Ставропольской губернии / Э. В. Кемпинский. – Ставрополь, 1995. – С. 36–42. 22 Речь идет о статьях уголовного уложения 103 (оскорбление Величества) и 128 («дерзостное неуважение к верховной власти»). 23 Бурелом. – СПб., 1905. – № 1. 24 Ахмадулин, Е. В. Сатирические издания / Е. В. Ахмадулин // Ахмадулин Е. В., Яровой И. В. Печать Дона в годы первой русской революции. – Ростов н/Д., 1985. – С. 65. 91 Т. Е. Литвиненко ЛИНГВОТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТА Статья посвящена определению лингвистических основ интертекста, рассматриваемому в свете решения трех взаимосвязанных проблем: установления границ и внутренней структуры категории текстов как коммуникативных феноменов; выявления специфики интертекста как члена парадигмы «– текстов», чьи единицы построены по общей словообразовательной модели; определения роли интертекста в процессе эволюции двух концептуальных метафор: мир – это текст и текст – это мир. Ключевые слова: лингвистика, интертекст, коммуникативный феномен, словообразовательная модель. Неизменный интерес лингвистики и общей теории текста, проявляемый к проблемам интертекста и интертекстуальности на протяжении последних десятилетий1, есть показатель общей тенденции развития наук новой гуманитарной парадигмы – их стратегического перехода к изучению сложных интердисциплинарных объектов. Анализируемый в этом качестве интертекст позволяет по-новому рассмотреть вопросы, связанные с коммуникативной природой, средствами создания и референциальным потенциалом текста; оценить роль интертекстуальности в процессе получения, языкового оформления, хранения и передачи знаний о мире и человеке. Находясь в ракурсе комплексного исследования, интертекст дает возможность углубленного изучения продуктов дискурсивной деятельности homo loquens и обеспечивает доступ к пониманию лингвистических закономерностей их порождения. Кроме того, обращение к проблемам интертекста позволяет заполнить ряд лакун современной лингвистики и теории текста, что способствует развитию понятийного аппарата данных отраслей филологического знания. К числу таких проблем относятся: установление четких критериев определения вербального текста, обеспечивающего целостность и внутрисистемное единство осуществляемых интертекстуальных исследований; выработка системного подхода к определению интертекста как члена группы «– текстов» – группы выраженных производной лексикой специальных понятий, являющихся частными объектами названных научных дисциплин; а также выявление связи возникновения понятия интертекст с процессом экспансии в науке метафор, репрезентирующих концептуальное тождество мира и текста. Все объекты исследования, соотносимые в современной науке с концептом текст, могут быть представлены в виде членов категории2, ядро которой образуют дискурсивные продукты, характеризующиеся цельностью (наличием концепта текста), языковой связностью, интертекстуальностью и рядом иных прототипических признаков, указанных в приводимой ниже таблице. 92 Таблица Категория текст языковая связность интертексттуальность ядро + + + + + околоядерная + + + + + +/– + +/– +/– + ближняя периферия цельность отдельное высказывание, СФЕ фрагмент текста текстпримитив6 текстструктура текстпроцесс7 совокупности текстов дальняя периферия интен циональность3 целенаправленность4 воспринимаемость5 ситуативность завершенность/ отдельность малый объем + + + + + + + + – + + + + + + + +/– +/– + +/– – + +/– + + + +/– + +/– + – + + – – + – – +/– + – + + + +/– + – +/– + – + + + +/– + +/– – + – + + + + + + +/– Наряду с ядром категория охватывает околоядерную зону, ближнюю и дальнюю периферию, структура которых детерминируется ментальными операциями метафоры и метонимии. К метонимически заданным околоядерной подкатегории и подкатегории ближней периферии относятся те тексты, что лишены какого-либо прототипического признака (признаков), т. е. те, чьи наборы признаков есть «часть» по отношению к ядерным признакам как к «целому». В метафорически мотивированную подкатегорию дальней периферии входят тексты, выраженные любым другим семиотическим способом, кроме знаков естественного языка. Наличие периферии позволяет признать имя данной категории многозначным термином, обозначающим кроме ядерных текстов такие непрототипические элементы класса, как тексты – одиночные высказывания и СФЕ, тексты – фрагменты целого текста, деграмматикализованные тексты-примитивы, не обладающие цельностью тексты-структуры, не выраженные знаками тексты-процессы, лишенные связности совокупности текстов, а также все виды невербальных текстов. «Интертекст» есть многозначный производный термин, полисемия которого предопределена многозначностью исходного термина «текст», представляющего соответствующее понятие. Функционируя в научном дискурсе, интертекст становится обозначением как ядерных, так и любых периферийных текстов, указывая на наличие у них признака интертекстуальности. Под интертекстуальностью понимается соотнесенность текста с его типом или другим текстом (текстами), обусловливающая возобновляемость включенных в них концептов и средств их языковой (или иной знаковой) репрезентации. Интертекст есть один из активно изучаемых членов междисциплинарной группы «– текстов», представленной более чем пятьюдесятью понятиями и производны93 ми (двух- и трехсоставными) терминами. Ср.: авантекст, автотекст, аллотекст, антитекст, архетекст, архитекст, генотекст, гипертекст, гипотекст, затекст, интертекст, интекст, интратекст, инфратекст, квазитекст, контекст, контртекст, котекст, ксенотекст, макротекст, мегатекст, метатекст, мидитекст, микротекст, минитекст, монотекст, мультитекст, надтекст, онтотекст, паратекст, перитекст, подтекст, политекст, посттекст, пратекст, пре(д)текст, прототекст, псевдотекст, сверхтекст, сотекст, стереотекст, субтекст, супертекст, транстекст, унитекст, фенотекст, эндотекст, экзотекст, экстратекст, эпитекст; преинтертекст, автоинтертекст, автометатекст, интраметатекст, квазиметатекст, микроконтекст, макроконтекст. Все члены парадигмы «– текстов» характеризуются наличием общих компонентов значений и общих функций, демонстрируемыми ими мотивированными специальными знаками, предназначенными для получения, хранения, систематизации и передачи нового научного знания о тексте. Благодаря их наличию у текста выявляется несколько сущностных характеристик, объективируемых в языковой структуре композитов. Текст, во-первых, предстает как продукт, проходящий к моменту окончательной знаковой фиксации фазу динамического (дискурсивного) становления, в ходе которой он обнаруживает себя как процесс со сложным механизмом зарождения и развития. Во-вторых, текст выступает как образование со сложной внутренней структурно-смысловой организацией. И, в-третьих, он характеризуется как произведение, превышающее собственные внешне завершенные параметры, что обусловливается, в первую очередь, его многообразными отношениями с другими текстами. Реализуясь в научном дискурсе, интертекст демонстрирует основное парадигматическое свойство «– текста» – свойство актуализации определенного текстового признака. В качестве имени специального концепта интертекст называет признак, который комплексно характеризует текст, эксплицируя: 1) его сложный генезис, базирующийся на преобразовании претекстов, 2) обусловленное таким генезисом поликомпонентное внутреннее устройство текста, а также 3) наличие межтекстовых связей текста-результата. Появление понятия интертекст стало одним из результатов пансемиотического поворота в науке второй половины ХХ века, сопровождавшегося реактуализацией метафорического концепта мир – это текст. В свете данной метафоры текст предстал как взаимосвязанная знаковая тотальность, включающая человека, его историю, культуру, формы личного и социального (взаимо)действия, а также внешний природный универсум, подвергнутый процедуре семиотизации. Уподобление такого текста освоенному, методологически удобному артефакту – вербальному тексту, вызванное стремлением к унификации и оптимизации глобального процесса познания, дало возможность представить самые разные знаковые образования как среды, способные накапливать и передавать информацию, быть источниками порождения и извлечения новых смыслов. В то же время максимальная текстуализация таких сред выявила их значительную поликомпонентность, выразившуюся в многочисленных включениях «чужих» знаков. В свете второй метафоры, текст – это мир, текст предстает как выраженный в знаковой форме фрагмент картины мира его создателя, т. е. фрагмент общей совокупности знаний адресанта о действительности, сложившейся в его сознании в субъективный образ мира. Присваивая содержащиеся в (пре)текстах знания и представления о мире, а вместе с ними и готовые формы их вербальной репрезентации, коммуникант транслирует полученный лингвокультурный опыт во вновь создаваемые ими тексты, «мир» которых, таким образом, становится интертекстуальным. Все интертекстуальные единицы образуют общую категорию средств межтекстового взаимодействия, центральными членами которой служат цитаты, характеризуемые следующими основными признаками: точность воспроизведения элемента 94 претекста; сохранение семиотического тождества с воспроизводимым элементом; обособленность на фоне принимающего текста; наличие информации об авторе и / или источнике заимствования; способностью функционировать как отсылка к претексту. По мере удаления от центра категории единицы интертекста частично и / или полностью теряют один (или несколько) из указанных признаков вплоть до полной утраты ими способности опознаваться коммуникантом как «чужие». Единицы интертекста способны объединяться в полиреферентные цитаты, восходящие сразу к нескольким претекстам, и могут включаться в комплексы, сочетающие заимствования, имеющие неодинаковые наборы признаков. Полиреферентные и комплексные цитаты наиболее полно характеризуют смысл и знаковую структуру нового текста как поликомпонентные иерархические образования. Интертекст есть мультиреферентное образование, т. е. текст, содержащий моно- и полиреферентные заимствования, складывающиеся в его внутренней структуре в разноуровневые цитатные комплексы. Такой текст представляет собой сложный синтетический продукт длительного культурно-языкового генезиса, результат эволюции смыслов и способов их вербальной актуализации, аккумулированных лингвокогнитивным сообществом, и, одновременно, (вос)созданный коммуникантом концепт, переданный им средствами естественного языка как превращенными прецедентными знаками. Референтами смыслов и знаков интертекста служат конкретные и обобщенные претексты различного охвата, восходящие к определенным жанрам и дискурсам, которые, в целом, могут быть любыми. В широких совокупностях референтных текстов может быть выделено основное ядро, играющее роль доминантного претекста. В него входят наиболее важные и достоверно верифицируемые источники, цитаты из которых актуализируются в виде ключевых слов интертекста. Наряду с доминантным претекстом элементы интертекста способны отсылать к множеству вторичных прецедентных текстов той или иной степени эксплицитности и значимости. Состав и статус референтных текстов могут в значительной мере различаться для каждого из интерпретаторов, в том числе, автора. Фактом, подтверждающим наличие референтной связи с каким-либо вторичным (периферийным) претекстом, может служить его упоминание / цитирование в совокупном макротексте адресата. Коммуникативные продукты, принадлежащие к разным лингвокультурам, обладают своими интертекстуальными особенностями, которые детерминированы спецификой культурообразующих претекстов, своеобразием соотношения и структуры концептов, возобновляемых в процессе межтекстового взаимодействия. С этих позиций все тексты следует рассматривать как интертексты, содержащие социально, исторически и культурно обусловленные концепты, выраженные средствами определенного естественного языка. Референтные тексты таких интертекстов могут являться частью одной, общей с ними культурно-языковой традиции, или же, будучи «чужими», выходить за ее рамки. Учитывая это, каждый из текстов нужно признать мультиреферентым интертекстом, интегрирующим прецедентные смыслы и знаки не только своей лингвокультуры, но и включения, заимствованные из текстов других культур. Последние необходимо рассматривать как средства объективации как того общего, что роднит их с миром данного текста, так тех особенностей, благодаря которым выявляется его специфика категоризации и концептуализации действительности. Примечания 1 См. : Кузьмина, Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка / Н. А. Кузьмина. – М., 1999; Фатеева, Н. А. Интертекст в мире текстов : Кон95 трапункт интертекстуальности / Н. А. Фатеева. – М., 2000; Денисова, Г. В. В мире интертекста : язык, память, перевод / Г. В. Денисова. – М., 2003 и мн. др. 2 При построении категории текстов были учтены научные данные, приведенные в работе: Кубрякова, Е. С. Язык и знание : На пути получения знаний о языке : Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. – М., 2004. Однако в настоящей работе предложена другая внутренняя структура данного класса. 3 Данный признак как прототипический назван в работе Е. С. Кубряковой, где под интенциональностью текста понимается то, что «он всегда создается для реализации какого-либо замысла» (Указ. соч. С. 513). 4 Данный признак также был предложен Е. С. Кубряковой, в работе которой по поводу целенаправленности говорится, что «информация вводится в текст и фиксируется в нем не сама по себе, а для чего-то, для достижения определенной цели» (Указ. соч. С. 513; выделено автором). 5 Воспринимаемость как признак стандартного (и в этом смысле «лучшего», наиболее типичного) текста выделяется Р.-А. Бограндом и В. Дресслером, отождествляющими ее с ожиданием реципиента получить вербально выраженный, связный и содержательный текст. Об этом: Beaugrande, R.-A. de, Dressler, W. U. Introduction to text linguistics. – L., 1981). 6 Под текстами-примитивами мы, вслед за Л. В. Сахарным, Л. Н. Мурзиным и А. С. Штерн, понимаем первичные и вторичные тексты, не обладающие, прежде всего, признаком связности: тексты в детской речи, в речи при афазии, в речи иностранцев, реплики в диалоге в разговорной речи; тезисы-конспекты, планы готового текста, предметные рубрики, наборы ключевых слов или дескрипторов в информационно-поисковых системах и т. п. Сюда же следует отнести формулярные тексты разных жанров: расписания поездов, расписания уроков, программы конференций, графики отпусков или дежурств, анкеты, библиографические списки и пр. А также различные надписи, указатели и т. п., выраженные эллиптическими конструкциями, отдельными словами или буквами.(См. : Мурзин, Л. Н. Текст и его восприятие / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн. – Свердловск, 1991; Сахарный, Л. В. Тексты-примитивы и закономерности их порождения / Л. В. Сахарный // Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи. – М., 1991. – С. 221–237). 7 Эволюция и взаимная «реструктуризация» специальных концептов текст и дискурс привела к постепенному смещению на периферию такой группы категоризуемых объектов, как тексты-процессы. В современной лингвистике текста они рассматриваются К. А. Филипповым, который пишет, что «текст является не просто продуктом речевой деятельности, но и самим процессом создания этого продукта». Специальная глава «Текст как процесс» приводится также в книге Ю. А. Левицкого. (См.: Филиппов, К. А. Лингвистика текста / К. А. Филиппов. – СПб., 2003. – С. 173; Левицкий, Ю. А. Лингвистика текста / Ю. А. Левицкий. – М., 2006). 96 Е. Ю. Панова ИСПОВЕДАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ЛИРИКИ З. ГИППИУС Лирика З. Гиппиус, по мнению большинства исследователей, по эстетическим меркам превосходит ее прозу и в то же время обнаруживает мощные смысловые корреляты с публицистикой. Кроме того, в стихах поэтесса с предельной прямотой и откровенностью выражала себя, ее поэзия – своеобразный лирический дневник ее переживаний. А потому анализ комплекса поэтических текстов З. Гиппиус (сборники «Собрание стихов. 1889–1903», «Собрание стихов. Книга вторая. 1903–1909», «Стихи. Дневник 1911–1921», «Сияния» (1938)), в частности, своеобразия поэтического словаря, является весьма важным для уточнения стилевой доминанты творчества писательницы. Ключевые слова: Гиппиус, лирика, поэтический словарь, стилевая доминанта. Поэзия русского символизма представлена рядом неповторимых индивидуальных художественных миров, тем не менее, в ней можно выделить некоторые тенденции. Так, А. Лавров считает, что в творчестве одних символистов преобладала «риторическая доминанта: продиктованный установкой на культурный синтез, осуществляемый в символизме, пышный, архаизированный, перифрастический стиль»1. Творчество других более характеризует доминанта лирическая («эмоциональная стихия, сочетавшая раскрытие индивидуальной психологии с тайнозрительными обертонами»2). Но лирика З. Гиппиус, своеобразный лирический дневник ее переживаний, где поэтесса с предельной прямотой и откровенностью выражала себя, при всей ее явно символичной природе не отвечает целиком и полностью ни одной из них, что позволяет говорить об уникальности творимой автором художественной формы. Ее суть, на наш взгляд, удивительно точно передана в характеристике М. Шагинян: «Поэзия Гиппиус – с точки зрения психологии – <…> это есть именно поэзия пределов... Отсюда такая антиномичность тем, почти ни у кого из наших поэтов не встречающаяся, на каждое утверждение приходится отрицание, на каждое “да” есть “нет”»3. Итак, главное в поэтическом стиле З. Гиппиус – «предельность» и «антиномичность», причем последняя есть средство, способ заострения, углубления первого. З. Гиппиус стремится искренно и максимально откровенно раскрыть свое внутреннее «я» и, в то же время, проанализировать его сущность, разобраться в его противоречивых составляющих. Таким образом, характер стиля лирики З. Гиппиус вслед за А. Лавровым4 видится нам как исповедально-аналитический. Первое (исповедальность) выражается в стремлении к недосказанности, особого рода эмоциональности, долженствующей отразить внутреннее сложное состояние лирического героя, богатство его внутреннего мира и сложные оттенки переживаний; и, как следствие, в неопределенности, зыбкости, нечеткости словесного образа. Второе (аналитичность) – в том, что для каждого метафизического явления, для каждого «парадокса человеческой души» Гиппиус стремится найти «свое» слово, максимально полную и емкую словесную формулу. Конечно, аналитическое начало в творчестве З. Гиппиус очевиднее, неслучайно именно эта грань художественной формы поэтессы чаще всего отмечалась критиками. Отсюда преобладание особого типа словообразов, стремящихся дать максимально полную и точную характеристику явлению. Прежде всего – это цепочки эпитетов, 97 которые задают одновременно зрительный, слуховой, осязательный и прочие ракурсы восприятия предмета («сыро, душно, темно», «туманные, трудные дни», «немо, вольно и крылато»); или сложные эпитеты, которые максимально уточняют и углубляют смысл определяемого слова: «легко-туманная мгла», «монотонно-звонкие голоса», «черно-влажное небо», «серебряно-черное небо». Кроме того, анализ как логическая операция требует четкого механизма выявления причинно-следственных связей, а потому З. Гиппиус широко использует сравнение, которое призвано показать единство разнообразных форм окружающего мира, установить внутренние, сущностные связи бытия: Как дети, тучки тонки, кудрявы... Как звери, люди жалки и злы 5 [3, 519]; или: Слова в душе – ножи и копья... Но воплощенные, в устах – Они как тающие хлопья, Как снежный дым, как дымный прах [5, 445]. Но устремленность слова к точности и ясности своего значения соединяется у Гиппиус с другой его склонностью – к иносказательности, а следовательно, не столь жесткой смысловой очерченности. Поэтому так активно поэтесса использует метафору. Е. Барабанов даже предлагает свой вариант реализации этого тропа, считая, что в поэзии З. Гиппиус многое осмыслено через «метафору стекла»6, причем метафорическая прозрачность стекла уже не благословение, не связь, но обреченность на смертный холод разъединения: Разъединяя нас, легло Меж нами темное стекло. Разбить стекла я не умею, Молить о помощи не смею; <...> И страшен мне стеклянный холод… [3, 526] На наш взгляд, значение данного тропа в поэтической системе З. Гиппиус не сводимо к единичности выражения, поскольку метафора становится основным средством создания образа отвлеченного, который близок поэтессе, затрагивает глубины ее эстетических и мировоззренческих позиций. Так, весьма неконкретный образ души представлен следующим рядом метафор-определений: «неисцельно потерянная», «сомненье расплавленное», «слово несказанное», «смертная сонность», «даль охватная и неистовая». Неслучайность метафоры в лирике З. Гиппиус доказывает и то, что автор не довольствуется простой формой, а использует различные ее модификации. Например, заостряет метафору с помощью непривычной формы слова («дымка невестная», «рабье одиночество») или распространяет ее на весь текст, заполняя весь объем стихотворения: В нашем Прежде – зыбко-дымчато, А в Теперь – и мглы, и тьмы. Но срослись мы неразнимчато, – Верит Бог! И верим мы [5, 400]. Аналитически-исповедальная природа стилевой формы З. Гиппиус, на наш взгляд, раскрывает себя с помощью еще одной эстетической оппозиции: «универсальное, “формульное” / единичное, субъективно окрашенное». Первичная субстанция творчества З. Гиппиус – дневниковость, интимность. Неслучайно строки ее стихов порой буквально совпадают со строками ее же дневников и писем. Например, «<…> И в белоперистости вешних пург, – // Созданье революционной воли – // Прекрасно-страшный Петербург» [5, 395] – «Какая сегодня 98 опять белоперистая вешняя пурга» [8, 231], «<…> этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции у нас уже никто не отнимет» [8, 237]; «Мне нужно то, чего нет на свете» [2, 448] – «Я хочу невозможного <…> чтобы было то, чего нет» (из письма к А. Л. Волынскому)7; «Мне мило отвлеченное» [2, 464] – попытка контраргумента: «Я слишком склонна к отвлеченности, игра с этим огнем – для меня опасна» (из письма к А. Блоку)8. Отсюда изобилие намеков, недомолвок, иносказаний, апеллирующих к биографии поэтессы. Проиллюстрируем эту «тайнопись» на примере стихотворения «Числа»: Наш первый – 2. Второй, с ним, повторяясь, Свое, для третьего, прибавил – 6. И вот, в обоих первых – третий есть, Из сложности рождаясь. <…> А числа, нас связавшие навек, – 2, 26 и 8 [2, 503]. Стихотворение построено на символическом обыгрывании дней рождения – своего, Д. Мережковского и Д. Философова, без какого-либо авторского комментария. Итак, с одной стороны, мы видим стремление рационалистически, четко, логично, «по-мужски» холодно (в числах) охарактеризовать явление, создать точную универсальную формулу слова. С другой – замечаем, пусть в какой-то мере сознательную, но мистификацию, какую-то женскую интимность. И опять внутренний дуализм З. Гиппиус дает о себе знать, так как и эта субъективность, откровенная личная окрашенность в стилевом плане выражается неоднородно. Анализ лексики нехудожественной прозы (письма, дневники, автобиографический роман) и публицистики подтверждает наличие стилевой антиномии «свое / чужое». При описании явлений, не близких поэтессе по духу или антипатичных ей, проступает хладнокровноагрессивное начало писательницы с присущим ей разящим, практичным, рациональным, «не женским» складом ума. В то же время при воспоминании о родных, близких, глубоко симпатичных ей людях проявляется женская мягкость, нежность и даже сентиментальность. Нечто подобное мы видим и в поэзии, только реализация данной стилевой антитезы становится более сложной и более художественной, в силу того, что она воплощается в двух аспектах: семантическом и стилистическом. Семантически антитеза делит мир Гиппиус на «дальний» и «ближний». Можно говорить о разном их наполнении: реалиями, соответственно, метафизическими и физическими. Первый («дальний»), в соответствии с концепцией символистского двоемирия и неохристианскими воззрениями четы Мережковских, – это мир трансцендентный, духовный, недостижимый и желанный одновременно. Он представлен в стихах следующим лексическим рядом: душа, Бог, бытие и др. Как видим, это абстрактные понятия, неопределенные. И ключевое из них – Бог – у Гиппиус становится воплощением всего невыразимого: Я – это Ты, о Неведомый, Ты – в моем сердце, Обиженный, Так подними же, Неведомый, Дух Твой, Тобою униженный. Прежнее дай мне безмолвие, О, возврати меня вечности… Дай погрузиться в безмолвие, Дай отдохнуть в бесконечности!..[2, 469]. Второй мир («ближний») – это мир земной, в реальности которого автор вынужден существовать, вызывающий у лирического героя тоску, разочарование, а то и резкую антипатию. Отсюда – лексика конкретна, создает «вещественный» образ: 99 Хата моя черная, убогая, В печке-то темно да холодно, На столе-то хлеба ни корочки, В углах и тараканы померли [2, 526]. Нередки случаи, когда эта конкретная лексика приобретает ярко выраженный негативно-оценочный характер. Вот как, например, дана Гиппиус характеристика современных ей исторических событий: «Блевотина войны – октябрьское веселье» [5, 409], «Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой» [5, 409], «Плевки матросские размазаны // У нас по лбам» [5, 410]. Наглядным подтверждением нашей мысли может служить стихотворение «Все кругом», где вся бездна антипатии Гиппиус передается с помощью градации выразительных эпитетов с предельной негативной оценочностью: Страшное, грубое, липкое, грязное, Жестко-тупое, всегда безобразное, <…> Рабское, хамское, гнойное, черное Изредка серое, в сером упорное, <…> Трупно-холодное, жалко-ничтожное, Непереносное, ложное, ложное! [3, 514]. Так же, как и в примере стихотворения, обращенного к некой высшей силе, здесь основным художественным средством становятся определения (эпитеты), причем во втором случае даже без определяемого слова. Однако совокупность этих качественно различных, но в то же время резко негативных характеристик делает образ более конкретным. Безусловно, можно говорить о том, что превалирование в поэзии З. Гиппиус реалий «физических» или «метафизических» обусловлено объективными факторами. В ранней поэзии, обнаруживающей явное влияние поэзии С. Надсона, главенствующее место занимают реалии «метафизические», в то время как в «Последних стихах. 1914–1918», в силу значительных социальных потрясений в обществе, на первый план выходят реалии «физические». Но сама возможность сосуществования (равноправного!) двух источников формирования поэтического словаря свидетельствует о стилевой дуальности. Отметим еще одну особенность лексики З. Гиппиус, уже связанную с формой стиха. Речь идет о том, что каждое из стихотворений, включенное поэтессой в сборники, имеет название. Причину этого тяготения Гиппиус к номинативности Н. Богомолов объясняет, например, следующим образом: «Она хочет развести эмпирического человека и автора стихов <…> Стихотворения оказываются озаглавленными: непосредственное лирическое переживание, отлившееся в стихотворную форму, оказывается отстраненным, осмысленным, едва ли не каталогизированным»9. На наш взгляд, это объясняется присутствием аналитического «полюса» в стиле З. Гиппиус. Распространяя это наблюдение, заметим, что в названии стихов преобладают местоимения, обстоятельственные слова, указывающие на признаки действия, качества или предмета, а также слова служебные, обозначающие различные семантические отношения («Там», «Вместе», «Ничего», «Нет», «Они», «Между», «Ты», «Если», «Опять», «Сызнова», «Внезапно», «А потом?», «Напрасно», «Непоправимо», «Оттуда?» и т. д.). Отсюда можно говорить не просто о номинативности, а об особом поэтическом мировидении Гиппиус. Для поэтессы важно не столько отметить и назвать реалии, сколько установить между ними соотношение, обозначить условные умопостигаемые линии между ними, главным образом – между реалиями явленными, «физическими» и метафизическими, в чем опять-таки проявляется свойственная ее поэтическому стилю аналитичность. 100 Примечания 1 Лавров, А. В. З. Н. Гиппиус и ее поэтический дневник / А. В. Лавров // Гиппиус З.Н. Стихотворения. – СПб., 1999. – С. 31. 2 Там же. – С. 31. 3 Шагинян, М. О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус / М. Шагинян. – М., 1912. – С. 16. 4 См. Лавров, А. В. З.Н. Гиппиус и ее поэтический дневник… 5 Гиппиус, З. Н. Собр. соч. – М. : Рус. кн., 2001 – Т. 3. – 2002. – С. 519. Здесь и далее ссылки на данное Собрание сочинений З. Гиппиус даются в тексте в квадратных скобках. Первая цифра обозначает номер тома, вторая – номер страницы в этом томе. 6 Барабанов, Е. Кто бури знал… (предисловие к публикации стихов З. Гиппиус) / Е. Барабанов // Наше наследие. – 1990. – № 4. – С. 62. 7 Лавров, А. В. З. Н. Гиппиус и ее поэтический дневник… С. 39. 8 Там же. – С. 39. 9 Богомолов, Н. А. Тройная бездонность (Из литературного наследия З. Гиппиус) / Н. А. Богомолов // Лит. обозрение. – 1990. – № 9. – С. 98. А. В. Подобрий ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТОВ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ 20–30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА) В статье предлагается методика, позволяющая обратиться к анализу «диалога национальных культур» в рамках русскоязычного текст, а также к анализу любых литературных текстов, включающих в себя элементы иной лингвокультуры. Ключевые слова: лингвокультура, русскоязычная литература, поликультурный текст. Для культуры 20-х годов ХХ века одной из важнейших и сложнейших была задача создания русскоязычной литературы, позволившей бы «работать» в ней представителям разных национальных культур и языков, сформировать некую межэтническую многонациональную литературу. Обращение к истории нации – это попытка реконструировать национальный характер. В эпоху 20–30-х годов история творилась на глазах писателей. Поэтому, с одной стороны, используя средства фольклора, изображался архаический характер нации, с другой стороны, используя средства литературы, «писался» новый национальный характер со старой культурной «базой», но новыми социальными представлениями. Во многих случаях интерес писателей был сконцентрирован именно на этом «несоответствии»: старых, веками складывавшихся мировоззренческих и культурных национальных установок и новых социальных перемен, ломавших привычное, а значит, строилась новая система восприятия человека в новом мире. Подобное «столкновение» традиционного и нового можно увидеть и у И. Бабеля («Конармия»), и у Вс. Иванова («Киргиз Темербей», «Дите», «Хабу», «Бронепоезд 14-69» и пр.), и у Н. Тихонова («Чайхана у Ляби-хоуза»), и у 101 В. Шишкова («Пейпус-озеро», «Та сторона») и мн. др. Таким образом, обращение к «диалогу национальных культур» в рамках русской литературы было предопределено временем и историей. Фольклорная основа весьма ощутима не только в отдельных произведениях литературы 20-х гг., творчестве того или иного писателя, но и в национальных литературах (или национальных ветвях той или иной литературы). Это тесно связано с художественными возможностями народного языка, с уровнем художественного мышления, на котором находится какая-либо нация. «На протяжении многих столетий в фольклоре формировалось художественное мышление народа, вырабатывался его идейно-эстетический фонд, определялось национальное эстетическое сознание, т. е. складывались национальные истоки народного искусства. В этом смысле фольклорные традиции можно считать адекватными национальным»1. Нет ничего удивительного, что в литературе 20-х годов развитие литературных жанров взаимообусловлено развитием фольклорных жанров. Народы же, не имевшие письменности, могли выступить в литературе только в жанровых формах, традиционных для их национального народного поэтического творчества. Мы выделили те уровни восприятия (и включения в литературный текст) элементов национальных культур, которые позволяют создать «диалог» разных культурных национальных традиций в рамках русской речи. 1. Культуры, отделенные от русской государственными, языковыми и концессионными границами, например, еврейская, немецкая, английская, французская и пр. 2. Культуры близких по этносу народов, со схожим языком и проживающих в одном географическом ареале; культуры, «сливающиеся» для русского читателя в некий «образ культуры», например т. н. восточная культура, кавказская, прибалтийская, азиатская и пр. 3. Субкультуры, развивающиеся в «рамках» культуры домена, например казацкая, уральская, сибирская, одесская и пр. Доминанта русской культуры здесь ощутима, но стремление «выделиться» создает свои языковые и литературные варианты. В данном случае объектом интереса будет «несхожесть» (в определенных аспектах) поведения и мышления представителей региональной культуры с русской. Нам необходимо описать механизм построения диалоговых национальных отношений в русскоязычном художественном тексте, учитывая тот факт, что можно выделить три ступени совмещения «инокультур» в произведении литературы. 1. Практически полная доминанта одной культуры (русской) над другой. Элементы «инокультурной» действительности, такие как названия предметов быта, оружия, местности, нарядов и пр., являются не обязательными, они призваны лишь создать «колорит» иной национальной среды или показать экзотику национальной жизни, являются лишь внешней приметой национальности персонажа (например, «Огуречная королева» Ю. Слезкина, «Фазаны» В. Правдухина, «Шакир» Д. Фурманова, «Зеленя» Ф. Гладкова и пр.). 2. Писатель сознательно вводит в один национальный мир героя другой национальной культуры, происходит взаимопроникновение разных культурных традиций в художественный текст. В этом случае сказ становится наиболее удобной формой «диалога национальных культур». Именно на этом уровне автор может построить несколько различных моделей мировосприятия, «проверяя» их в столкновении друг с другом и действительностью. Самым показательным примером можно считать новеллы из цикла «Конармия» И. Бабеля (такие, как «Мой первый гусь», «Сын рабби», «Костел в Новограде», «Берестечко» и пр.). 3. Писатель использует русский язык лишь как средство передачи читателю картины иного национального мира (неважно, мира какой-то одной нации, мира це102 лого ареала близких культур или субкультуры какого-либо региона). Например, в пределах русскоязычного текста автор рисует мир иной культуры («Одесские рассказы» и некоторые новеллы из цикла «Конармия» Бабеля), перед ним стоит задача: как средствами одного национального языка (в данном случае русского) показать своеобразие мышления и говорения носителей другой лингвокультуры (например, в новеллах Л. Леонова «Уход Хама», «Туатамур», «Халиль», Вс. Иванова «Киргиз Темербей», «Встреча» и пр.). В зависимости от уровня совмещения различных национальных традиций можно предложить следующие уровни анализа «диалога инокультур». I. Языковой уровень Чужая культура может усваиваться не статично, а только в процессе какойлибо деятельности, например, передаче смысла понятия через какое-либо слово. Идет процесс «переформулирования» чужой культуры в терминах, определениях своего лингвокультурного опыта. Поэтому языковой уровень «маркирует» присутствие «чужой» культуры, заставляет «переводить» понятия на родной язык. «Инокультурное», иноязычное слово может по-разному «входить» в художественный текст. 1. Иноязычное слово включается в текст без объяснения со стороны автора или героя, его значение или настолько плотно вошло в русскую языковую традицию, что не требует своего «перевода» или легко вычленяется из контекста. Например: «Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво: “Эый, апа! Лошади нету”» («Киргиз Темербей» Вс. Иванов); «Дай мне чубук и кофе, или кинь серебряный грош на коврик мне, или тихое салям скажи мне, если ты торгуешь керманским тмином <…> я подарю тебе 14 касыд про Халиля…» («Халиль» Л. Леонов) и пр. В данном случае иноязычное слово становится маркером инонационального героя, создает атмосферу присутствия образа чужой для русского языка культуры, но не настолько «чужой», чтобы понятие, обозначенное этим словом, не имело аналогов в русском языке, или оно не настолько важно в понимании нюансов смысла текста, создает лишь внешнюю оболочку «чужого» мира. 2. Иноязычное слово дается с «подстрочником». Автор сознательно включает чужое слово в массив русской речи для придания национального колорита как языку героев, так и тексту в целом. Например: «Он знал только кетмень – тяжелую мотыгу – и тяжелую работу. Когда не стало эмира в Бухаре, муллы и старшины с раскрашенными бородами потребовали, чтобы чайрикер стал резать джадидов – большевиков, врагов ислама» («Чайхана у Ляби-Хоуза» Н. Тихонов); «Ты кто? – хрипло спрашивает он меня. – Ты Кызыл-урус? – Да, – отвечаю я, поднимая ружье, – да, Кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский)» («Встреча» Вс. Иванов); «Однажды Левка, младший из Криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка» («Закат» И. Бабель) и пр. В этом случае автор сознательно строит межъязыковые «диалоги», противопоставляя одну культуру (в ее словесном выражении) другой. 3. Если речь идет о так называемой субкультуре национального региона, то в текст включаются диалектизмы для характеристики говора представителей данной субкультуры. Они могут использоваться без «перевода», а могут поясняться автором, если их суть для читателя из контекста не проясняется. Например: «В лощине, возле высыхающей музги, овцы жмутся в тесные кучи. Устало откинув зады, вихляют захлюстаными курдюками, надрывно чихают от пыли» («Лазоревая степь» М. Шолохов); «Из шести моняк, поднятых над хатами, только две были смочены 103 брачной кровью, остальным невестам досвитки не прошли даром»; «Чужой муж, Гришка Савченко, спал внизу на лаве. (Лава – скамейка, лавка, прикрепленная к стене изб (укр.)» («Гапа Гужва» И. Бабель). 4. Калькирование национальных речевых оборотов средствами русского языка. То есть происходит включение в контекст русской речи не слова-образа, а образа речи. Например, у И. Бабеля в «Одесских рассказах» ощущение речи героев как «испорченное» вполне объяснимо. «Переведенное» на русский язык еврейское предложение действительно мыслится как неправильное (хотя на самом деле таковым не является). Например, кладбищенский служка Арье-Лейб в «Как это делалось в Одессе» И. Бабеля, с напыщенностью повествуя о похоронах Мугинштейна, заявляет: «И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова» (И. Бабель «Как это делалось в Одессе»). Обращение к Ветхому Завету традиционно для евреев, но совершенно неуместно в том месте, где события определяются бандитской этикой; более того, невольное сравнение АрьеЛейба с богом вызывает только усмешку, хотя на самом деле можно говорить о «неправильном» «переводе» библейской метафоры на русский язык. Также нелепо выглядит фраза Гедали в одноименной новелле И. Бабеля: «Мы падаем на лицо и кричим на голос». На самом деле это едва ли не дословная цитата из Библии: «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых» (Числа. 14, 5). Советский читатель, насильственно отлученный от религии, не в состоянии «расшифровать» эту цитату, она вызывает лишь усмешку. В контексте же рассказа она имеет огромное значение: трагедия одного человека включается в общемировую трагедию целой нации. По сути, языковой уровень формирует уровень выразительных средств, которые, в свою очередь, «работают» на создание более сложного уровня – формирование модели национального мира, его языкового образа. В основе любой модели мира лежит мировоззренческий уровень, основы которого были заложены в мифологической и фольклорной культурах нации. Отсюда следующий уровень анализа. II. Уровень мышления героев или рассказчика. Этот уровень также состоит из нескольких подуровней. 1. Включение архетипов национального сознания в контекст русского мировосприятия и русской языковой культуры. Метафоры, метонимии, сравнения и пр. носят национальный характер, ибо обусловлены национальной средой, национальным социальным опытом. В пределах иного языка они четко маркируются невключенностью в привычный языковой, образный ряд. Например, таковым становится образ арбы как символа жизненного пути в рассказе Л. Леонова «Туатамур»: «Арба, имеющая две оглобли, идет прямо и хорошо. Арба моего счастья имела только одну». «Переведя» на русский язык «арба» как «телега», «повозка», мы не получаем того представления, которое есть у героя рассказа, возникшее при помощи символа «арба», ибо нарушается ассоциативный ряд: культура Востока и русская культура используют разную символику, так как условия существования разных наций, а значит и мировосприятие – различны. Для кочевых народов арба – это дом, крыша над головой. Для русских телега – лишь средство передвижения, причем довольно неудобное, поэтому поломка телеги или ее потеря не смертельны. Для кочевников арба «соседствовала» с человеком всю его жизнь, отсюда и образный ряд: арба – крыша – семья – счастье – жизнь. 2. Соположение различных национальных архетипов, то есть поиск сходных образов, моделей бытия, наконец, восприятия этих образов представителями разных 104 национальных культур; дополнение этих рядов-символов схожими, но в линейке другого национального мышления, а, в конечном итоге, создание симбиозной модели восприятия мира посредством национальных архетипов. Например, образ Луны воспринимается многими нациями в сходном значении: как символ мира мертвых, глаза мертвых, следящих за живыми. Это нашло свое отражение в языке: «… ср. хет. Arma- «луна», но и.-е. *al-/*el- + men- «душа»; типологически ср. англ. Moon «луна» (<*men-), но лат. Manes «души умерших»; ирл. grian «солнце», но латыш. Gars «дух, душа»; и.-е. *saiuel- «солнце», но нем. Seele + осет. udd «душа»; др.-сев. Tungl «луна», но русск. дух, душа»2. В этом мифологическом качестве рисуется и воспринимается рассказчиком Лютовым Луна в «Конармии» И. Бабеля. В этом же качестве Луна и Солнце выступают и в «Туатамуре» Л. Леонова. В новелле Леонова Солнце сопровождает героя, Солнце – символ его славы и несчастья, Луна – спутник Ытмари. Туатамур в начале и конце повествования еще жив, его палит Солнце, но он бессилен: «И вот я лежу у шатра чужой жены, солнце лижет мне темя, а если бы хвост был у меня, – я вилял бы им, потому что – ныне кто назовет меня иначе, чем дряхлой собакой Чингиса, ушедшего в закат?» Впервые образ Солнца появляется, когда татарские воины отправляются в поход. «Поутру, когда звездное скопление Уркура спешило спрятаться в голубой траве, барабанный бой разбудил солнце. Оно, хромая, поползло над ордой». Солнце – день, Солнце – удача, Солнце – кровь. Луна – судья, Луна – глаза предков, Луна – любовь и смерть, если Луна убивает, то тихо, без крови. Эти параллели характерны для мифологии и фольклора как западных, так и восточных народов. Леонов не нарушает данной традиции. Взошло Солнце, «блеснула молния клинка красным. Священный кумыз пролился на землю. Крик нукеров загудел, ворвался в меня, смял мне душу». На заре вступил в бой лучший поединщик татар Азарбук и погиб. Ночью при Луне просит ласки мужа Бласмышь, но сердце Туатамура занято другой – лунолицей Ытмарь, несущей смерть врагам. Страшная жара, палящее Солнце – предвестники битвы на Калке: «Если медный котел, в котором варят бол накануне большого похода, накаливать четырнадцать дней, – он станет бел, и глядеть на него нельзя. Земля под ним растрескается. Аммэна, – солнце у Кипчи было подобно котлу. Оно расширилось во все небо и накрыло степь». Солнце убивает так же, как и стрелы: «Днем солнце жгло, а вечером жужжали стрелы…». Война и Солнце – днем. Ночью – Луна и любовь. «А звезды в небе были как белые шатры. Луна была кругла, и я вспомнил песню про царевну, которая бродит в небе, выгнанная отцом. В степи было светло. А мне хотелось Ытмари. В жилах ворчала обезумевшая кровь». Вся 10 часть повествования посвящена любовному томлению Туатамура. Поэтому образ Луны присутствует здесь постоянно. «Сквозь прорезь в шатре упадала луна. В изголовье, влажном от лунного молока, я увидел лицо Ытмари. Она спала. Я сказал: “Ты прекрасна. Луна – рабыня тебе…”». 11 часть новеллы – рассказ о битве, где нет возможности смотреть на небо, зато 12 часть – вновь наполнена Лунным светом: «… А ночь пришла лунная. Лунное холодное молоко текло, все текло… А на большом поле с пустыми колчанами, с пробитыми головами лежали мои, победившие, добыватели славы… Я поехал по полю. Луна текла мне навстречу…». Именно лунный свет привел Туатамура к Ытмари и мертвому князю. Луна убила надежду Туатамура и Ытмари на счастье: «Луна текла в небе. Мертвые караулили живых!.. Ытмарь, раскачиваясь, пела одними губами. Эйе, никто не целовал их – только луна, как сестру, – она пела песню». Луна же забрала и жизнь Ытмари. Больше Луна как символ любви, символ Ытмари на страницах новеллы не появляется. Даже ночью после самоубийства дочери Чингиза «небо пылало закатом. 105 Закат будто сошел в степь. Она пылала, и мы были, как в небе». Туатамур зажег степь, не давая Луне сиять на небе. Он мстил и русским, и небу, он как будто боится Луны, и уже в самом конце своего повествования Туатамур вновь обращается к своему страху, Луна выступает здесь как символ смерти: «В беззубый мой рот глядит ночь. Луна – как золотой чурбан, с которого упала голова Ягмы… Я не хочу видеть, как завтра взойдет луна…». Небесная символика «читается» достаточно легко, ибо произошла контаминация славянских и восточных архетипов. Характерно, что новые маркеры нового (революционного) сознания могли дополнять старые, давно сложившиеся, Они еще не стали архетипами национальной культуры, но стали знаками социальной сознательности и своеобразного «интернационализма культур». Например, в новелле «Сын рабби» И. Бабеля в мешке Ильи Брацлавского «…все было свалено вместе – мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов». Идет своеобразное «возвращение» к единой (в какой-то мере мифологической) общности разных рас и культур. 3. Создание «национальных» легенд, былей, мифологем по аналогии с национальными текстами на русском языке. Например, «Уход Хама» Л. Леонова, «О казачке Марфе», «Алтайские сказки» Вс. Иванова, «Шабос-Нахаму» И. Бабеля, вставная легенда о соколе в «Касыде о другом хератском утре» (Л. Леонов «Халиль»). Включение в строй русской речи писателя элементов инонационального языка и культуры героев произведения влечет за собой создание иллюзии иноязычной речи, формирующей весь текст, как, например, в новеллах Л. Леонова «Туатамур», «Халиль», «Уход Хама». В «Уходе Хама» автор старается создать апокрифический образ библейской истории. Рассказчик, от чьего лица ведется повествование, неперсонифицирован, как и большинство библейских авторов. Высокий, детализированный, медленно тянущийся рассказ с метафорическими выводами вполне в духе библейской традиции. Но Библия (по крайней мере, Ветхий завет) написаны на древнееврейском языке, а Леонов использует русский. Сказ о Хаме – один из удачных примеров возможностей передачи еврейской речи русскими словами с использованием жанров, схожих по поэтике. Подобные легенды, предания, национальные сказы позволяют имитировать повествовательную манеру рассказчика, который обращается к слушателям, иногда отвлекаясь в процессе рассказа от фабулы. С другой стороны, создание таких «сказов» «работает» на формирование образа фольклорного мышления рассказчика и создает образ «чужого» сознания, который невозможно передать для русскоязычного читателя никакими другими средствами, кроме как средствами русского языка. 4. Уровень образа, то есть включение определенного инонационального фольклорного мотива, образа, целого жанра в литературный текст (причем эти элементы перенесены без изменений и адаптаций к литературному произведению, на уровне цитат). Чаще всего «напрямую» используются малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, присловья, частушки, песни. Цель подобного «включения» не только в том, чтобы максимально четко запечатлеть «принадлежность» героя к народу, но прежде всего, чтобы показать народный, национальный культурный «опыт» персонажа. Например: «Еще сказал Иавал, простираясь в грязи и прах вчерашней непогоды: “Тяжела борода моя днями, как медом пчелиный сот…”»; «Слепого, когда в огне ищет убежища, разве пощадит огонь?» (Л. Леонов «Уход Хама»); «Судьба – не баба: 106 слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки» (Вс. Иванов «О казачке Марфе»); притча: «Темны улицы, но у тебя фонарик. Ты не бери с собой большого огня туда, где и фонарик достаточен. Все равно ты его затушишь рукавом, после того как выпьешь кружку дуки и приготовишься поедать горстями душистые финики любви» (Л. Леонов «Халиль»); сказка: «А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой» (И. Бабель «Конкин»); «Сказывают: счастье наше за девять морей, за десять земель, на десятом острову на Сарачинском. А как тебе пешком туда идти, в три года не дойти, орлом лететь тебе, в три года не долететь…» (Вс. Иванов «Авдокея») и пр. Фольклорные «миниатюры» настолько плотно вошли в жизнь любого народа, что стали частью мышления. Опыт, закрепленный в них и выраженный в максимально сжатом метафорическом виде, ярко отражает и уровень мировоззрения той или иной нации. Включая в текст фольклорные жанры (или их имитацию) авторы стремятся передать не только мировоззрение нации, но и ассоциативный ряд, напрямую связанный с реалиями бытовой жизни, который, естественно, у разных народов разный. Анализ диалоговых взаимоотношений в произведениях русскоязычной литературы 20-х годов ХХ века (то есть на одной из первых стадий создания массовой русскоязычной литературы) на определенных нами уровнях даст в последующем возможность говорить о принципах создания подобного рода «симбиозных» литератур в мировой литературе и способах их исследования. Примечания 1 Далгат, У. Б. О роли фольклорных и этнографических элементов в литературе / У. Б. Далгат // Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. – Кишинев : Штиинца, 1971. – С. 196. 2 Маковский, М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках : Образ мира и миры образов / М. М. Маковский. – М. : Гуманит. центр ВЛАДОС, 1996. – С. 211. Н. В. Резепова НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? (В КОНТЕКСТЕ ТРИЛОГИИ К. АБРАМОВА «СЫН ЭРЗЯНСКИЙ») Данная статья посвящена вопросам отображения национального характера в искусстве и, в частности, в литературе. Излагаемый материал помогает понять, в чем заключается и на что опирается национальность каждого народа. Вместе с тем в статье есть идея о том, что национальное начало присутствует в художественных произведениях наравне с интернациональным, и именно диалектика этих начал, заложенная в художественном произведении, делает его поистине ценным для национальной и мировой литературы. Ключевые слова: Абрамов, национальный характер. Проблема национального характера – вопрос глубокий и животрепещущий, ведь художественная литература есть не что иное, как искусство создания образов. Исходя из этого, необходимо отметить, что не столько отображение индивидуально107 сти, человеческого «я», сколько изображение национального художественного характера присуще литературе в целом. Автор вкладывает в характер огромный смысл: здесь и эпоха, и история, национальный колорит и психология общества, нравственный климат и мерило общечеловеческих понятий и ценностей изображаемого времени. Национальный характер есть общественно-историческое явление: следовательно, не может быть каких-то всеобщих характеров вне времени и пространства. Есть определенные национальные характеры определенных исторических эпох, характеры конкретных личностей. Жизнь природы и общества, историческое прошлое и современность, поэтическое одухотворение и проза жизни – разные измерения действительности, раскрывающие ее во всем внутреннем многообразии, богатстве, сложности и противоречивости. Все эти аспекты, совмещаясь, позволяют достичь эффекта «стереоскопичности», объемности в показе движения времени, изменения жизни и становления национальных характеров. «Тайна национальности каждого народа заключается <…> в его <…> манере понимать вещи», – писал В. Белинский [2. С. 504]. Манера это, конечно, опирается на представления, вкусы, идеалы, выработанные веками, но она подвержена также постоянному развитию, беспрерывному изменению за счет необходимости соотносить новые явления и факты жизни с устойчивым историческим, психологическим, эстетическим опытом народа, приводит его в соответствие с современностью. Именно на этой основе развивается национальное самосознание народов, в том числе и художественное. Художник, осваивающий мир по законам красоты, стремящийся своими произведениями доставить читателю эстетическое наслаждение, рисующий все явления (даже безобразные) в свете прекрасного, осененные эстетическим идеалом, эстетически осваивая явления мира, неизбежно сопоставляет их с человечеством, оценивает с точки зрения значения этих явлений для человечества как рода. Общечеловеческое начало оказывается лежащим в самом глубоком фундаменте художественного творчества, обладающего тем самым имманентной гуманистичностью и интернационализмом. Однако эти же фундаментальные основания художественного творчества включают в себя не только интернациональное, но и национальное начало, так как само понимание общечеловеческой ценности исторически и национально обусловлено. И чем самобытнее национальноевидение, тем больше оно имеет в себе неповторимой и никем не заменимой общезначимой художественной информации и опыта отношений. Но оно одновременно тем общезначимее, тем ценнее для самых широких читательских кругов, чем более тесно национально-самобытное и неповторимое смыкается с общечеловеческим, интернациональным. Именно здесь и в этом и заключено одно из важнейших условий высокой художественности произведения и возможности его классического общемирового звучания. Понятие национального характера – и в реальности, и косвенно в искусстве – есть суммарная структура, равно принадлежащая и жизни, и сознанию. В этом смысле каждый персонаж, как и каждый человек, соотносим с национальным характером, воплощает и заключает в себе всю его полноту. Национальный характер особенно наглядно проявляется в алгоритме смены чувств, в своеобразии их сочетания. «То разгулье удалое, то сердечная тоска», – так, например, с величайшей точностью и выразительностью определял своеобразие смены эмоций русского национального характера А. С. Пушкин. Имя мордовского скульптора С. Д. Эрьзи давно вписано в мировые и отечественные энциклопедии и словари, оно стоит в одном ряду с именами крупнейших ху108 дожников мира. Произведения Эрьзи известны, признаны и любимы на всех континентах, а это значит, что его искусство неотделимо от сокровищ общечеловеческой культуры. Личность его глубоко оригинальна, в некоторой степени даже загадочна. Об Эрьзе еще при жизни ходили легенды, одна невероятнее другой. Творческая и человеческая судьба этого человека в высшей степени ярка, содержательна и драматична. Это судьба подлинного таланта, порывистого и упорного, с взлетами и неудачами, с резкими противоречиями, таланта, сумевшего сохранить свое лицо во всех превратностях жизни. Его большой талант интересен во всех проявлениях: в самом творчестве, в привязанностях и вкусах художника, в связях с людьми и даже в манере поведения и человеческих привычках, заблуждениях и ошибках, почти всегда поучительных и исторически объяснимых. Роман «Сын эрзянский», посвященный великому скульптору, – вторая трилогия К. Абрамова – новаторское произведение мордовской литературы с точки зрения «человеческого» и событийного материала. Героями его являются подлинные лица, реальные люди, выступающие под собственными именами и фамилиями. Главное в романе – личность скульптора Эрьзи, становление и развитие его как человека и как художника. Эрьзя – идейный и композиционный центр романа, к нему стягиваются все событийные и сюжетные линии, все с ним соотнесено: семья, друзья, земляки, события, другие художники, скульпторы и даже исторические личности. Одним из важнейших средств облика Эрьзи в трилогии стало глубокое продуманное воссоздание социального, нравственного и бытового фона времени, в котором жил скульптор. Изображая жизнь Эрьзи как историю человека, составившего одну из самых ярких страниц национальной культуры, К. Абрамов понимал, что образы таких людей, каким был Эрьзя, в силу своей общенациональной и общечеловеческой значимости не могут рассматриваться вне духовного и нравственного опыта народа, его породившего, и вне широких общечеловеческих его связей с миром, что в Эрьзе, в его нравственно-психологической и художественной сущности многое можно увидеть, если учитывать обусловленность развития его таланта в связях с национальной духовностью и культурой народа в целом. Уже первая экспозиционная глава романа «Сын эрзянский» – прекрасная реалистическая новелла о мордве, о быте, нравах, семейном, социально-экономическом укладе и истории. И заслуга К. Абрамова как художественного биографа Эрьзи состоит прежде всего в том, что мир души и мир творчества скульптора автор пытается понять и осмыслить через понятие «родины» Эрьзи, через старинное, с резными наличниками на избах эрзянское село Баево, где он родился, увидел первые лица людей, услышал их речь. Мир Эрьзи, в интерпретации автора, формировали и алатырские и присурские леса, и своенравная лесная речушка Бездна, в живописной излучине которой в поисках лучшей доли поселилась семья Нефедовых после ухода из родного Баева. Мир Эрьзи – это и богатейшее песенное, сказочное и прикладное искусство мордвы, стихия которого пульсирует в каждой скульптуре Эрьзи. Все эти и многие другие реалии национальной жизни с первых страниц свободно и густо входят в роман. Писатель как бы вводит, втягивает нас в неторопливый, размеренный ритм небольшого эрзянского села, посвящает в труды и заботы простой крестьянской семьи, в непритязательных бытовых сценах дает почувствовать читателю неповторимый колорит национальной жизни, намечает типы национального характера мордовского народа. В первой книге романа на социально-бытовом национальном материале, воссоздающем яркие картины народного быта, нравов эстетического и нравственного 109 мира людей мордовской деревни, перед читателем вырисовывается та художественная основа народной жизни, которая взрастила корни таланта Эрьзи как художника. Немало места в романе уделено семье скульптора – его родителям, брату, сестре, которые сыграли немаловажную роль в становлении его характера. В романе постоянно ощущается присутствие образа самого народа. Людьми глубоко народной культуры изображены родители Степана – мать Мария и отец Митрий, чародей дерева дед Охон, талантливый народный самородок Охрем. Общение молодого Степана Нефедова с окружающими его людьми дает очень многое для пробуждения его художественных способностей. Особенно интересно в этом отношении раскрыт образ деда Охона. Чудесный мастер по дереву, удивительный сказочник, он немало сделал для формирования личности Степана. Ему, как лучшему мастеру, было доверено строительство церкви, ибо Охон был человеком, который вкладывал в дерево свою душу, свое понимание прекрасного. От Охона любовь к дереву пришла и к Степану. Отмечая самобытные черты своих героев, автор с теплотой пишет о трудолюбии Марии и Митрия, о женской доле и семейных традициях своего народа. Вторая книга романа, кстати, названа весьма символически «Понгосо мода» («Земля за пазухой»). Главный герой Степан Эрьзя всегда помнит о родных местах, в тяжелых жизненных условиях сердце Степана согревалось воспоминаниями о своем чудесном крае, о речке Бездне. С большим психологическим проникновением передан в первой части эпизод с горстью земли, которую Степан, соблюдая народный обычай, берет с собой в дорогу. «Паряк те модась максы тензэ уцяска. Степа марясь ойме ежосо: туи тестя аволь недляс или ковс, туи, ды, паряк, зярдояк а сы мекев» («Может быть, эта земля принесет ему счастье. Степа чувствовал: уедет отсюда не на неделю или месяц, уедет и, возможно, никогда не вернется назад») [1. С. 28]. Этот эпизод в трилогии выражает и олицетворяет нерасторжимую связь жизни главного героя со своей родиной, своим народом. Его мысли снова и снова возвращаются к горсти земли за пазухой, которую он решил разбросать по ярмарочной площади в знак своего растворения в необъятном мире людей и одновременно из боязни навсегда потерять надежную опору в этом мире. Ведь и мир в свою очередь должен раствориться в этой горстке родной земли, которая, как ему представляется, никогда не оставит его в беде. Здесь в существенных чертах раскрывается своеобразие характера Степана, подчеркиваются его простодушие, наивность, идущие от патриархального крестьянского сознания. В нем автор выделяет такие черты, как искренность, бескорыстие, пристальный интерес к различным явлениям природы, и в то же время – напористость, упрямство и силу воли. И в каждом повторении этих мотивов как бы подчеркивается упорство воли Степана в достижении им своей цели – приобщения к искусству. Идея творчества в романе развивается и утверждается в конфликте таланта с бытом. Метания, трудная судьба Степана Нефедова в произведении истолкованы как проявление социальной драмы, и в этом особая удача писателя. Автор убедительно рисует нелегкий путь человека из народа к вершинам искусства: унижение, обман, гнетущая идеологическая атмосфера, растлевающая душу мораль и нравственность, все это приходится преодолевать Эрьзе. Здоровое трудовое воспитание, полученное в семье, поддержанное передовыми людьми, помогло скульптору стать выдающимся художником. Такая концепция прозаика нам кажется плодотворной и вполне современной. Роман К. Абрамова еще раз убеждает нас в том, что опора на поиски общечеловеческих начал в личности крупных, выдающихся личностей в литературе открывает большой простор для выражения как национальной самобытности человеческого характера, так и больших социально-нравственных и эстетических идей. 110 У К. Абрамова мордовский народ проявляет свою индивидуальность, сохраняет свою «манеру видеть вещи». И национальный характер в романе подвижен – это борьба между новыми и старыми чертами и свойствами. Национальный характер – как об этом правильно пишут многие исследователи (К. 3елинский, Г. Ломидзе и др.) [3, 4] – не сумма врожденных добродетелей и не может быть сведен к неким исключительным, не встречающимся у других народов чертам. Чтобы верно понять национальный характер, необходим не перечень его общих свойств, а исследование его своеобразия в исторической обусловленности. Автору удается несколькими штрихами нарисовать ряд своеобразных характеров, обладающих яркими национальными чертами. Отец и мать Степана по-своему воплощают национальный характер. Во взглядах Митрия и Марии, в их различии, в смене чувств наглядно проявляется развитие характера. Реалистически достоверно изображены наивные в силу сложившихся традиций взгляды Марии на человеческое счастье, ее мысли, сомнения, печаль о своем неустроенном сыне, который отказывается от сытого семейного благополучия во имя своей высокой мечты стать художником. Отец Степана показан человеком, ценящим свободу, человеческое достоинство. Писатель не только всем сердцем сам привязан к своему народу, национальным истокам своего творчества, но он приобщает к ним и другие народы. Иными словами, почвой национально самобытного стиля выступает национальное художественное сознание, этноспецифическое мироощущение художника, а формой его проявления служат те стилевые компоненты (причем различных структурных уровней – от сюжета, композиции до какой-либо отдельной метафоры), которые заключают в себе фольклорное «зерно». Являясь отражением многогранной действительности, художественный образ отражает одновременно и ту ее грань, которая сообщает ему национальное своеобразие. Определить же национальное в образе – это значит определить национальную манеру художника, его национальный стиль как конкретное воплощение образного мышления нации. Список литературы: 1. Абрамов, К. Г. Эрзянь цера. Омбоце книга / К. Г. Абрамов. – Саранск, 1973. – 420 с. 2. Белинский, В. Г. Полн. собр. соч. Т.VII. / В. Г. Белинский. – М., 1955. – 607 с. 3. Зелинский, К. Л. Национальные литературы / К. Л. Зелинский. – М., 1967. – 317 с. 4. Ломидзе, Г. И. Интернациональный пафос литературы. Размышления, оценки, спор / Г. И. Ломидзе. – М., 1970. – 463 с. 111 Н. М. Сиражитдинова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МИР В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ (НА ПРИМЕРЕ НАРОДНЫХ ПЕСЕН БАШКИР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) Данная статья посвящена исследованию башкирских народных песен, зафиксированных на территории нынешней Челябинской области. Цель исследования – выявить поэтические особенности башкирских народных песен. Из анализируемых 128 башкирских народных песен, имеющих собственные названия, на уровне лексем выявляется мир башкирского быта, образа жизни, его человеческое окружение: лирический персонаж, его родственники, другие люди. Ключевые слова: башкирская народная песня, лирический персонаж, человеческий мир. Песни любого народа, в том числе и песни башкир челябинского региона, богаты и разнообразны, неразрывно связаны с жизнью народа, с историей, бытом, трудом и мифологическими представлениями. Исследователи песенного жанра, безусловно, обращали на это внимание. Так, например, ученый Н. И. Кравцов отмечает, что «…поэтика фольклора может иметь и национальные особенности: песни русские, украинские и белорусские весьма близки между собой и в то же время различаются не только в тематическом и сюжетном отношении, но и в строении, выразительных средствах и эмоциональной окраске»1. В нашем случае, относительно башкирской песни, также уместно применить тезис о том, что башкирские народные песни нынешней Челябинской области – глубоко национальное явление2. И независимо от того, является она исторической или бытовой лирической песней, в основе жанра лежит человеческое отношение к действительности, его внутренние переживания. Поэтому песня по своей природе является лирическим жанром3. И в нашей работе песня рассматривается как лирическое произведение, поскольку «человек – главный предмет искусства, без образа человека произведение утрачивает свою стройность, утрачивает логический центр»4. Образ человека и образ его тела «…служил точкой отсчета и образцом для построения лексических моделей пространства, времени, социума, жилища и т. д.»5. Исходя из этого, нами проанализировано 128 песен, имеющих собственные названия и зафиксированных на территории Челябинской области (бывшего Аргаяшского кантона БАССР)6. Одной из существенных особенностей башкирской песни является не только отражение тех или иных исторических событий, воспевание родного края и душевных переживаний, но и обыденные моменты жизни – окружение и быт башкир. Количество лексем, связанных с образом человека, в данных песнях составило цифру 262, так как в одной песне представлено от одного до четырех фольклорных персонажей и более, когда речь идет о неопределенном количестве деревенских старожилов или о неопределенном количестве родственников, друзей, врагов. Например [примеры песен в переводе автора. – С. Н.]: …Сегодня только ночью видел сон: На оседланного коня я взобрался. Сон этот был мне на руку: Порадовался, увидевшись с друзьями («Моя головушка»). …В степи на тебеневке пасутся 112 Кони кантона Азаматова. Когда умер кантон Азаматов, Горько заплакали его дети («Кантон Азаматов») и др. Итак, из песенного материала выявлены такие лексемы, как кеше (человек) («Ирале», «Окопная», «Боярышник», «Мадинакай», «Песня Азаматова» – 7 раз), ир (мужчина) («Урал», «Сайка батыр», «Степной курай», «Юрка Юнус», «Моя головушка», «Любимый», «Аргаяш», «Девушка» – 9); егет (молодой человек) («Кулуй и Фатима», «Степной курай», «Под мельницей глубокая вода», «Долина Миасса», «Егет», «Песня солдата», «Песня охотника», «Моя головушка», «Бекас», «Ветер дует поддувает», «На рассвете», «Егет, ты егет», «Мирские заботы» – 15); атай (отец) («Урал», «Песня башкир», «Аргужа», «Любимый», «Заркай», «Белый заяц» – 11); инeй (мать) («Сайка батыр», «Любимый», «Песня Аксабыша», «Белый заяц» – 4); kыz (девушка) («Кулуй и Фатима», «Степной курай», «Под мельницей глубокая вода», «Шагура-красавица», «Боярышник», «Аргаяш», «Ветер дует поддувает», «На рассвете», «Талые воды», «Красавица», «Мадинакай», «Девушка», «Перепелка», «Соловей» – 16); бала (ребенок) («Старый эскадрон», «Эскадрон», «Азаматов кантон», «Заркай» – 4); дуc-иш (друг-товарищ) («Кисегач», «Ирале», «Новый эскадрон», «Ишбирде», «Иремель», «Песня Аманова», «Жизнь», «Саляй», «Моя головушка», «Мирские заботы», «Кумкуль», «Аминакай», «Юрка Юнус», «Бутис», «Яблоня», «Гей-гей» – 20); тугандар (родные) («Ирале», «Песня воров», «Мирские заботы» – 3); башkорт (башкир) («Урал», «Кулуй кантон», «Аргужа», «Айда, башкир!», «Зиляйлюк» – 15); мин (я) («Урал», «Курай», «Ирале», «Старый эскадрон», «Новый эскадрон», «Песня башкир», «Сайка батыр», «Аргужа», «Песня Шарафетдина Вайсилова», «Шарафетдин», «Кулуй и Фатима», «Ишбирде», «Загидулла», «Саляй», «Тоскливая жизнь», «Аминакай», «Возле Миасса», «Егет», «Юрка Юнус», «Песня солдат», «Синий сокол», «Эскадрон», «Окопная», «Песня охотника», «Песня Аманова», «Боярышник», «Моя головушка» и др. – 62); hин (ты) («Курай», «Кисегач», «Ишбирде», «Начальник», «Боярышник», «Бекас», «Мадинакай» – 7); беz (мы) («Кисегач», «Старый эскадрон», «Иремель», «Песня о летовке», «Кумкуль», «Идакаш», «Синий сокол», «Борышник», «Девушка», «Песня Азаматова», «Песня Аксабыша», «Гей-гей», «Песня Еренсей», «Чересседельник», «Заркай», «На своей земле мы чужие» – 16); енге (сноха) («Егет, ты, егет», «Перепелка» – 2); агай (брат) («Аргужа» (3 варианта) – 4); уz (свой) («Кулуй кантон», «Песня Шарафетдина Вайсилова», «Бадриян», «Идакаш», «Песня Аксабыша», «Песня солдат», «Мадинакай» – 10); улар (они) («Песня башкир» – 1); казактар (казаки) («Кулуй кантон» – 2); янышай, йенем (любимый, -ая) («Песня солдат», «Бадриян», «Дождь идет», «Талые воды», «Красавица», «Мадинакай», «Белый заяц» – 10); француз («Иремель» – 1); дошман (враг, недруг) («Ирале», «Аргужа» – 2); а также имена собственные (антропонимы) – 41: Сукан («Сукан батыр»), Ирале Кузуев («Ирале Кузуев»), Кулуй («Кулуй кантон»), Азаматов («Азаматов кантон»), Сайка («Сайка»), сын Вайсила муллы Шарафетдин («Аргужа»), Фатима («Кулуй и Фатима»), Ишбирде («Ишбирде»), Загидулла («Загидулла»), Ямантай («Загидулла»), Саитхужа («Сайфульмулюк»), Кушай («Кушай»), Кулгизар («Кулгизар»), Бадриян («Бадриян»), Гайнисафа («Ирале Кузуев»), Бадрисафа («Ирале Кузуев»), Шагура («Шагура-красавица»), Юнус («Юрка Юнус»), Сираев («Сираев»), Хужахмет дитя Мажита («Эскадрон»), Биби («Зубаржат»), Сарби («Зубаржат»), Зубаржат («Зубаржат»), Бибигайша («Зубаржат»), Гульгайша («Зубаржат»), Мадина («Мадинакай»), Аминакай («Возле Миасса»), Гайша («Гайшакрасавица»), Шариф («Песня Азаматова»), Шарифъямал («Азаматов кантон»), Гайса («Айса ахун»), Хабиб («Айса ахун»), Зиляйлюк («Зиляйлюк»), Заркай («Заркай»), 113 Искандер сын Габделя («Искандер»), Сайфульмулюк («Сайфульмулюк»), Аманов («Песня Аманова»), Магисаруар («Магисаруар»), Саляй («Саляй»), Тафтиляу («Тафтиляу» (Тевкелев)), Насир («Песня Насира»). Антропонимы ярко подтверждают не только национальную специфику песен, но и то, что эти люди когда-то жили на данной территории и их имена, как свидетели прошлого, навсегда запечатлелись в текстах песен. Выявленные лексемы можно также распределить на две категории: лексемы, обозначающие собственно образ человека, людей: кеше (человек), ир (мужчина), егет (молодой человек), kыz (девушка), дус-иш (друг-товарищ), башkорт (башкир), дошман (враг, недруг), француз, мин (я), беz (мы), hин (ты); и лексемы, обозначающие родственные отношения: атай (отец), инeй (мать), тугандар (родные), бала (ребенок), енгe (сноха), агай (брат). Кроме этого, исходя из материала, отношения фольклорных персонажей в песнях можно представить в таком виде: человек (лирический персонаж песни, далее – персонаж); персонаж – дети – старожилы; персонаж – отец и мать; персонаж – родственники – друзья; персонаж – башкир; персонаж – враг; персонаж – героиня; персонаж – отец и мать – любимый; персонаж – мужчина. В песнях названные отношения выражены местоимениями и нарицательными существительными, а также и антропонимами. Например: …Биби, Сарби, Зубаржат, Бибигайша с Гульгайшой, Смеясь, разговаривают между собой («Зубаржат»). В этой песне представлены сразу пять персонажей. …Что бы я ни делал, дорогая, передо мной Ты – Мадинакай, красавица моя кудрявая… («Мадинакай») В этом примере можно увидеть два персонажа: молодого человека, влюбленного в Мадину, и саму девушку, которая подразумевается в тексте. …Есть что мне сказать, Где же мой брат Шариф?.. («Кантон Азаматов») Здесь также присутствуют два персонажа – герой песни и его брат Шариф и т. д. В анализируемых песнях также нашли отображение и семейные отношения. Например, в песне «Егет, ты егет» – явление левирата7: …Э-эй, одинокая сноха живет, А жизнь проходит зря. …Скажешь: «Не буду любить!» А все равно полюбишь: На то есть обстоятельства. Анализируемый нами песенный материал отображает и быт башкир. В песнях исследуемого региона (из тех же 128 песен, имеющих названия) нами выявлена следующая бытовая лексика: лексемы, связанные с домом: ауыл (деревня) («Кисегач», «Ирале»), ишеккeй (мои двери) («Аргужа»), ишеккeй тθбθ (порог) («Шарафетдин»), θй (дом) («Шарафетдин»), тeзерeкeй тθбθ (подоконник) («Идакаш»), тeзерe (окно) («Кулгизар»), усаk (очаг) («Бадриян»), ут (огонь) («Урал»); лексемы, обозначающие постройки: аk тирмe (белая юрта) («Летовка»), кyпер (мост) («Искандер»), kапkа (ворота) («Кудрявая ива»), θс бура (сруб из трех рядов бревен) («Искандер»); лексемы, связанные с предметами обихода: самауыр (самовар) («Моя головушка»), йозаk (замок) («Идакаш»), белey (точильный брус) («Песня Шарафетдина 114 Вайсилова»), баckыс (лестница) («Аргужа»), сталдeн бысаk (нож из стали) («Искандер»), kара ултыргыс (черный стул) («Розовые, розовые…»), сана (сани) («Эскадрон»), хат (письмо) («Сайфульмулюк»), эйeр (седло) («Загидулла»), дага (подкова) («Иремель»), θзeнге (стремя) («Песня Аманова»), kайыш дилбегe (кожаные вожжи) («Аргужа»), дуга (дуга) («Ирале»), kамсы (плетка) («Кисегач»), еzгойошkан (чересседельник) («Эскадрон»), биzре (ведро) («Красавица»); лексемы, обозначающие одежду: тyбeтeй (тюбетейка) («Начальник»), кyлдeк (платье) («Талые воды»), ефeк билбау (шелковый пояс) («Бекас»), сeсмey (накосник) («Аргаяш»), бyре тун (тулуп из шкуры волка) («Песня охотника»), кyк елeн (синий зилян) («Эскадрон»), аk шарф (белый шарф) («Песня о летовке»), kашмау (кашмау – женский головной убор) («Кулгизар»), kамсат бyрек (бобровая шапка) («Кулуй кантон»), бишмeт (бишмет) («Ирале»), тθймe (пуговица) («Ирале»), батис кyлдeк (платье из батиса) («Красавица Гайша»), yрмe шeл (вязаная шаль) («Красавица Гайша»), бyрек (шапка) («Шарафетдин»), hалдат кейеме (солдатская одежда) («Эскадрон»); лексемы, связанные с обозначением денег: аkса (деньги), 100 hум (100 рублей) («Под мельницей глубокая вода»); лексемы, связанные с вооружением: kын (ножны) («Новый эскдрон»), алмас kылыс (алмазная сабля) («Новый эскадрон»), kылыс (сабля) («Старый эскадрон»), мθгθз уk (роговая стрела) («Кулуй кантон», «Аргужа»), уk (стрела) («Аргужа»), керешкe (тетива лука) («Кулуй кантон»), туп (ядро) («Сукан батыр»), мылтыk (ружье) («Старый эскадрон», «Аргужа»); лексемы, обозначающие музыкальные инструменты: kурай (курай) («Курай»), сел kурай (степной курай) («Степной курай»), баkыр kумыз (медный кумыз) («Под мельницей глубокая вода»; лексемы, обозначающие украшения: кθмθш балдаk (серебряное кольцо), етмеш тeнкe (семьдесят монет) («Красавица Гайша»); лексемы, связанные с занятием: hунарсы (охотник) («Песня охотника»), казак (казачий) («Кулуй кантон»), eрме (армия) («Окопная»), жeйзey (летовка) («Кушай»), kолон бeйлey (привязывать жеребят) («Кушай»), θс тyтeл (три грядки) («Егет, ты егет»), иген (поле) («Гей-гей»), кебен (стог) («Кулуй и Фатима»), басыу (поле) («Саляй»), еп йомарлай (мотает шерсть) («Кулгизар»); лексемы, обозначающие материал: таш кирбес (кирпич из камня) («Песня Еренсей»), таш (камень) («Кулуй кантон»), аk kурнисe (белая занавеска) («Мадинакай»), kарагай θй (дом из сосны) («Девушка»), kарагайзан кyмере (угли сосновые) («Искандер»); лексемы, обозначающие продукты питания: бал-шeкeр (мед-сахар) («Мадинакай»), бал (мед) («Любимый»), kымыз (кумыс) («Кушай»), ризыk (пропитание) («На своей земле мы чужие»), елeк (ягода) («Красавица»), kаk (пастила) («Красавица»), kаk-сeй (чай с пастилой) («Красавица»), бθрлθгeн (костяника) («Мадинакай»), kарлыган (смородина) («Мадинакай»), муйыл (черемуха) («Боярышник»), hыу (вода) («Сайфульмулюк»), алма (яблоко) («Розовые, розовые…»), тары (пшено) («Заркай»), бойзай (пшеница) («Саляй»), балыk (рыба) («Красавица Гайша»), дулала (боярышник) («Боярышник»). Итак, данные лексемы ярко подтверждают, чем занимались башкиры края, как одевались, чем пользовались в домашнем хозяйстве, как питались, какие были украшения и музыкальные инструменты. Здесь отображается также национальная специфика образа жизни: башкиры вели полукочевой образ жизни. Зимой жили в своих домах, а летом выходили на летовки. Среди предметов обихода особо выделяются предметы, связанные с коневодством. На столе у башкир были не только молочные продукты, но и пшено, пшеница, сахар и др. 115 Таким образом, башкирская народная песня – это кладезь духовной культуры, а песенная лексика, в том числе и отмеченная нами бытовая лексика, и лексика, связанная с образом человека, являются основой этой культуры. Далее уже на данную основу «нанизываются» другие обстоятельства, отношения, особенности и т. п., которые, в конечном счете, и являют собой понятие народной песни. Примечания 1 Кравцов, Н. И. Поэтика русских народных лирических песен. Ч. 1 / Н. И. Кравцов. – М., 1974. – С. 5. 2 Башкирские народные песни / сост.-ред. Х. Ф. Ахметов, Л. Н. Лебединский, А. И. Харисов. – Уфа, 1954; Башкирское народное творчество : Песни. Кн. 1. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1974; Кн. 2 – Уфа, 1977 / сост., вступ. ст., комм. С. Галина; Галин, С. А. Годы и песни / С. А. Галин. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1967; Илимбетов, В. Х. Поэтика башкирских песен : дис. … канд. филол. наук / В. Х. Илимбетов. – Уфа : БГУ, 1998; Киреев, А. Н. Песенная тетрадь. Записи фольклориста / А. Н. Киреев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1964; Лебединский, Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши. – М., 1965; Рыбаков, С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. – СПб., 1897; Салтыков, И. В. История и анализ башкирских песен. Научный архив УНЦ РАН, ф. 3, оп. 61, ед.хр. 26 и др. 3 Ахмедьянов, К. Поэтическая образность (на башк. яз.). – Уфа : Башкир. кн. издво, 1994. – С. 154; Илимбетов, В. Х. Поэтика башкирских песен… С. 81. 4 Кравцов, Н. И. Поэтика… С. 89. 5 Габышева, Л. Л. Слово в контексте мифопоэтической картины мира : автореф. дис. … д-ра. филол. наук / Л. Л. Габышева. – М., 2003. – С. 29. 6 Песни с вариантами и версиями, с указанием информаторов помещены в «Отчете д-ра филол. наук, проф. А. Н. Киреева по фольклорной экспедиции 1962 года в Челябинскую область», см.: Научный архив Уфимского научного центра РАН (ф.3, оп. 21, ед.хр. 8) (95 песен); а также в сборнике Валеев, Д. Ж. Духовное насление аргаяшских башкир. – Уфа : Гилем, 1996 (30 песен); собственные полевые материалы 1999–2000 гг. (3 песни). 7 Бикбулатов, Н. В. Семейный быт башкир ХIХ–ХХ вв. / Н. В. Бикбулатов, Ф. Ф. Фатыхова. – М. : Наука, 1991. – С. 140–141. Т. А. Сироткина КАТЕГОРИЯ ЭТНИЧНОСТИ И ЛОКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА В статье рассматриваются названия народов (этнонимы), функционирующие в диалектной речи русских жителей Пермского края. Делается вывод о том, что этнонимы являются основным средством вербализации категории этничности в локальной картине мира. Ключевые слова: этнонимы, категория этничности, локальная картина мира. Одной из существенных для языкового сознания категорий, на наш взгляд, является категория этничности. Человек осознает сам себя как часть определенного этноса, в то же время идентифицирует других людей по признаку этничности. Под этничностью обычно понимают присущие только данному сообществу людей язык, 116 менталитет, моральное и духовное наследие, знание об этногенезе и особенностях этнокультурного развития. В настоящее время в лингвистике огромное внимание уделяется соотношению различных понятий и категорий с феноменом картины мира. Под картиной мира подразумевается целостный облик мира, обладающий свойством системности, формирующийся посредством человеческого опыта на основе исходных мировоззренческих установок. Одной из ипостасей образа человека в картине мира является человек этнический. Основной способом актуализации данной ипостаси, на наш взгляд, – это этнонимы (названия людей по этнической принадлежности). Наличие этнонима как у всего исторически возникшего сообщества людей, так и у какой-то его части (субэтноса) служит проявлением самоидентификации людей и принадлежности их к конкретной общности. Когда картина мира отражает какой-либо определенный фрагмент действительности, говорят о локальной картине мира [4. С. 51]. Говорить о локальной картине мира возможно, как представляется, также в том случае, если она отражает языковое сознание носителей определенной локальной культуры. В данной статье таковыми являются русские диалектоносители Пермского края. Как известно, территориальные диалекты, будучи средством общения населения исторически сложившихся областей со специфическими этнографическими особенностями, являются универсальной формой накопления и трансляции этнокультурного своеобразия языковой картины мира диалектоносителей [2. С. 6]. В сознании диалектоносителей присутствует определенный набор представлений об этничности тех, кто живет с ними по соседству. Функционирование этнонимов в диалектной речи связано с языковой компетенцией личности. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, компетенция в области идентифицирующих имен создается знанием их референции [1. С. 24]. Анализируя пермский этнонимический материал, мы обнаружили, что референция этнического имени может быть: 1) известна говорящему: «Личность такая мариец. Глаза узкие. С женой был»; «Манси раньше наезжали. Унты продавали, туфли теплые»; 2) неизвестна говорящему, в этом случае: а) говорящий признает свою некомпетентность: «Не видал, не знаю ханты, манси»; «Не видела хантов, мансей»; б) пытается произвести категоризацию самостоятельно, в этом случае обычно происходит генерализация этнонимического значения: «Вогула живут в юртах, а зыряна-то тоже вогула»; «Вотяки они тоже наверно зыряна, наверно, вотяк и те, и другие»; «Сё равно хоть уж он зырян, а мась-то сё рано у их вогульская»; «У них [вогулов. – Т. С.] нации нету, только они сами подразделяются на вогул и зырянов». Вместе с тем в любом из указанных случаев отмечается «чужесть», «заграничность» культуры соседей: «Татара наверно съели его с кобылой вместе. Он по лошадь ушел». Представитель своего этноса часто описывается через особенности другой культуры, другого склада характера: «Да вот у нас тут в суседях есть парень. Такой чернущий, как китаец»; «Проспишь до утра. А утром глаза как у китайца станут. Распухнет лицо от комаров». Иногда подобное обозначение становится устойчивым либо для отдельного человека, либо для целого коллектива. Представители целой деревни могут иметь отэт- 117 нонимное прозвище, в основе которого лежат какие-либо внешние особенности или особенности поведения, речи: «Сыпучане – монгольцы»: «Монголы – в Сыпучах». В сознании народа часто нет границы между этнонимами и катойконимами, что хорошо репрезентируют диалектные тексты: «Раз уж с Башкирии, так башкирцем и называм. Есть у него, ага, свой язык». Только по второй фразе можно установить, что речь все же идет скорее об этнониме, нежели о катойкониме или прозвище. «Многие есть белорусы. Из Белоруссии. Как их русскими назовешь?» Не различаются также собственно этнонимы и названия этноконфессиональных групп: «Анфиза кержачка. Нация такая». Иногда наблюдается окказиональное использование форм этнических наименований: «Соня на стрелке. Отец и мать греки были. Соня гречка была». Кроме того, сам термин этнос, репрезентирующий категорию этничности в научных текстах, в бытовом дискурсе не представлен. Его заменяют синонимичные термины народ, нация, национальность: «Есь такая нация – башкиры»; «Украинцы – национальность у них такая. Их же называют хохлами. Это у них прозвишшо. Сами себя называют. Не серчают»; «Цыгане-то – своя нация у них». Реже заменой термина этнос является лексема сословие: «Есь люди вогульского сословья». Кроме общерусских этнонимов, в диалектном дискурсе функционируют народные названия этносов. Так, слово алышка, имеющее в СРНГ помету «пермское», называет татарку; слово апайка (там же, с этой же пометой) – замужнюю татарку, чувашку (от татар апа – старшая сестра). Возникают народные названия отдельных этнических групп. Так, чердаками местное население называет этническую группу русских на севере Куединского района, сформировавшуюся в начале ХIХ века из переселенцев Чердынского уезда Пермской губернии, шишмой – этническую группу русских, основу которой составляли помещичьи крестьяне, переселенные из Казанской и Нижегородской губерний [8. С. 22]. Различаются внутри русского населения этнические группы коренных уральцев (челдоны) и выходцев из центральной России (кацапы): «Я вот, например, челдонка, муж – кацап». В ряде случаев носители пермских говоров реагируют на данное именование как обидное: «Сам ты челдонья, понятно? Белорус!»; «Вы нас челдонцами не называйте, если мы не такие слова говорим». Особенно интересным явлением, отражающим функционирование этнонаименований в диалектном дискурсе, является их способность к образованию устойчивых сочетаний. Часто в языке мы можем наблюдать акты «ксенономинации», т. е. номинации через чужое. Показательны, на наш взгляд, в этом плане фразеологизмы с этническим компонентом. Как известно, «в процесс фраземообразования активнее вступают те свободные словосочетания, которые отражают конкретные явления материальной действительности, связанные с жизнью человека» [4. С. 194]. Фразеологизмы в большей степени, чем единицы других языковых уровней, вбирают в себя национальную специфику и ценностную ориентацию их носителей. Очень продуктивен в пермской фразеологии этноним татары: татара (молотят) в голове – головокружение, головная боль, тяжесть: «Сёдни я ничё не скажу, у меня татара молотят в голове; татарам на хмель – ни на что не годен: «Баушка, праздник нынче, дай выпить маленько, потом помогу тебе чем-нибудь. – Да кому ты нужен! Тебя только татарам на хмель; татарин родился – о моменте мгновенной тишины: «Татарин что ли родился? Почему тогда замолчали? Разговаривайте». 118 Наряду с этнонимами в состав фразеологизмов входят отэтнонимные прилагательные: коромысло татарское – высокий сутулый человек: «Спать ложуся, дак только и разгибаюсь, а днем как коромысло татарское – не согнуться, не разогнуться». Это же прилагательное становится основой для образования ортонима: татарская ворона – одна из разновидностей семейства вороньих: «У нас новая птица появилась – татарская ворона. Похожа на галку, хохолок большущой, под крыльями бело; на сороку находит, а поет – как маленький ребенок». Существует в говорах и фитоним с данным прилагательным: татарские мыльца – травянистое лекарственное растение: «Эта трава от тоски помогает. Вот ведь если не татарские мыльца, то уж не знаю, чё бы со мной было – ведь сколько я тосковала»; «От тоски пили татарские мыльца, у воды ростут, цветки красные, а листики-те узкие, длинные» [6. С. 226]. Этноним лопь не представлен в Прикамье так ярко, как на Русском Севере. Однако и у нас упоминание об этом северном народе содержит фразеологизм Шиша да Лопа – случайные, незначительные люди; сброд, пустословы: «У нас пекаря Шиша да Лопа, плохо пекут, пьяницы, неохота робить-то». Показательны в плане сравнения «своих» и «чужих» устойчивые сравнения. В сравнительных конструкциях, по наблюдениям лингвистов, «фиксируется социальный и культурный опыт языковой личности, находящий отражение в общей картине мира» [3. С. 665]. В пермских говорах функционируют сравнения как вогулы, как чучмеки, как чучкари (чучмеками или чучкарями в Прикамье назывался древний народ – чудь): «Живем, как вогулы, ругамся, грешим, переговаривам, вот дождя и нет»; «Раньше чё, книжек не читали, радиво не слышали, как чучмеки жили»; «Дикие, как чучкари жили, не смели ничего, кроме отца сделать, ничего не знали, не училися дак» [6. С. 420]. Функционирование этнонимов в диалектной речи тесно связано с проявлением когнитивной категории дуальности. Дуальность – это такой принцип восприятия и языкового отображения мира, в соответствии с которым действительность интерпретируется как единство антиномий, противоположностей [7. С. 18]. Основные антиномии, представленные в этнонимии, – мы / они, свои / чужие: «Чиганьё-то – своя нация у них». Яркой репрезентацией данной категории в этнонимии являются «отрицательные этнонаименования» (например, нерусский), которые имеют значение «не такой, как все, плохой, бестолковый, злой»: «У нас на работе палец отпили пилой, стали разбирать-то, уж нерусский – так нерусский, так и есть – разява»; «Дак ведь настукают нерусские люди-то»; «У меня сноха, как медведица в берлоге. Проклятые нерусские татары, да немцы. Чо сыну, по какой леший принес». Носители говоров осознают, что при использовании этнонаименований небходимо осуществлять: 1) выбор формы имени (единственное и множественное число, форма рода): «Ну а один – дак башкир»; 2) выбор одного из нескольких возможных этнонимов: «Украинцы – национальность у них такая. Их же называют хохлами. Это у них прозвишшо. Сами себя называют. Не серчают»; 3) выбор именования в зависимости от ситуации общения (лично или «за глаза»): «Если он настояшшый татар, мы ево так не назовем. А один между другим скажем когда и: татарин ты!»; «Татарином как-то оно неудобно, некультурно татарином в лицо назвать». 119 Таким образом, можно говорить о том, что существует некий этнический фрагмент локальной языковой картины мира жителей Пермского края, содержащий некий традиционный для данной территории набор этнонаименований. Определяющими признаками данного фрагмента являются антропоцентризм, наличие оппозиций свой/чужой, мы/они, а также стереотипное восприятие явлений «чужого» культурного пространства. Список литературы 1. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М., 1999. – 490 с. 2. Брысина, Е. В. Этнокультурная идиоматика донского казачества / Е. В. Брысина. – Волгоград : Перемена, 2003. – 293 с. 3. Еримбетова, А. М. Компаративный фрагмент семантического микрополя «человек» / А. М. Еримбетова // Новое в когнитивной лингвистике. – Кемерово, 2006. – С. 664–669. 4. Золотых, Л. Г. Когнитивно-дискурсивные истоки фразеологических единиц (на материале народных обычаев и обрядов) / Л. Г. Золотых // Новое в когнитивной лингвистике. – Кемерово, 2006. – С. 194–200. 5. Маслова, В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 256 с. 6. Прокошева, К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров / К. Н. Прокошева. – Пермь, 2002. – 432 с. 7. Федяева, Н. Д. Языковой образ среднего человека в аспекте когнитивных категорий дуальности, градуальности, оценки, нормы : дис. … канд. филол. наук / Н. Д. Федяева. – Омск, 2003. – 171 с. 8. Черных, А. В. Этнические особенности русских башкирского пограничья / А. В. Черных // Пермский край : прошлое и настоящее. – Пермь, 1997. – С. 22–23. Э. А. Старкова О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЕДИНСТВЕ СБОРНИКОВ Н. ГОТОРНА «ДЕДУШКИНО КРЕСЛО», «КНИГА ЧУДЕС» И «ИСТОРИИ ТЭНГЛВУДА» В статье обосновывается положение о целостности художественного мира Натаниэля Готорна – автора дидактической «малой прозы» для детей. Три сборника рассказов, созданных в разные периоды творчества, рассматриваются как единый дискурс, в котором нашла отражение общность мировоззренческой и эстетической позиции автора, проблематики и повествовательной манеры. Ключевые слова: Готорн, малая проза, дидактическая детская проза, дискурс. Малую прозу Натаниэля Готорна, отобранную самим автором в три самостоятельные книги рассказов – сборники «Дедушкино кресло» (The Whole History of Grandfather’s Chair, or True Stories from New England History 1620–1808, 1840–1841), «Книга чудес» (A Wonder-Book for Girls and Boys, 1851) и «Истории Тэнглвуда» (Tanglewood Tales for Girls and Boys, 1853), – можно рассмотреть как системное целое, в котором нашло отражение единство мировоззренческой и эстетической пози120 ций Готорна, сохранявшееся на протяжении достаточно длительного творческого пути. Раздумья писателя о будущем американской нации, об отношении молодого поколения к истории страны и к собственной судьбе, об узах, связывающих отдельного человека с целым миром, легли в основание каждого из представленных сюжетов, наложив отпечаток не только на проблематику рассказов, но также на выбор повествовательных форм, которые скрепили поэтическую структуру всех трех сборников, демонстрируя художественную неповторимость создаваемого ими дискурса. Чуть больше десяти лет (срок, вполне достаточный, чтобы предполагать возможность перемен в эстетических взглядах художника) разделяет три сборника между собой по времени их публикации. Создание первого цикла1, «Дедушкиного кресла», относится к раннему периоду творчества писателя, традиционно ограничиваемому началом 1840-х годов2. Примерно в эти же годы Готорн опубликовал «Дважды рассказанные истории» (1837, 1842) – сборник с совершенно иным типом объединения рассказов, нежели в «Дедушкином кресле». Второй и третий циклы – «Книга чудес» и «Истории Тэнглвуда» – увидели свет во время третьего, последнего, периода творчества, отмеченного необычайным подъемом творческой активности писателя; эти «малые» произведения создавались в промежутках между работой над тремя самыми значительными романами Готорна, произведениями крупной формы, – «Алой буквой» (The Scarlet Letter, 1850), «Домом о семи фронтонах» (The House of the Seven Gables, 1851), «Романом о Блайтдейле» (The Blithedale Romance, 1852), – и при этом сохранили полную от них независимость. Более того, явственно проявилась в этих двух поздних книгах глубинная связь их «автора» – зрелого Готорна – с художественными идеями и формальными приемами молодого «автора» рассказов цикла «Дедушкино кресло». Иными словами, на протяжении своей почти тридцатилетней литературной деятельности Готорн не расставался с проблемами, обратившими на себя его внимание в самом начале этого пути. На фоне поэтики Готорна все три сборника выделяются присутствием в них условной фигуры рассказчика, настроенного на живое общение с юными слушателями и использующего разнообразные средства художественной занимательности во имя дидактических задач. В «Дедушкином кресле» это «дедушка», страстно желающий поделиться с группой маленьких родственников своим жизненным опытом и глубокими познаниями в отечественной и фамильной истории; в «Книге чудес» и в «Историях Тэнглвуда» – юный студент и фантазер Юстас Брайт, развлекающий во время каникул малышей «сказками собственного изобретения». В каждой из двух персон нетрудно рассмотреть alter ego самого автора, взявшего на себя труд по воспитанию молодого поколения. Обе персоны не более чем игровые маски весьма серьезного и граждански мыслящего человека. В «Дедушкином кресле» – собрании «историй» из ранней новоанглийской истории – писатель задается целью «создать живое и занимательное повествование для детей <…> из такого неподатливого материала, как угрюмые, суровые и непреклонные качества пуритан и их потомков»3. В предисловии к «Книге чудес» – первому собранию из шести самобытных переложений мифов эпохи античности – Готорн заявляет: «автор давно придерживается мнения, что многие античные мифы можно превратить в превосходное чтение для детей»4. В «Историях Тэнглвуда», ставших своеобразным продолжением «Книги чудес», писатель создает еще шесть литературных версий древних сюжетов, ориентированных на молодую аудиторию, и снова, на этот раз с большой долей самоиронии, признается в сложности поставленной задачи: «Эти старинные легенды, столь переполненные всем, что так претит нашему нравственному чувству, основанному на христианских принципах, – 121 некоторые из них столь ужасны, другие столь скорбны и печальны, – в коих греческие трагики искали себе темы и облекали их в глубочайшие формы горя, которые когда-либо видел мир; разве из такого материала дóлжно создавать развлекательную литературу для детей?»5 Многократное возвращение к рассуждениям о жанрах дидактической прозы, в частности, для детей, свидетельствует о приверженности писателя к открытому использованию художественного языка в целях нравственного воспитания и об осознании им необходимости постоянно вести диалог с молодым поколением. Главным образом, именно благодаря столь очевидной авторской интенции, сохраняющейся в произведениях разных периодов, образуется мировоззренческое и эстетическое целое малой прозы трех сборников. При рассмотрении тематического разнообразия циклов легко выявляется единство их проблематики. В «Дедушкином кресле» дидактическая цель Готорна заключается в желании поставить читателя перед фактом своеобразия новоанглийской истории и особой роли, которую играет этот регион в формировании национальной американской идеологии и национального американского характера. В «Книге чудес» и «Историях Тэнглвуда» писатель, казалось бы, переносит читателя далеко от его родного края, повествует о героических личностях античной древности, подвигах и приключениях славных греков. Однако при внешней непохожести мест действия, обстановки, поступков персонажей, автор акцентирует моменты структурного сходства – в сюжетах античных и современных повторяются проблемы, которые, превращаясь в лейтмотивы, выступают в качестве связующего структурного элемента всех трех сборников. За, казалось бы, «случайными» портретами и набросками новоанглийского или античного прошлого встают «вечные» вопросы нравственности: любви к ближнему и человечности, личной свободы и преданности идеалам, мужества в преодолении внешних препятствий и опасных последствий моральной слабости. Последовательность авторской идейной и эстетической позиции нашла отражение в непосредственных высказываниях обеих персон о заявленных в рассказах проблемах – о человеке и мире, об истории отечества, о нравах Новой Англии. Каждое из описанных событий или поступков удостаивается оценки рассказчика. Свои оценочные сигналы читателю Готорн приоткрывает самыми разными способами. Повествуя с равной объективностью о героических деяниях и о нелицеприятных эпизодах новоанглийского прошлого, Готорн напрямую обращается к сердцам юных американцев, взывает к их чувству сострадания, надеется, что его младший современник-новоангличанин сможет увидеть, а самое главное – принять своих предков такими, какими они были в своих искренних заблуждениях, со всеми положительными и отрицательными качествами. Но чаще оценка автора проявляется благодаря композиционному искусству: Готорн прибегает к параллельному типу повествования и настраивает воспринимающее сознание на аналогии. Рассказывает ли его персона об античных временах или о тех, кто основал Новую Англию, повествование «очеловечивает» и даже «снижает» героев посредством бытовой и психологической мотивировки, раскрывая сложность и вечность борьбы доброго и дурного в душе человека. Гуманизм Готорна, проступающий в оценке его рассказчиками событий и фигур американской национальной истории, а также в трактовке сюжетов и персонажей античных мифов свидетельствует о желании писателя повести диалог относительно ценностей пуританской культуры, долгое время безраздельно властвовавших над новоанглийским сознанием. Терпимость, открытость и гибкость мышления – вот те идеалы, уважение к которым стремится воспитать Готорн-романтик в подрастающем поколении, и которых столь опасались их предки-пуритане. 122 Подтверждением художественного единства трех сборников может служить также тождественность повествовательной манеры на фоне жанрового разнообразия. Эта закономерность проявляется даже в пределах одного цикла. В «Дедушкином кресле» жанровый принцип для отбора рассказов не соблюдается; складывается своего рода жанровая мозаика из коротких прозаических произведений, различающихся жанровыми формами – комического предания, притчи, собственно легенды, жизнеописания, портрета, скетча. Однако произведения, вошедшие в поздние сборники, «Книгу чудес» и «Истории Тэнглвуда», уже более единообразны в жанровом отношении и представляют собой тот особый, готорновский, тип романтической «истории», в которой органично слились элементы литературной волшебной сказки, притчи, комического и психологического рассказа. Логично предположить, что жанровая пестрота малых форм в цикле «Дедушкино кресло» стала результатом творческих поисков молодого писателя, в немалой степени опиравшегося на жанровую традицию доромантической прозы, а именно, просветительских серий эссе и, что даже важнее, находившегося под несомненным влиянием прозы В. Ирвинга6. Что касается жанровой формы и повествовательной техники «Книги чудес» и «Историй Тэнглвуда», эти поздние циклы знаменуют собой новый этап эволюции поэтического мастерства автора «Дедушкиного кресла» – пору писательской зрелости Готорна, когда художественная форма рассказа обрела в его исполнении отчетливые индивидуальные черты и завершенный вид. Учитывая системообразующую функцию авторской личности в каждом из сборников и в целом роль образа автора в поэтике повествования и в композиции всех трех циклов, можно говорить об особом художественном целом дидактической «малой прозы» Готорна. Налицо еще одна важная черта этого повествовательного триптиха: обращенность Готорна к новоанглийскому типу сознания, в том числе и к литературным традициям региона, где некогда закладывались первоначала будущего национального целого. В «Дедушкином кресле», «Книге чудес» и «Историях Тэнглвуда» Готорн проецирует местные легенды на античные мифы, трансформирует «чужие» истории, вводит точку зрения рассказчика-новоангличанина, стилизует повествование, придерживаясь манеры единого «автора», скрытого за фигурами разных рассказчиков. Автор подчеркнуто причисляет себя к жителям Новой Англии и в своих рассказах пропускает героев старинных преданий сквозь горнило современной строгой морали, вдыхает в античные образы тот «раскованный, демократический дух христианства», о котором с воодушевлением писал Мелвилл, определяя неотъемлемые качества национального американского гения7. Кроме того, во всех трех сборниках Готорн-рассказчик избирает повествовательные формы, уже успешно закрепившиеся в американской фольклорной традиции и в литературном творчестве южан, – к ним относится жанр «истории в истории», или a tale within a story8. Поместив сюжет собственно легенды или предания (tale) о новоанглийском прошлом или событиях античности в повествовательную рамку рассказа (story), в котором главными персонажами оказываются рассказчик и его слушатели, автор тем самым обыгрывает ситуацию рассказывания и позволяет современности в лице участников повествовательного сюжета активно взаимодействовать с прошлым. Таким образом, еще одним лейтмотивом, лежащим в основе художественного единства трех циклов, является мысль о нерасторжимой связи прошлого и настоящего в жизни нации, мощно прозвучавшая в самых известных готорновских произведениях – «Алой букве» и «Доме о семи фронтонах». С учетом предложенного анализа циклов «Дедушкино кресло», «Книга чудес» и «Истории Тэнглвуда», можно считать, что средствами достижения художественно123 го единства малой прозы Готорна послужили общность проблематики, целостность авторской мировоззренческой и эстетической позиции и тождественность повествовательной манеры. С предельной ясностью проявилась в сборниках ориентация писателя на региональную тематику и региональную поэтическую и эстетическую традицию, что отвечало важной тенденции, складывавшейся внутри романтизма, а именно, – к формированию эстетики местного колорита. Факт тяготения романтиков к отражению местных особенностей мышления и жизненного уклада давно выявлен исследователями на материале «южной» прозы Дж. П. Кеннеди и У. Г. Симмса9. В «Дедушкином кресле», «Книге чудес» и «Историях Тэнглвуда» Готорн проявляет себя именно как новоанглийский рассказчик, тем самым внеся свой «частный» вклад в американскую общенациональную повествовательную традицию. Примечания 1 Применение понятия «цикл» к трем рассматриваемым сборникам правомерно, поскольку есть свидетельства, что каждый из них и задумывался как единое целое изначально. Косвенным подтверждением можно счесть тот факт, что ни один из вошедших в эти циклы рассказов не публиковался прежде отдельно, в отличие от «Дважды рассказанных историй», «Мхов старой усадьбы» или «“Снегурочки” и других рассказов». Далее в тексте статьи термины «цикл», «сборник» и «книга» используются как синонимы исключительно по отношению к «Дедушкиному креслу», «Книге чудес» и «Историям Тэнглвуда». 2 См.: Коренева, М. М. Натаниэль Готорн / М. М. Коренева // История литературы США. – Т. III. – М., 2000. – С. 36. 3 Hawthorne, N. The whole history of grandfather’s chair, or true stories from new england history 1620–1808 / N. Hawthorne. – McLean, Virginia, 2002. 4 Hawthorne, N. Tales and sketches. (The library of America) / N. Hawthorne. – New York, 1982. – P. 1163. 5 Hawthorne, N. Tanglewood tales / N. Hawthorne. – New York, 1999. – P. 4. 6 См.: Апенко, Е. М. Роль сатирических серий в нравоописательных эссе XVII века в формировании художественной прозы США / Е. М. Апенко, Е. В. Лазарева // Истоки и формирование американской национальной литературы ХVII–XVIII вв. – М., 1985. – С. 303–304; Оленева, В. И. Современная американская новелла. Проблемы развития жанра / В. И. Оленева. – Киев, 1973. – С. 36. 7 См.: Melville, H. Hawthorne and his mosses / H. Melville // Hathaniel Hawthorne’s tales : A Norton critical edition / ed. by James McIntosh. – N.Y., 1987. – P. 345. 8 См.: Башмакова, Л. П. Писатели Старого Юга : Джон Пендлтон Кеннеди, Уильям Гилмор Симмс / Л. П. Башмакова. – Краснодар, 1997. – С. 48–49, 124–125. 9 Там же. – С. 20–30. 124 Х. В. Султанбаева К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ Статья посвящена изучению происхождения служебных частей речи в тюркских языках, представляющем для тюркологии сложную и интересную проблему. Служебные части речи возникли в тюркских языках сравнительно поздно, и этот процесс продолжается и в настоящее время. Особый интерес представляют частицы, активно пополняющиеся и в наши дни. Ключевые слова: служебные части речи, тюркский язык. Происхождение служебных частей речи в тюркских языках представляет собой сложную и интересную проблему для лингвистики. Полноценные описания языков, которые были бы сопоставимы по своим принципам и результатам, можно получить только в том случае, если есть некоторая исходная парадигма, которая в той или иной степени удовлетворяла бы всех. Однако следует признать, что на сегодняшний день мы пока еще не обладаем таким инструментарием. Тем не менее, исследования лингвистов в этом направлении никогда не прекращались. И сама лингвистика зародилась в первую очередь как историческая наука, в которой принцип развития, эволюции всегда играл одну из ведущих ролей. Самая первая классификация языков, предложенная А. Шлейхером, была не столько морфологической, сколько именно эволюционистской. Несмотря на то, что в XX столетии преобладал синхронический подход к описанию явлений и свойств языка, контенсивно-типологические и сравнительно-исторические исследования эволюции языка всегда занимали одно из важнейших мест в лингвистике. В тюркских языках служебные части речи появились относительно поздно, и процесс этот с разной степенью интенсивности продолжается и в настоящее время. Необходимо сразу же оговориться, что сами служебные части речи не представляют собой однородную группу языковых единиц. Этот комплекс единиц противопоставлен знаменательным частям речи. Противопоставлен в том смысле, что эти языковые единицы не обладают номинативной функцией. Напомним, что традиционная классификация строилась именно на этом основании, и, соответственно, все, что не укладывалось в рамки исходной парадигмы, было отнесено к классу вспомогательных компонентов. Однако внутри самой этой группы служебных слов выделяются функционально разнородные классы, отличающиеся друг от друга именно своей ролью в составе высказываний. Так, в тюркских языках выделяются следующие группы служебных слов: послелоги, союзы, частицы, междометия, модальные слова. Этапы их появления и вхождения в грамматический строй тюркских языков, естественно, различны. Послелоги непосредственно связаны со становлением агглютинативного строя тюркских языков. Как отмечалось многими исследователями, послелоги возникли из знаменательных частей речи путем их десемантизации и грамматикализации. Самый процесс этот, видимо, можно описывать как конверсию. И поскольку послелоги характерны именно для грамматического строя, то само их появление в тюркских языках следует относить к периоду перехода тюркских языков от древнего изолирующего состояния к агглютинативному, когда, наряду со становлением именного и глагольного словоизменения (склонения и спряжения), появился и особый класс слов 125 для выражения смысловых и грамматических отношений между компонентами высказывания: пространственных, временных, причинных, целевых и т. п. Союзы в тюркских языках – явление достаточно позднее, поскольку сам строй тюркских языков не требует их использования в структуре высказывания. Разнообразные синтаксические отношения между компонентами высказывания передаются в абсолютном большинстве случаев с помощью либо послелогов, либо частиц. Предикативное ядро предложения редко характеризуется наличием только одной, основной, глагольной формы, чаще здесь можно наблюдать сочетание личной и деепричастной форм, что и составляют специфику группы сказуемого в тюркских языках. Как показывают наблюдения тюркологов, союзы отсутствуют в древнетюркских текстах и начинают появляться в тех тюркских языках, которые вошли в орбиту арабо-персидской культуры, в частности в связи с принятием ислама. Почти все они представляют собой заимствования из персидского и арабского языков. В отличие от послелогов, указывающих на характер отношений между компонентами высказывания в рамках одного предикативного центра, союзы выражают уже не морфологические, а синтаксические отношения между двумя и более предикативными центрами высказывания. Таким образом, эта группа служебных слов функционирует уже на уровне синтаксических единиц. Частицы, междометия, модальные слова функционируют уже на уровне коммуникантов. Их основная задача в составе высказывания – выражение отношения говорящего к содержанию высказывания, привлечение внимания, отражение конситуативного окружения и контекста высказывания. В целом эта группа служебных слов характеризуется наименьшей степенью грамматикализованности: фактически они никогда не входят в состав элементарной синтаксической конструкции и реализуются только на уровне целостного высказывания. В данной группе наибольший интерес представляют частицы, что связано с их ролью в процессе коммуникации. В отличие от компонентов синтаксической конструкции, значение которой ограничено значениями ее членов, частицы несут дополнительное значение, прямо не вытекающее из значения компонентов высказывания. Так, степень владения языком определяется не столько знанием грамматики того или иного языка, сколько умением правильно использовать в речи различного рода частицы, междометия, модальные слова и т. п.: «активное употребление частиц есть один из показателей знания языка» [2. С. 8]. Т. М. Николаева в монографии, специально посвященной функциональной характеристике частиц в славянских языках, указывает, что «со словом “частица” связываются четыре смысловых комплекса. Один, признаваемый старым и уже вышедшим из грамматической традиции, соответствует общему классу служебных слов в их противопоставлении словам знаменательным, полнозначным, “частям речи” (Виноградов 1972, с. 520). Второй смысл: частицы – это неизменяемые компоненты неслова, присоединяемые к словам полнозначным, так что формируются некоторые грамматические формы, парадигматически и категориально соотносимые с формами, образуемыми и без частиц. Иначе говоря, это частицы формообразующие (АГ80, т. 1, § 1691). Третье значение частиц связывается с традицией изучения языков древности – ведийского санскрита, хеттского, греческого, латинского. В этой традиции значение слова “частица” лучше всего передать словом “коннектор”… Многие частицы этого рода теперь назвали бы союзами. Четвертое значение слова “частица” соотносится со способностью языковой единицы выступать в функции передачи разнообразных коммуникативных характеристик сообщения (АГ-80, т. 1, с. 723)» [2. С. 5]. Характерной особенностью частиц является то, что они не имеют строго очерченных грамматических границ. Это, с одной стороны, представляет известную 126 трудность для их вычленения и классификации в рамках традиционных подходов к анализу языковых единиц, а с другой – показатель принципиальной неоднозначности, синкретичности этого класса слов в том или ином языке. Частицы зачастую выполняют некоторое множество функций одновременно. Вряд ли можно считать случайностью, что лингвисты при характеристике частиц не просто указывают на многозначность как фундаментальное свойство, но и предпочитают использовать сложные термины: частицы-союзы, частицы-наречия, частицы – вводные слова и т. п. [2. С. 4] Анализ башкирских частиц показывает, что они довольно легко соотносятся с некоторыми исходными единицами, от которых, по всей видимости, произошли. Изменения коснулись содержательной стороны функционирования частиц: они утратили свое лексическое значение и стали использоваться именно как частицы, для выражения контекстуального и конситуативного значения. Таким образом, вопрос происхождения и классификации частиц в настоящее время еще далек от своего более или менее адекватного решения, поскольку конверсия как способ словообразования изучался в основном применительно к знаменательным частям речи: переходу имен прилагательных в разряд имен существительных, существительных в наречия и т. д. Если же говорить о конверсии знаменательных частей речи в разряд служебных, то требуются дополнительные историколингвистические разыскания. В то время как проблема становления, развития, функционирования и, особенно, происхождения служебных частей речи не может ограничиваться только лишь описанием на синхронном уровне. Кроме того, мы имеем дело с переходом изменяемой части речи в неизменяемую часть речи. И мы имеем дело с таким синхроническим явлением, когда слово в одной и той же форме (неизменяемые слова) совмещает несколько функций (грамматический синкретизм). Этот тип конверсии наиболее распространен и наименее ясен [1. С. 12]. И Р. З. Мурясов, и А. Т. Кривоносов рассматривают конверсию применительно к языкам с развитой морфологией. При этом А. Т. Кривоносов отмечает, что «теория конверсии частей речи не получила в современном языкознании убедительного решения. Существующие теории конверсии частей речи так и не ответили на вопрос: что же в слове есть такого, что позволяет ему быть сразу несколькими частями речи?» [1. С. 25] Эта точка зрения была выражена в работах Л. С. Бархударова, Б. А. Серебренникова и др. Б. А. Серебренников, в частности, отстаивая «секторную» структуру слова, указывает, что «мнение о том, что слово в языках со слаборазвитой морфологической системой потенциально способно выступать в виде любой части речи, совершенно ошибочно» [1. С. 17]. Недостаточность аргументов «за» и «против» конверсии, на наш взгляд, заключается в исходной исследовательской парадигме, принимаемой тем или иным лингвистом в качестве теоретикометодологической базы. Так, А. Т. Кривоносов считает, что есть семантическая и грамматическая корреляция между явлениями конверсии (переходом одной части речи в другую) и парадигматическими отношениями между формами одного и того же слова. По его мнению, «нет принципиальных различий между морфологическими парадигмами и синтаксическим употреблением слов в различной дистрибуции, ибо и в первом, и во втором случае мы имеем дело с дистрибуцией, только в первом случае – с морфологической, а во втором случае – с синтаксической» [1. С. 29]. При этом одни лингвисты считают, что полисемия и омонимия в конечном счете совпадают, в то время как другие полностью отрицают даже саму возможность их совпадения. К первой группе, несмотря на все различия в их подходах к решению вопроса о конверсии, полисемии и омонимии, относятся И. Е. Аничков, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, В. А. Жирмунский, В. А. Звегинцев, И. И. Ревзин, 127 В. Н. Ярцева, а к другой – В. И. Абаев, А. И. Смирницкий и др. В качестве предварительного вывода можно, на наш взгляд, говорить о том, что конверсия как способ образования служебных частей речи должна рассматриваться в более широком контексте, с учетом новейших данных по социо-, психо- и этнолингвистике, которые дадут возможность глубже проникнуть в проблемы омонимии, полисемии и конверсии. Список литературы 1. Кривоносов, А. Т. К проблеме «конверсии» частей речи в современном языкозна- нии / А. Т. Кривоносов // Семантика разноуровневых единиц в языках различного строя : сб. науч. ст. к 65-летию проф. Р. З. Мурясова. – Уфа : РИО БашГУ, 2005. 2. Николаева, Т. М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков) / Т. М. Николаева. – М. : Наука, 1985. Б. И. Тетуев ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОЙ АВТОРСКОЙ НАБЕГОВОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДНОЙ МАЛОИЗВЕСТНОЙ ПЕСНИ Д. ШАВАЕВА)1 Исследование типологических особенностей «набеговых песен» карачаевобалкарского поэта XIX века Д. Шаваева показывает: субъективное, авторское осмысление событий в них становится преобладающим и выражается в поэтизации образа коня, в акцентировании внимания на проблеме этической мотивации поступков героя. Выводы статьи расширяют представление об интертекстуальных связях в изображении архетипа рыцарства. Ключевые слова: Шаваев, архетип рыцарства, интертекст, карачаевобалкарская набеговая песня Поэтическое наследие Д. Шаваева (1800–1892), известного в народе под именем Даут-Хаджи, – уникальнейшее явление в истории карачаево-балкарской словесности. К большому сожалению, еще не написана обстоятельная научнодокументальная биография поэта, произведения его сохранились в основном в памяти сказителей, старых рукописях и были опубликованы только в 2007 году во многом благодаря изыскательской и атрибутивной работе фольклориста Х. Малкондуева. Введение в научный обиход творческого наследия Д. Шаваева, бесспорно, незаурядного художника, – благодарная в перспективе задача открытия новой страницы в истории карачаево-балкарской словесности. Особое место в творчестве Д. Шаваева занимают песни о набегах: «Песня о Хахоеве Борлаке и его Белом Коне» и «Песня о Жанхотове Азнауре и его коне Карабуу». Уникальность названных произведений заключается в том, что они являются единственными авторскими текстами песен о набегах в карачаево-балкарской словесности, где образ коня доминирует. Так, в развитии сюжета «Песни о Хахоеве …», где Белый Конь лихого участника набегов Борлака играет ключевую роль, не случайно имя коня вынесено в название произведения, здесь номинологическим приемом подчеркивается сюжетообразующая функция образа. Значимость Белого Коня в жизни героя обнаруживается уже в зачине произведения. Поэт, называя имена верных друзей героя, соучастников набегов, первым упоминает коня: «Борлак больше 128 себя любил // Во всем мире известного своего Белого Коня»2. Особенностями поведения Белого Коня предсказываются все сложности будущего похода, вплоть до подробностей. Развернутая характеристика коня и изображение взаимоотношений с хозяином определяют развитие основной сюжетной линии. Культ коня как верного друга богатыря, оказывающего ему помощь в самых сложных ситуациях, стал основой для множества иппологических сюжетов и мотивов в нартском эпосе карачаевцев и балкарцев. Сказанное можно подтвердить диахронической линией, начинающейся с истории коня Гемуды3. Интересный романтический образ коней изображен народными сказителями в песнях XVIII–XIX веков «Карабий и Сарыбий» и «Песня Умара». Согласно присутствующим в них сценамописаниям, кони понимают человеческую речь и разбираются в знаках-символах, посылаемых им в экстремальных ситуациях пастухами и охотничьими собаками. Фабульные основы авторских песен, где повествуется о набеге или отражении его, в основном сходны. Текст, как правило, имеет реальную основу; события, географические названия мест, имена героев даются без изменений, выносятся в заголовок. Повествование начинается с изображения внезапного нападения на кошары пастухов угонщиков скота, во много раз превосходящих их числом. Достижение участниками набега своей цели – угона скота, а затем ухода от преследования, порой завершается описанием сражения, чаще – гибелью главного героя. При этом в зависимости от авторского взгляда несомненными достоинствами может обладать как тот, кто совершает набег, так и тот, кто отражает его. Герой песен о набегах – яркая, сильная личность, которая раскрывается не столько в физическом противоборстве, сколько в безрассудной устремленности к риску, роковой предрешенности судьбы. Нам представляется, что мотивационные обоснования похода в исследуемой песне о набеге типологически близки мотиву поиска приключений героев западноевропейского рыцарского романа. Авантюрный мотив присутствует в тексте «Песни», где материальная сторона набега не является самоцелью. Не случайно о приобретениях по завершении похода в «Песне» сообщается предельно лаконично, с сухой констатацией факта: пригнал стадо овец, табун лошадей и т.д. Зато обстоятельно, с использованием приема ретардации повествуется об авантюрной стороне предприятия. Герой непременно изображается в критической ситуации, предоставляющей возможность для самовыражения, реализации кодекса горской чести. Обычная форма жизни для героя «песни» – необычное. Набег дает возможность его участнику проявить молодецкую удаль: угнать скот. Заметим, не украсть, не отнять – в этом нет героического начала. Характеризуя психологический облик эпического героя набеговой песни, можно прибегнуть к такой категории западноевропейской культуры, как «рыцарь», но не в значении узко понимаемого явления определенной эпохи, а в качестве вневременного культурного архетипа в самом широком смысле. По своим содержательным и структурным характеристикам герой набеговой песни оказывается художественно удаленным от социальной категории «абрек» и приближенным к типологически родственному культурному типу «рыцарь». Повествовательным ядром «Песни о Хахоеве …» Д. Шаваева является сюжет о последнем походе (набеге) героя, завершающимся трагически, а также сцена прощания в Ногайских степях умирающего Борлака со своим Белым Конем, с которым его связывает давняя и верная дружба. Диалог между всадником и конем по своей композиционной структуре играет роль и внутреннего монолога этих персонажей. В завязке поэт знакомит с героями «Песни о Хахоеве…», актуализируя в каждом из них типичные черты человека, занимающегося набегами. Эпитеты, используемые для характеристики персонажей, содержат «звериную» этимологию и подчеркивают 129 их агрессивность, нацеленность на захват добычи. Так, главный герой «Песни» Борлак, который «днем не спит, а ночью не ложится», метафорически именуется «волчеглазый». Его друзья и соратники «не уступающие никому своим мужеством», также наделяются «звериными» чертами: «Слепой Карох и Каспот с львиными глазами, // С душою тигра держащий свое слово Чюелди»4. Изображение необычной «обычности» жизни Борлака приобретает реальный характер благодаря подчеркнутой топографической определенности мест действия. Любимым занятием героя является угон ногайских или черкесских табунов, которые оказываются в его родном селе Чегеме, а потом уже переправляются в Грузию. Даются Д. Шаваевым и названия местностей: Донгат, Думала, Карачай, Кабарда, Осетия, Ногайская степь, Пятигорье и т. д. Надо сказать, в эстетической системе песен о набегах «географические широты» наделяются и художественной функцией, косвенно свидетельствуя о мобильных, «скоростных» качествах эпического героя. Как и в фольклорных песнях о набегах, в развитии сюжета «песен» Д. Шаваева большое значение имеет онейрический мотив. Так, в «Песне о Хахоеве…» реальные события предвосхищаются сновидением главного героя. Онейрическая информация усиливается и подкрепляется символикой поведения Белого Коня, описанием природных явлений. В сновидении героя, где центральное место занимает образ Белого Коня, большую роль играет цветовая символика. Там Белый Конь героя отважно сражается вместе с другими белыми конями против вороных жеребцов. В строгом соответствии с принципами этносимволики предсказательница иносказательным языком с помощью цветовых эпитетов выражает характер противостоящих друг к другу сил в онейромантическом и реальном планах: «Эти белые кони – твои дорожные спутники, // А вороные кони – твоими врагами являются»5. Антропоморфизм, присущий поэтическому мышлению Д. Шаваева, особенно ярко проявляется в изображении поведения Белого Коня в картине сновидения. Белый Конь самоотверженно сражается, чтобы спасти своего хозяина. Отчаянным ржанием он предупреждает о грядущей опасности, бьет копытами землю, предчувствуя смерть своего хозяина. В другом случае Белый Конь ржет, глядя в небо, упрашивает Тейри (имя главного божества – бога неба в карачаево-балкарском языческом пантеоне) спасти Борлака. Белый Конь, как человек, истекает кровью в неравной схватке, страдает из-за невозможности помочь своему хозяину, «рыдает, как человек», наделяется чертами, соответствующими поведению его хозяина. Он вполне отвечает определению, данному коню в энциклопедии символов: «символ верности и в то же время неукротимой свободы, бесстрашия, воинской доблести и славы»6. Монолог прорицательницы ставит героя буквально перед ахиллесовым выбором. Согласно разгадке сна, если он не отправится в набег и благоразумно останется дома, предсказание о его гибели не сбудется. Но герой не может свернуть с намеченного пути, нарушить слово, данное товарищам, ибо следование кодексу мужской чести для него превыше жизни. Возможное порицание, насмешка с их стороны, упрек в трусости и малодушии предопределяет выбор, сделанный им. Внутренняя борьба в душе героя завершается победой рыцарственного начала. «Культ поступка» (Ф. Урусбиева), присущий героям фольклорных песен о набегах, уступает место «выбору пути». Образ героя «Песни», призванного верностью клятве, чувством долга перед товарищами, обогащается новым этическим смыслом: («Я слово дал клятву не нарушить, – // Сказал Борлак, шагнув вперед, – // Скажут, испугавшись, он дома остался. // Если не пойду, как я в глаза посмотрю // Друзьям…»7. Такая этическая категоричность поведения героев «Песен» Д. Шаваева отличает их от персонажей 130 фольклорных набеговых песен, которые способны проявлять чудеса «хитрости, изворотливости и находчивости»8. В такой драматический для хозяина момент Белый Конь глубоко чувствует его состояние, тревожится за судьбу хозяина-друга. Мысленный диалог между Борлаком и бессловесным животным передает особую духовную связь, ощущение необычайной близости и взаимопонимания. Конь, наделенный способностью понимать мысли хозяина, также ощущает неотвратимость смерти, которая предопределена ситуацией выбора чести. В готовности коня разделить судьбу хозяина находит развитие чувство братства, объединяющее их. Изображение самого похода (набега) в «Песне» сведено до минимума, одной строкой сообщается о его результате: «В Большой Ногайской степи они торговые лавки ограбили». Во время отдыха их настигают преследователи, и начинается жестокий бой. Скупость информации о набеге и состоявшейся битве свидетельствует о дегероизации автором действий персонажей. Поэт акцентирует внимание не на конфликте участников набега и преследователей, а на внутреннем конфликте главного героя и мотиве рыцарственного братства между человеком и конем. В «Песне» обстоятельно повествуется о внутренних переживаниях Борлака и его коня, которые перекрещиваются, эмотивно совпадают, дополняют друг друга. Психологическая характеристика героя разворачивается и углубляется в двух его предсмертных диалогах – «с незнакомым врагом» и Белым Конем. Раненый в сражении, Борлак испытывает страшное физическое и душевное напряжение. Ощущение невольной вины перед погибшими товарищами исключает нравственную возможность собственного спасения. О способности героя глубоко переживать свидетельствуют муки совести, испытываемые перед родовым коллективом, когда он осознает, что уцелел он один: «Не смогу я в Чегем, после смерти моих товарищей живым пойти, // Не смогу, не стыдясь, сказать – “я живым остался”»9. Дерзкое игнорирование предзнаменования – одного из классических приемов выражения «рыцарской удали» – трактуется в данном случае как форма архетипа «трагической вины», присущая эпическим героям: Ахиллу, Роланду и др. Герой «Песни» не стремится и не рассчитывает выжить, победить судьбу, его главная задача – не посрамить своей чести, остаться в памяти общества. Для Борлака понятие чести связано не только с достойной жизнью, но еще более, с достойной смертью. Этим мотивирована и его предсмертная просьба к неприятелю: дать попрощаться с Белым Конем, погибнуть от меча и быть преданным земле. Безымянный преследователь сопереживает противнику и благородно готов выполнить его просьбу. Единственное, в чем отказывает он Борлаку, – убить раненого противника. Для него это поступок, несовместимый с кодексом мужской чести: «“Нет!” – сказал его противник-черкес, поглаживая спину своего коня, // Печально глядя на Хахоева. // “Не смогу я без жалости сделать этого, // Не смогу на раненого противника с мечом пойти”»10. Так поэт уравнивает противников в их благородстве, проявлении рыцарственных качеств. Мотив прощания человека и коня – один из самых распространенных в мировой культуре. Он встречается в литературе арабов, персов, тюрков, славян, адыгов и многих других народов. Расставание коня и его хозяина принадлежит к числу самых экспрессивных сцен в «Песне». Ретардационная пауза перед смертью Борлака позволяет автору показать духовное родство человека и коня. Монолог Белого Коня, обращенный к умирающему хозяину, содержит своеобразную самохарактеристику «конечеловека», его «духовного» мира. Предвидя неизбежное расставание, Белый Конь страдает, и боль, которую он испытывает при этом, сравнивается с собственной смертью: «Мне расстаться с тобой очень трудно, // Стерпеть это – все равно, что са131 мому умереть». Подобное сопереживание «очеловечивает» образ животного, наделяя его верностью, благородством,– чертами, свойственными его хозяину. Идею преданности человеку Белого Коня автор выражает приемом художественного параллелизма с многократным повторением местоимений отрицательного значения: «никому другому не отдаст он свою свободу», «не будет у него иного хозяина», «никому не удастся поймать его живым», «никому не удастся стать его седоком». Чувство верности хозяину переносится Конем и на отношение к родной земле. Поэт использует множество сложных глагольно-определительных императивных конструкций, чтобы передать привязанность Коня к родным местам: «Забыв землю, где вырос, Тейри, здесь не смогу остаться. // Я буду идти в Чегем, если даже будет тяжело, // Если даже многие дни буду испытывать голод и жажду, // Если даже сотрутся о камни копыта…»11. Перечисление препятствий, трудностей, возможных на пути к родным местам, решимость их преодолеть, уподобляет коня человеку, точнее эпическому герою. Характер испытаний, употребление антропоморфных понятий максимально «очеловечивают» образ коня. Так, антропоморфны сравнения и эпитеты, используемые поэтом для обозначения препятствий, физических страданий коня. Еще более поразительно перенесение на Коня черт человеческой духовности: он готов самоотверженно преодолевать препятствия на пути к дому, может страдать так, как будто душа покидает тело и т. д. Предсмертное прощание Борлака в монологе к Коню, которого он называет «лучшим другом», «любимейшим из всех» имеет знаковый характер. В традициях эпической поэзии умирающий герой произносит последние слова, обращаясь к самому близкому созданию, с которым связано самое сокровенное в жизни. Вспомним Роланда, прощающегося со своим мечом Дюрандалем, с которым «многих недругов побили… большие земли покорили»12. Значимость ратного подвига и второстепенность бытовой жизни рыцаря «маркируется» в данном случае его именным оружием. К архетипу этого ряда относится и отношение Борлака к своему Белому Коню. В своих воспоминаниях Борлак видит себя только всадником, неразлучным целым, таким «человекоконем» безраздельно мыслящим, чувствующим, действующим в паре с собратом по бытию. В перечислении качеств коня доминируют глаголы движения, которые соответствуют семантике деятельности хозяина, объединяют помыслы коня и человека. Вторая часть монолога героя отличается особым драматизмом. В нем звучит мотив несбывшегося возвращения к тихой, спокойной жизни, практически отсутствующий в фольклорных песнях о набегах. Герой вспоминает места, с которыми его связывают годы, прожитые с Белым Конем, но теперь они уже вызывают чувство неизбывной тоски по радостям мирной жизни. Топонимы, маркирующие культурное пространство Коня и его хозяина, представляют мир иной жизни, которая могла состояться. В несбывшейся мечте Борлака оседлать своего Коня «серебряным седлом» иносказательно запечатлен идеал, являющийся оппозицией прежней жизни героя. В его воображаемом путешествии с Конем «романтика» набега, связанная с угоном, преследованием сменяется изображением будущей картины мирного общения со всеми, кому он в прошлом доставлял беспокойство. Метонимический ряд, где конкретные имена людей заменяются названиями местностей, атрибутами, связанными с горским гостеприимством, выражает тоску по естественным человеческим отношениям, наполненным духом взаимной доброжелательности, душевной щедростью. Так, вместе с Конем он собирался: «Оленьи дороги Карачая изведать, // Медовую бузу кабардинцев выпить, // В большой Осетии черное пиво хлебнуть, // С тобой в Ногайские села пойти, // На многие земли насмотреться»13. 132 Смерть Борлака и его «оплакивание» Конем (он горько-горько ржет, издает звуки, напоминающие причитания, кружит у могилы), выполнение им последнего долга фактически завершает характеристику «конечеловека». Чувство горя, испытываемое Конем, придает взаимоотношениям человека и животного интимнородственный характер и высвечивает трагедию ухода из жизни, неестественности разъединения понятия «конечеловек». Белый Конь, впитавший в себя жизненные идеалы своего хозяина, возвращается, преодолевая все препятствия в Чегем, «где он родился и вырос». Нравственная оценка его возвращения, «очеловеченной духовности» дается устами сельчан в завершающем пожелании: «Пусть такие тарпаны (сильная выносливая лошадь) рождаются в селе Чегем!» Таким образом, авторское начало в песне о набеге особенно ярко выражается в поэтизации образа коня героя. Конь наделяется теми же рыцарственными чертами, что и его хозяин. Взаимопроникновение черт коня и человека, отношение «рыцарского братства» между ними способствует созданию в «Песнях» единого образа «Конечеловека» (позволим себе такой неологизм, отталкиваясь от «Человекоконя» Г. Д. Гачева). Обозначенная культурологема, помимо мировоззренческой ценности, содержит и нравоучительный аспект, сводимый к идеализации такой онтологической картины мира, в которой гармонично сосуществуют человек и его братья меньшие. В «Песне о Хахоеве…» Д. Шаваева зафиксирован исторический момент концептуального переосмысления философии набега; характерная для фольклорных песен «романтика» набега, поэтизирующая геройство и удаль, постепенно угасает. Созданная воображением героя оппозиция естественной, мирной жизни лишает идею набега рыцарственного содержания, дегероизирует ее. Анализ художественно-образной системы «Песни» Д. Шаваева, посвященный данной тематике, позволяет сделать заключение о том, что поэт создает произведения, опираясь на традиции фольклорных песен о набегах, но в них преобладающим становится субъективное, авторское осмысление событий. В изображении героев поэт акцентирует внимание не столько на изображении поступков, сколько на проблеме этической мотивации, обусловленной верностью кодексу чести, данному слову, клятве. Сравнительно-сопоставительный анализ системы персонажей, сюжета, мотивов показывает, что между западноевропейской и северокавказской эпической поэзией существует выраженная интертекстуальная связь, указывающая на чрезвычайную многогранность архетипа рыцарства. Примечания 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ № 08-04-33401 а/ю. 2 Шаваев, Д. Ш. Раздумья о жизни. Поэмы. Стихи. Зикиры : в 2 ч. Ч. 2 / Д. Ш. Шаваев. – Нальчик, 2007. – С. 126. 3 Урусбиева, Ф. А. Метафизика колеса. Вопросы тюркского культурогенеза / Ф. А. Урусбиева. – М., 2003. – С. 122. 4 Шаваев, Д. Ш. Раздумья о жизни… С. 126. 5 Там же. – С. 128. 6 Энциклопедия символов / сост. М. В. Рошаль. – М., 2005. – С. 879. 7 Шаваев, Д. Ш. Радумья о жизни… С. 129–130. 8 Атабиева, С. Х. О содержательно-повествовательных особенностях одной карачаево-балкарской песни / С. Х. Атабиева, Х. Х. Малкондуев // Образец служения науке. – Нальчик, 2005. – С. 99. 133 9 Шаваев, Д. Ш. Раздумья о жизни… С. 130. Там же. – С. 131. 11 Там же. – С. 132. 12 Песнь о Роланде. – М., 1964. –С. 71. 13 Шаваев, Д. Ш. Раздумья жизни… С. 133. 10 Т. В. Хвесько НОМИНАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА Когнитивный подход к описанию топонимии позволяет выявить элементы творческой деятельности человека в языке. Описание закономерностей, характеризующих морфологический, лексико-семантический и синтаксический уровни, показывает структурные элементы онимов в плане реализации в них категорий стяжения и усечения, дублирования и гибридизации. В работе доказывается полноправность топонимов как знаменательных языковых единиц, в образовании которых проявляются тенденции номинации в целом. Ключевые слова: номинация, топоним, творческая деятельность человека. Статья касается вопросов номинации, в частности, образования топонимов, рассматриваемых как особое проявление лингвокреативной деятельности человека. Такой подход предполагает более подробное освещение основ творческой деятельности человека в языке и выделение той ее части, которая непосредственно связана с созданием и функционированием онимов в речи. Для представителей различных лингвистических школ и направлений изучение творчества неразрывно связано с раскрытием сути языковой способности, под которой понимается умение производить и понимать языковые выражения, вновь создаваемые в непрестанно меняющихся условиях коммуникации. Однако несмотря на многолетний интерес к данной теме, исследователи по-прежнему обращаются к процессу восприятия и осмысления мира в реальных актах коммуникации, пытаясь объяснить, какие механизмы задействованы в актах речетворчества и какие лингвистические уровни способствуют реализации картины мира1. Попытаемся ответить на вопрос о том, как лингвокреативный потенциал, изначально заложенный в акте словообразования, проявляется в топонимии. Творческие основы номинации, связанные с понятием концептуальной интеграции, предложенной в работах Ж. Фоконье2, получили дальнейшее развитие в отечественном языкознании3. В теории концептуальной интеграции многие языковые явления объясняются процессами образования сложных когнитивных структур (ментальных пространств) из более простых мыслительных сущностей. Предметом нашего исследования служат мыслительные процессы, обеспечивающие как появление общепринятых моделей топонимов в языке, так и реализацию творческого потенциала человека в процессе имянаречения. В фокусе внимания оказывается осмысление мира человеком, непрерывно осуществляемое в актах коммуникации. Несмотря на общие принципы интегративных процессов в разных видах творческой деятельности, нельзя говорить о полном их единообразии в языке, так как в каждом конкретном случае данные процессы находят свое специфическое воплощение. Обращение к номинациям представляется актуальным в силу того, что 134 явление широко распространено в различных стилях языка, как в газетнопублицистическом, так и научном. Когда топонимообразование впервые привлекло внимание зарубежных ученых, многие исследователи, отмечая своеобразие данных единиц, пытались выделить их отличительные свойства. Особое внимание уделялось проблеме структурных и семантических характеристик онимов. Обращает на себя внимание тот факт, что при рассмотрении словообразовательных процессов в целом как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике акцент ставился на изучении моделирования по продуктивным образцам, и при этом нередко именно нестандартные характеристики дериватов оставались в тени. При более глубоком анализе топонимы обнаруживают немало интересных и неожиданных свойств. Это обусловлено, на наш взгляд тем, что топонимы представляют собой пример производных слов, совмещающих в своей структуре признаковые и базисные характеристики одновременно. Образования такого типа называются гибридными, и в связи с этим особое внимание следует уделять понятию сочетаемости компонентов на различных языковых уровнях. Исходя из когнитивной направленности исследования, мы рассматриваем номинацию в двух ракурсах – понятийном, при котором внимание сосредоточено на ментальных процессах, сопровождающих возникновение в языке новых гибридных единиц, и коммуникативном, когда номинация получает оценку с точки зрения ее участия в деятельности, нацеленной на построение общего когнитивного пространства дискурса. Применяемый в работе подход позволяет, с одной стороны, отразить мотивированность, а с другой – описать процессы построения новых значений в речи. Таким образом, исследование элементов лингвокреативности, как проявление гибридности и дубликации в речевых формах топонимов, а также описание творческого потенциала данных лексических единиц на морфо-фонетическом уровне, где осуществляется изменение морфологических моделей онимов (стяжение и усечение сегментов), представляется актуальным. В связи с этим следует показать, как проблема лингвокреативности связана с топонимообразованием, а также обосновать целесообразность изучения топонимов с когнитивных позиций; предложить в качестве общего когнитивного основания творческого потенциала онимов процессы гибридизации, дубликации, стяжения и усечения. Актуальность исследования топонимов в новом ракурсе обусловлена необходимостью систематизировать общие сведения о номинации топонимов в русском и английском языках и пересмотреть существующие взгляды на отличительные черты этих единиц с новых теоретических позиций. Назрела необходимость комплексного подхода к решению целого ряда актуальных проблем современной лингвистики – языкового творчества, языковой номинации, концептуализации объективной действительности человеком, роли говорящего в осуществлении дискурсивной деятельности. Предлагаемый подход к изучению особенностей топонимообразования, а также новая методика описания и сравнения русских и английских топонимов представляются наиболее перспективными. В настоящее время в нашей стране и за рубежом новая система взглядов на лингвистику стала оцениваться как революционная, т. к. ее формирование привело к выдвижению новой когнитивной парадигмы научного знания. Когнитивная наука требует выделить особую языковую способность строить высказывания и понимать услышанное, а также соотнести ее либо с другими когнитивными способностями человека (напр., способности к анализу и синтезу), либо сравнить реализацию когнитивных способностей человека в разных культурах. Создание искусственного разума требует развития такой области науки, которая позволит выявить определенные закономерности взаимодействия человека с природой. Лингвистические исследования вносят достойный вклад в обнаружение и 135 объяснение аспектов человеческой когниции. Думается, что исследования М. Я. Блоха относительно уровневой структуры языка с использованием терминов: диктема, денотема, сегмема способствуют выявлению закономерностей дискурса4. Сегодня никто не будет оспаривать факт, что в герменевтике в термин вкладывается иное содержание, чем в традиционной лингвистике. О необходимости создания междисциплинарной теории с единой терминологией говорят многие когнитологи, чтобы термины, относящиеся не только к лингвистике, были понятны всем, например: трансференция – ассоциативный перенос, дубликация – повтор, стяжение – экономия, гибридизация – сплав рациональных единиц. Понятие уровня также принадлежит к числу таких общелогических понятий, которые находят широчайшее применение в самых различных областях знания и практической деятельности. Особую роль положение об уровнях играет в современном языкознании, если оно последовательно применяется в приложении к «единицам языка» – языковым сегментам, которые находятся друг с другом в иерархических отношениях. Рассматривая фонему как наименьшую единицу, обладающую формой и значением, проследим ее различительную функцию на примере топонимов, где имеют место стяжение и усечение морфологической формы: Caernarfon ← fort in Arfon (крепость на воде), где in → n; Cumbernault ← comar an allt (слияние потоков), где an → n. Сигнификативная функция морфемы служит базой для реализации семантической функции вышележащего сегмента, т. е. слова. Поскольку морфемы строятся фонемами с их различительной функцией, являющейся уровнеобразующей для своего фонематического пространства, то естественно функциональная характеристика морфемы впитывает в себя конструктивную и различительную характеристику фонемы и может быть поэтому представлена как возрастающая: морфема совмещает свою сигнификативную уровнеобразующую функцию с конструктивноразличительной функцией из непосредственно нижележащего фонематического уровня. Характерно, что в единицах вышележащих уровней их функциональные «букеты» неуклонно возрастают вместе со структурным расширением, впитывая переходящие к ним функции нижележащих сегментов. Уровневыделительная функция лексемы – номинативная – получает полное выражение в знаменательных лексемах. Служебные лексемы, в отличие от знаменательных, образуют континуум между уровнем слов и уровнем морфем, в силу чего, как мы знаем, называются в некоторых лингвистических описаниях термином «слова-морфемы». Если учесть указанную специфику топонимообразующих суффиксов (-еа – Chealsea, Brownsea, -еy – Laxey, Jersey), то окажется, что сложность определения уровней (морфологического или структурно-грамматического) происходит от недостаточного принятия в расчет отмеченного промежуточного характера служебных сегментов, приближающихся по функции к аффиксальным грамматическим морфемам разного конкретного назначения и играющих в силу своей строевой природы важную роль в языке как знаковом механизме речетворения5. Знаменательные слова строго распределяет по лексико-грамматическим группам лексическая парадигма номинации – словообразовательная система, производящая категориальноопределенные основы из категориально-определенных лексических корней6. Следующий уровень на рассматриваемой лестнице восхождения – «денотематический», уровень членов предложения, образующих по терминологии позднее дескриптивизма и порождающей грамматики, «фразовую» иерархию в синтагматике пропозитивного высказывания7. Формальная структура денотемы, в соответствии с реверсивным законом ее образования, – одно или несколько слов, соединенных ре136 левантно-пропозитивными связями. Уровнеобразующая функция денотемы (как простой, однословной, так и сложной, многословной) – денотативная, т. е. выделительная в высказывательном (рече-актном) смысле. Подчеркнем, что денотема топонима непременно объединяет признак и базис, т. е. знаменательную лексему в качестве своего ядра и ее определение (England – земля ангелов). Элементарная единица текста получила название «диктема» (от лат. dico, dixi, dictum – говорю, высказываю). Понятие диктемы было выдвинуто М. Я. Блохом в связи с научной дискуссией о коммуникативных единицах дискурса. Оно развивает и преобразует понятие сложного синтаксического целого, выработанное в отечественном языкознании в сороковых годах. Принципиальное различие между указанными понятиями состоит в том, что синтаксическое единство не имеет уровнеструктурного определения, а диктема, напротив, раскрывает свои свойства в качестве естественной составной части реверсивно-определенной уровневой структуры языка. Как составная часть этой структуры (при этом уровнеобразующая составная часть на верхнем ярусе сегментной языковой иерархии) она строго отвечает принципу построения из «одной или нескольких единиц непосредственно нижележащего уровня». Как составная часть этой структуры она выделяется своей четкой функцией, не сводимой к функциям нижележащих единиц, но вбирающей в себя эти функции в рамках своего собственного интегративно-текстового назначения выражать определенную тему. Это значит, что диктема позволяет анализировать закономерности текста как непосредственного продукта речевой деятельности. Учитывая факт перехода функций от нижележащего уровня к вышележащему в ходе речетворения, мы заключаем, что в диктеме через ее составляющие выявляются такие важнейшие функционально-знаковые аспекты речи как номинация, тематизация и стилизация. Номинация реализует именование общей ситуации, отражаемой диктемой, и соотносит это именование с действительностью. Тематизация включает передаваемую диктемой информацию в разворачивающееся содержание целого текста. Стилизация осуществляет такое коннотационное представление содержания, которое реализует ситуативно-обусловленное воздействие на слушающего, соответствующее коммуникативной цели говорящего. Актуализация отмеченных функций в общении, т. е. в ходе речеобразования разного характера (обращение к собеседнику, обращение к читателю, обращение к себе самому во внутренней речи как проявление когнитивной деятельности мозга и пр.) имеет результатом формирование конкретной информации, которая и является предметом восприятия любого адресата речи (включая, следовательно, и самого говорящего). Эта информация, взятая в широком смысле сведений или данных, извлекаемых воспринимающим субъектом-адресатом из речи отправителя сообщения, разделяется на данные целевой передачи и данные сопутствующей передачи. В общем информационном потоке, содержащемся (т. е. создающемся актом речетворения) в диктеме как непосредственной сегментной составляющей текста, можно насчитать целый ряд рубрик информации, каждая из которых является существенно важной с точки зрения когниции и коммуникации. Первая рубрика – информация коммуникативно-установочная – непосредственно определяет тип речедеятельностного сотрудничества слушающего и говорящего. Вторая рубрика, передающая этнические и социально-культурные реалии, отражает движение познающей и оценивающей мысли говорящего, связана с непосредственным выражением чувств, чем обусловлен выбор официального онима либо прозвища, например: семантический тип «поселение» включает около 20 лексических вариантов, тем не менее в некоторых текстах используются прозвища, мо137 тивированность которых намного выше, ср.: Cottonopolis (Manchester) –крупный текстильный центр Великобритании; The Wheatheart of the Nation (Kansas) – штат, занимающий лидирующее место по выращиванию пшеницы; Brown Bottle City (Milwaukee) – центр пивоваренной промышленности8. Таким образом, язык обладает обширной системой средств выражения сложной гаммы чувств и эмоций говорящего. Восприятие внешнего мира, его осознание, оценка (обработка информации), действие (речепроизводство), воздействие (интенция – заставить кого-то делать что-то) – в любом языке реализуются общефилософские понятия, которые описывают ментальный опыт, усвоенный человеком за время его жизни и отражающий накопленные человеком впечатления, ощущения, представления и образы в виде слов. Несколько иной характер по сравнению с фактической информацией имеет реализация воздействия на слушающего. Импрессивность как аспект высказывания соответствует апелляции к слушающему, предполагает реакцию второго лица речевой ситуации9. Но реакция слушающего не является однозначно определенной: одна и та же диктема, может вызвать разные реакции у слушающих: на одного активно воздействует, другого оставляет равнодушным. Факт импрессивности, выразительности сообщения принципиально отличается от прочих выделенных аспектов речи, и корень отличия состоит в том, что импрессивность не задается готовыми элементами, фиксированными в языке сегментами, а руководствуется моделями аранжировки сегментов. Импрессивность создается в речетворении на каждый случай посредством выбора выразительных средств в зависимости от оценки говорящим всех составляющих компонентов речевой ситуации. Импрессивность субъективно следует оценивать не столько как тип информации, сколько как соответствие построения высказывания условию его коммуникативного успеха в данной речевой обстановке. В частности, явление дубликации можно расссматиривать как репрезентацию импрессивности в топонимии. Дубликация в условиях межъязыковых контактов способствует появлению так называемых «гибридов», состоящих из нескольких слов (на родном и контактном языках), объединенных, очевидно, в практических целях, чтобы топоним легко воспринимали и местные жители, и пришлое население, например, название Bredon Hill (England) в переводе на русский язык означает: холм + холм + холм; аналогично Torpenhow Hill (England) означает: холм + холм + холм + холм. Таким образом, элементы лингвокреативности проявляются в топонимообразовании. Мы пытались показать закономерности, характеризующие морфонетические, лексико-семантические и синтаксические преобразования онимов. Продуктивность таких способов номинации как гибридизация и дубликация, морфологических проявлений стяжения и усечения в топонимии способствует реализации общефилософских категорий восприятия действительности, ее осмысления (оценки), действия и воздействия (импрессии). Дальнейшее исследование творческого потенциала топонимов позволит ответить на вопрос, чем обусловлено появление прозвищ, наличие многочисленных вариантов в пределах одного семантического типа топонимов. Думается, что все вышеизложенное касается не только топонимообразования, но и проблем номинации в целом. Примечания 1 Кубрякова, Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики / Е. С. Кубрякова // Изв. АН. Сер. лит. и яз. – М., 2004. – № 3. – С. 3–12. 138 2 Fauconnier, G. Methods and generalizations // Cognitive linguistics, foundations, scope and methodology. – Berlin ; N.Y., 1999. – P. 95–124. 3 Ирисханова, О. К. Лингвокреативные основания теории номинализации : дис. … д-ра. филол. наук / О. К. Ирисханова. – М., 2004. – С. 270–277. 4 Блох, М. Я. Диктема в уровневой структуре языка / М. Я. Блох // Вопр. языкознания. – 2000. – № 4. – С. 56–67. 5 Кацнельсон, С. Д. Содержание слова, значение и обозначение / С. Д. Кацнельсон. – М. ; Л., 1965. – С. 19. 6 Блох, М. Я. Проблема основной единицы текста / М. Я. Блох // Коммуникативные единицы языка. – М., 1985. – С. 37–41. 7 Chomsky, N. Aspects of the theory of syntax. – Cambridge (Mass.), 1965. 8 Леонович, О. А. Краткий словарь английских прозвищ / О. А. Леонович. – М. : Высш. шк., 2007. – С. 74. 9 Блох, М. Я. Теоретические основы грамматики / М. Я. Блох. – М. : Высш. шк., 2005. – 239 с. Д. И. Хизбуллина СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЗНАНИЯ Статья посвящена проблеме семантических представлений как отражений наших восприятий о семантике языка и исследованию эволюции этих семантических репрезентаций в процессе познания на материале символично-знаковых представлений человечества о некоторых животных и в синхронической картине мира английского, башкирского и русского языков. Ключевые слова: семантические представления, синхроническая картина мира. В процессе коммуникации человек не задумывается над тем, почему он использует то или иное слово для обозначения того или иного объекта. Только ребенок учится говорить, запоминая слова при прямом назывании предметов: это – кукла, а это – мяч. При этом представления о том или ином объекте меняются с течением времени. Эти изменения зависят от многих факторов – исторических, социальных, психических. Человек, живущий в данный исторический момент, может и не знать, что какое-то слово когда-то обозначало или обозначает что-то еще, его представление об обозначаемом объекте истинно и принадлежит его картине мира. Подобные факты не единичны, и это наводит разных исследователей на мысль о возможности моделирования и формализации данных изменений в мысленных представлениях. Объем философских и лингвистических знаний сближает философов и лингвистов в общем интересе к проблеме семантического описания естественных языков. Исследования таких лингвистов и философов, как Р. Монтегю, Д. Льюиз, Е. Пельц, Б. Холл Парти, Н. Хомский и др., способствуют разработке семантической теории и применению формальных логических моделей к семантике естественного языка. Дейвид Льюиз, например, в статье «Общая семантика» (1972) предлагает свой способ представления семантики, применимый к самым разным логически возможным языкам. Он полагает, что семантическая интерпретация, осуществляемая с помощью только семантических показателей (маркеров), без изучения условий истинности не может быть семантикой. Метод языка маркеров позволяет иметь дело с 139 символами, «с исчислимыми комбинациями привычных для нас единиц, входящих в состав конечного множества элементов, которые имеют конечное множество употреблений с помощью опять-таки конечного множества правил» [4. С. 272]. Но данные конечные множества не учитывают традиционно семантических отношений – между символами и миром не-символов, и обнаруживается, что значения состоят из бесконечного числа сущностей. По мнению Льюиза, значение общего (нарицательного) имени – это то, что определяет, к каким предметам (актуально существующим или возможным) данное имя прилагается в различных обстоятельствах в различные моменты времени и т. д. Значение истинности предложения или имени зависит от его значения и от некоторых других факторов: от фактов, известных о действительности, от времени высказывания, от места высказывания, от говорящего, от окружающих высказываний данного дискурса и т. д. Значение истинности зависит также от фактов, известных во внешнем мире, и поэтому является истинным в одних возможных мирах и ложным в других. Таким образом, Льюиз предлагает теорию индекса, первая координата которого – один из возможных миров, вторая – момент времени, третья – место, четвертая – лицо, пятая – множество лиц (или других существ, которые могут выступать в роли аудитории), шестая – множество (возможно, и пустое) конкретных предметов, седьмая – отрезок дискурса, и восьмая – бесконечная последовательность предметов [4. С. 279]. Под множеством предметов понимается достаточно широкое множество: «оно включает в себя универсум некоторой специальной модели для стандартной теории множеств, плюс все те не-множества, – актуально существующие или возможные, – которые мы пожелали бы включить на правах индивидов» [4. С. 281]. Исследуя в рамках теории номинации причинно-следственные связи присвоения какого-либо имени и последующее употребление этого имени в конкретных обстоятельствах, Льюиз посчитал необходимым включить еще одну координату – координату истории причины получения имени. В процессе обсуждения проблемы языковых соглашений того или иного коллектива говорящих или языковых привычек того или иного индивида анализируется необходимость еще одной координаты – координаты шкалирования, которая позволяет не конкретизировать границы истинности в пределах допустимых согласованных смыслов. Следовательно, предполагается существование некоторого базиса в виде конечного набора элементов, необходимого и достаточного для детального описания природы лексикона. Барбара Холл Парти считает, что правила семантической интерпретации допускают некое конечное представление и соответствуют интуиции носителей языка как части их языковой компетенции. Большинство лингвистов рассматривают семантические представления подобно синтаксическим примитивам как мысленные конструкты. Так, Джеккендоф предполагает, что семантическое представление весьма органично встроено в когнитивную систему мышления человека. Катц определяет семантические маркеры как теоретический конструкт, который создается для того, чтобы репрезентировать концепт – объективное содержание процессов мысли. Лингвисты стали осознавать важность взаимодействия «языковой способности» с другими механизмами восприятия и познания человека, и семантические представления, в конечном счете, основываются на состояниях и процессах в психике человека. При установлении функции актуальной интерпретации необходимо учитывать и ряд других важных психологических факторов. Например, в содержании существующего имени может быть отражено просто условное соглашение и интенция называющего применять данное имя ко всему, допустим, биологическому виду на основании некоего критерия сходства. Введение и распространение термина также 140 частично основано на предрасположенности носителей языка делать одинаковые индуктивные заключения из одинаковых данных опыта. Немаловажен и еще один фактор – роль мыслительных склонностей, когнитивных установок носителей языка. Интересным в данном случае представляется пример с термином ceorl. Данный термин претерпел семантические изменения, обозначая сначала просто человека, мужчину, затем свободного крестьянина низшего социального ранга, затем полукрепостного и, наконец, крепостного. В современном английском варианте этого слова churl сохранилось его сопутствующее значение, которое прошло сквозь изменявшиеся значения социальных рангов и используется теперь – «грубый, неотесанный парень». Семантическое изменение, состоящее в том, что сначала термин обозначал социальное положение, а затем нечто другое – черту характера, облика или социального поведения, предполагает изменение в критерии воспринимаемого сходства, на основании которого производится индукция от данного набора образцов индивидов к более широкой области применения [9. С. 314]. Из всего выше сказанного можно сделать заключение, что фиксация определенной интерпретации лексических единиц предполагает два основания: актуальную природу данных индивидуальных объектов – то, что является независимым от носителей языка и чего они полностью не знают, и общие перцептивные и когнитивные свойства человеческого сознания, определяющие природу генерализации, при которой данная парадигма служит образцом для обобщения. Традиционно семантика рассматривается либо как теория об отношениях между выражениями языка и внеязыковыми объектами, о которых говорят эти выражения, либо как дисциплина об отношениях между выражениями языка и действующими в сознании правилами и представлениями, составляющими языковую компетенцию носителей языка. Естественные языки как создание человека отличаются друг от друга и изменяются с течением времени, следовательно, то, чем определяется, что некоторый интенсионал является интенсионалом данной лексической единицы в данном языке, зависит от явлений и фактов, связанных с этим языком и от свойств людей, говорящих на этом языке. Действительно, актуальные интерпретации лексических единиц в данном языке, передача лексической единицы от одного говорящего к другому, от одной эпохи к другой сквозь меняющиеся состояния языка определяются многими важными факторами: взаимодействиями носителей языка с внешним миром и введением новых слов, намерениями говорящих использовать слова языка одинаковым образом и социальным соглашением говорить на одном языке. Процесс приобретения, сохранения и передачи лексических единиц далеко не пассивное явление, его основная цель – акт коммуникации и компетентное пользование языком. Исторические изменения в лексической семантике зависят и от внепсихических факторов, от факторов реального мира. Если термины естественных классов исторически наиболее устойчивы, то термины не естественных классов, такие как термины социального положения, термины, описывающие свойства человека или политические взгляды, более подвержены влиянию психических факторов, поскольку не являются терминами объектов, для которых имеется научная теория. Изменения в свойствах объекта, последующие изменения в индуктивных обобщениях, которые производят носители языка, могут привести к изменениям и в их интерпретации. Итак, лингвистический термин семантическое представление или семантическая репрезентация возможно использовать для обозначения неких психологических конструктов, которые отражают наши восприятия и мнения о семантике нашего языка, а не саму семантику. При этом отражение в сознании людей восприятия мира 141 и его интерпретация понимаются как представления о мире или репрезентациями мира, которые составляют богатую область исследования для психологии познания. Исследование лексической семантики открывает богатые возможности для исследования человеческого мышления. Действительно, знание – это не результат только восприятия, поскольку оно направляется и ограничивается действиями. Крупнейший психолог-эмпирик, в деталях изучивший онтогенез мышления, Жан Пиаже пришел к выводу, что познание начинается с действия, которое затем повторяется и обобщается через применение к новым объектам, порождая некую схему или концепт. Объекты не просто ассоциируются между собой, а активно ассимилируются (уподобляются, усваиваются) субъектом по определенным схемам. После этого возникает необходимость приспособления к особенностям этих объектов, это приспособление является результатом внешних воздействий, т. е. результатом опыта. Движущая сила когнитивного акта заключается в ассимиляции, которая сводится к тому, что некоторый факт интерпретируется параллельно с его расшифровкой с использованием всей концептуализации, присущей субъекту – установление связи или соответствия, смежности или разделения, кванторов больше или меньше и т. п. Существуют определенные механизмы, которые обеспечивают построение различных структур-схем от одной стадии к другой. Сначала отражающая и рефлексирующая абстракция являются источниками этих структурных новообразований, когда, например, происходит интериоризация некоторого действия в некое концептуализованное представление. За абстракцией следует генерализация, развивающаяся путем простого расширения и дополнения. Переход от действия к представлению происходит благодаря формированию семиотической функции – специфического инструмента знакообразования (отсроченная имитация, символическая игра, мысленный образ, язык жестов и т. п. в добавление к звуковому языку), необходимого для восстановления в памяти объектов, ненаблюдаемых в данный момент ассимиляции. Семиотическая функция появляется, когда означающие отличаются от означаемых и могут соответствовать множеству этих означаемых [6. С. 104]. Исследование того, как язык приобретает лексические единицы, какова в этом роль психических факторов, как происходит процесс усваивания языка, – все это важнейшие задачи, решение которых может дать ценные результаты для понимания человеческого мышления. Языковое воплощение данного процесса познания прослеживается на материале представлений человека о некоторых животных, например, о волке и медведе. Символично-знаковые изображения волка и медведя встречаются уже в древних погребениях, в частности, скифов. Своеобразный зооморфный код, так называемый «скифо-сибирский звериный стиль», отражает картину мира кочевников и выступает в роли знака, несущего определенную условную информацию. Репутация скифов в глазах греков как непобедимых воинов подтверждается символической системой изображений на предметах, к примеру, Филипповских курганов. Олени как самый почитаемый символ скифской культуры изображены с гипертрофированными удлиненными мордами, и это придает им сходство с волком. Медведь, представленный в виде сосуда, символизирует силу охотника в противоборстве жизни и смерти [2. С. 42–45]. И волк, и медведь упоминаются уже в Библии: волк как «wolves in sheep's clothing», а медведь вместе со львом в качестве «царя зверей». Волк был священным животным древнеримского бога Марса, считавшегося божеством плодородия, богом дикой природы. После отождествления с Аресом, Марс стал богом войны [5. С. 181]. Отсюда волк – символ воинской доблести, символ родоначальника племени, чему свидетельствуют многочисленные мифологические сюжеты о воспитании первого 142 человека рода волчицей – ср. римский миф о Ромуле и Реме, иранский сюжет о Кире старшем [10. С. 183], древнетюркский миф об Огуз-хане [7. С. 718], башкирскую легенду о Башбүре – Главном волке [1. C. 28]. Медведь у греков – священное животное Артемиды, богини охоты, у кельтов эмблема воинской доблести (имя короля Артура производят от arthos – «медведь»). Но в средние века медведь уже символизировал греховную природу человека [10. С. 201]. В скандинавском эпосе волк – олицетворение хаоса, и чудовищный волк Фенрир перед концом света проглотит солнце. В средневековье волк стал символом злобы, жадности и ереси. Волками называли еретиков, которых преследовали «псы Господни» – инквизиторы [10. С. 184]. В фольклоре тюрков к волку и медведю явно двойственное отношение. С одной стороны, бесспорное почитание. Например, в казахском эпосе волк – воплощение силы и отваги, в алтайском с образом медведя связан положительный герой [7. С. 715]. В киргизском эпосе «Волк» – поэтическое прозвище богатыря, которое означает, что герой храбр, ловок, силен и неустрашим [7. С. 719]. С другой стороны, в пратюркской картине мира налицо борьба рационалистического с мифологизированным началом. В башкирской богатырской сказке о сыне волка Сынтимире рассказывается, что от неукротимой силы юноши никому не было житья, и люди потребовали у царя избавить их от неистового силача. Сыну женщины и медведя Аюголаку-батыру тоже пришлось уйти из аула, хотя, как и сын волка Сынтимир, он был не только сильным и храбрым, но и честным [1. С. 71–84]. Таким образом, представления человечества о волке и медведе были самыми разнообразными и нестатичными, и если обратиться к картине мира по данным английского, башкирского и русского языков, то мы также не встретим единых эстетических универсалий и психологических констант в их интерпретации. Языковая мотивация использования данных знаков так называемого зооморфного кода объединяет в своем семантическом поле разнообразные понятия и логические отношения. В синхронической языковой картине мира волк не только метафорическое именование прожорливого человека (англ. a wolf), сходное по мотивации действие (англ. to wolf), но и определенная ментальная сущность концептуальной метафоры (англ. to have the wolf in the stomach), не только библейское имя лицемера (англ. a wolf in sheep's clothing, рус. Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву), но и подобное действие (англ. to cry wolf). Из символа воинской доблести и поэтического наименования богатыря, храброго и честного защитника родителей и обиженных, волк стал обозначением злого (англ. big bad wolf), жестокого (башк. бүре бауыр), хитрого человека (башк. kарт бүре) и даже обидчика (русск. Отольются волку овечьи слезы). Понятие священного животного заменилось проклятием (башк. бүре алғыр – чтоб ты пропал). Медведем именуют человека грубого, злого (англ. cross as a bear), неуклюжего и невоспитанного (англ. a bear, to play the bear), неповоротливого (башк. айыу кəүзə - увалень), неотесанного и нелюдима (фр. un ours mal léché). Политическая метафора «русский медведь» как олицетворение России и русского характера послужили мотивом к избранию медведя в качестве символа Олимпиады 1980 года в Москве и одной из политических партий России. И волк, и медведь в знаковой системе мотивации ассоциируются с чем-то неразумным (англ. to take a bear by the tooth), бесцельно рискованным (англ. to have a wolf by the ears) и опасным (англ. to set the wolf to keep the sheep, рус. Волков бояться – в лес не ходить; волчьи ягоды, волчья яма). Интересно, что медведь имеет более положительную мотивацию по сравнению с волком (башк. Айыузан kасkан бүрегə – ср . рус. Из огня да в полымя), хотя и неблагоприятную человеку (рус. медвежий угол, медвежья услуга). 143 Исследование семантических представлений и эволюции познания позволяет наглядно отразить некоторые закономерности в развитии лексической семантики естественных языков и знаковых систем. Расширяется и уплотняется информационное пространство, возрастают объемы коммуникации, усиливается роль символической информации, уменьшается значимость знаков с первичной мотивированностью, наблюдается тенденция к интернационализации семиотических систем языков. Мир чрезвычайно динамичен и коммуникабелен. Мировые цивилизации находились и находятся в постоянном обмене сфер влияния, и как следствие – происходили и происходят заимствования и взаимопроникновения, в том числе и на уровне языковой системы. Исследование проблем возникновения и распространения новых значений, пересечения и взаимодействия разных смыслов в общении и познании важно для понимания эволюции культуры. Список литературы 1. Башкирские сказки и легенды. – Уфа : Китап, 1996. 2. Золотые олени Евразии. – СПб. : Гос. Эрмитаж, 2002. 3. Кунин, А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – М. : Рус. яз. : Медия, 2006. 4.Льюиз, Д. Общая семантика / Д. Льюиз // Семиотика : антология / сост. Ю. С. Степанов. – М. : Академ. проект, 2001. – С. 271–303. 5. Мифологический словарь / В. Арчер, Г. В. Щеглов. – М. : АСТ, 2006. 6.Пиаже, Ж. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение / Ж. Пиаже // Семиотика : антология / сост. Ю. С. Степанов. – М. : Академ. проект, 2001. – С. 98–110. 7. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский языкоснова. Картина мира пратюркского этноса по данным языка. – М. : Наука, 2006. 8. Словарь башкирского языка : в 2 т. – М. : Рус. яз., 1993. 9.Холл Парти, Б. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность / Б. Холл Партии // Семиотика : антология / сост. Ю. С. Степанов. – М. : Академ. проект, 2001. – С. 304–324. 10. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М. : Эксмо; СПб. : Мидгард, 2005. Т. Н. Чугаева ЗВУЧАЩИЙ ТЕКСТ С ПОЗИЦИИ СЛУШАЮЩЕГО: УРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА И СТРАТЕГИИ ВОСПРИЯТИЯ В статье обсуждаются основные текстовые категории цельности и связности. В связи с этим рассматривается роль перцептивной базы языка в процессе восприятия русскими аудиторами аутентичного английского текста и его составляющих. Разнонаправленные стратегии восприятия текста подтверждаются результатами обучающего эксперимента. Ключевые слова: перцептивная база, английский текст, стратегия восприятия. В современной лингвистике утвердилась традиция исследования целых речевых произведений исходя из понимания текста в смысле М. М. Бахтина «как первичной данности и исходной точки всякой гуманитарной дисциплины». Среди мно144 гообразных текстовых категорий и признаков, обсуждающихся в лингвистической литературе (см. работы И. Р. Гальперина, М. В. Коноваловой, А. А. Леонтьева, М. Л. Макарова, В. В. Красных, З. Я. Тураевой и др.), особое место занимают «общие законы связности и общая установка на цельность текста»1. По мнению А. А. Леонтьева, цельность характеризует текст как смысловое единство и не соотносится непосредственно с категориями и единицами лингвистики речи: «Суть феномена цельности – психолингвистическая, она коренится в единстве коммуникативной интенции говорящего и в иерархии планов речевого высказывания; цельный текст характеризуется иерархией смысловых предикатов (в смысле Н. И. Жинкина, В. Д. Тункель, Т. М. Дридзе)». Связность обычно является условием цельности, но цельность не может полностью определяться через связность2. Л. Н. Мурзин и А. С. Штерн считают, что цельность соотносится с планом содержания, то есть имеет парадигматическую природу, в то время как связность соотносится с формой текста и синтагматична, поскольку обеспечивается правилами сочетаемости элементов на различных лингвистических уровнях3 . С появлением в лингвистике 60–70 годов текста как нового объекта исследования в теории восприятия определилась проблема уровневости и взаимодействия лингвистических уровней при восприятии речи. Такая постановка задачи приводит к необходимости изучения восприятия речевых единиц разных уровней в лингвистическом ключе, а не только в психологическом. При изучении звучащего текста с психолингвистической точки зрения важно, вслед за Н. Хомским, разграничивать и «одинаково серьезно рассматривать с философской, психологической и лингвистической точек зрения – позиции говорящего, слушающего и изучающего данный язык»4. Авторы коллективной монографии «Аспекты общей и частной теории текста» рассматривают текст как специфическое образование, которое можно исследовать исходя из общих свойств текста, например, цельности, связности и отдельности (в терминах А. А. Леонтьева), прослеживая роль различных компонентов текста и их взаимодействие в плане обеспечения этих характеристик текста. Возможен и обратный путь: исследование самих процессов его восприятия или порождения текста. В последнем случае исследование, естественно, начинается с анализа языковых фактов, данных в тексте, прослеживается «жизнь» конкретных языковых единиц. При этом особую актуальность приобретает проблема взаимосвязи восприятия отдельных элементов в тексте и целого текста, таким образом, взаимосвязи лингвистических уровней, на которых происходит восприятие5. Вопрос о роли и месте языковых единиц является одним из ключевых в теории текста, в том числе, его восприятия и понимания. Одним из отправных пунктов теории текста Т. М. Николаева считает именно «бытование и поведение в тексте билатерального языкового знака»6. Первой по значимости, самостоятельно живущей в тексте языковой единицей она полагает слово; синтаксический компонент, по её мнению, оказывается минимально включенным в анализ текста. Очевидно, в тексте с неизбежностью отражается как обязательное и необходимое для организации естественных языков противопоставление хотя бы двух ярусов единиц, Zweiklassensystem К. Бюлера. В связи с этим нельзя не упомянуть и положение Л. В. Щербы о трех линиях противопоставления грамматического и лексического, словарного в языке, а также замечание М. А. К. Хэллидея о том, что само владение языком предполагает, что говорящий знает разницу между текстом и «нетекстом» – списками слов или любыми наборами предложений7. 145 Таким образом, звучащий текст характеризуется, с одной стороны, цельностью смысла, а с другой, структурированностью, представляя составляющие его единицы, каждая из которых, как отмечает Е. В. Ягунова, определяется своими фонетическими и внефонетическими признаками; причем в развертывающемся во времени тексте для процедур восприятия текущим образом доступны лишь структурные составляющие8. Это определяет разные стратегии слушающего: от элемента к целому, или от целого к составляющим элементам – элементаристскую и холистскую. В исследовании Л. Н. Мурзина и А. С. Штерн показано, что восприятие зависит от того, как распознаются входящие в него ключевые слова, т. е. доказывается, что целое зависит от частей (сегментов). Что касается предложений, то восприятие текста зависит от опознаваемости предложений; в то же время опознаваемость предложений зависит от формирующейся цельности текста9. То есть слушающими могут использоваться обе стратегии распознавания – по элементам и как целостного образования, – но в зависимости от внешних условий то одна, то другая стратегия превалирует. Задачи настоящей статьи состоят в том, чтобы, во-первых, охарактеризовать звучащий текст в параметрах цельности и связности, во-вторых, рассмотреть опознание слов и предложений, с одной стороны, как элементарных составляющих аутентичного английского текста в процессе его восприятия русскими аудиторами, а с другой, описать их как единицы перцептивной базы языка, воспринимаемые с опорой на существенные лингвистические признаки. Другими словами, ставится задача проследить соотношение уровней слова и предложения в процессе восприятия цельного текста. Не требует доказательств положение о том, что любой акт восприятия включает стремление к осмыслению воспринятого, или, в терминах В. Б. Касевича, «презумпцию осмысленности», которую рассматривают как приоритетную черту всей познавательной деятельности человека. А. В. Венцов и В. Б. Касевич отмечают, что при восприятии текста слушающего обычно «интересует лишь “поток смыслов”, моделирующих внеязыковую действительность, а все остальные структуры <…> звуковая, морфологическая и, синтаксическая <…> должны быть в принципе столь же “прозрачны” для речевого восприятия, сколь та же оптическая среда при зрительном восприятии предметов. В сущности, “прозрачен” для восприятия и сам текст: обычно слушающего интересует не текст как таковой, а описываемая им ситуация». В то же время авторы признают целесообразность самостоятельного анализа «собственных признаков всех структур звучащего текста <…> в силу того, что от типа структуры зависит смысловая интерпретация»10. Таким образом, с одной стороны, подчеркивается значимость смысловых структур и их признаков, однако, с другой стороны, факт того, что «слушающий в большей или меньшей степени должен опираться на материальную оболочку (одновременно как на носитель информации и на саму информацию), т. е. собственно фонетические структуры и их признаки»11. Многими исследователями различных направлений лингвистики отмечается, что форма текста, обладая структурными и содержательными параметрами, представляет собой самостоятельный объект исследования (см., напр., работы Э. Т. Болдыревой, И. Ю. Моисеевой, Г. Г. Москальчук, В. А. Пищальниковой и др.). Проблема соотношения формы и содержания текста имеет в лингвистике давнюю традицию. Различные подходы к её решению определяются разнообразием исследовательских задач. Особую актуальность звуковая сторона текста приобретает при изучении иностранного языка, что непосредственно связано с формированием новой перцептивной базы языка. 146 В контексте продолжающейся дискуссии о моделях восприятия речи, с нашей точки зрения, не утрачивает актуальности системное представление о перцептивной базе языке (ПБ), введенное в лингвистический обиход З. Н. Джапаридзе. Это понятие оказывается созвучным идеям современных теорий восприятия речи человеком, обладая, с нашей точки зрения, значительной объяснительной силой как в концептуальных, так и в процедурных вопросах восприятия речи человеком. Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что каждый носитель языка обладает некоторой внутренней системой, которая позволяет ему строить и воспринимать тексты на данном языке. Восприятие того или иного звука речи зависит не столько от физических характеристик звука, сколько от языковых характеристик слуха, от «фонематического слуха» того языка, носителем которого является слушающий. Как известно, З. Н. Джапаридзе определял ПБ как «языковую систему средств восприятия звучания речи», или как «единство хранящихся в памяти человека эталонов фонетических единиц и правил сравнения с ними»12. Ключевое значение имеет определение набора эталонов, о которых можно делать предположения лишь наблюдая над актами восприятия. З. Н. Джапаридзе выделяет три вида эталонов фонетических единиц перцептивной базы языка: единицы сенсорного и субсенсорного уровней; единицы сегментного и супрасегментного рядов; по строению – простые и сложные эталоны13. Однако в настоящее время все более очевидным становится вопрос о представленности других уровней, прежде всего слова, в ПБ языка. Экспериментальные исследования А. С. Штерн подтвердили реальность обращения слушающего к ПБ языка в процессе восприятия речи. А. С. Штерн принадлежит идея расширительной трактовки ПБ языка: «Следовало бы говорить о наборе эталонов не только на фонетическом (звуки, слоги), но и на других лингвистических уровнях, что связано с проблемой целостности / поэлементности восприятия речи»; «имеются эталоны высокочастотных слов, структур предложений и текстов»14. В теории восприятия речи по существенным лингвистическим признакам А. С. Штерн определяет два вида единиц. Отражением элементарной речевой операции (единицы), сохраняющей свойства восприятия целого, считаются существенные лингвистические признаки (СЛП), которые обнаруживаются при восприятии всех речевых отрезков, существенность и иерархия которых всякий раз зависит от конкретных условий восприятия. Они отражают непрерывный характер деятельности и присущи первому этапу восприятия, на котором создается «сенсорный слепок» физической реальности. На втором этапе происходит распознавание элементов объекта (основных психолингвистических единиц: слогов, слов, предложений и их последовательностей), а также и объекта целиком. «Это, по-видимому, осуществляется сопоставлением информации, полученной на пересечении признаков, с характеристиками эталонов, имеющихся в мозгу реципиента»15. Другим аспектом проблемы соотношения формы и содержания звучащего текста является неоднозначная трактовка разграничения уровней обработки информации, что связано с глубиной осмысления его содержания. Автор настоящей статьи разделяет уверенность тех исследователей, которые признают существование особого уровня восприятия звукового потока, непосредственно связанного с ролью отдельного слова при восприятии. Этот уровень именуется по-разному: лингвистическим (И. А. Зимняя), уровнем языкового понимания (Б. М. Лейкина), уровнем смысла слов (Ю. Н. Караулов), восприятием звучания текста (З. Н. Джапаридзе), поверхностным, или формально-языковым (В. Б. Касевич). 147 А. С. Штерн, квалифицируя этот уровень перцептивным («средним»), считает, что он «в действительности распространяется, с одной стороны, на более низкий, сенсорный, уровень, а с другой – совпадает с низшим (так называемым “языковым”) подуровнем более высокого уровня – смыслового восприятия текста»16. Все названные концепции объединяет сходное понимание сути данного уровня: он обеспечивает непосредственное восприятие материальных знаков плана выражения и их ближайшее осознание. А. И. Новиков считает, что этот уровень, хотя и не является достаточным для полного понимания, тем не менее, определенную степень понимания обеспечивает и заканчивается восприятием текста на уровне слова как основной значимой единицы языка17. На следующем этапе осуществляется переход от образа языкового знака к образу его содержания. В силу «презумпции осмысленности» оба этапа сопровождаются осознанием, но оно различно по своей природе. В первом случае это распознавание, узнавание знаков, во втором – понимание, направленное на распознавание информации, закодированной комбинацией этих знаков. Оба эти уровня или этапа слиты во времени и переплетены, образуя как бы единый процесс, то, что И. А. Зимняя называет «смысловым восприятием». Таким образом, восприятие условно подразделяется на языковое и надъязыковое, поверхностное и глубинное, буквальное и глобальное на том основании, что языковые единицы являются элементами, с которых начинается анализ текста. Кроме того, как показал А. И. Новиков, они осуществляют определенное управление этими процессами, потому что их значения задают определенное семантическое пространство, в пределах которого и формируется осознание18. Такое представление хорошо согласуется с концепцией 4-уровневой модели восприятия С. А. Крылова, который предполагает различение нескольких уровней понимания речи, связывающих «поверхностные» сущности с «глубинными»19. В монографии М. Краузе уровни процесса понимания сопоставляются с четырьмя фазами понимания Ф. Кайнца: акустико-перцептивная, ассимилятивнорепродуктивная, мнемически-гностическая, логико-интеллектуальная20. Экспериментальное исследование восприятия немецкого слова охватывает первые три фазы, которые называются «собственно языковым пониманием речи», в центре которого оказывается опознание звукового образа, то, что Ф. Кайнц обозначает как Wortlautverstandnis. Таким образом, в концепции М. Краузе также разграничивается восприятие звукового облика слова и понимание его значения (Wortsinnenverstandnis по Ф. Кайнцу). Интересно сопоставить это разграничение уровней обработки речевой информации с концепцией М. М. Бахтина. М. М. Бахтин называет восприятие пониманием, которое, по его концепции, характеризуется как процесс, который включает ряд актов: (1) психофизиологическое восприятие физического знака, (2) узнавание его, (3) понимание его общего значения (4) и конкретного, (5) включение в диалогический контекст21. Выделение поверхностного уровня понимания текста непосредственно связано с особой ролью слова при восприятии речи. В иерархии психолингвистических единиц восприятия речи слово занимает особое место (А. А. Залевская, И. А. Зимняя, А. А Леонтьев, M. Bock, C. J. Koster, D. B. Pisoni, R. Plomp и др.). Несмотря на существование крайних точек зрения, отрицающих полнозначность единиц меньше предложения (напр., Ф. Лейфринк), в отечественной традиции слово признается основной, цельной и естественной языковой единицей; в современной психолингвистике слово относится к основным психологическим единицам языка и рассматривается как опорный элемент сознания. Слово, являясь основной психолингвистической единицей восприятия, оказывается критической единицей сегментации текста, позволяющей проследить взаимодействие между означающими и означаемыми, между 148 данным в тексте и извлекаемым из памяти22. А. А. Залевская отводит слову роль «минимальной, относительно хорошо определенной единицы, которая может анализироваться на разных уровнях, в том числе на уровнях признаков фонем, морфем, на семантическом и синтаксическом уровнях». Нельзя не согласиться с А. А. Залевской и в том, что роль слова «не выяснена в достаточной мере <…> необходимы экспериментальные исследования особенностей функционирования слова в процессах понимания текста с последовательной опорой на психолингвистическую теорию слова»23. Как известно, традиционной задачей экспериментального изучения такой сложной проблемы, какой является анализ процедуры восприятия звуковой последовательности, остается «систематическая квалификация тех особенностей речевого поведения человека, которые позволили бы установить иерархию различных уровней и описать ее количественно»24. При восприятии слова как в тексте, так и изолированного, особую значимость приобретает вопрос о комплексе обобщенных признаков слова как целостной единицы, таких как длина, акцентно-ритмический контур, «консонантный скелет» слова и др.; таким образом, выявление всего комплекса признаков на материале отдельного взятого языка, а также описание механизмов восприятия единиц разных уровней становится актуальной лингвистической задачей. В теории восприятия по существенным лингвистическим признакам (СЛП) Л. Р. Зиндера и А. С. Штерн25, развивающейся автором настоящей статьи, моделирование механизма восприятия слов основывается на выявлении совокупности лингвистических признаков (факторов). Под механизмом здесь понимается определение набора лингвистических признаков, влияющих на восприятие отрезка, выявление иерархии этих признаков в соответствии со степенью влияния фактора на восприятие отрезка и установление среди факторов существенных. СЛП могут считаться отражением элементарной речевой операции (в терминах А. А. Леонтьева), сохраняющим свойства восприятия целого, а их градации – единицами принятия решения. Такое элементарное действие предметно, обладает свойствами целостности, категориальности и константности. От адекватности восприятия признаков, точнее их градаций (степень интенсивности действия фактора), зависит правильность восприятия речевого отрезка. Таким образом, СЛП являются своеобразными опорами при восприятии, существующими на каждом языковом уровне. В результате многочисленных экспериментов по восприятию речи на русском (А. С. Штерн), немецком (М. Краузе) и английском (Т. Н. Чугаева и др.) языках были выявлены существенные лингвистические признаки уровня слова: «длина в слогах», «ударная гласная», «частотность объективная и субъективная», «ритмическая структура», «консонантный коэффициент», «часть речи» и др.26 Для более строго и корректного изучения анализа влияния этих признаков на восприятие слова и моделирования перцептивных механизмов изолированного слова нами были составлены сбалансированные словесные таблицы (традиционно называемы артикуляционными). В эти таблицы были включены в равных пропорциях группы слов, представляющие основные СЛП. Кроме того, нами был экспериментально выявлен комплекс лингвистических признаков, существенно определяющий восприятие английских предложений разных типов, в который входили следующие признаки: «время глагола», «сообщение – вопрос», «утверждение – отрицание», «актив – пассив», «модальность», «длина предложения в словах», «сложность синтаксической конструкции» и некоторые другие. Признаки «модальность» и «время глагола» оказались самыми весомыми и существенно влияющими на восприятие. Существенными оказались также факторы 149 «сложность синтаксической конструкции» и «длина предложения в словах». Меньшее влияние на восприятие предложения оказывают признаки «сообщение – вопрос», «утверждение – отрицание», «актив – пассив». Было установлено, в частности, что лучше всего воспринимаются времена Present Continuous, Past Simple, Present Perfect Continuous; предложения с модальным глаголом may (которые отличаются особой частотностью употребления в разговорной речи); инфинитивные конструкции и предложения в активном залоге. Было показано, что легче опознаются короткие предложения; труднее опознавались партиципиальные конструкции и хуже всего – герундиальные. При изменении лексических наполнений опора на ядерность конструкции возрастает: утверждения воспринимались легче отрицаний, сообщения легче, чем вопросы, что не было характерно для программ с одним лексическим наполнением. Подтвердилось предположение о зависимости восприятия от частотности конструкции, с чем хорошо согласуются и предварительный полученные нами (совместно с А. В. Новиковым) результаты контент-анализа встречаемости разных «формул» предложения на представительной выборке текстов более 1500 предложений. Таким образом сбалансированный материал начитывался носителями британского варианта английского языка и предъявлялся для прослушивания и записывания русскими аудиторами, изучающими английский на продвинутом этапе. В процессе экспериментов был замечен сильный обучающий эффект прослушивания словесных таблиц. Хороший обучающий эффект достигался тем, что материал представлял собой основные фонетические типы слов, которые, в терминах А. А. Леонтьева, являются и основными «психологическими единицами, в отношении которых носитель языка располагает какими-то имплицитными критериями для выделения в потоке речи»27. Сбалансированный по СЛП материал слов и предложений оказывается представительным для описания звукового строя английского языка в перцептивном аспекте, поскольку содержит основные фонетические типы слов и синтаксических конструкций, т. е. «формулы (модели) предложений». Кроме того, он оказался полезным в прикладном смысле, как материал для обучения аудированию на иностранном языке, что будет подробно обсуждаться ниже. Результаты многочисленных экспериментальных исследований подтверждают, что при восприятии целого текста существенным является опора на ключевые слова, поскольку основная ядерная цельность текста отражается в их наборе. Таким образом, как отмечает С. А. Сиротко-Сибирский, несмотря на некоторую синтаксическую «рваность», текст может быть успешно воспринят при условии правильного опознания достаточного количества слов и, прежде всего, ключевых. В процессе понимания происходит разбивка материала на части и его группировка на смысловой основе, т. е. сжатие каждого «смыслового куска» в «опорный пункт»28. Центральным моментом понимания текста на иностранном языке считается открытие «смысловых вех» или «опорных слов» (А. Н. Соколов). О том, что именно опорные или ключевые слова являются определителями содержания текста, пишут многие исследователи (И. А. Баринова, Л. В. Сахарный, С. А. Сиротко-Сибирский, А. С. Штерн и ряд других). Такие опорные пункты составляют наборы ключевых слов текста. Вслед за А. А. Леонтьевым и А. С. Штерн, И. А. Баринова считает, что ключевые слова передают цельность текста, что является главным в коммуникации. Именно цельность, как имплицитный, функциональнокоммуникативный феномен, является основополагающим фактором текста, а не связность, являющаяся эксплицитным, формально-структурным феноменом29. Различные стратегии восприятия элементов текста описываются в исследовании А. А. Брудного. На основании экспериментальных и интроспективных данных 150 он приходит к важным выводам. Во-первых, о том, что «понимание текстов всегда связано с выходом за пределы их содержания», во-вторых, о существовании в процессах понимания смысла текстов трех уровней, «которые всегда представлены, но роль каждого из них меняется в зависимости от смысловой специфики текста» и очевидно, от других факторов. Первым из них является уровень «монтажа текста» в сознании из последовательно сменяющихся друг друга отрезков, относительно законченных в смысловом отношении. Одновременно с этим на втором уровне происходит сопоставление элементов текста с перестройкой их первоначального соотношения в процессе отражения в сознания структуры содержания. На третьем уровне параллельно происходит появление некоторого общего смысла (концепта текста)»30. Таким образом, при восприятии звучащего текста можно наблюдать две разнонаправленные стратегии: с одной стороны, восприятие речевых отрезков разных уровней восприятия, с другой – монтаж, активное конструирование «концепта текста», формирование его цельности слушающим. На основе изложенных выше теоретических положений и гипотез, а также с учетом замеченного обучающего эффекта сбалансированного материала слов и предложений у русских аудиторов, возникло предположение о целесообразности проведения психолингвистического эксперимента обучающего характера, тренинга по восприятию сбалансированных программ слов и предложений, а также диагностики восприятия аутентичного английского текста. Целью лингводидактического тренинга по аудированию, проведенного совместно с О. В. Байбуровой31 было рассмотрение возможностей количественного (по проценту правильного опознания слов текста) и качественного (сохранности ключевых слов и синтагм) улучшения навыков восприятия связного текста на английском языке после длительного прослушивания сбалансированных по СЛП материалов уровня слова и предложения. Эти материалы включали сбалансированные списков слов и предложений и не предполагали работу на текстовом уровне. Иными словами, в обучающем эксперименте ставилась задача улучшения навыков аудирования аутентичного текста на английском языке русскими аудиторами продвинутого этапа обучения при условии отработки восприятия низших уровней. Текстовым экспериментальным материалом для определения уровня сформированности навыков восприятия и понимания текста послужили два отрывка из романа H. G. Wells «The History of Mr. Polly» (Wells 1941) объемом 415 слов и 430 слов, длительностью звучания около 2,5 минут каждый. Тексты представляют собой литературный монолог-повествование от 3-го лица, с элементами диалога. Аудиоверсия романа озвучена британским актером П. Джеффри, обладающим произносительной нормой Received Pronunciation. Оба отрывка одинаковой сложности взяты из начала 1-ой главы романа, чтобы избежать положительного влияния контекста и добиться объективности оценки тестов «на входе» и «на выходе». Выбранные нами тексты характеризуются средним темпом речи (169 слов в минуту), выраженной эмоциональностью прочтения. В обучающем эксперименте участвовали 14 аудиторов, которыми стали студенты выпускных курсов филологического факультета ПГУ. Эксперимент проводился в три этапа. Первый этап («тест на входе») заключался в прослушивании первого отрывка (415 слов) в изолированном помещении «с воздуха». В нем принимали участие все 14 испытуемых. По инструкции аудиторы дважды прослушали текст; первый раз с целью его понимания; второй – записи по отдельным синтагмам, между которыми содержались паузы, достаточные для записи. 151 После этого информантов попросили прочитать записанный текст, подумать над его содержанием и выписать из него 9-12 слов, наиболее важных с точки зрения содержания всего текста. Второй этап представлял собой эксперимент по обучению аудированию. В нем принимали участие 7 человек (группа А). Эксперимент заключался в прослушивании и записывании сбалансированных таблиц английских слов и предложений, взятых из «Английских артикуляторных таблиц» Т. Н. Чугаевой. Длительность данного этапа составила три недели (21 день). Всего было проведено 7 встреч, на каждой из которых аудиторы прослушивали одну таблицу слов и одну программу предложений. Материал был начитан носителем британского варианта английского языка, владеющим нормой Received Pronunciation. Помимо этого, каждый испытуемый получил две аудиокассеты общей длительностью звучания более 2,5 часов и печатный вариант всех таблиц слов, предложений и упражнений для самостоятельной работы дома и самоконтроля. Испытуемым была дана установка на многократное прослушивание и записывание без опоры на текст с последующим сравнением результатов всех прослушиваний с текстом. Третий этап проводился аналогично первому и представлял собой «тест на выходе». В нем приняли участие обе группы информантов. Работа проводилась на втором отрывке из «The History of Mr Polly» (430 слов). Таким образом, в эксперименте участвовало две группы русских испытуемых по 7 человек каждая: экспериментальная (группа А) и контрольная (группа Б). Обе группы прослушивали тексты, которые представляли собой тесты «на входе» и «на выходе». Аудиторы обеих групп однократно прослушивали и посинтагменно записывали тексты. Результаты тестов «на входе» показывают приблизительно одинаковый уровень сформированности навыков аудирования у испытуемых обеих групп (р % по группе А составил 59,9 %, а по группе Б – 60,0 %). «На выходе» процент правильного опознания слов текста аудиторами экспериментальной группы увеличился до 69,1 %, в то время как у контрольной группы он практически не изменился (59,3 %). Сравнение результатов опознания слов текста «на входе» и «на выходе» у двух групп аудиторов по t-критерию Стьюдента показало, что результаты экспериментальной группы отличаются существенно на 5-процентном уровне значимости. Таблица 1 Опознание ключевых слов русскими аудиторами А и Б Тест «на входе» Тест «на выходе» Индексировано КС Опознано КС Индексировано КС Опознано КС Группа А 42,8 % 79,4 % 69,9 % 100,0 % Группа Б 47,6 % 92,0 % 44,4 % 92,0 % В табл. 1 представлены результаты опознания ключевых слов (КС) по группам А и Б на «входе» и «выходе». Из табл. 1 видно, что в тесте «на входе» процент совпадения КС, выделенных группой А, с КС, полученными в результате экспертной оценки, был на 4,8 % ниже, чем в группе Б. После трёхнедельного обучения тот же показатель группы А вырос на 27,1 %, а в группе Б снизился на 3,2 %. Процент опознания КС аудиторами группы А вырос на 20,6 %,а в группе Б он остался неизменным. Таким образом, для группы А отмечается улучшение восприятия цельности текста. Хотя испытуемые группы Б опознали в обоих текстах одинаковое число КС, процент правильной индексации снизился на 3,2 %. Поскольку уровень сложности 152 двух текстов одинаков, можно сделать вывод о том, что восприятие цельности текста зависит от правильного опознания слов. Третьим рассмотренным параметром сравнения являлась сохранность синтагм, на которые были разделены оба текста. Нами были получены следующие цифры (см. табл. 2). Из таблицы 2 видно, что сохранность синтагм при восприятии текста испытуемыми группы А возросла на 11 %, а сохранность предложений – на 3 %. В группе Б произошло существенное снижение разборчивости предложений (на 6 %) и синтагм (на 13 %). Следовательно, восприятие связности текста аудиторами группы А улучшилось, а аудиторами группы Б – ухудшилось. Таблица 2 Сохранность синтагм у групп А и Б Тест «на входе» Тест «на выходе» Сохранность предложений Сохранность синтагм Сохранность предложений Сохранность синтагм Группа А Группа Б 21,0 % 18,0 % 35,0 % 31,0 % 24,0 % 12,0 % 46,0 % 18,0 % Как видим, наблюдается существенное улучшение сформированности навыков аудирования у испытуемых экспериментальной группы и неизменность тех же навыков у испытуемых контрольной группы. Кроме существенного увеличения процента правильного опознания слов текста (+ 9,2 %), улучшилось и восприятие смыслового ядра текста (+ 27,1 %). Очевидно, что чем выше процент правильного восприятия слов текста, тем больше вероятность того, что в их числе окажутся КС текста. При этом механизм восприятия цельности легче поддаётся тренировке, чем механизм восприятия связности. Следовательно, можно утверждать, что тренировка навыков восприятия уровней слова и предложения существенно повышает уровень сформированности навыков восприятия связного текста. Полученные результаты подтверждают, что категория цельности соотносится с планом содержания, то есть парадигматична. Связность соотносится с формой текста и имеет синтагматическую природу, поскольку обеспечивается правилами сочетаемости элементов на различных лингвистических уровнях. Итак, успешность восприятия связного текста на иностранном языке, зависит от того, насколько сохранными оказываются при восприятии его основные параметры, в первую очередь цельность, выраженная в ключевых словах. Это, в свою очередь, зависит от сформированности единиц основных уровней языка – слов и предложений в перцептивной базе иностранного языка. Полученные факты свидетельствуют о большей взаимосвязи уровней слова и текста и меньшей соотнесенности высшего текстового уровня с предложением. Примечания 1 Николаева, Т. М. Лингвистический энциклопедический словарь / Т. М. Николаева. – М., 1990. – С. 267. 2 Леонтьев, А. А. Признаки связности и цельности текста / А. А. Леонтьев // Смысловое восприятие речевого сообщения / ред. Т. М. Дридзе, А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1976. – С. 46–47. 153 3 Мурзин, Л. Н. Текст и его восприятие / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн. – Свердловск, 1991. 4 Chomsky, N. Verbal behavior by B. F. Skinner (Review) // Language. – 1957. – Vol. 35, № 1. – P. 56. 5 Аспекты общей и частной теории текста / ред. Н. А. Слюсарева. – М., 1982. 6 Николаева, Т. М. Единицы языка и теория текста / Т. М. Николаева // Исследования по структуре текста / отв. ред. Т. В. Цивьян. – М. : Наука, 1987. – С. 27–57. 7 Хэллидэй, М. А. К. Место функциональной перспективы предложения в системе лингвистического описания / М. А. К. Хэллидэй // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 8 : Лингвистика текста. – М., 1978. – С. 142. 8 Ягунова, Е. В. Восприятие звучащего текста : стратегии восприятия и функциональный стиль (жанр) текста : материалы Пятой выездной школы-семинара «Порождение и восприятие речи» / Е. В. Ягунова. – Череповец, 2006. – С. 181–182. 9 Мурзин, Л. Н. Текст и его восприятие… 10 Венцов, А. В. Проблемы восприятия речи / А. В. Венцов, В. Б. Касевич. – СПб., 1994. – С. 12. 11 Там же. – С. 34. 12 Джапаридзе, З. Н. Перцептивная фонетика (основные вопросы) / З. Н. Джапаридзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – С. 4, 13. 13 Там же. – С. 35–37, 64–65. 14 Штерн, А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности / А. С. Штерн. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1992. – С. 207; Штерн, А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности : экспериментальное исследование : автореф. дис. …д-ра. филол. наук / А. С. Штерн. – СПб., 1990. – С. 28. 15 Штерн, А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности… С. 193. 16 Штерн, А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности: экспериментальное исследование… С. 7. 17 Новиков, А. И. Семантика текста и её формализация / А. И. Новиков. – М., 1983. – С. 35. 18 Там же. – С. 84. 19 См.: Крылов, С. А. Четырехуровневая модель понимания : предмет семантики и её разделы / С. А. Крылов // Понимание в коммуникации : Язык. Человек. Концепция. Текст : тезисы докл. Междунар. науч. конф. 28 февр. – 1 марта 2007 г. МГУ. – М., 2007. – С. 65. 20 Краузе, М. Динамика механизма восприятия слова при различных условиях овладения языком / М. Краузе. – Verlag Otto Sagner München, 2002. – С. 16. 21 Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М., 1986 – С. 381. 22 Залевская, А. А. Понимание текста : психолингвистический подход / А. А. Залевская. – Калинин, 1998. – С. 23. 23 Там же. – С. 11. 24 Бондарко, Л. В. Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи / Л. В. Бондарко. – Л., 1981. – С. 182. 25 Зиндер, Л. Р. Факторы, влияющие на опознание слова / Л. Р. Зиндер, А. С. Штерн // Материалы IV Всесоюзн. симп. по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1972. – С. 100–108. 26 См.: Штерн, А. С. Перцептивный аспект речевой деятельности… ; Краузе, М. Динамика механизма восприятия… ; Чугаева, Т. Н. Перцептивный аспект звукового строя английского языка / Т. Н. Чугаева. – Екатеринбург ; Пермь, УрО РАН, 2007. 27 Леонтьев, А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А. А. Леонтьев. – М., 1969. – С. 18. 154 28 Сиротко-Сибирский, С. А. О проблеме понимания текста в лингвистике и психолингвистике / С. А. Сиротко Сибирский. – Пермь, 2006. – С. 67. 29 Баринова, И. А. Ключевые слова в смысловой структуре текста / И. А. Баринова. – Пермь, 2006. – С. 69. 30 Брудный, А. А. К анализу процесса понимания текстов / А. А. Брудный. – Фрунзе, 1974. – С. 6. 31 См. Байбурова, О. В. Система обучения аудированию иноязычной речи : уровневый подход «снизу – вверх» / О. В. Байбурова, Т. Н. Чугаева //Лингвистические / психологические проблемы усвоения второго языка : материалы межвуз. науч. конф., 25 – 28 нояб. 2002 г. – Пермь, 2003. – С. 211–215. М. В. Шаманова КОГНИТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ ОБЩЕНИЕ КАК СТРУКТУРА В статье рассматриваются особенности макроструктуры коммуникативной категории общение. В статье показано, что основными отличительными признаками коммуникативной категории, в отличие от коммуникативного концепта, являются высокая обобщенность содержания, незначительное образное содержание, обширная энциклопедическая зона и небольшое по объему интерпретационное поле. Эти характеристики коммуникативной категории свидетельствуют о высокой стереотипности содержания данной категории в когнитивном сознании народа. Ключевые слова: когнитивная категория, когнитивное сознание, коммуникативный концепт. Многие исследователи указывают на многомерность ментальных единиц (концептов, категорий) и сложность их структуры. Так, Ю. С. Степанов в концепте выделяет три слоя: 1) основной, актуальный признак; 2) дополнительный, или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже неактуальными, «историческими»; 3) внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во внешней, словесной форме1. С. Х. Ляпин пишет, что «дискретная целостность» концепта образуется взаимодействием «понятия», «образа» и «действия», закрепленных в значении какого-либо знака2. В. В. Колесов отмечает, что смысловое единство концепта обеспечивается последовательностью его «проявления в виде образа, понятия и символа», где образ представляет психологическую основу знака, понятие отражает логические функции сознания, а символ – общекультурный компонент словесного знака3. В. И. Карасик различает в структуре лингвокультурного концепта образноперцептивный компонент, понятийный компонент и ценностную составляющую4. На многомерность концепта указывает С. Г. Воркачев. В семантическом составе лингвоконцепта он выделяет понятийную сторону, отражающую его признаковую и дефиниционную структуру, образную, фиксирующую когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании, и значимостную, определяемую местом, которое занимает имя концепта в языковой системе5. И. А. Стернин в структуре концепта разграничивает микро- и макрокомпоненты. Микрокомпоненты концепта – это отдельные когнитивные признаки, образующие содержание концепта. Микрокомпоненты объединяются в макрокомпоненты, 155 которые отражают содержательные типы информации (знаний), представленных в концепте. Макроструктуру концепта составляют образный компонент, энциклопедическая зона и интерпретационное поле6. С. Г. Воркачев справедливо отмечает, что исследователи в определении структуры концепта расходятся в основном относительно количества и характера компонентов7, однако разные научные школы сходятся в определении основного состава концепта: образ, понятийное ядро и некоторые дополнительные признаки. Предметом исследования в данной статье является макроструктура коммуникативной категории общение. Под коммуникативными категориями мы понимаем наиболее общие по своему содержанию коммуникативные концепты, несущие наиболее существенную для коммуникативного сознания и обобщенную коммуникативную информацию. Коммуникативные категории содержат информацию о том, «как тот или иной носитель языка понимает категоризуемое явление, что он включает в состав данного явления»8. К коммуникативным категориям относится собственно категория общение. Для описания содержания и структуры категории общение мы использовали следующий материал: словарные дефиниции; синонимические средства языка; лексемы и фразеологические единицы, составляющие лексикофразеологическое поле «Общение» в современном русском языке; паремии; афоризмы; ассоциативные поля; художественные тексты. Структура исследуемой категории включает образное содержание, энциклопедическую зону и интерпретационное поле. Образный компонент играет в структуре концепта очень важную роль. В. М. Топорова пишет по этому поводу: «Сам процесс номинации начинается с вычленения некоего разделительного признака, который чаще всего берется из сферы чувственного, наглядно-образного опыта»9. Даже имея дело с сугубо абстрактными предметами, человек стремится ввести в свои рассуждения элементы наглядности. В структуре исследуемой категории выявленное образное содержание сравнительно невелико (5,3% от общего числа когнитивных признаков), оно представлено перцептивными признаками и когнитивным образом. Перцептивный образ возникает на основе звуковых, тактильных, зрительных и вкусовых ощущений. Звуковой образ в исследуемой категории был выявлен в основном на лексикофразеологическом и пословичном материале и представлен следующими когнитивными признаками (цифры указывают индекс яркости соответствующего признака, который определялся как отношение количества примеров / ассоциатов, объективирующих данный признак, к общему количеству примеров или полученных в эксперименте ассоциатов): Когнитивный признак громкое невнятное тихое внятное звуковой образ 156 ЛФП 0,04 0,01 0,01 0,01 0,07 Пословицы 0,01 0,01 0,001 – 0,02 Эксперимент 0,01 – – – 0,01 Тактильный образ включает признаки, имеющие невысокую яркость в структуре категории, эффективными приемами обнаружения данного структурного компонента явились анализ художественных текстов и ассоциативные эксперименты: Когнитивный признак Тексты теплое сухое холодное руки мягкое нежное тактильный образ 0,01 0,01 0,01 – – – 0,03 Эксперимент 0,01 0,001 0,01 0,01 0,001 0,001 0,03 Зрительный (0,001) и вкусовой (0,001) образы представлены индивидуальными признаками, выявлены они с помощью направленного ассоциативного эксперимента: яркое 0,001; сладкое 0,001; горькое 0,001. Отметим, что эти признаки, как и тактильные (сухое, холодное, теплое, мягкое, нежное), допускают двоякую интерпретацию – они могут быть интерпретированы и как метафорические (когнитивные) образы. Когнитивный образ включает 3 неярких признака, выявленных преимущественно на экспериментальном материале: бурное 0,01; живое 0,01; сонное 0,001. Самой обширной в структуре категории общение является энциклопедическая зона. Энциклопедическая зона, в свою очередь, включает несколько содержательных компонентов. Категориальную зону энциклопедического поля составляет признак представляет собой беседу (суммарный индекс яркости 0,25). Это родовой признак категории. Особую зону энциклопедического поля составляют отличительные признаки исследуемой категории. Такие признаки составляют дифференциальную зону категории. Они отличают ее от ряда сходных концептов и категорий. Для категории общение это следующие признаки (0,2% от общего числа признаков): Когнитивный признак используются вербальные средства передачи информации используются невербальные средства передачи информации используются технические средства передачи информации наличие определенных отношений наличие партнеров-людей обмен информацией обмен чувствами дифференциальная зона ЛФП 0,01 Пословицы – Афоризмы – Тексты 0,01 Эксперимент 0,03 – – 0,01 0,01 0,01 0,01 – 0,01 0,03 0,01 0,01 – 0,03 – 0,06 – – 0,01 – 0,01 – – 0,03 – 0,05 0,01 0,2 0,01 0,01 0,10 0,05 0,09 0,05 0,01 0,25 Дифференциальная зона является достаточно объемной в структуре исследуемой категории. Когнитивные признаки, составляющие данную зону, выявляются преимущественно на текстовом и экспериментальном материале, более половины признаков 157 имеют высокий индекс яркости, что позволяет отнести данные признаки к ядру и ближней периферии категории. В энциклопедическом поле выделяется описательная зона, куда входят многочисленные признаки, характеризующие самые различные стороны и проявления предмета или явления, сведения о которых получены людьми в процессе общественного и личного, индивидуального опыта познания явления или предмета в разных ситуациях10. Признаки, составляющие данную зону, расширяют представление – о характере общения: просьба, похвала, критика, приглашение, жалоба, приказ, благодарность, предсказание, совет, приветствие, извинение, прощание, напоминание, утешение, сочувствие, напутствие, пожелание, поздравление и т. п.; – о его типах: конфликтное, шутливое, открытое / конфиденциальное, дискуссионное, доброжелательное / недоброжелательное, напряженное / спокойное, эмоциональное / неэмоциональное, протекающее с посредниками / без посредников, культурное / некультурное, официальное / неофициальное, двустороннее / одностороннее, имеющее предварительную подготовку / возникающее непреднамеренно; – о поведении собеседников: уклоняются от разговора, выражают согласие / несогласие, воспринимают речь, уверяют в чем-либо, вступают в разговор, вмешиваются в разговор, высказывают мнение, отвечают на вопросы; – об особенностях повествования: встречаются отклонения в изложении материала, повтор одного и того же, уточняется основное высказывание, предполагаются разъяснения, комментарии, изложение может быть подробным / кратким, последовательным, понятным для собеседников, речь может быть продумана / не продумана; – об объеме речевой деятельности: проявляется в многословии / немногословии; – об особенностях передаваемой информации: сообщается достоверная / недостоверная информации, допускается широкое распространение информации, информация может быть скрытой, передаваться намеками, возможна передача большого объема информации; – об используемых языковых средствах: используются грубые выражения, учтивые слова и выражения, жаргонизмы, диалектные слова; – об особенностях речи: торжественная речь, быстрая / медленная, однообразная, неубедительная, неприятная для слуха, речь имеет индивидуальные особенности; – о характере отношений между людьми в процессе общения: предполагается наличие определенных отношений, связь может быть прервана, в процессе общения происходит влияние людей друг на друга, отношения могут быть доброжелательными / недоброжелательными, уважительными / неуважительными, высокомерными, враждебными, неискренними, равноправными / неравноправными, возможно достижение взаимопонимания между людьми, могут устанавливаться деловые связи, дружеские, любовные; – об обсуждаемых темах: темы могут быть приятными / неприятными для собеседника, могут меняться в процессе разговора, предпочтительными являются темы, интересующие собеседника, чаще обсуждаются позитивные темы; – о форме протекания: рассказ на какую-либо тему, тост; – о времени, временных характеристиках: может занимать мало / много времени, носит постоянный / непостоянный характер, повторяется через короткие / длительные интервалы времени; – о месте протекания: работа, семья, учебное заведение, застолье, дорога, может протекать в неформальной обстановке, на природе, в гостях, на отдыхе; – о пользе / вреде говорения, общения: слово подтверждается / не подтверждается делом, в слове проявляется и сила, и бессилие; 158 – о значении общения: осуществляется передача информации из поколения в поколение; – о собеседнике: в общении раскрывается характер человека, его нравственные и интеллектуальные качества, в качестве партнера по общению могут выступать люди, объекты природы, объекты других миров, неодушевленные предметы; – о круге общения: может протекать в малой / большой группе; – о последствиях прекращения общения: последствием прекращения общения является одиночество; – о национальных особенностях общения. Наиболее яркими признаками, характеризующими энциклопедическую зону категории общение, являются: представляет собой беседу; устанавливаются дружеские взаимоотношения; протекает на работе; предполагает установление взаимопонимания; предполагает сближение людей; протекает в малой группе. Описательные признаки составляют 65,5% от общего числа выявленных когнитивных признаков. В выявлении признаков, наполняющих энциклопедическую зону, эффективны все используемые методы и приемы, данные различных методик дополняют друг друга. Интерпретационное поле включает когнитивные признаки, которые в том или ином аспекте интерпретируют основное энциклопедическое содержание концепта, они представляют собой некоторое выводное знание. Интерпретационное поле неоднородно, в нем достаточно отчетливо вычленяются несколько зон – таких участков интерпретационного поля, которые обладают определенным внутренним содержательным единством и объединяют близкие по содержанию когнитивные признаки. Интерпретационное поле категории общение представлено тремя зонами: общеоценочной, утилитарной, регулятивной. Общеоценочная зона не является яркой в структуре категории (1,5% от общего количества признаков) и выявлена на текстовом и экспериментальном материале. Когнитивный признак оценивается положительно неприятное приятное может быть красивым оценивается отрицательно общеоценочная зона Тексты 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 Эксперимент 0,01 0,01 0,02 0,01 – 0,05 Утилитарная зона (19% от общего количества признаков) включает когнитивные признаки, характеризующие общение с точки зрения его содержательности, вызываемого интереса, побуждения к деятельности, предоставляемых личности возможностей, наличия мотивации и результата. Признаки, характеризующие утилитарную зону, выявлены с помощью различных методов и приемов, наиболее эффективными из них оказались анализ художественного текста и экспериментальные процедуры; данные, полученные с помощью других приемов, пополняют утилитарную зону. Наиболее яркие признаки, относящиеся к утилитарной зоне: вызывает интерес; дает возможность познания; доставляет отрицательные эмоции; доставляет удовольствие, положительные эмоции; может быть лишено содержания; является потребностью. Когнитивные признаки, составляющие регулятивную зону категории (8,2% от общего количества признаков), содержат констатацию общественных правил веде159 ния общения, рекомендации по организации общения. В выявлении признаков, относящихся к регулятивной зоне, особенно эффективным оказался анализ паремиологического фонда. Назовем наиболее яркие признаки: в выборе партнера следует учитывать неравенство: С боярами знаться – греха не обобраться; Знай, лапоть, лаптя, а сапог сапога; Свинье приятель угол; Клин плотнику товарищ; Лычко с ремешком не связывайся; Пеший конному не товарищ; Сапог лаптю не чета; Сытый голодному не товарищ; Не играй, мышка, с кошкой – задавит; Не нашего поля ягода; Не суйся в волчью стаю, коли хвост собачий; Не суйся в калачный ряд с суконным рылом и др.; с отдельными категориями людей не следует общаться: Не следует общаться с глупыми людьми: Дурак, кто с дураком свяжется; С дураком кто водится, наг и бос находится; С дураком связаться – не развязаться; С сильным не борись, с богатым не тяжись, а с глупым не вяжись и др. В одном случае русское сознание допускает общение с глупыми людьми: Лучше знаться с дураком, чем с кабаком. В пословицах подчеркивается, что общение с глупыми людьми – пустое проведение времени: С дураком говорить – в стену молотить; С дураком говорить, что в стену горох лепить; Дурака учить – решетом воду носить; Дурака учить – что горбатого лечить; Глупого учить – что решетом воду носить и др. Несколько паремиологических когнитивных признаков подтверждаются экспериментальными данными и материалами современных художественных текстов, что свидетельствует об актуальности этих признаков для современного сознания: некоторых тем следует избегать в разговоре; предполагает наличие коммуникативных навыков; предполагает наличие определенных личностных качеств; предполагает наличие определенного опыта; предполагает проявление уважения; может осуществляться при отсутствии коммуникативных качеств. Таким образом, использование взаимодополняющих методик позволяет наиболее полно представить содержание и структуру коммуникативной категории общение в сознании носителей языка. Исследуемую категорию характеризуют незначительное образное содержание, обширная энциклопедическая зона и сравнительно небольшое интерпретационное поле. Малое образное содержание, как правило, характеризует абстрактные концепты и категории. Так, более конкретные коммуникативные концепты, которые также характеризуют общение и являются составной частью исследуемой категории, имеют более развернутый образ (концепты брань, речь). Обширная энциклопедическая зона и сравнительно небольшое интерпретационное поле свидетельствует о стереотипности содержания категории в когнитивном сознании народа. Примечания 1 Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – М. : Акад. Проект, 2001. – С. 47. 2 Ляпин, С. Х. Концептология : к становлению подхода / С. Х. Ляпин // Концепты. – Архангельск, 1997. – Вып. 1. – С. 18. 3 Колесов, В. В. Философия русского слова / В. В. Колесов. – СПб. : ЮНА, 2002. – С. 42. 4 Карасик, В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2004. – С. 118. 160 5 Воркачев, С. Г. Методологические основания лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Воронеж, 2002. – Вып. 3. Аспекты метакоммуникативной деятельности. – С. 80. 6 Стернин, И. А. Макроструктура концепта : дискуссионные проблемы / И. А. Стернин // Родной язык : проблемы теории и практики преподавания : материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Борисоглебск, 2007. – С. 167–168. 7 Воркачев, С. Г. «Из истории слов» : лингвокультурный концепт / С. Г. Воркачев // Новое в когнитивной лингвистике : материалы I Междунар. науч. конф. «Изменяющаяся Россия : новые парадигмы и новые решения в лингвистике. – Кемерово, 2006. – Вып. 8. Концептуальные исследования. – С. 5–6. 8 Попова, З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж, 2002. – С. 30–31. 9 Топорова, В. М. Концепт «форма» в семантическом пространстве языка / В. М. Топорова. – Воронеж : Истоки, 1999. – С. 9. 10 Стернин, И. А. Макроструктура концепта: дискуссионные проблемы… С. 169. Г. Р. Шарипова ИВАН МИХЕЕВИЧ ПЕРВУШИН – ФОЛЬКЛОРИСТ Статья посвящена изучению специфики фольклористической деятельности всемирно известного математика Ивана Михеевича Первушина (1827–1900). Наследие И. М. Первушина – фольклориста, этнографа – не было предметом изучения. Между тем, исследование деятельности региональных фольклористов может создать более полную картину краеведческого движения в стране во второй половине XIX века, выявить самобытность и культурный потенциал отдельных регионов. Ключевые слова: фольклористика, Первушин. Разрабатывая теорию литературного региона в конце 20-х годов XX века, Н. К. Пиксанов в книге «Областные культурные гнезда» писал о необходимости исследовать «культуру регионов, локусов, которые являются типом исторического развития России и ее отличительной чертой» [23. С. 43]. Впервые широкое внимание к изучению фольклористики в региональном аспекте уделено А. Н. Пыпиным. В четырехтомном труде «История русской этнографии» прослеживается его стремление изучить «различные стороны народного быта в разных местностях России» [27. С. 73], охватить все, что имело отношение к изучению народа: труды по этнографии, фольклору, археологии, истории русского языка. Задача, поставленная им, впоследствии во второй половине XX века решалась М. К. Азадовским [1]. Его заслугой является характеристика двухвекового формирования, развития русской фольклористики с учетом региональных черт. Обострение интереса к региональной фольклористике проявилось в многочисленности публикаций во второй половине XX века. Своеобразным ориентиром в изучении обширных регионов явилась «Русская фольклористика Сибири (XIX – нач. XX вв.)» Я. Р. Кошелева [11]. Отдельные главы его книги посвящены исследователям сибирского фольклора В. С. Арефьеву, С. И. Гуляеву, А. А. Макаренко, Г. Н. Потанину, Н. М. Ядринцеву. 161 Предметом изучения А. П. Разумовой явилось наследие собирателей народной словесности П. Н. Рыбникова, П. С. Ефименко [28]. Описанию подлинного места и значения П. В. Шейна и его трудов в истории развития русской и белорусской фольклористики посвящена книга Н. В. Новикова [15]. Трехтомник под редакцией А. А. Горелова содержит материалы о жизни, фольклористической деятельности Г. С. Виноградова [8. С. 158–188], П. С. и А. Я. Ефименко [8. С. 93–106], А. Прокофьева [9. С. 22–65], А. Д. Григорьева [10. С. 43–60]. В. А. Смирнов, изучая историю собирания фольклора Ивановской области, дает характеристику деятельности М. Я. Диева, А. Д. Козловского, Ф. Д. Нефедова, А. А. Потехина [26. С. 4–10]. В статье Т. Г. Леоновой, связанной с вопросами изучения фольклора Омской области, подчеркнуто: «собирание фольклора Омской области долгое время носило эпизодический характер, хотя многое сделано отдельными собирателями: Н. Ф. Чернаковым, И. С. Коровкиным, П. П. Павловым» [26. С. 11–18]. Относительно Зауралья заслуживает внимания статья В. П. Федоровой «У истоков зауральской фольклористики (XVII–XVIII вв.)», в которой впервые обращается внимание на то, что объектом изучения стали документы Тобольской консистории и рукописи старообрядцев начала XVIII века [21]. В конце XX–начале XXI веков интерес к осмыслению деятельности исследователей народного быта в отдельных регионах возрастает, о чем, например, свидетельствует работа Т. Г. Ивановой [7], многочисленные статьи в томах «Русского фольклора». Современному вниманию к проблеме: «Общерусское – региональное – локальное» отвечает хрестоматия В. П. Федоровой и Е. Н. Колесниченко «Фольклор и литература Зауралья: Из истории русской фольклористики», включающая «Песковскую летопись» краеведа-священника Е. Д. Золотова [32]. К деятельности именитых земляков В. В. Адрианова, А. Н. Зырянова, А. В. Капустина (архимандрит Антонин), А. Я. Кокосова в свою очередь обращаются М. М. Мозин [14], Л. П. Осинцев [18], А. А. Пашков [19], Н. А. Подгорбунских [24]. В кандидатской диссертации Н. Н. Мальцевой рассматриваются основные вехи зауральской фольклористики XIX века [13]. При этом, обращая внимание на социальный состав зауральских фольклористов (священники, государственные крестьяне), особенность их деятельности, исследователи отмечают важную роль «культурного гнезда», ведущей целью которого являлось комплексное изучение родного края, соединение духовной культуры Зауралья с культурой центральной России. Огромная заслуга в организации региональной фольклористической работы принадлежит Москве [20, 21], Омску, Челябинску, Екатеринбургу, Архангельску. Ежегодно ими проводятся конгрессы, научно-практические конференции, выпускаются сборники «Народная культура Сибири», «Бирюковские», «Лазаревские» чтения, «Фольклор Урала», «Рябининские» чтения. Имеются свои достижения и в городе Кургане, который отмечен «Емельяновскими», «Зыряновскими», «Екимовскими» чтениями. Само название данных конференций имеет ярко выраженный фольклористический характер. Таким образом, освещение биографии, наследия собирателей фольклора, краеведов приводит к выявлению «областных стилей» русской фольклористики, установлению исторически-конкретной картины фольклорно-этнографической жизни края, специфики областных фольклористических традиций. Имя Ивана Михеевича Первушина прочно связано с исследованием малых чисел. Число М61=261-1=2305843002913693951, открытое Первушиным, поставило его в ряд выдающихся ученых-математиков XIX столетия. Сведения о нем содержатся в Большой советской энциклопедии [3], Уральской исторической энциклопедии [6], 162 энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона [33]. И. М. Первушин был действительным членом Уральского физико-математического и Московского математического обществ, Уральского общества любителей естествознания (далее УОЛЕ), состоял в регулярной переписке с председателями этих обществ А. В. Васильевым, О. Е. Клером, посылал свои математические записки в Академию наук в Петербург. «О. Ивана знают даже в далекой Америке, – сообщал писатель К. Д. Носилов, – и он очень гордится теперь подарком одного техасского профессора математики, который прислал ему в прошлом году свои труды. Другой подарок, который он получил в последнее время, это от Эрнеста Чезаро из Неаполя» [16. С. 436]. Прежде чем раскрыть фольклористические принципы И. М. Первушина, остановимся на истоках его интереса к народной культуре. В данном случае необходимо учитывать своеобразие его биографии, социальное положение семьи, ее быт и окружение. Уже первые часы жизни этого удивительного человека овеяны дыханием народной культуры, крестьянских верований и семейных преданий. Ссылка на собственную семью как на носителя традиционных сведений позволяет ему выделить ее из других семей, подчеркнуть архаику крестьянских воззрений, связанных с первыми минутами появления человека на свет: «В Лысьвенском-то заводе я и родился в воскресенье, при отходе обедни, часов в одиннадцать утра, и повит был в дедушкины порты» [22. С. 104–105]. В данном эпизоде раскрывается специфика его подхода к явлениям народной культуры. Немаловажным является тот факт, что он был завернут в дедушкины порты. Не зная расшифровки этого действия, И. М. Первушин старается дойти до истины, понять причины повивания в дедовы штаны. Им допускается мысль, что по малолетству матушка его могла допустить оплошность – не подготовиться к рождению ребенка: «может быть, молоденькая мать моя-родильница не успела вынять приготовленное для ребенка-первенца» [22. С. 104–105]. В тексте, однако, проскальзывает не только бытовое объяснение, поскольку характерно примечание: «как бы то ни было, а я сделался любимцем дедушки, еще ничего не понимая, а только пища бессмысленно»1 [22. С. 104–105]. Для понимания семантики повивания в дедовы штаны, обратимся к современным исследованиям. В частности, А. К. Байбурин полагает: «Одевание новорожденного – следующий акт его приобщения к сфере культуры. Не случайно этой операции придавался отчетливый символический характер. После купания ребенка заворачивали в рубаху отца, причем эта рубаха не должна была быть новой и чистой («смоется отцовская любовь»). Лучше, если она старая и загрязненная» [2. С. 44]. Заворачивая ребенка в старую родительскую одежду, ожидали, что она защитит, убережет от порчи, сглаза, передаст силу родителей еще не окрепшему как телом, так и душою ребенку. Таким образом, спеленав Первушина в дедушкины порты, его объявили дедушкиным наследником. С точки зрения мифопоэтической структуры данный мотив оказался значимым – повитый в дедушкины порты внук воспитывался у деда-священника и пошел по его стопам. Влияние на формирование интереса Первушина к народу оказал фольклорный быт его семьи. Следует отметить тот факт, что дед и отец И. М. Первушина служили в небольших заводских храмах2 и, следовательно, живя в кругу крестьян, на себе испытывали особенности их повседневной жизни. Обращение И. М. Первушина к изучению быта и духовного мира местных жителей было связано с веяниями и насущными вопросами того переломного времени, среди многочисленных актуальных проблем которого центральное место занимал крестьянский вопрос и связанные с 1 В цитатах сохранены особенности лексики. Дед Ивана Михеевича был в чине иерея в Лысьвенском заводе, отец – дьякон в АрхангелоПашийском. 2 163 ним дискуссии о духовно-нравственном просвещении народа. Обострение борьбы мнений вокруг реформы 1861 года вызвало интерес к фольклору, поскольку через изучение народного мировоззрения, народного характера, уклада народной жизни открывалась возможность узнать крестьянина и в связи с этим определить судьбу всей страны. М. К. Азадовским справедливо отмечено: «60-е годы могут быть с полным правом названы золотым веком в истории русской фольклористики» [1. С. 209]. Именно в тот период начинается «расцвет изучений в этой области – как в сфере теоретической, так и практической – собирательской деятельности» [1. С. 86]. В данном случае необходимо подчеркнуть важную роль центральных и региональных научных организаций: Русского географического общества (далее – РГО), Вольного экономического общества, УОЛЕ. Они выпускали фольклорно-этнографические сборники – «Записки УОЛЕ», «Записки РГО», разрабатывали принципы собирания фольклорного материала. Не случайным явился тот факт, что в 1853 году РГО разослало архиепископам письма с просьбой организовать собирание сведений о населении, поскольку сельское духовенство было наиболее близким к народу. Втянутое в многостороннюю жизнь прихожан, оно способствовало сбору и обмену наблюдений, достоверных описаний из жизни крестьянского быта. Благодаря поискам священников-краеведов современная наука располагает уникальными текстами для построения истории и теории фольклора. К священникам, обращавшимся к фольклору во второй половине XIX века в зауральской провинции, можно отнести В. В. Адрианова, Е. Д. Золотова, А. Я. Кокосова, И. М. Первушина, А. И. Третьякова, Т. И. Успенского и др. Фольклорное собрание И. М. Первушина представлено рукописным журналом «Шадринский вестник»1 (ШВ) и газетой «Шадринская местность». Рукописное наследие представляет собой внушительное по объему издание, состоящее из «статей»2 и содержащее более 400 страниц, исписанных мелким почерком И. М. Первушина. Темы злобы дня, освещение текущих вопросов идейной жизни русского общества перемежаются в «Шадринском вестнике» автобиографическими заметками, описанием повседневной жизни и нравов в Шадринском крае. По мнению М. Ф. Ершова, «Шадринский вестник» «по содержанию очень близок к дневнику, к эпистолярному творчеству, к публичному отчету сельского интеллигента о своей общественной деятельности» [5. С. 46]. Предметом нашего исследования являются фольклористические принципы И. М. Первушина, раскрывающиеся в «Шадринском вестнике» и «Шадринской местности». Материалы рукописного наследия систематизируются по восьми рубрикам: I. Народная медицина: Лечение порезов, проколов, посек топором, горячки, скарлатины, боли в горле. Заговоры: «От уроков», «Худобы», «Чтобы у коровы вымя не болело», «Как править роженицу»; II. Праздники народно-церковного календаря: Сельская Пасха; III. Статистика Замараевского прихода: Рассказ о происхождении села, подробного описания его животного и растительного мира, географического расположения, климатических условий, особенностей жизни населения. IV. Произведения устного народного творчества: сказка «О попе и мужике», четыре песни: «Пряха», «Просулная сестра», «Сосенка на веретейке», «Полно, девушка, тужить»; два варианта легенды о создании земли и человека; девять пословиц и поговорок; V. 3 Единственный экземпляр хранится в Государственном архиве Свердловской области [4]. Неполные машинописные копии находятся в библиотеке Шадринского пединститута. Рукопись из библиотеки Шадринского пединститута была частично опубликована в «Шадринской старине» [22. С. 80–120]. Первая неполная публикация рукописного журнала Первушина «Шадринский вестник» была осуществлена К. Рождественской в «Уральском современнике» в 1942 году [29]. 1 Ученый-математик выбрал для разнообразнейшего материала, форму, принятую в науке – статьи. Мы их будем употреблять без кавычек, как обозначается у автора. 164 Отдельным разделом нами выделены записи, сделанные грамотными крестьянами и переданные И. М. Первушину в рукописный журнал: «Рассказ солдата, записанный крестьянином», «Как спасен утопающий в море пороков, или Суд мирян над Тимкой Козырем», «Переложение 50-го псалма», «Рассказ крестьянина, записанный им самим», «Один анекдот о крестьянском простодушии»; VI. Песни и басня, переписанные Первушиным из других печатных изданий: песни «Воля», «Швея», «Потерянное блаженство», «Знахарь», «К товарищу», «Табакщик», «Народная басня», «Дитя», «Разумный совет матери», «Ах! Сизый голубчик!»; басня: «Медведь, Лисица и Коза»; VII. Положение сельского духовенства; VIII. Освещение, оценка текущих событий. Рубрикация журнала свидетельствует о понимании Первушиным роли фольклора в изучении народа, высвечивает его фольклористические принципы. Во-первых, он рассматривал собирание фольклора как часть своей многогранной просветительско-педагогической деятельности, перекликающейся с деятельностью Л. Н. Толстого. В 1859 году, когда впервые открылась Яснополянская школа Л.Н. Толстого, заботами И. М. Первушина была открыта школа в селе Замараеве. И. М. Первушин первым в Зауральском крае на деле осуществил женское образование, глубоко веруя, что «девочек нужно столько же учить, как и мальчиков, грамотности, но пора бы эту теорию осуществить на практике» (ШВ, кн. 12; 1861). «Да, наконец поднят и многими понят вопрос о положении женщины на Руси. Какое светлое значение получает семья! Какое поле открывается для деятельности и сердца женщины! В женские учебные заведения уже проникла мысль – готовить воспитанниц не для кухни только и бала. Наряды, лоск, танцы – все идет долой. Одаренность матери не ограничивается одним питанием детей – нет, – она должна родить в дитяти и понятия, и чувства – нужно духовное рождение» (ШВ, с. 22). И. М. Первушин, будучи ученым, рассматривал школу как средство воспитания, «самостоянья человека», его достоинства, дисциплины мысли. Не случайно, одновременно с Л. Н. Толстым, им разработана азбука для «скорого и легкого практического изучения», «для привития интереса к грамоте» (ШВ, с. 24). Во-вторых, к фольклористическим принципам ученого относится вовлечение крестьян в краеведческую работу. Священник, математик обращался к малограмотным своим современникам, землякам с просьбой оставить свой след на земле: «Ужель над миром мы пройдем без шума и следа? Углубимся же в себя и извлечем что-либо общеполезное на свет божий. Нечего робеть, стыдиться, трусить. Ведь не боги горшки-то обжигают. Из людей-единиц, посредством дружественного сочетания, составляются десятки, сотни, тысячи, миллионы, двигающиеся в мировых происшествиях; и мал квас все смешение квасит» (ШВ, кн. 2, с. 17; 1861). Он стремился помочь овладевшему грамотой крестьянину понять назначение человека, осмыслить свое положение, заставить задуматься о собственной судьбе, рассмотреть ее в контексте обобщений, касающихся судьбы всей страны, научиться самостоятельно принимать важные решения, жить без барина, видеть ситуации, в которых проявляется человек. В-третьих, анализ статей «Шадринского вестника», в частности записей простых людей, дает основание предположить, что темы для крестьянского поиска были изначально предложены И. М. Первушиным. В результате материалы, собранные крестьянами-корреспондентами, объединены темой преодоления человеческих слабостей, пороков, выхода из тупиковых ситуаций. Например, записывая народную быль «Как спасен утопающий в море пороков, или Суд мирян над Тимкой Козырем», крестьянин-корреспондент Первушина, с одной стороны, показал губительную роль водки. С другой стороны, он подчеркнул действенность решений, вынесенных общиной – «миром», – сумевшей спасти своего 165 односельчанина Тимофея, прозванного Тимкой Козырем, через вынесение наказания в виде десяти батогов. Статья строится на мотиве суда над пьяницей. Суд представлен сельским старшиной, писарем – обвинителями и защитниками Тимки Козыря – крестьянамиодносельчанами: «Старшина: “Ну! Коли знаете его (Козыря), то и дела его вам поди известны: судите же о нем, подайте нам голос”. Писарь: “Смотри, старики! Чур не двоесторонничать. Говори, что дело, а на околицу языком не броди; руки недавно держали вверх. Ну, начинай! Толкуйте, и подайте голос!”» (ШВ, с. 19). Следует отметить, что крестьяне отнеслись к суду ответственно: «надо баять правду: присягу принять, братцы, не шти хлебать», поскольку понимали, что у Тимофея была большая семья – малые ребятишки, которых необходимо было кормить, одевать. Хорошо осознавая тяжелое положение Козыря (его могли либо сдать в солдаты, либо выслать в другую губернию) пытаясь оправдать его, они объясняли грехи Тимки ошибками молодости: «Бог простит! Ребятишки у него малые; дело бедно, помилуй, – ни кола, ни двора; а сам он молод; исправится ужно, лучше Тимку примем, авось и образумится. А жив друг не убыток. А в случае, от воли мира не уйдет. Теперича простим Козыря. Уж еще станет калабродить; пикнуть ему не дадим, – всем миром начальству и отдадим его – плута» (ШВ, с. 19). В конце статьи показан результат публичного наказания Козыря: «А герой наш, Козырь, с тех пор, как бы переродился, – ведет жизнь довольно аккуратно, трезво, с поведением; устроил домишко; уже женил сына, и живет, пожалуй, хоть куда; едва ль не лучше некоторых из тех, кои произносили не по желудку его приговор» (ШВ, с. 19). В-четвертых, материалы рукописного журнала привлекают внимание яркими, запоминающимися, интересными сюжетами, заставляют задуматься. В одной из статей «ШВ» повествуется о крестьянине, который сумел дать достойный отпор чиновникам-грабителям, успешно отстоять свою честь. Государственный крестьянин на почте Потанинского села «отправлял куда-то 10 рублей, 48 копеек серебром. Отдал, получил расписку» (ШВ, «Разные известия и новости»). Автор отметил, что мужик был неграмотным, однако это не помешало ему спросить, удостовериться у нескольких человек, правильно ли у него взяли пошлину. Оказалось, что 25 копеек серебром чиновники перебрали. Крестьянин потребовал своего: «“Подайте мне мои 25 копеек. Вы грабите днем при всех, не боясь никого; подайте же мне назад четвертак”. Почтмейстер Р. видит энергические претензии мужичка-доки, приказывает выбросить ему деньги 25 копеек серебром. Мужик Потанинский берет обратно свои 25 копеек серебром и говорит: “пойду в полицию, объявлю, что здесь берут лишние деньги, просто “грабят” мужиков среди белого дня”. Молодец!!!» (ШВ, «Разные известия и новости»). Сюжет статьи строится на выступлении простого мужика против служащих почтового отделения, по-привычке вздумавших обобрать человека, приходящего в контору. Желание человека до конца разобраться в ситуации поразили Первушина: «Едва ли не знает он грамоты или, по крайней мере, цифр; но для большей достоверности он обратился к другому человеку постороннему, мещанину, мужику грамотному, сдававшему также что-то на почту, с таким вопросом: сколько означено денег в расписке?» (ШВ, «Разные известия и новости»). Таким образом, священник, математик, не случайно записывая случай на почте, привлек внимание к положению простого народа, его умению отстоять свою честь, справиться со сложной ситуацией. В-пятых, на собирательской деятельности И. М. Первушина заметен отпечаток принципов ученого-математика. Он называет свои рукописные работы «статьями». Согласно С. И. Ожегову, статьи представляют собой «научное публицистическое 166 сочинение небольшого размера в сборнике, журнале или газете» [17]. Не случайным является стремление Первушина записать материалы от профессионалов с тем, чтобы слово в слово, без изъятия и отбора сохранить и донести до потомков текст, описание действий в обрядах. Повивальная бабка Февронья Елисеевна Свалова раскрыла Первушину уникальные заговоры, связанные с рождением человека, закапыванием последа. Отметим точность воспроизведения текста, диалектные особенности. Укажем на научность паспортизации материалов, что является несомненной заслугой, особенностью собирательской деятельности И. М. Первушина. Записи устного народного творчества, сделанные Первушиным, свидетельствуют об осознанном подходе его к собиранию фольклора, как важнейшего источника изучения русской крестьянской жизни, языка и культуры. Песни, пословицы, легенды, заговоры, органично вплетенные в описание, характеристику особенностей труда, философии, практической морали местного населения, осмысление текущих событий в стране, уральском крае представляют интерес как репертуар, бытующий в определенном регионе России. Список литературы 1. Азадовский, М. К. История русской фольклористики / М. К. Азадовский. – М. : Госуд. уч.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1958. 2. Байбурин, А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов / А. К. Байбурин. – СПб : Наука, 1993. 3. Большая советская энциклопедия / под ред. Б. А. Введенского. – М. : БСЭ, 1955. – Т. 32. 4. Государственный архив Свердловской области. Ф. 101, оп. 1, д. 600 (рукописный журнал «Шадринский вестник»). 5. Ершов, М. Ф. Рукописные издания И. М. Первушина как исторический очерк / М. Ф. Ершов. – Курган : Курган. гос. ун-т, 1997. – Ч. 1. – С.45–49. 6. Зорина, Л. И. Уральское общество любителей естествознания / Л. И. Зорина // Уральская истор. энцикл. – Екатеринбург, 1998. 7. Иванова, Т. Г. Русская фольклористика начала ХХ века в биографических очерках / Т. Г. Иванова. – М. : Изд-во Дмитрий Буланин, 1993. – 208 с. 8. Из истории русской фольклористики. – Л. : Наука, 1978. – 276 с. 9. Из истории русской советской фольклористики. – Л. : Наука, 1981. – 280 с. 10. Из истории русской фольклористики. – Вып.3. – Л. :Наука, 1990. – 280 с. 11. Кошелев, Я. Р. Русская фольклористика Сибири (XIX – начала XX вв.) / Я. Р. Кошелев. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1962. 12. Локальные традиции народной культуры в конце ХХ века : материалы регион. науч.-практ. конф. – Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2002. – 121 с. 13. Мальцева, Н. Н. Зауральская фольклористика XIX века : дис. … канд. филол. наук / Н. Н. Мальцева. – Челябинск, 2004. 14. Мозин, М. М. Белозерский просветитель / М. М. Мозин // Тобол. – 1996. – № 1. – С. 155–156. 15. Новиков, Н. В. Павел Васильевич Шейн. Книга о собирателе и издателе русского и белорусского фольклора / Н. В. Новиков. – Минск : Вышэйш. шк., 1972. – 224 с. 16. Носилов, К. Д. Священник-математик / К. Д. Носилов // Пастырский собеседник. – СПб., 1897. – № 26. – С. 435–438. 17. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Рус. яз., 1981. – 816 с. 18. Осинцев, Л. П. Имен связующая нить : зап. краеведа / Л. П. Осинцев. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 204 с. 167 19. Пашков, А. А. Батурина-Батуринское. Священнический род Капустиных / А. А. Пашков. – Шадринск : Изд-во Исеть, 2004. – 464 с. 20. Первый Всероссийский конгресс фольклористов : сб. докл. Т. 1. – М. : Гос. респ. центр русского фольклора, 2005. – 448 с. 21. Первый Всероссийский конгресс фольклористов : сб. докл. Т. II. – М. : Гос. респ. центр русского фольклора, 2006. – С. 158–173. 22. Первушин, И. М. Шадринский вестник / И. М. Первушин // Шадринская старина : Краевед. хрестоматия (вторая половина 50-х – начало 80-х гг. XIX в.). – Шадринск : Изд-во Шадринского педин-та, 1997. 23. Пиксанов, Н. К. Областные культурные гнезда / Н. К. Пиксанов. – Л., 1929. 24. Подгорбунских, Н. А. Народная этика в работах А. Н. Зырянова / Н. А. Подгорбунских // Земля Курганская : Прошлое и настоящее : краевед. сб. Вып. II. – Курган, 1991. – 197 с. 25. Полевые исследования. Русский фольклор. Т.XXII. – Л. : Наука, 1984. – 208 с. 26. Полевые исследования. Русский фольклор. Т.XXIII. – Л. : Наука, 1985. – 228 с. 27. Пыпин, А. Н. История русской этнографии. Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. Т. 1 / А. Н. Пыпин. – СПб., 1890. 28. Разумова, А. П. Из истории русской фольклористики / А. П. Разумова. – М. : Издво АН СССР, 1954. 29. Рождественская, К. Рукописный журнал математика И. М. Первушина / К. Рождественская // Уральский современник. – 1942. – № 6. – С. 140–177. 30. Русский фольклор. Т. XXXI. Материалы и исслед. – СПб. : Наука, 2001. – 456 с. 31. Федорова, В. П. Фольклор Зауралья в трудах Х. Мозеля / В. П. Федорова // Деятели социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни Урала и Зауралья 17–20 вв. : сб. материалов межрегион. науч. конф. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. – 111 с. 32. Фольклор и литература Зауралья : Из истории русской фольклористики : Хрестоматия / сост. и авторы статей В. П. Федорова и Е. Н. Колесниченко. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 211 с. 33. Халяев, Н. В. Первушин И. М. / Н. В. Халяев // Энциклопедический словарь. Т. XXIII / под ред. Ф. А. Брокгауза. – СПб., 1898.– С. 175. Е. В. Шелестюк СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПОПУЛЯРНОЙ ПСИХОЛОГИИ В статье раскрываются стилистические и жанровые особенности текстов популярной психологии, обосновывается существование единого жанра популярной психологии внутри научного стиля (научно-популярного подстиля), выделяются поджанры этого жанра. Ключевые слова: популярная психология, стиль, жанр, научный стиль. Тексты популярной (практической) психологии практически не выступали в качестве объектов лингвистических и филологических исследований. Вместе с тем, они представляют значительный пласт современной популярной литературы, обладающий несомненным стилистическим и жанровым единообразием. Целью данной 168 статьи является характеристика стилистической принадлежности и жанровых особенностей этих текстов. Поскольку функциональный стиль как подсистема языка, обладающая специфическими особенностями в лексике, фразеологии и синтаксических конструкциях [Арнольд 1990: 246], определяется функцией (или целью) общения в той сфере, где этот стиль используется, то разумно начать с выявления общей цели и типичных задач текстов популярной психологии. Основная цель этих текстов носит двойственный характер: с одной стороны, помочь реципиентам справиться с теми или иными жизненными ситуациями, с другой – трансформировать некоторые аспекты их личностей для достижения поставленных целей. Авторы текстов популярной психологии могут ставить перед собой следующие конкретные задачи, способствующие достижению указанной цели: 1) информировать читателей, вооружать их системой психологических знаний и специальных техник (умений), 2) оказывать на читателей определенное убеждающее и внушающее воздействие с помощью специфических когнитивных операций: «расширение сознания» – смена перспективы, ракурса видения событий, изменение эмоционально-оценочных коннотаций объектов, разрушение стереотипов, конструирование «новой реальности» и т. д. Если рассмотреть функции основных стилей, традиционно выделяемых лингвистами, то можно видеть, что функции четырех из них во многом перекликаются с целью текстов популярной психологии. Основной функцией научно-популярного подстиля научного стиля (далее для краткости – научно-популярного стиля) является информирование читателей о научных фактах в упрощенной, популяризаторской форме, а также, в ряде случаев, – их инструктирование по поводу каких-либо умений или действий. Публицистический стиль призван оказывать убеждающее и внушающее воздействие на читателей в отношении самых разнообразных социальных вопросов, варьирующихся от политических тем до проблем искусства. Функцией художественного стиля является образное моделирование реальности с тем, чтобы оказать эстетическое и этическое воздействие на читателей. Наконец, функцией разговорного стиля является общение, диалог – он наиболее гибок и многообразен в передаче информации, выражении отношения к чему-либо, эмоций. Очевидно, что в текстах популярной психологии пересекаются научный, публицистический, художественный и разговорный стили. Научно-популярный подстиль научного стиля является в них преобладающим, хотя все упомянутые стили, так или иначе, способствуют осуществлению упомянутой коммуникативной цели. Научно-популярный стиль в текстах популярной психологии проявляется в популярном изложении основ психологических теорий и формировании некоторых умений, основанных на теоретическом знании. Элементы публицистического стиля проявляются в использовании специфических средств речевого воздействия, а также в том, что обсуждаемые вопросы часто выходят за рамки личности, помещаются в контекст социума. Последнее вполне закономерно, поскольку общение, взаимодействие индивида с другими людьми является важнейшим аспектом популярной психологии. Художественный стиль также в той или иной степени может присутствовать в рассматриваемых текстах: авторы прибегают к художественным образам для аллегорического иносказания или для оказания эмоционально-оценочного воздействия через эстетическое впечатление. Наконец, элементы разговорного стиля, создающие эффект диалога, живого общения, также являются неотъемлемой частью текстов популярной психологии. Итак, мы видим, что в текстах популярной психологии пересекаются несколько стилей, хотя очевидно, что основным из них является научно-популярный стиль. 169 Сами же эти тексты объединяются понятием жанра, означающего устойчивую, постоянно воспроизводимую систему признаков группы произведений литературы [Тамарченко 2001: 264]. Как специфический жанр тексты популярной психологии сформировались относительно недавно. За рубежом первые заметные работы такого рода были опубликованы с появлением школы НЛП в 70-х годах прошлого века, прежде всего, это книги Р. Бендлера и Дж. Гриндера, Д. Гордона, Р. Дилтса, В. Сатир и ряда других авторов. В этих работах органично соединились жанровые особенности предшествующих им трудов М. Эриксона, Ф. Перлза и ряда других психологов и психоаналитиков, в живой форме описывающих свой опыт терапии клиентов, а также литературы по «достижению успеха» в делах, любви, карьере, финансовом состоянии и проч., представленной такими именами, как Д. Карнеги, Дж. Рон, Н. Хилл и др. В отечественной литературе родоначальниками жанра можно считать авторов книг по аутогенной тренировке, медицинской психотерапии (улучшение зрения, памяти, других аспектов здоровья), наконец, представителей рефлексивной или воспитывающей психологии, таких как В. Леви и Н. Козлов и др. Жанр текстов популярной психологии сложился как конгломерат ряда поджанров, выделяемых по тематическому принципу: решение экзистенциальных вопросов (отношение к себе, к другим, к различным аспектам жизни); умение общаться; терапия конкретных психологических проблем, достижение успеха в различных областях; самосовершенствование («личностный рост», «самореализация»); решение проблем здоровья и его укрепление и ряд других. Все поджанры объединены общей коммуникативной целью – помочь реципиентам справиться с теми или иными жизненными ситуациями и подсказать им способ достижения некоторых жизненных целей. Внутри каждого поджанра выделяются несколько направлений, которые в ряде случаев мы проанализируем более подробно, привлекая понятия текстовой перспективы – «поля», «угла» и «фокуса» зрения автора (эти понятия развиваются в [Марова 1989]), а также с помощью общеизвестного понятия «образа автора». 1. «Искусство общения». Этот поджанр представлен рядом школ популярной психологии в России и за рубежом. Известнейшее американское направление такого рода – практическое руководство по общению Дейла Карнеги. Поскольку Карнеги впервые систематически описал некоторые правила и приемы эффективного общения и стал обучать этим приемам, И. А. Стернин называет Карнеги основателем теории речевого воздействия [Стернин 2001]. В поле зрения Карнеги входят все ситуации, которые, так или иначе, связаны с общением и взаимоотношениями. Это исторические примеры, случаи из опыта самых разных людей, но основное внимание Карнеги уделяет деловым отношениям – переговорам, торговле, отношениям между партнерами, между руководителями и подчиненными и т. д. Все эти вопросы рассматриваются под углом толерантности и интереса к собеседнику как залогу успешности общения. Несмотря на непривычность идиостиля и тематики Карнеги для российского менталитета, при вчитывании многие мысли Карнеги оказываются разумными и убедительными, и вырисовывается достаточно привлекательный образ автора – мудрой, толерантной, пускай и деловито-прагматичной, личности. Среди отечественных работ в русле поджанра «искусство общения» следует отметить книги А. Егидеса, М. Литвака, В. Шепеля, Д. Аксенова и ряда других. Остановимся на творчестве Аркадия Егидеса. Книги этого автора (доктора психологических наук) в большой степени носят научный характер, как по содержанию, так и по стилю изложения. Выдвигая собственные теоретические положения (прежде всего, теорию «синтонов» и «конфликтогенов»), Егидес интегрирует в них концепцию «пристроек» сверху и снизу, а также идеи Карнеги, модифицируя их под российский 170 менталитет, решает ряд других вопросов в русле своей теории. Вместе с тем, не вызывает сомнений жанровая принадлежность его работ к текстам популярной психологии: теория здесь во многом служит прелюдией к обучению практическим умениям урегулирования конфликтов, технике знакомств, советам в межличностных отношениях супругам, сексуальным партнерам. В поле зрения автора включаются иные по сравнению с Карнеги вопросы (что, вероятно, связано с различием западного, прежде всего, американского и российского менталитетов): этикетное поведение в повседневном общении, проблемы этического выбора в различных ситуациях, этические оценки критики, юмора (высмеивания), оценивания, категоричности, проблемы воспитания детей («граждан России») и другие. Меняется и угол зрения – отношение к указанным проблемам основано не на принципах толерантности и заинтересованности в другом ради собственной выгоды, а на принципах этичности и коллективизма («в идеале – альтруизма»)1. В образе автора просматриваются такие черты, как интеллигентность, гуманизм, иногда романтизм, а также некоторая категоричность. 2. Отношение к себе, к другим, к различным аспектам жизни и самоактуализация. Направления популярной психологии, принадлежащие этому поджанру, являются весьма многочисленными. Это школы, популяризирующие идеи научной психологии: И. Вагина, Н. Козлова, А. Курпатова, В. Леви, а также идеалистические и эзотерические школы П. Бурлана, В. Гурангова, В. Долохова, В. Зеланда, С. Лазарева, Л. Марченко, А. Свияша, В. и Т. Тихоплав, Р. Хабарда («дианетика») и др. В конечном счете, все они призваны сформировать или так или иначе изменить мировоззрение читателей, определить отношение личности к себе и к миру. Охарактеризуем некоторые из них. «Рефлексивная поэтика» Владимира Леви рассматривает широкий круг экзистенциальных вопросов: личностные качества человека, отношение к жизни, к другим людям, общение, взаимоотношения супругов, родителей и детей, оздоровление и ряд других. В фокусе зрения автора в основном оказываются проблемы личности – комплексы, одиночество, непонимание, неудачи, проблемы общения, дисгармония, ревность, разводы и проч. Книги Леви часто строятся в форме эпистолярного диалога с читателями или комбинации размышлений с художественным или полудокументальным повествованием (часто биографическим или автобиографическим). Эти тексты обладают яркой образностью, полны художественных зарисовок, диалогов, стихов, в том числе, в прозе. Строгой и оригинальной (с психологической точки зрения) системы взглядов в книгах Леви не просматривается, его рекомендации во многом основываются на интуитивном понимании проблемы и варьируются от случая к 1 Ср. высказывание в главе «Не соревнование, а взаимопомощь!»: Соревновательность – из биомира. Даже маленькие рыбки соревнуются на скорость плавания, и побежденный должен плавать унизительным способом под углом, а победитель может гордо плавать прямо. Соревновательность лежит в основе культа спортивных состязаний. И спорт почти напрочь вытесняет физкультуру. Соревновательность – и в основе культа знаний. Отсюда и общество «Знание», и журнал «Знание – сила»… Так вот, пусть будет взаимопомощь, а не соревновательность. Ведь взаимопомощь вписывается в то, что у человека больше должно быть в почете: в самоактуализацию, в альтруизм, в персонализацию. Вспомним, под последним термином понимается как бы расцветание твоей личности в личности другого, в личности твоего alter ego (второго «я»), при этом чтобы и персонализация была субъект-субъектной, то есть чтобы в этом другом я видел равного мне субъекта, личность, а не механически впихивал в него свои взгляды и кажущуюся мне нужной ему помощь (ведь и помогать человеку надо по существу его нужд). А уж простое опережение другого – что в этом интересного... Провозглашение приоритета нравственно-психологического развития личности в духе субъект-субъектной персонализации и альтруизма, справедливости и благородства, самоактуализации и гуманизма требует дальнейших конкретных разработок. 171 случаю, однако во всех его произведениях отражается образ автора – рефлексирующей, в некоторой степени романтической личности, тонкого наблюдателя, исповедующего понимание и бережное отношение к другому. В поле зрения «деятельностной психологии» Николая Козлова входит практически тот же круг вопросов, что и у Леви, однако здесь затрагиваются и социальные вопросы: отношение к науке, искусству, религии, морали, стратегиям успеха в карьере, бизнесе и другие. Все эти вопросы рассматриваются под углом зрения «гуманистического титанизма» – идеалом для автора является свободная, ответственная и деятельная личность, причем деятельность ее должна быть осознанно направлена на созидание «добра и красоты». Поскольку именно так автор понимает развиваемое им понятие «личностного роста», то это также книги о самосовершенствовании и позитивной, нацеленной вовне самоактуализации 1. Книги Н. Козлова носят в большой степени философский характер (образ автора – «деятельный философ»), хотя и написаны они живым литературно-разговорным языком – здесь излагается стройная система взглядов, в большой степени выражен компонент логической аргументации. Наряду с этим имеются повествовательные пассажи, образность, элементы юмора и т. д., которые дополняют логическую аргументацию или оказывают внушающее воздействие. Выше указывалось, что, помимо психологических систем, покоящихся на традиционных объективно-материалистических основаниях, есть ряд идеалистических и эзотерических направлений, которые так же, как и предыдущие, обсуждают экзистенциально-психологическую проблематику. Эти теории не лишены рационального зерна и даже активно используются практикующими психологами и психотерапевтами, поэтому мы сочли целесообразным рассмотреть некоторые из них. Психологическая система «Симорон» В. Гурангова и В. Долохова исходит из сенсуалистического принципа («Мир есть иллюзия, которую личность воспринимает как реальность, оживляя ее своим воображением»). Авторы описывают специфическую метафорическую модель мира, суть которой заключается в следующем: в центре каждой личности имеется «сила, выпустившая любой объект мироздания в жизнь, источник света “Симорон”». Вокруг него – шар, в этом качестве выступает личность человека. Личность пропускает излучение «Симорона», и во внешнем мире выписано продолжение личности. Этим продолжением является весь видимый, проявленный мир. Каждый человек, растение, животное, камень, каждый предмет видимого мира является проекцией, укрупненным продолжением самой личности. «В тот момент, когда я бросаю взгляд на какой-то предмет, я выпускаю луч и выписываю вне себя свое продолжение, соответствующее дырочке, сквозь которую я выпустил этот луч. Дырочки разной формы, соответственно, и проекции разные». На основе этой теории авторы учат фиксировать внимание на позитивных моментах негативного явления (сигнала) и, выполняя своеобразный обряд («колдовство»), справляться с ним: «Мы не исправляем недостатки, не искореняем беды, а находим везде и во всем элементы здоровья, силы, радости и утверждаем их. Тогда зло, горе уходит само по себе. Это основополагающий принцип всех симоронских технологий» (из книги «Курс начинающего волшебника»). «Колдовство» производится, в том числе, за счет таких психотехник, как «благодарность проблеме за подсказку», «переименование актуального сигнала через трек», «переигрывание корневого эпизода» и др. Поле зрения авторов этого направления охватывает различные ординарные и экстраординарные жизненные ситуации, с которыми может столкнуться человек, в фокусе их 1 Самоактуализация, по Маслоу, – «стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нем потенций. Это стремление можно назвать стремлением к идиосинкразии, к идентичности» [Маслоу 1999: 90]. 172 зрения – неприятности, которые, по теории авторов, являются «предупреждающими сигналами первой, второй и третьей стадии», например, отсутствие кандидатов на замужество, болезнь, проблемы межличностных отношений и др. Угол зрения направлен на поиск позитива в любых ситуациях. В образе автора угадывается интеллектуальная, жизнерадостная личность, стремящаяся устранять негатив, «превращать черное в белое». Александр Свияш разработал собственную объяснительную модель мироустройства, из которой он исходит, давая практические психологические советы. Тезисно, она выглядит следующим образом. Существует Тонкий (Непроявленный) мир, в котором обитают духи, как добрые, так и злые. Эти духи существуют за счет чистых (эталонных, божественных) и неэталонных энергий людей (к последним относятся, например, желания материальных удобств и земной любви, наслаждение от победы в соревнованиях и т. п.). Жизнь как в Тонком, так и в Проявленном мире подчиняется законам Кармы, которая трактуется Свияшем своеобразно: «за любую полученную на свое существование от людей энергию духам необходимо платить (путем формирования нужных человеку событий). По отношению к людям этот же закон имеет обратный вид: за каждую помощь от духов нужно платить энергией. То есть человек может обращаться к духам (любым) с просьбой, получит содействие лишь в том случае, если он “оплатил” свой заказ достаточным количеством энергий соответствующего “качества”» (из книги «Как получать информацию из тонкого мира»). В соответствии с описанной системой мироустройства вводится ряд понятий (например, «идеализаций», «примативности», «сосуда кармы»), предлагается методика «Разумного пути», ключевым моментом которой является «формирование событий». Текст Свияша суховат, наукообразен, логичен, при этом ему не чужды такие дополнительные средства убеждения и внушения, как образность, элементы юмора1. Все эти особенности в совокупности и составляют образ автора. 3. Терапия конкретных пихологических проблем. Внутри этого направления к жанру популярной психологии можно отнести книги НЛП (Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, Д. Гордон, Р. Дилтс и др.). Несмотря на то, что НЛП претендует на статус научной теории, в книгах этого направления преобладают практические рекомендации. Мы относим их к жанру популярной психологии, поскольку книги по НЛП адресованы широкой публике, а не узкому кругу специалистов и соответствуют основной цели текстов этого жанра – помогать широкому кругу людей справляться с возникающими (проблемными) ситуациями. НЛП, по существу, представляет собой своеобразную методологию, принципом которой является не поиск закономерностей существования (экзистенции) человека, а поиск наиболее удачного (успешного) решения конкретной проблем. Терапия НЛП направлена на формирование у реципиентов образцов успешного поведения в тех или иных ситуациях: терапевт пытается выявить наилучший способ, с помощью которого человек может выполнить определенную задачу, и закрепляет его в качестве модели. В поле зрения НЛП – кризисные ситуации, в фокусе находятся конкретные жизненные ситуации того или иного реципиента: «микропроблемы», типа «она никогда не поддерживает, не 1 Ср. фрагмент из главы «Наш мир – гостиница»: Что же происходит, когда человек обращается за информацией в Тонкий мир, например, с помощью маятника, рамки, карт или других средств гадания? По нашей модели это выглядит так: человек выглядывает из своего гостиничного номера в коридор и спрашивает: «Каковы мои цели в жизни?», или «Почему болит живот у Ивана Ивановича?» Поскольку ответчики невидимы, человек предполагает, что ответит ему сам хозяин гостиницы (т. е. Творец). Или кто-то из его ближайших подручных. Но, похоже, что дела здесь обстоят совсем иначе. Чаще на подобный запрос отвечает тот, кто в этот момент находился за дверью вашего гостиничного номера. А это, как вы понимаете, очень даже зависит от этажа гостиницы. 173 успокаивает меня», стрессы, фобии, мании, которые редко обобщаются до уровня стандартных ситуаций из жизни любого человека. Угол зрения авторов НЛП определяется позицией «как улучшить ситуацию» (а не «почему так происходит», «как должно быть» или «как правильно»). Тексты НЛП имеют «размытую», нечеткую структуру, построены по принципу устных выступлений – популярных лекций с элементами практических тренингов. Методология НЛП предполагает расширение выбора клиента для реагирования на жизненную ситуацию, увеличение числа стратегий реагирования, смена сенсорной репрезентации ситуации, металингвистическая модель коммуникации и др. В них представляются в форме свободного (нестрогого) рассуждения с вкраплениями диалогов-дискуссий. 4. Достижение личного успеха в различных областях. Этот поджанр представлен именами таких зарубежных авторов, как Дж. Ален, Р. Кийосаки, Г. Клауд, Дж. Максвелл, Дж. Рон, Н. Хилл и др., и таких российских авторов, как С. Попов, Н. Правдина, Н. Старостина и др. Поджанр «литературы личного успеха» особенно близок к официально-деловому стилю, а именно, той его сфере, которую часто называют «языком делового общения», и, собственно, вырос из него. (В свою очередь, книги по деловой коммуникации выросли в начале ХХ века из американской философии прагматизма; первые книги такого рода писались в виде автобиографического наставления-руководства по достижению успеха, например, книги Н. Хилла) Однако, поскольку ключевым моментом в большинстве произведений этого жанра является выработка у реципиентов специфических психологических установок, мотивов, алгоритмов поведения, нацеленных на достижение успеха, мы имеем полное основание включить их в жанр популярной психологии. К тому же, если примерно до конца ХХ века такого рода тексты были посвящены преимущественно деловому успеху, то в более поздних книгах речь может идти об успехе вообще («успехе в жизни»), в любви, в работе, финансовом благополучии, умении быть счастливым и т п. Не останавливаясь подробно на трудах того или иного автора литературы личного успеха, отметим, что важнейшей целью этих текстов часто является своего рода «слом» усвоенной и общепринятой системы ценностей, перестройка категориальных структур личности без опоры на стереотипы и даже архетипы. В этом смысле характерны книги Роберта Кийосаки, который, в противоречие бытующим моральным принципам, принижает честный повседневный труд и превозносит инвестирование как способ праздного существования, отрекается от трудолюбивого «бедного папы» (родного) и присоединяется к ловкому «богатому папе», научившему его управляться с деньгами. 5. Самосовершенствование, самоактуализация, «личностный рост», тренировка отдельных способностей (памяти, скорочтения, психологическая самозащита, искусства выступления, ведения спора и т. п.). Этот поджанр включает в себя как общие вопросы личностного роста, так и развитие частных способностей. Личностному росту и самосовершенствованию в целом посвящены работы школ йоги, эзотерических систем самосовершенствования (например, система Х. Сильва, «дианетика» Р. Хаббарда, учение «рейки» и др.), а также книги, ориентирующиеся на научную психологию, например, Т. Гагина, Н. Козлова, Э. Цветкова, ряд работ К. Роджерса. 6. Решение проблем здоровья и его укрепление с помощью психотехник. К числу работ, относящихся к этому поджанру популярной психологии, принадлежат многочисленные книги по аутогенной тренировке, а также оригинальные системы А. Курпатова, В. Леви, Г. Мирошниченко, М. Норбекова, В. Синельникова, 174 Г. Сытина и др. Сюда же включаются книги по практической сексологии. Особняком стоят эзотерические учения об исцелении, написанные такими авторами, как А. А. Бейли, Дж. Голдмен, С. Коновалов, С. Лазарев и др. «Психотерапевтическому» исцелению и укреплению здоровья без каких-либо специальных физических упражнений посвящены книги Г. Сытина. В основе метода Сытина лежат психологические и физиологические механизмы словесного воздействия на различные системы организма, осуществляемого с помощью специальных «настроев» (вербальных семантических формул). Автор постулирует закономерную связь между управляемой деятельностью сознания больных и оптимальным ходом их психического и физического оздоровления. Настрои Сытина составлены из положительных утверждений, усиливают позитивные чувства, стимулируют волевые усилия в целях управления состоянием, формируют у человека яркие образы здоровья, молодости и красоты. Данный метод зарекомендовал себя как научный, однако он понятен и доступен широкой публике – отсюда отнесение книг Сытина к жанру популярной психологии. Итак, тексты популярной психологии относятся к научно-популярному подстилю научного функционального стиля и представляют собой специальный жанр научно-популярной литературы, состоящий, в свою очередь, из ряда поджанров, определяемых по тематическому признаку: «искусство общения»; отношение к себе, к другим, к различным аспектам жизни; терапия конкретных психологических проблем; достижение личного успеха в различных областях; самосовершенствование, самоактуализация, «личностный рост», тренировка отдельных способностей; решение проблем здоровья и его укрепление с помощью психотехник. Список литературы 1. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования) / И. В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1990. – 300 с. 2. Марова, Н. Д. Диалоги о перспективе текста (на материале немецкоязычных художественных текстов) / Н. Д. Марова. – Алма-Ата : Изд-во Казахского ун-та, 1989. – 84 с. 3. Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 487 с. 4. Стернин, И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2001. – 252 с. 5. Тамарченко, Н. Д. Жанр / Н. Д. Тамарченко // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина. – М. : НПК «Интелвак», 2001. – 1600 с. Список источников изучаемого материала 1. Бендлер, Р. Из лягушек в принцы. Нейролингвистическое программирование / Р. Бендлер, Д. Гриндер. – Новосибирск, 1992. – 246 с. 2. Гурангов, В. Сам себе волшебник / В. Гурангов, В. Долохов. – СПб. : Питер, 2003. – 192 с. 3. Егидес, А. Лабиринты общения или как научиться ладить с людьми / А. Егидес. – М. : АСТ-Пресс, 2006 – 368 с. 4. Кийосаки, Р. Т. Богатый папа, Бедный папа : в 3 кн. / Р. Т. Кийосаки, Ш. Лектер. – Минск : Попурри, 2005. 5. Козлов, Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / Н. И. Козлов. – М. : Новая шк., 1997. – 320 с. 175 6. Козлов, Н. И. Философские сказки для обдумывающих житье, или Веселая книга о свободе и нравственности / Н. И. Козлов. – М. : Новая шк., 1997. – 428 с. 7. Козлов, Н. И. Формула личности / Н. И. Козлов. – СПб. : Питер, 2000. – 358 с. 8. Леви, В. Л. Исповедь гипнотизера. Дом души / В. Л. Леви. – М. : Семья и шк., 1993. – 368 с. 9. Леви, В. Л. Цвет судьбы / В. Л. Леви. – СПб. : Питер, 1993. – 254 с. 10. Норбеков, М. С. Опыт дурака или ключ к прозрению / Норбеков М. С. – М. : Весь, 2003. – 214 с. 11. Рон, Дж. 7 стратегий достижения богатства и счастья / Дж. Рон. – М. : Эмайджи, 1997. – 123 с. 12. Свияш, А. Как получать информацию из тонкого мира. Ступени в разумный мир / А. Свияш. – СПБ. : МиМ-Дельта, 2000. – 224 с. 13. Свияш, А. Уроки судьбы в вопросах и ответах / А. Свияш. – М. : Центрполиграф, 2004. – 235 с. 14. Сытин, Г. Н. Животворящая сила : Помоги себе сам / Г. Н. Сытин. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 415 с. 15. Хилл, Н. Ключи к успеху / Н. Хилл. – Минск : Попурри, 1997. – 320 с. 176 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ О. В. Конфедерат КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВИДЕО-АРТ: ОПЫТ ЧИСТОГО ВОСПРИЯТИЯ Статья посвящена проблемам зрительского контакта с абстрактными произведениями видео-арта. Рассматривается возможность феноменологических и герменевтических интерпретаций подобных художественных объектов, ставится вопрос о правомерности текстологического подхода к ним. Сопоставляя опыт акционизма в традиционных искусствах, экспериментального кино, фотографии и концептуального видео-арта, автор усматривает доминирование философскоантропологических задач над эстетическими, эпистемологическими и коммуникативными как общее качество этих художественных практик. Ключевые слова: видео-арт, феноменология, герменевтика, текстологический подход, акционизм. Ханс Зедльмайр напоминает нам (ссылаясь на Шопенгауэра), что «перед произведением искусства нужно стоять, как перед высокопоставленной особой: со шляпой в руке и в ожидании, не обратится ли эта особа к кому-нибудь из нас»1. Иногда ожидание оказывается длительным и безрезультатным, а иногда произведение само останавливает все наши попытки контакта (интерпретации). Подобное я почувствовала, впервые встретившись с поздними работами Хуана Миро не на страницах альбома, а в музейной экспозиции. Это было ощущение неразговорчивой и вместе с тем властной автономной вещности обрамленных прямоугольников с пятнами черной или темно-зеленой гуаши, местами плотно покрывающей, местами едва задевающей рыхлую поверхность холста или бумаги, оставляя белые нитевидные или бахромчатые просветы. Таблички, расположенные рядом с экспонатами, предлагали угадать в гуашевых пятнах дерево или птицу, лунный серп или женщину. Но интуитивно было понятно, что разгадка не нужна и необходимо длить, насколько возможно, мгновение неопределенности, чистого удивления перед этими органически целостными, предлагающими себя и вместе с тем замкнутыми в себе предметами. Будь это просто картон, испачканный гуашью (например, в процессе очищения кистей), моего понимания не требовалось бы. Будь это репродукция в альбоме, понимающий акт был бы гарантирован инерцией «художественного восприятия», определенностью репродукции, которая сама есть культурный текст и автоматически сообщает репродуцированному объекту качество текста. Но представленные моему вниманию и отвергающие мой опыт коммуникации эти вещи показались мне вызывающе, сокрушительно молчаливыми. Они ничего не сообщали мне на том языке, которым я владею. Возможно, они вообще ничего не собирались сообщать, а просто приводили зрителя в состояние онтологической неопределенности, на зыбкую границу пред-текста, пред-знака, пред-понимания, когда с максимальной интенсивностью проживается экзистенциальное событие встречи, прежде чем оно войдет в сознание, будет эксплицировано предыдущим опытом и станет достоянием памяти. Знакомство с абстрактной живописью по репродукциям, фильмам и теоретическим трактатам не подготовило меня к этому переживанию. Современный видео-арт в тех своих направлениях, которые можно считать абстрактными, казалось бы, озадачивает зрителя гораздо меньше, чем абстракции Хуа177 на Миро. Во-первых, практики этого искусства, за немногими исключениями, в энциклопедиях упоминаются пока только в обзорах, не удостаиваясь персональной статьи, так что на зрителя не действует магия титула. Во-вторых, компьютерное искусство и киноавангард несложно трактовать как техническую игру, как формальный эксперимент, задачи которого сводятся, главным образом, к развлечению глаза необычными визуализациями тривиальных вещей. Кажется, ничто не может помешать интерпретировать фильм, видеоролик или компьютерный образ как нам угодно – настолько повседневны и демократичны сами носители художественной материи. Даже выставленные в галерее, они не вызывают того пиетета, на который могут рассчитывать традиционные обрамленные холсты. Что говорить о показе в обычном кинозале! Демонстрация в конце февраля в Челябинске программы фестиваля анимации и экспериментального кино «Aurora» (Норидж, Великобритания) – как раз тот случай, когда наше внимание к произведению дано в чистом виде, не спровоцированное особым фестивальным протоколом или авторитетами (участники программы не известны в широких зрительских кругах). Несодержательность визуальных опусов тоже поможет делу. Лишь немногие из них расположены были к диалогу, предлагая как тему обсуждения либо тоталитаризм («Выученное наизусть» М. Римминен и П. Такала, Финляндия, 2007 г., «Страна теней» Т. Глодек, Польша, 2006 г.), либо судьбу Хиросимы («200 000 призраков» Ж.-Г. Перьо, Франция, 2007 г.), либо общие гуманистические тезисы, обозначенные смутными образами детей и голубей («Из милосердия» Д. Бонетта, Канада, 2006 г., «Голубиный бунт» Б. Риверс, Великобритания, 2007 г.). Большинство же авторов было озадачено и очевидно зачаровано теми «неизвестными странами» и «невероятными конструкциями» (как гласит название программ), которые возникают из непредсказуемых электронных флуктуаций, репродуцированных видео- и звукозаписывающими устройствами. «Порядок-пере-порядок» («Order-re-order», Австрия, реж. Б. Дозэр, 2006 г.) в течение 7 минут демонстрировал движение белых кругов на черном фоне, то создающее в моменты синхронизации автономных ритмов каждого круга гармонические круговые венцы на черном фоне, то распадающееся на хаотическое мелькание сотен световых пятен. «Исследование» («Exploration», Франция, реж. Й. Воде, 2006 г.) было зрелищем электронных волн и разрядов, запечатленных на экране как бурные цветовые эксплозии. В «Памяти кассеты» («Memorija Vrpce», Хорватия, реж. Д. Кучич, 2007 г.) изображение воспринималось как четырехминутный тревеллинг съемочной камеры, уходящей в глубину видеопленки, так что микроскопически-малая толща носителя оборачивалась безграничной галактикой, а изображение разлагалось на цветные атомы, на подвижные отдельные светила, роящиеся или с космической скоростью пролетающие мимо. Сюжет «Set and Setting» (Великобритания, реж. Н. Хендерсон, 2006 г.) сводился к медленному выцветанию и уничтожению стоп-кадра, запечатлевшего закат на море, так что внимание зрителя, в конце концов, оказывалось занято – и обезоружено – не морским видом, а деятельностью невидимых существ, постепенно выедающих цвета и формы на экране. Сложно в таких случаях говорить о целенаправленности зрительского внимания, поскольку незакодированное визуальное поле, к тому же непрестанно меняющее свой рельеф и плотность, не дает возможности даже произвольно выбрать какой-либо элемент как смыслообразующий или композиционный. Речь уже не идет об иконографических, риторических, кинезических или стилистических кодах, отсы178 лающих к образам и понятиям, знакомым по прежнему культурному опыту. Сложно довериться как будто стимулирующим реакцию зрителя изменениям цвета или направлению движения, принимая их за тональные коды. Быть может, переход от бесцветности к желто-оранжевому сиянию («Sun Tower 70», Великобритания, реж. И. Хелливелл, 2006 г.) должен вызывать представление о преодолении, о световом торжестве; быть может, устойчивые соотношения венцеобразных кругов («Порядокпере-порядок») должны символизировать мировую гармонию. Но поскольку эта визуальная музыка есть порождение не человеческого, а электронного «сознания», нельзя быть уверенным в правильности своих предположений. Цветовыми и ритмическими модуляциями Иное сигнализирует о своем присутствии – не более того. Возникает феномен зрительского неучастия в эстетическом акте: сама ситуация внешне определена как эстетическая (кинозал, экран, фестивальная программа, титры с названиями опуса и именами тех, кто имел отношение к его возникновению), но зритель не может использовать известные ему приемы чтения художественного текста, не может «адекватно реагировать только на предусмотренные комбинации, пренебрегая всеми прочими как шумом»2. Все визуальное поле воспринимается как «шум». Это свойство видеоряда оказывается особенно очевидным и важным по контрасту с теми краткими периодами, когда на экране возникает нечто узнавемое и зритель (до сих пор несколько растерянный, так как неясно, что надо видеть) может перейти от «неучаствующего» созерцания к содержательному наблюдению. Например, когда изображение на экране напоминает те соляризованные неземные пейзажи, сквозь которые проходит персонаж «2001: Космической одиссеи» С. Кубрика, или когда беглые плазменные сполохи разбиваются на сотни хвостатых капель, суетливо устремляющихся к флуоресцирующей оранжевой овальности, как в научно-популярном фильме о размножении млекопитающих («Исследование»). Любопытно, что впечатление от опуса ослабевает как раз в тот момент, когда узнаешь. Очевидно, что нарративность не является задачей или свойством подобных художественных объектов. Это сближает абстрактный видео-арт и практики живописного акционизма, фиксирующего витальную и духовную энергию художника вне зависимости от формальных и содержательных аспектов ее проявления. Точно так же, как поток электронов оставляет след на экране лишь как свидетельство своего присутствия, краска, нанесенная на холст ударом кисти или путем разбрызгивания, документирует движение художника, свидетельствуя об экзистенциальном мгновении – не более. Другое дело, что в произведении живописного акционизма мы встречаемся, во-первых, с экзистенцией человека, а значит, можем почувствовать его состояние, темперамент. Например, спокойную, как глубокие воды, уверенность П. Сулажа, запечатлевшего на монументальном холсте, подаренном Эрмитажу, столь же монументальный мощный жест своей широкой кисти. Или языческую безмятежность Ж.-Э. Куллберга, играющего холстом, деревом, пигментом, разогретым воском. А во-вторых, кроме этого своеобразного невербального диалога с художником мы, благодаря оптикотактильной перцепции, общаемся как со знакомыми с воском, деревом, гуашью, железом, разнообразными реди-мейдом – и они нам отвечают на своем языке. В абстрактном же видео-арте мы находим действительно неизвестную нам ни в каком опыте материю – неантропную и, в каком-то смысле, не принадлежащую земной плоти. Компьютерный видео-арт генеалогически близок экспериментальным кино и фотографии, не использующим съемочную камеру. Мы имеем в виду «фотограммы» и «рейографы» М. Рея, полученные путем работы с фотобумагой, минуя съемочный процесс; фильмы Н. Мак-Ларена, созданные путем процарапывания фигур на засвеченной кинопленке («Пустота», 1955 г., где путем такого же процарапывания на зву179 ковой дорожке пленки создана и «музыка» к фильму); фильмы Ю. Антониша, где «плазмообразы» (plazmotwory)3 создаются в результате термохимической обработки пленки («Фобия», 1967 г., «Эти великолепные пузырьки в этих пульсирующих лимфоцитах», 1973 г.) Устранение снимающей камеры и, как следствие, исходной «оптической ситуации» в таких практиках устраняет «точку зрения» и феномен отражения, фундаментальные для европейского визуального искусства. Таким образом, антропность видеообраза элиминируется дополнительно. То, что возникает на экране (или фотобумаге), не вполне контролируемо сознанием художника. Можно даже сказать, что отчасти контролируются условия рождения, но сам родившийся образ в такой же степени незнакомец для автора, как и для зрителя. Собственно, «автор» и «зритель» здесь – понятия тождественные, и произведенное на свет лишается возможности оказаться «текстом», обрамленным отражением некоторой внешней или внутренней антропной реальности. Оно не указывает на реальность, оно само есть реальность вне всякой знакомой нам языковой экспликации. (По поводу «отражения реальности», закрепленного за классическим кино по инерции его генеалогического изведения из живописи и литературы, тот же Ю. Антониш заметил: «Кино кончилось с приходом братьев Люмьер»3, – имея в виду, что демонстрация «точки зрения» на «прибытие поезда» или «завтрак бэби» не заключена в природе этого искусства). Возвращаясь к впечатлениям от контакта с электронной абстракцией, представленной в программе фестиваля «Aurora», находишь, что как художественные акты все эти опусы обладают примечательной особенностью. Они, безусловно, эстетичны, но это их качество неопределимо в категориях эстетики как науки. Интуитивно мы ощущаем порой, как цветовые и линейные образования входят в смысловое поле понятий «прекрасное», «возвышенное», «комическое», «безобразное» и тут же ускользают из него, не позволяя определить себя. Им свойственна коммуникативная функция, но знаки, в которых разворачивается их «послание», нам неизвестны, поэтому предмет и цель коммуникации неясны. Они по-своему силятся расширить наш горизонт познания. Но знание возникает на границе немыслимого и соотнести его с какими-то внешними объектами и состояниями нельзя: объекты и состояния аморфны и неустойчивы, так что это «знание о...» неопровержимым образом указывает на нас самих как познающих и одновременно познаваемых. Феноменологическое «двойное схватывание», в котором конституируются одновременно субъект и объект восприятия (в нашем случае – художественного), оказывается «схватыванием» самого субъекта во всем богатстве его ненаправленных, потенциальных интенций – эстетических, этических, познавательных. Таким образом, концептуальный видео-арт в чистом виде демонстрирует нам сущность всего современного неклассического искусства (в том числе – живописной абстракции, акционизма, авангардного кино и фотографии). Он ставит и пробует решать задачу конституирования человека в ситуации онтологической неопределенности предстоящего ему Другого, предлагает и дает возможность до всякого начала диалога, общения, тем более интерпретации, до всякого решения об участии в художественном акте найти себя как субъекта всех возможных последующих диалогов, актов понимания и интерпретаций. Происходит это как провокация чистой «устремленности к...», «наблюдения за...», «прислушивания к...», «отношения к...» без какой бы то ни было мыслимой определенности этого отношения и устремления. Человеческий опыт понимания и общения выносится за пределы ситуации. Но только затем, чтобы мы могли не применить его, а пережить ситуацию впервые-возникновение-отношения, собственно, мгновение рождения себя самого как «относящегося существа»4. 180 Определенный психологический дискомфорт, предваряющий это событие, порой принуждает нас не задерживаться в этом состоянии, а незамедлительно снимать неопределенность, ощущаемую как негативность, либо императивным образом устанавливая с арт-объектом культурно-смысловые связи из уже имеющегося в нашем распоряжении набора, либо отторгая чуждый нам объект как неполноценный, а то и враждебный. При этом мы игнорируем сущностную способность концептуального искусства задерживать нас в акте «первоначальной апперцепции»5 как чистом акте самосознания, не реализованного еще ни в каких возможных проявлениях и тем самым обращающего нас к нашей собственной экзистенции. Примечания 1 Зедльмайр, Х. Искусство и истина : о теории и методе истории искусства / Х. Зедльмайр. – М. : Искусствознание, 1999. – С. 135. 2 Эко, У. Отсутствующая структура / У. Эко. – СПб. : Simposium, 2004. – С. 58. 3 См.: Armata, E. Niezwykly chronikarz / E. Armata // Film. – Warszawa, 1986. – № 5. 4 Невелев, А. Б. Событие духа : от мысли к Лику / А. Б. Невелев. – Челябинск, 2002. – С. 38. 5 Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Мысль, 1994. – С. 100. 181 ABSTRACTS Abdullina A. Sh. Home Archetype in T. Giniyatullin’s Prose The problem of time and space in the novel «Deadlock» by Talуa Giniyatullin is studied in the article. The world perception of the Bashkir writer is revealed by the system of time and space relations. They are important components of the world of prose providing the complex perception of the artistic reality. Alexandrov L. G. The Problem of Space in Modern Newspaper Communication This article touches upon the problem of intercultural position in journalism, which prevents to find the optimal synthesis in the mixture of different forms. For example, there is an erosion of the press genres. Because of this our press ignores the necessity of stylistic unity and hardly catches the event panorama. Berdnikova T. V. The Question and Answer Unity as a Form of Structural and Semantic Relations of Speech in Poems (Based on Akhmatova’s Poems) The article is about one of the forms of structural and semantic relations of speech, question and answer structure. The research of communicative positions changing in a dialogue helps to identify some characteristics of the communicative roles and peculiarities of Akhmatova’s dialogue: the combination of narration and speech, closeness to the dramaturgic text. Bukharova G. H. Ethical Parameters of «Good» – «Evil» in a Mythic and Poetical Model of the World Ethical parameters of a mythic and poetical model of the world corresponding to such values as good – evil, good – bad, correct – wrong are described in the article. The reconstruction of the moral consciousness of the Bashkir people through the prism of a folk text, the epic novel «Ural-batyr» is realized on the base of attracting broad world outlook and cultural context of using the language. Chugaeva T. N. Auditory Text Perception: Structure and Listeners’ Strategies The principal text categories of integrity and coherency are discussed. The role of the «perceptive basis of the language» is expounded in the process of the authentic English text perception by Russian learners, its components (words, syntagmas and sentences) being analyzed in terms of significant linguistic cues. Different perception strategies are experimentally verified. Druzhinina S. I. Interrelation of Peripheral Complex Sentences of Positional Nature The article represents a description of connections within peripheral positional complex sentences. Constructions with syncretic meanings of attribute and object, object and manner are analyzed in detail on transitivity scale. In the article mechanisms of syncretism appearance in these structures are investigated, their semantical potential is accentuated, the character of interaction is specified. Galichkina E. N. Evaluative Characteristics of «Computer» Concept The article highlights the major positive and negative evaluative characteristics of the concept «computer». Alongside with evaluative conceptual content the computer anthropomorphic features are identified and described. 182 Hizbullina D. I. Semantic Representations and Evolution of Cognition The article is concerned with the problem of semantic representations as the reflection of linguistic semantics perception and the studies of these semantic representations evolution in the cognitive processes on the material of symbol and sign representations about some animals in the synchronic picture of the world in English, Bashkir and Russian languages. Kaminskaya T. L.: Structure of the Category of the Mass Communication Addressee Image The structure of the category of the addressee image in media discourse is discussed in the article. Opposition one’s own-another, addressee’s speech experience of orientation, picture of the world, life style and the addressee’s social status are the constituents of the given category. The material of various quality and popular editions of the last decade is used. Kasumova O. P. The Importance of Position in the Language Semantic System The article is focused on the urgent problem in Russian Studies related to language phenomena belonging to the periphery of a language system. These include texts containing mistakes and abnormality. The author determines the role of the language position and the ability of abnormal texts to carry out a language function. The examples are based on the play on words, delirium, glossolaliу, experimental prose and poetry. Khvesko T. V. Nomination as Creative Human Activity A cognitive approach to the investigation of English toponymia allows to show creativity realization in Place Names. Morphological, lexical, semantic and syntactical levels of study prove such structural peculiarities of onoma as hybridization, doublication, adaptation and tightening. It is proved that toponyms are significant language units by realizing nomination tendencies. Konfederat O. V. The Conceptual Video-Art: Experience of Pure Perception The article is devoted to the visual contact problems with abstract video art. The author considers the possibility of phenomenological and hermeneutical interpretations of these art objects. The actionist’s experience in traditional art is compared with experimental cinema, photo and conceptual video art. In this case philosophical and anthropological problems are more important than aesthetical. Kravtsov S. M. Russian and French equivalent units in interlinguistic phraseosemantic field «Person’s behaviour» In the article interlinguistic equivalents of phraseosemantic field «Person’s behaviour» are researched on the material of Russian and French. Integral and differential semantic aspects of the given field are enlightened, peculiar features of equivalent phraseological units are singled out, and the reasons of their shortage are defined. Also most numerous groups of Russian and French equivalent phraseological units depending on their origin are analyzed. Krayushkina T. V. Group of Motives of Human Appearance Change in Russian Fairy Tales: Types and Functions The article examines a group of the motives of human appearance change in Russian fairy tale. In folklore this group of motives is allocated for the first time; the specified motives and their place in fairy tale are analyzed. The conclusion that human shape is ideal for a fairy tale is made in the article. 183 Kushneruk S. P. Modern Business-and-Administrative Texts: Syntactic Stability (Parametric Evaluation) Some results of the experiments oriented on the formal syntactical parameters are presented in the article. The quantitative method is used to reveal relevant spectrum of the distributive characteristics. These characteristics demonstrate standardization and unifying influence on the syntax of the «documental texts», texts of the documents used in business and administrative practice. Lepilkina O. I. Provincial Satirical Press in Russia in the Beginning of XX th Century The article represents typological characteristics, specificity of an information picture of the world and art features of provincial satirical press which has received a wide circulation during the first Russian revolution. Special purpose designation of satirical editions has been type forming and has caused other typological attributes within censorship. Litvinenko T. E. Language and Theoretical Aspects of Intertext Analysis The article is devoted to determining the intertext linguistic principles in the light of the three interconnected problems: establishing the bounds and the inner structure of text categories as communicative phenomena; defining the specific features of the intertext as a part of the paradigm «– texts», the units of which are constructed according to the general word building model; determining the role of the intertext in the process of the two conceptional metaphors evolution: world is a text and text is a world. Panova E. Yu. Confessional and Analytical Character of the Poetic Vocabulary in Lyrics by Z.Gippius The majority of scholars suppose that lyrics by Z.Gippius surpasses her prose esthetically and at the same time reveals powerful sense correlating with the journalistic works. Besides, the poetess expressed herself with the utmost plainness and frankness in her poetry, which is a specific lyrical diary of her feelings. The analysis of the complex of the poetical texts by Z.Gippius (collections «Poetical Collection. 1889 – 1903», «Poetical Collection. Second volume. 1903 – 1909», «Poetry. Diary 1911 – 1921», «Radiance» (1938)), originality of poetic vocabulary in particular, is quite important for specification of the stylistic dominant of the author’s works. Podobriy A. V. Principles and Directions of the Polycultural Analysis of Russian Literature (on the prose of the 20–30th of XX th century) This article proposes a method of analyzing a «national cultures dialogue» in Russian texts. This method can applied for analyzing any literary text of other linguistic culture. Rezepova N. V. Is a National Character a Myth or Reality? (In the Context of K. Abramov’s Trilogy «Erzya Son») The article is devoted to the questions of reflecting a national character in art, in particular, in literature. This material helps to understand what nationality a nation is and what it is based on. Both national and international exist in fiction, their dialectics in a fiction work makes it really valuable for national and world literature. Shamanova M. V. A Cognitive Category «Communication» as a Structure In the article the macrostructure of the communicative category communication is considered. It is shown that the basic distinctive attributes of a communicative category unlike in communicative concepts are abstractness of content, insignificant figurative content, ex184 tensive encyclopaedic zone and a small volume of interpretative field. These characteristics of the communicative category testify to a high stereotypization of the given category content in thr cognitive consciousness of people. Sharipova G. R. Ivan Mikheevich Pervushin as a Folklore Researcher The article is devoted to the study of folklore by a famous mathematician Ivan Mikheevich Pervushin (1827–1900). This aspect of his activity has not been studied. The investigation of the activities of the regional specialists in folklore reflects the complete picture of the local lore movement in the country in the middle of the 19th century and reveals the originality and cultural potential of separate regions. Shelestyk E. V. Stylistic and Genre Peculiarities of Popular Psychology Texts The article discusses stylistic and genre peculiarities of popular psychology texts, substantiates the existence of the uniform popular psychology genre within the scientific style domain and specifies the sub-genres of this genre. Siragetdinova N. M. The Human World in Folk Songs (on Bashkir Falk Songs of Chelyabinsk Region) 128 songs with proper names are analyzed in the article. The Bashkir mode of life, lyrical hero and the people surrounding him are revealed on the lexical level. Sirotkina T. A. Ethnicity Category and the Local Picture of the World The article deals with ethnonyms (names of peoples) in dialect discourse of the Russians in Perm Region. The ethnic names are revealed to be marked representation of the category of ethnicity in the local world image. Starkova E. A. On the Poetic Unity of N. Hawthorne’s Grandfather’s Chair, WonderBook, and Tanglewood Tales The article proves the thesis that Hawthorne’s poetic universe is integral throughout his didactic short prose for children. Three collections of stories created at different periods of his literary career are analyzed as a unified discourse demonstrating the affinity of the author’s ideological and aesthetic position, motifs, and narrative habits. Sultanbaeva H. V. On the Origin of the Functional Parts of Speech in Turkic Languages The article is devoted to the investigation of the origin of the functional parts of speech in Turkic languages, which is a complex and interesting problem in Turkic studies. Tetuev B. I. Typological Pecularities of 19th Century Karachay-Balkar Raid Poetry (on the D. Shavaev's Unknown Song) The article deals with a 19th century Karachay-Balkar poet D. Shavaev's raid songs. Analysing their typological peculiarities the author underlines the subjective interpretation of the events, poeticizing the horse image and the problems of ethic motivation. The results of the investigation reconstruct the intertextual links in the system of the knighthood archetypes. Zabbarova E. F. On the Language and Style of G. Tulumbai This article is devoted to the language and style of a Tatar writer of the beginning of the XX th century. The writer‘s positive influence on the Tatar prose is stressed. 185 Сведения об авторах Абдуллина Амина Шакирьяновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Бирской государственной социальнопедагогической академии. amina-60@mail.ru Александров Леонид Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент кафедры Челябинского государственного университета. tmk@csu.ru Бердникова Татьяна Владимировна – аспирант, ассистент кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. sarteorlingv@yandex.ru Бухарова Гульнур Харуновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского языка Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. buharova_g@mail.ru Галичкина Елена Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и современных технологий обучения Астраханского государственного университета. elenagalich@yandex.ru Дружинина Светлана Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, и.о. декана факультета гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, доцент кафедры русского языка, культурологии и психологии Орловского государственного аграрного университета. svetlana_druzh1@mail.ru Заббарова Эндже Фанисовна – старший преподаватель кафедры татарского и русского языков Казанского государственного аграрного университета. endje78@mail.ru Каминская Татьяна Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. tlkam@mail.ru Касымова Ольга Павловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языкознания Башкирского государственного университета. olgakasymova@yandex.ru Конфедерат Ольга Владимировна – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории искусства Челябинского государственного унверситета. тел. 7277518. 186 Кравцов Сергей Михайлович – кандидат филологических наук, доцент кафедры французского языка Южного федерального университета. serguei_kravtsov@mail.ru Краюшкина Татьяна Владимировна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. kvtbp@mail.ru Кушнерук Сергей Петрович – кандидат филологических наук, доцент кафедры документной лингвистики и документоведения, докторант Волгоградского государственного университета. sp_kushneruk@mail.ru Лепилкина Ольга Ивановна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой истории и теории журналистики Ставропольского государственного университета. oll5@mail.ru Литвиненко Татьяна Евгеньевна – кандидат филологичеких наук, доцент кафедры испанского и итальянского языков Иркутского государственного лингвистического университета. leto1994@mail.ru Панова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры теории массовых коммуникаций Челябинского государственного университета. elena_panova81@mail.ru Подобрий Анна Витальевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы и методик их преподавания Челябинского государственного педагогического университета. podobrij@yandex.ru Резепова Наталья Владимировна – аспирант кафедры этнокультуры Мордовии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. natalia0309@list.ru Сиражитдинова Нафиса Миндияровна – ассистент Учалинского филиала Башкирского государственного университета. birusa-raf@mail.ru. Сироткина Татьяна Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Пермского государственного педагогического университета. sirotkina71@mail.ru Старкова Элла Александровна – старший преподаватель кафедры русистики и сравнительного культуроведения Кубанского государственного университета. ika_star@inbox.ru 187 Султанбаева Хадиса Валиевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры башкирского и общего языкознания факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета. sultanxv@mail.ru. Тетуев Борис Инзрелович – кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы Кабардино-Балкарского государственного университета. boris_tetuev@mail.ru Хвесько Тамара Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков Тюменской государственной медицинской академии. khvesko@inbox.ru. Хизбуллина Диля Ишбуловна – кандидат филологических наук, доцент кафедры сопоставительного языкознания Башкирского государственного университета. Della08@mail.ru Чугаева Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. tatiananch@mail.ru Шаманова Марина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Борисоглебского государственного педагогического института. mshamanova@mail.ru Шарипова Гульнара Рашидовна – КГУ, аспирант кафедры древней литературы и фольклора. тел.89068836021 Шелестюк Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка Челябинского государственного университета. 188