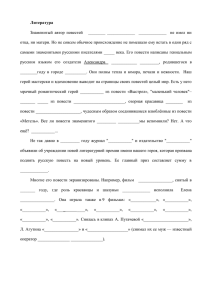Мотивы дома и пути в повести В. Астафьева «Перевал»
advertisement
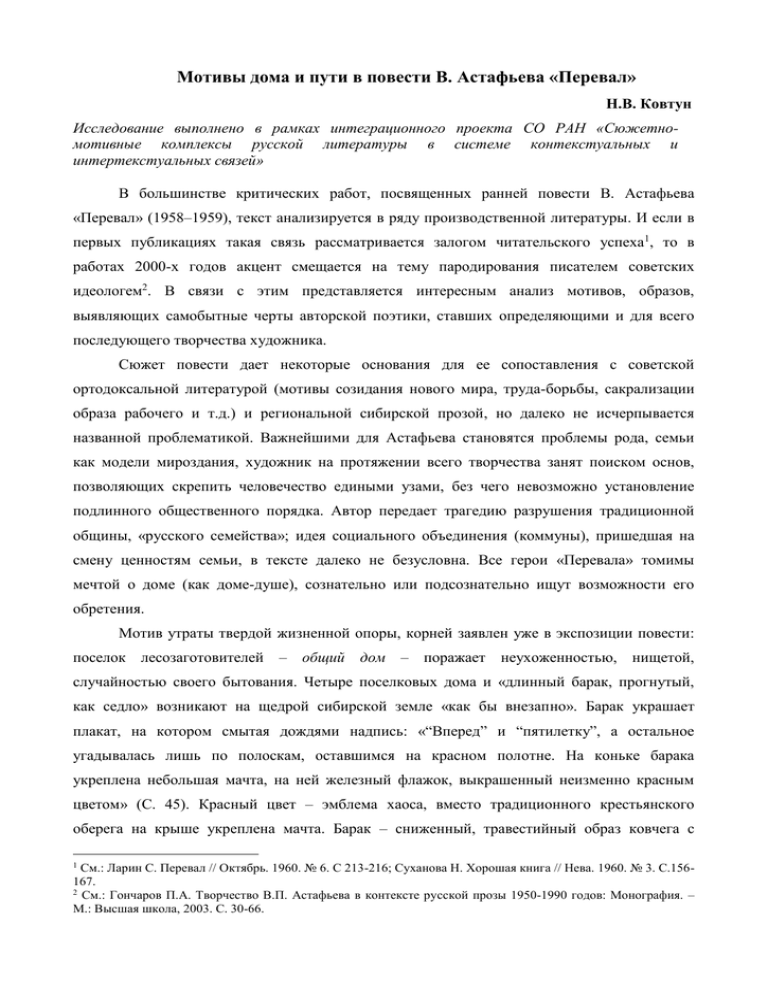
Мотивы дома и пути в повести В. Астафьева «Перевал» Н.В. Ковтун Исследование выполнено в рамках интеграционного проекта СО РАН «Сюжетномотивные комплексы русской литературы в системе контекстуальных и интертекстуальных связей» В большинстве критических работ, посвященных ранней повести В. Астафьева «Перевал» (1958–1959), текст анализируется в ряду производственной литературы. И если в первых публикациях такая связь рассматривается залогом читательского успеха1, то в работах 2000-х годов акцент смещается на тему пародирования писателем советских идеологем2. В связи с этим представляется интересным анализ мотивов, образов, выявляющих самобытные черты авторской поэтики, ставших определяющими и для всего последующего творчества художника. Сюжет повести дает некоторые основания для ее сопоставления с советской ортодоксальной литературой (мотивы созидания нового мира, труда-борьбы, сакрализации образа рабочего и т.д.) и региональной сибирской прозой, но далеко не исчерпывается названной проблематикой. Важнейшими для Астафьева становятся проблемы рода, семьи как модели мироздания, художник на протяжении всего творчества занят поиском основ, позволяющих скрепить человечество едиными узами, без чего невозможно установление подлинного общественного порядка. Автор передает трагедию разрушения традиционной общины, «русского семейства»; идея социального объединения (коммуны), пришедшая на смену ценностям семьи, в тексте далеко не безусловна. Все герои «Перевала» томимы мечтой о доме (как доме-душе), сознательно или подсознательно ищут возможности его обретения. Мотив утраты твердой жизненной опоры, корней заявлен уже в экспозиции повести: поселок лесозаготовителей – общий дом – поражает неухоженностью, нищетой, случайностью своего бытования. Четыре поселковых дома и «длинный барак, прогнутый, как седло» возникают на щедрой сибирской земле «как бы внезапно». Барак украшает плакат, на котором смытая дождями надпись: «“Вперед” и “пятилетку”, а остальное угадывалась лишь по полоскам, оставшимся на красном полотне. На коньке барака укреплена небольшая мачта, на ней железный флажок, выкрашенный неизменно красным цветом» (С. 45). Красный цвет – эмблема хаоса, вместо традиционного крестьянского оберега на крыше укреплена мачта. Барак – сниженный, травестийный образ ковчега с См.: Ларин С. Перевал // Октябрь. 1960. № 6. С 213-216; Суханова Н. Хорошая книга // Нева. 1960. № 3. С.156167. 2 См.: Гончаров П.А. Творчество В.П. Астафьева в контексте русской прозы 1950-1990 годов: Монография. – М.: Высшая школа, 2003. С. 30-66. 1 бесполезным железным флажком, красный цвет которого отсылает к эсхатологическому контексту. Жители чувствуют неустойчивость собственного бытия, пытаются толковать запись, указывающую на время основания поселка: «На дощечке каленой проволокой выжжена секира, а под ней надпись: “12/VIII – 1929 – заштрафовано”. Шипичихинские бабы так разъясняли друг другу значение этого слова: “Запали барак с любого угла, только загодя вытащи оттуда ребятишек, и пусть он сгорит, и государство все покроет, вплоть до наперстка…”» (С. 7)3. Сама логика рассуждений заставляет вспомнить платоновский код: герои «Чевенгура» ждут наступления коммунизма, который «придет и все покроет». Открывается возможность многоаспектного толкования повести, связанная с восприятием героев, не щадящих сил во имя строительства лучшего будущего, и повествователя, сочувственно, но уже иронично передающего идеи мгновенного преображения бытия («Перевал» создается в атмосфере «оттепели»). Понимание жизни как вечного движения, переправы, противоречит, по В.Астафьеву, онтологической природе человека, одновременно складывается представление о несамодостаточности дома, малого пространства, неотвратимости исторических перемен, в которых утверждаются отдельные судьбы и судьба нации. Картина бивуачной жизни отличает и поселок Боганида в новелле «Уха на Боганиде». В поселке Шипичиха как анти-доме жить нельзя, но можно вечно собираться в дорогу, не случайно барак лесозаготовителей напоминает седло. Крепкая, богатая усадьба объездчика «с множеством пристроек» стоит отдельно и воспринимается деревенскими как чужая: «шипичихинцы почему-то этот дом к поселку не причисляют» (С. 8). Люди здесь чувствуют себя облегченно, не коренными жителями, а случайными насельниками, в семьях царят пьянство, драки, от которых спасает только работа, она-то и признается одной из главных ценностей, хотя бы на время упорядочивающих бытие. Некрасивая, нищая жизнь отражается в облике поселян: крикливая, скандальная мачеха главного героя – Ильки Верстакова – клянет свою «распаскудную жизнь», «грызется с соседями», неопрятна и похожа на «деревянного человечка на ниточках» – игрушку без души. Соседский ребенок – девочка Пашка – больна золотухой, с головой, похожей «на плохо оперившуюся голову утенка», и даже любимая Илькой справедливая тетка Парасковья изувечена, «раненная в лицо и оттого незамужняя», обреченная на одиночество. Вывернутость жизни оттеняют и кладбищенские песни, исполняемые малыми детьми: «Напевала Пашка наивную и страшную песню “Как на кладбище Митрофановском” про злую мачеху» (С. 24). Обитатели поселка утрачивают способность понимать друг друга, часто бранятся, сплетничают, легко затевают Астафьев В. Собр. Соч.: В 15 т. – Красноярск: «Офсет», 1997. С. 7. Цит. по данному изд. с указанием стр. в скобках. 3 скандалы. Дети, оставленные заботой отца, не могут рассчитывать на защиту рода, вынуждены скитаться. Распад патриархальной семьи моделирует хаос в мире. Красота, отсутствующая в жизни поселян, разлита в мире окрест: горы по берегам речки Шипичихи летом покрыты сибирскими цветами и травами, «становятся нарядными», овеянными «яркими лепестками» и «нездешним духом», от которого «даже ко всему привычные лесные люди умиляются, втягивают его носом» (С. 8). Недалеко от поселка святой в своей первозданности Вербный остров, во время сенокоса здесь собираются «горластые студенты», от песен которых неловкость испытывают не люди, но ночные птицы, которые «сконфуженно помалкивают». И от частушек, песен сплавщиков, обильно снабженных «ядреными словами», черные, острокрылые стрижи «возмущенно взвизгивают». Соразмерность природного бытования человек, обратившийся в добытчика или бродягу, не в состоянии усвоить. Стихийная красота, жизнетворчество природного мира переданы в тексте глазами ребенка – временным домом для Ильки становится шалаш недалеко от острова, на котором всего в избытке: ягод «хоть лопатой греби», рыбы, птиц, но главное стоит тишина, покой. Единственный человек, по которому скучает сбежавший из родительского дома мальчик – братишка Митька, любящий его, в нем по-настоящему нуждающийся. Зыбка Митьки и становиться своеобразным домом внутри дома. Для главного героя, Ильки, центром, структурирующим внешнее и внутреннее пространство, становится дом бабушки и дедушки. Он «свой», теплый, надежный, олицетворяет родовую защиту (бабушка как основательница верви, мать-прародительница). Родной дом противостоит «чужому», холодному, опасному дому мачехи (женщины из другого племени), где героя не оставляет тревога. Дом бабушки обретает в тексте сказочные, райские характеристики: он лежит «за горами, за лесами», где обитает «длиннохвостая жарптица». Это мир добра, радости, уюта, узорчатых половиков, усатой кошки возле полного блюдца с молоком: «на полу половики, от них доносит студеной прорубью. В избе пьянящий дух дрожжей. Бабушка заводит квашню, пробуя языком лопатку» (С. 72). Здесь у каждого предмета – свое место, у каждого события – свой черед (детское желание Ильки полакомиться во время великого поста сметаной вызывает резкое осуждение близких). Для достижения этого мира герою, подобно сказочному молодцу, предстоит отправиться в путь, чтобы пройти-преодолеть пространство смерти и встретиться с судьбой. Эти же райские характеристики обретает отчий дом – деревня Погорыбци – в сознании сплавщика по прозвищу Дерикруп. Слушая его рассказ об Украине, «лучше которой не было на свете и едва ли будет когда», Илька убежден: «Там, стало быть, и находится тот самый рай, о котором бабушка все время поминает в своих молитвах» (С. 79). Сказочная картина «земного рая», рождающаяся в сознании осиротевших героев, иронически корректируется повествователем: дом бабушки, «пошатнувшийся набок», невелик, с прогнутыми ступеньками, жизнь его обитателей полна забот, нужды, тяжелой работы. Илькины школьные наряды, предмет его особой гордости, перешиты из старых вещей: «Илька тоже был нарядный. Бабушка собственноручно сшила ему штаны из юбки покойной матери, а рубаха вышла все из того же широкущего неиссякаемого бабушкиного передника» (С. 20). Функционально фартук бабушки напоминает шинель Акакия Акакиевича, символизирует надежду на защиту и одновременно призрачность ее. Так образ родного дома складывается в повести на пересечении нескольких точек зрения: автобиографического персонажа – ребенка («другого» для сознания автора) и повествователя (взрослого, передающего объективную, направленную к реальности, оценку бытия). В тексте соединяются идиллический и хронологический принципы повествования: картина дома-рая, представленная в воспоминаниях, мечтах героев, остраняется (но не отчуждается), соотносится с образом большого, незнакомого мира, в котором человеку и должно самоопределяться. Ситуация обретения дома вынесена за рамки текста, путь к нему и определяет судьбу персонажей. Художественное пространство в повести (отчий дом – поселок – остров – мир Сибири) выступает и как пространство истории и как метафизическое пространство самостановления личности. «Свой», исполненный красоты, гармонии мир вписан в природное, универсальное пространство: река, лес, горы, земляничная поляна. Отсутствующий в настоящем, родной дом воскрешается изнутри, усилиями памяти. С этой темой в повести связан и мотив робинзонады главного героя: «Этот паренек из Шипичихи – тутошний Робинзон!» – заявляют нашедшие Ильку сплавщики (C. 47). Персонаж Д. Дефо выстраивает свою жизнь на необитаемом острове в соответствии с традициями человеческого общежития, привносит их в природное бытие и выживает. В повести В. Астафьева герой стремится реализовать законы дома во внешнем, «чужом» мире, одухотворить его. На плоту, в бригаде сплавщиков, мальчик выполняет обязанности, усвоенные в доме бабушки: «Илька связал веник из пихтовых лап и принялся убирать в бараке. Сено он все выбросил в реку, одежонку выхлопал, мусор вымел. Потом сыскал в сушилке тряпку и ведро, зачерпнул воды и выскоблил стол, отмыл единственное в бараке окно, протер стекло от лампы и только после этого взялся варить кашу» (С. 48). Этот своеобразный ритуал очищения пространства завершает «любимая бабушкина песня», которую Илька исполняет с особенным чувством: «Первый раз слышали мужики, как пел Илька, и боялись шевельнуться. Хорошо пел малый, тревожил сплавщиков, будил в них воспоминания, разжигал тоску по дому, по детишкам у тех, кто их имел. Он даже не пел – скорее думал» (С. 65). В новелле «Уха на Боганиде» обряд очищения совершает маленькая Касьянка – воплотившаяся душа дарованного Богом острова (Боганида – Божий дар)4. В мире взрослых ребенок – Робинзон, «другой», он стремится обжить, обустроить его и тем вернуть себе. В. Астафьев следует традиции Л. Толстого, Ф. Достоевского, А.Платонова, когда обманчивые ценности взрослого мира нейтрализуются переносом в него ценностей детского сознания. Реальная значимость мира оценивается у Толстого, Достоевского глазами дитя, у Платонова ребенок – единственная опора и оправдание земного бытия. В «Перевале» мир не поглощает героя, Илька сохраняет свое нравственное пространство, веру в справедливость мироздания, человеческую сердечность, желание творить добро. В основе образа сироты архетип культурного героя, в тексте подчеркнуты выносливость, смекалка и трудолюбие мальчика, его очевидное первенство среди поселковых детей: «Но куда годны эти береженные мамками малявки, если Илька побежит с ними вперегонки, или на рыбалке, или же ягоды брать, дрова пилить, огород копать, в лодке плавать» (С. 27). Даже внешние неуступчивость, агрессивность героя в спорах с отцом, мачехой, его способность взять на себя ответственность за жизнь семьи (во время болезни отца) укладываются в названный архетип5. Особый трагизм ситуации в том, что род, избавляясь от сироты, неизбежно лишается собственного удела, будущего. Жизнетворная сила заключена в природе. Это – испытывающая, очистительная (дождь уносит следы пьяной гулянки сплавщиков, «смывает с бревен окурки, плевки и бумагу»), вечная стихия. Если человек постигает универсальные законы мироздания, ему открывается тайна красоты, но переоценивший собственные силы – погибает. Илька, сделавший ловушку для замерзающих птиц, чтобы спасти семью от голода, натыкается на гневную отповедь тетки Парасковьи: «Не надо птичек душить, не надо! Они ведь тоже голодные…» (С. 34). Закон природного равновесия мальчик принимает интуитивно и далее никогда не нарушит. Сюжет расправы над беззащитными птицами уже на ином уровне художественного обобщения писатель воплотит в повести «Пастух и пастушка» (1967–1989). В вещем сне главного героя – Бориса Костяева – усталые, изнемогающие птицы замертво падают вниз, где «нагой, узластый», черный человек, купающийся в крови – обобщенный образ войны-хаоса – свертывает им головы. Возникает символическая картина необратимой гибели всего сущего, нарушения онтологических и нравственных законов. В «Перевале» ребенок как наиболее естественный, чуткий, открытый миру (Илька – Робинзон, «дикарь»), становится медиатором меж обществом и вечной, непостигаемой природной стихией. Герой улавливает тончайшие запахи, шорохи, разлитые в мире окрест: Ковтун Н.В. Утопия В. Астафьева // Литературные направления и течения в русской литературе ХХ в.: Сб. ст. – СПб.: филол. ф-т СПбГУ, 2005. Вып. 2. Ч. 2. С. 13-23. 4 «за шалашом чиликнула пичужка. Минуту она молчала, устраиваясь поудобней на веточке (и это услышал Илька)» (С. 17). Рабочие в поселке, занятые каждодневным тяжелым трудом, воспринимают природу как мастерскую, но и освоившие лесную, бродячую жизнь охотники бессильны привнести красоту в свою собственную жизнь, устроить лад. Они раздвигают пространство, однако лишены цели, открывшийся простор порабощает, затягивает и обессиливает их: «Меня поражает, – признается В. Астафьев, – как много, особенно в Сибири, появилось бродячего люда. Для него придумывают всякие термины – бичи и прочее. А меня потрясает, <…> как люди иногда с десятилетним образованием или даже с высшим позволяют себе шляться по тайге, ночевать где попало, тунеядствовать, жить как попало. И часто происходят трагические вещи. И молчать об этом нельзя. Поэтому у меня в книгах довольно много неприкаянных людей, и, что самое обидное, сознательно неприкаянных»6. Таковы в повести судьбы отца главного героя – знаменитого охотника Верстакова: «Он у нас все больше по больницам, по лесам да по тюрьмам скитается», – замечает Илька; сплавщика дяди Романа, который «не мог представить себя без вольной жизни, без реки, без лесов, без бродяжьих дорог» (С. 106); лицедействующего Дерикрупа, потерявшего во время революции близких. В ранних текстах писатель еще сохраняет надежду на поступательный ход человеческой истории, на возможность обретения духа и смысла, поэтому героям-шатунам, трикстерам, для которых движение самоценно, и героям-куклам, замкнутым в пространстве анти-домов, противостоят герои, вынуждаемые на путь чувством долга, желанием помочь ближнему. Семантика «ухода» в истории русской и мировой культуры в определенной степени всегда однозначна: «Уходят, когда исчерпан запас этических ценностей дряхлой цивилизации. На пороге брезжит что-то новое, какой-то "свет невечерний"»7. Дорога как движение к цели собирает, структурирует пространство, возвышает личность. Приобщение Ильки к труду сплавщиков, рабочему коллективу-«собору» выдержано в стилистике инициации: «Тут совершался акт огромного значения, можно сказать, происходило священнодействие. Его, Ильку, принимали в рабочие» (С. 51). Вместо кровного единства патриархальной семьи, не выдержавшей проверку историей, ребенок обретает новое братство, построенное на принципах социальной необходимости. Образы мужского воинского братства («Работа на сплаве – это бой», С. 88), плота-ковчега сплавщиков (вне религиозной коннотации) развивают в повести мотивы совместной трапезы, См.: Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М.:РГГУ, 1994. С. 64-77. Астафьев В. Правда – она огромна (Из встречи в Концертной студии Останкино, 1979) // 15 встреч в Останкине. – М.: Политиздат, 1989. С. 14. 5 6 7 Кедров К. «Уход» и «воскресение» героев Толстого // В мире Толстого: Сб. ст. М., 1978. С. 272. чаши, что идет по кругу, огня, игры, встреч и прощаний. Эти хронотипические мотивы8 знаменуют приобщение личности к социально-природному миропорядку, формы, воссоздающие традицию9. Повесть играет отблесками всей русской истории. Семеро сплавщиков, наделенные богатырскими чертами, святыми именами (Азарий), олицетворяют Русь первоначальную, какой она восстает из мифов и сказаний. Здесь свои Красно Солнышко (прозвище дяди Романа), шут (несостоявшийся актер Дерикруп), богатыри-заступники. В образе бригадира Трифона Летяги подчеркнуты черты недюжинной силы, красоты, удали, смекалки, соответствующие архетипу культурного героя10: «молодой, в рубахе с расстегнутым воротом, с курчавой белой головой. Казалось, кто-то выхватил из-под столярного верстака пригоршню крупных стружек и швырнул их на голову этого парня» (С. 41). Буйные кудри в фольклоре, древнерусской литературе – символ молодечества, приуготовленности к подвигу. Не случайно Илька и Трифон связаны особой дружбой, ребенок прозревает культуротворческую миссию бригадира как главы новой социальной общности: «Ильке все в бригадире казалось к месту, и не было для мальчишки на свете красивей человека. Верилось, что по соседству с таким человеком никогда не пропадешь, даже его мачеха сделалась бы другой» (С. 105). Былинной силой наделены «братаны» Гаврила и Азарий: «здоровенные детины, которым по локоть были рукава сплавщицких брезентовых курток». Образ рабочихбогатырей воссоздан и как исконный, корневой для Руси, в описании их облика угадываются притчевые черты, элементы пословиц: «в каждой более или менее порядочной артели есть или должны быть вот такие здоровенные работяги, которые двое не скажут за одного, а сделают за четверых» (С. 56). Богатырская мощь героев – свидетельство великого богатства потенциальных возможностей русской жизни. Идея богатырства, прослеживающаяся в русской литературе от Н. Гоголя через Л.Толстого, Ф. Достоевского, Н. Лескова, составила во XIX веке общественно-духовные потребности эпохи. У Достоевского в тетради 1864–1865 годов появляется образ Ильи Муромца как образ, противопоставленный западному, буржуазному «идолу» – деньгам и обособлению11. Следуя этой традиции, Лесков рассматривает русского молодца «как идеал, как напоминание о пути и возможности исхода»12. В литературе второй половины ХХ См.: Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М., 1975. С. 247. 9 См.: Букаты Е.М. Поэтика художественного пространства в прозе В.П. Астафьева // Автореф. диссертации на соискание уч. степени канд. филол. наук. – Томск: ТГУ, 2002. С.10. 10 См.: Мелетинский В.М. Избранные статьи. Воспоминания. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 87-97. 11 Неизданный Достоевский // Литературное наследие. Т. 83. – М., 1971. С. 243. 12 Селезнев Ю. Лесков и Достоевский // В мире Лескова: Сб. ст. – М.: Сов. писатель, 1983. С. 135. 8 столетия образ богатыря разрабатывает традиционная проза: от каторжан А. Солженицына до дев-богатырок позднего В. Распутина13. Богатыри здесь – соль земли, те, кто связывают современную, утратившую прежний лад Русь с иным пространством и временем. В суровый быт сплавщиков Илька привносит теплоту и уют дома, они же открывают перед ним многообразие мира. На плоту-ковчеге мальчик приобщается к высокой, книжной культуре, обучается грамоте, становится равноправным членом братства: «История и арифметика, Украина и Сибирь, дальние страны и турецкий султан – они даже снились Ильке» (С. 82). Перспектива познания открывается тогда, когда герой встает на путь, в поселке школа для него оставалась недоступной: Илька «уже две зимы школы в глаза не видел. Закончил первый класс, и, как иногда с кривой усмешкой говорил отец: “Весь его курс науки тут!”» (С. 27). В итоге путешествия-«паломничества» (от утраченного дома к его новому обретению) герой преображается внутренне (учится уважать коллектив, прощать человеческие слабости, сострадать окружающим) и внешне: «лицо мальчика загорело, округлилось. Загар почти скрыл живучие веснушки. Илька раздался в плечах. Под ситцевой рубашкой угадывались затвердевшие комочки мускулов. Окреп, подрос парнишка» (С. 106), став и обликом походить на богатырей-сплавщиков. Путь, намеченный судьбой Ильки, совершает и всея Русь, двигаясь от прежних берегов к иному будущему. Сиротство, обездоленность персонажей, изначально лишенных места на земле, сброшенных в водоворот (истории Ильки, Дерикрупа, «бесприютного шатуна» дяди Романа, Трифона, который «тоже из сирот»), превращает путь в необходимость. Герои хотят выйти из круга сиротства, влиться в общую жизнь, найти свой удел. Прежний дом-мир, разрушенный войнами и революциями, не дает никакой устойчивости, не обеспечивает защиты: «Мир несправедлив к детям, особенно к сиротам» (С. 15), и люди вынуждены добывать лес, закладывать фундамент под новый дом, откладывая отдых и радости на потом. С этой темой в повести связаны мотивы трудаподвижничества, равноапостольства, намеченные в образах рабочих-сплавщиков. В тексте возникает всеобъемлющий образ бытия-переправы: по течению реки жизни устремляются плоты, бараки, лодки, бревна…, и самым ценным качеством личности становится умение держаться на воде, править свою ладью верным курсом через любые пороги. Не случайно первое, чему учит маленького Ильку отец – ходить в лодке с шестом. Путешествие-переправа, при сохранении реалистической мотивировки (работа на сплаве), становится в тексте пересечением границ между различными сферами бытия. Это не См.: Ковтун Н.В. Житийные мотивы в повести В. Распутина «Живи и помни» // Кирилло-Мефодьевские чтения. Материалы II-III Междунар. науч. конф. – Даугавпилс, 2008. С. 174-194. 13 только передвижение в пространстве, но и преодоление времени: из старого, «ветхого» мира – в новый; из небытия, сиротства – к жизни и дружеству. Движение по реке Маре – Морене функционально напоминает схватку со смертью. Подлинный богатырь лишен страха смерти. По дороге с «того света» он должен пройти испытание в битве с потусторонней силой. Только победитель в былине может войти и выйти из царства смерти невредимым, ибо это равнозначно преодолению собственного конца. Прохождение Ознобихинского перевала, составившее кульминацию повести, отсылает к сюжету о Сцилле и Харибде: по берегам «траурно-мертвый камешник», вода «бешено вскидывалась на бревна и скалы, бросала клочья пены, как загнанная лошадь», «Чуть подрагивала земля. С гор то и дело лавиной сыпался камешник, гремя о бревна», «жутко кричали» птицы (С. 101). Образ бессмертной Сциллы, живущей высоко в пещере, соотносится с образом «всепожирающего» времени, с которым не в силах справиться никакой герой, пусть и хорошо вооруженный стрелами 14. В повести В. Астафьева подчеркивается аналогия между баграми сплавщиков и древними копьями. Харибда, согласно древнегреческой мифологии – чудовищный водоворот, олицетворенный в тексте самым «сильным, самым страшным» порогом Ревун. Преодоление порога – проверка на мудрость, крепость духа и чистоту целей, после чего каждый из участников путешествия совершает выбор судьбы, открывает перспективу обретения дома, семьи как сообщества близких по духу людей: Трифон Летяга готовится вступить в партию, незадачливый Дерикруп решает продолжить обучение в техникуме, Илька мечтает стать рабочим. Будущее героев намечено автором в соответствии с идеологией времени, единоборство со стихией (душевными страстями, природой) получает здесь скорее формальное разрешение. Однако уже со второй редакции программной для писателя повести «Стародуб» (1958–1959), разворачивается движение от условного социологизма к углублению онтологии, от дидактики к усилению драматизма и даже трагизма земного бытия. Качество исторического времени определяется художником мерой творческих усилий каждого в созидании нового. Уклонение от прямого пути свидетельствует, по Астафьеву, о недостаточности усилий или ложности веры, делающей невозможным достижение идеала, самостановление личности. Мотив движения связан в повести с мотивом роковой ошибки, особенно значимым в литературе «оттепели». Ильке кажется, что его несчастная мачеха сделала в жизни «какую-то ошибку, неправильно распорядилась своей молодостью и вот злилась», срывала на нем душу (С. 35); из-за ошибки отца, ввязавшегося в пьяную драку, погибает родная мать мальчика: «бабушка прямо в глаза говорила Верстакову, что мать погибла из-за него. Не пьянствуй он, не мошенничай на мельнице, был бы на воле. А то сел в 14 См.: Антипенко А.Л. «Мифология богини». По данным «Одиссеи» Гомера. – М.: Ладомир, 2002. С. 136. тюрьму, срок получил, и мать Илькина из-за этого утонула» (С. 39); всю свою бродячую жизнь как ошибку воспринимает дядя Роман, Илька чувствует, что этот старый человек «так же, как его мачеха что-то неладно сделал в жизни». Богатыри-сплавщики наставляют неофита Ильку на правильный путь: «люди в артели были уже умудрены временем, они уже умели заглядывать в будущее, пытались хотя бы на ощупь определить нужную Ильке дорогу и подтолкнуть его на нее. Они-то понимали, что бабушка и дедушка на земле недолговечные жильцы» (С. 104). Так в повести формируется одна из важнейших задач всего творчества художника – прояснение смысла истории, постижение миссии человека на путях исторического творчества. В тексте проверяются на жизнестойкость основополагающие идеи российской истории, государственности: общинности (соборности), православия, самодержавия. В образе нелепой, стареющей, «рано поседевшей» «несчастной барыньки», представительницы «старинной дворянской фамилии», развенчивается идея высокой дворянской культуры. Барыня, застывшая в мечтательной позе у окна, воспринимается сплавщиками «чем-то вроде постоянного недуга», символом прежней, «одряхлевшей Руси», которую и должно поднять «на новые леса». Женский образ исключительно статичен, ничем не выделен из парадигмы окружающих предметов, в тексте очевидна параллель с чеховской дамой с собачкой. Энергия рабочего человека, его сила, мужество, упорство в борьбе с препятствиями диссонируют вялости, пустой мечтательности инфантильной героини, жизнь которой не выходит за рамки квартиры мужа или диспансера. Ранний Астафьев, вослед Достоевскому, отчасти Чехову видит причину «дворянской» тоски, скуки в отсутствии почвы, общей идеи. По мысли современного автора, в цивилизованном, «ветхом» дворянском обществе сиротство непреодолимо, и сама героиня, оставленная родными и близкими, обречена на одиночество. Параллельно образу барыни разворачивается в тексте образ сплавщика Исусика, награжденного прозвищем за суесловие, частое поминание текстов Священного Писания. Исусик подчеркнуто противопоставлен бригаде на уровне внешних и внутренних характеристик – молодечество, удаль рабочих диссонируют худосочности героя: «Бледное узенькое личико, острый нос, тоненькие бескровные губы с горестными складками в углах рта и голубенькие глазки» (С. 45). Каждая черта портрета словно убавлена, вместо лица, глаз – личико, глазки. Исусик демонстративно отказывается от рабочей одежды, не курит: «Все вышли из барака, закурили по последней перед сном цигарке. Только Исусик сидел в стороне, чтобы не оскоромиться, – табаку он не курил» (С. 53). В отечественной истории инфернализация табака тесно связана с обстоятельствами церковного раскола, старообрядцы осуждают курение (латинское происхождение табака), рассматривают табак по аналогии с блудом. Связь с идеологией староверия намечена в тексте и обращением к традиции написания имени Спасителя с одной буквой «и» (ср. прозвище героя – Исусик). В эпоху Петра табак – символ радикализма, реформаторства, новизны. В поэтике В. Астафьева тема старообрядчества одна из самых значимых, автор двигается от резкого осуждения закрытой, косной религии староверов в канонической версии повести «Стародуб» (1960) до глубокого уважения стойкости, преданности «своей» вере, которую демонстрируют сокровенные герои итогового романа «Прокляты и убиты» (1992–1994). В «Перевале» совместное курение, как и трапеза, питие, песня, указывают на сплоченность коллектива, предназначенность пути. В образе Исусика профанируется идея канонического православия, церковного догмата, чуждого по отношению к живой жизни. Герой – демагог, никогда никаких книг не читающий, но упорно ссылающийся на их авторитет: «Не прикасался к Божьим писаниям и Исусик, а только слышал разные обрывки и отдельные изречения из десятых уст. Но он отстаивал все эти истертые холщовыми мужицкими языками пророчества с явным упорством» (С. 58). В этом контексте герой – лжец и по отношению к Господу, Слово которого для него темно, и по отношению к рабочим, слушающим нелепые историипроповеди. Отсюда ироническое замечание бригадира сплавщиков: Исусик «в Бога верует и в копейку, почти что святой». В оппозиции к словоблудствующему герою оказываются не только рабочие артели, Илька, почитающий книгу как одну из высочайших жизненных ценностей, но и сам художник, для которого книга – оберег от зла: без книг «убивать легче, жить проще» – напишет Астафьев в повести «Пастух и пастушка». Добрые люди, встреченные Илькой на жизненном пути, оставляют ему как напутствие – книги, они-то, подобно сказочным «чудесным вещам», помогают справиться с испытаниями, знаменуют стадии взросления героя. Текст романа о Робинзоне становится в повести объединяющим и опознавательным механизмом: судьбы лесорубов, сплавщиков, маленького Ильки соотнесены с историей знаменитого островитянина – герои причастны к строительству нового общества, в котором, надеются, не будет потерянных и сирот. В соответствии с исконной крестьянской философией преодоление тяжких испытаний обеспечивает в повести взаимопонимание, дружество людей (общины), государство, как и официальная церковь, представлены чем-то внешним по отношению к частной судьбе. Накануне приближения к Ознобихинскому перевалу бригадир получает письмо от начальника сплавной конторы, в котором высказывается надежда на опыт, мужество рабочих и отказано в обещанной помощи: «Мужики крякали, ругались, говорили, что не худо бы к Ознобихе самому начальнику приехать, небось скоро бы пуп сорвал» (С. 99). Демагогия власти оказывается того же уровня, что и лжепроповеди Исусика. В момент реальной опасности последнего, оскользнувшегося на бревнах, спасает не усердно чтимая им молитва, но самоотверженность и выдержка окружающих: Трифона, Ильки. Сцена спасения Исусика отсылает к мотиву исхода из ада: герой исчезает в «кипящей воде», окрест внезапно темнеет, бревна, бьющиеся о камни, «встают свечкой» над его головой, бригадир, бросившийся на помощь утопающему, сравнивается с птицей («Трифон Летяга уже птицей мчался на выручку») и рыбой («Бригадир рыбиной метнулся к лодке»), символизирующими посланцев высшей силы. Переводя известные мотивы и образы в плоскость эстетического, автор зачастую дает им ироническое прочтение: так сцена спасения демонстрирует слабость, нравственную несостоятельность героя, наделенного знаковым прозвищем; а притча о блудном сыне, подсвечивающая судьбу Ильки, разрешается не на уровне возвращения, а на уровне утверждения необходимости ухода как испытания/взросления. Тема официальной церкви разворачивается в тексте и через образы приблудной, изнеженной собачонки со святым именем Архимандрит, случайно попавшей на ковчег сплавщиков (перекличка с блоковским образом «пса бездомного» из поэмы «Двенадцать»); алчных «толстомясых попов» из комедийного фильма; набожной старушки, грозящей современному человечеству карой Господа. От церковного догмата автор отличает народное православие, в котором внешняя, обрядовая сторона тесно связана с реальными задачами крестьянского бытования, законами природы. Илька вспоминает о религиозности бабушки в соответствии с насущными нуждами: приготовлением пищи (бабушка не ест щуку «по леригиозным соображениям», «у щуки в голове есть крест, из хряща крест, и бабушка считает, что есть рыбу с крестом нельзя, грех…»), потребностью в красоте (рай воспринимается как максимально приспособленное для жизни человека в земном смысле место). Истинная вера – та, что обеспечивает максимальное приближение Слова и дела, позиция крестьян, рабочих, творящих активное добро, и есть проявление «святости»/справедливости. Отсюда, чем усерднее труд, тем заметнее черты строгости, аскезы проступают в облике, поведении героев, приметы шутовства нивелируются: у Трифона Летяги к концу путешествия-испытания «ввалившиеся глаза», заострившиеся челюсти, походка становится «кряжистой и строгой». Всегда меланхоличный Сковородник поражает собранностью, мужеством, смекалкой: «Вон Сковородник-то какой смекалистый», – восхищается Илька (С. 102). После преодоления перевала сплавщики впервые называют Сковородника по имени – Гриша, как и знаменитого русского святого Егория Победоносца. В этом контексте разительное несоответствие выражения глаз Исусика и Спасителя на образах в доме илькиной бабушки обличительно: «на иконе глаза большие, невинные, а у этого маленькие, глубоко провалившиеся и какие-то подозрительные» (С. 45). В повести, отмеченной приметами советской идеологии, канон получает скорее внешнее, формальное обоснование. Основу композиционного решения составляет древнейший архетип претворения хаоса в космос и поиск нового героя – избавителя. Образ «светлого будущего» в тексте существенно корректируется: это не просто движение к непознаваемому абсолюту, Голубым городам или мистическому Океану, как в известном романе Л. Леонова, но родному дому, близким людям, на облегчение жизни которых и направлены усилия героев. Писатель доказывает, что забота о счастье всего человечества начинается с заботы об отдельном, маленьком сироте, спасение которого оставляет шанс на спасение мира. Лишенная твердой жизненной опоры вера в идеальное государство будущего, самоправедность патриархальной общины или церковного канона, равнозначна, по В.Астафьеву, прельщению (вольному или невольному), знаку и уводит от исполнения насущных обязанностей человека: строить дом, вести семью, возделывать землю. Подлинной значимостью для писателя обладают судьба нации как рода и судьба почвы. Автор ещё слишком прямолинейно, сюжетом утверждает идею, что будущее не приходит «вдруг», оно начинается сегодняшним тяжким трудом и невозможно без сострадания каждого к каждому. Недавняя история Руси драматична, полна ошибок, провалов, но люди делают историю, им дано узнать верный путь. Повесть завершается своеобразным «оберегом» – надеждой на человеческую доброту, выраженной на уровне детского, чистого сознания: Илька «теперь твердо знал, что, если в жизни будет когда-нибудь трудно, если случится беда, надо бежать не от людей, а к людям» (С.108). Не случайно писатель назовет «Перевал» своей «любимой вещью»15, спустя десятки лет признается в комментариях к тексту: «К сожалению, мне больше не довелось написать столь бесхитростно-открытой, почти по-детски ясноглазой вещи, о чем я весьма и весьма сожалею» (С. 486). В зрелом творчестве художник утверждает идею трагизма, бесперспективности человеческой истории, судьба земли в итоговом романе «Прокляты и убиты» уже никак не связывается с судьбой человека. 15 Астафьев В. Нет мне ответа. Эпистолярный дневник 1952 – 2001. – Иркутск: Издатель Сапронов, 2009. С.32.