трансформация жанра рождественской сказки в произведениях
advertisement
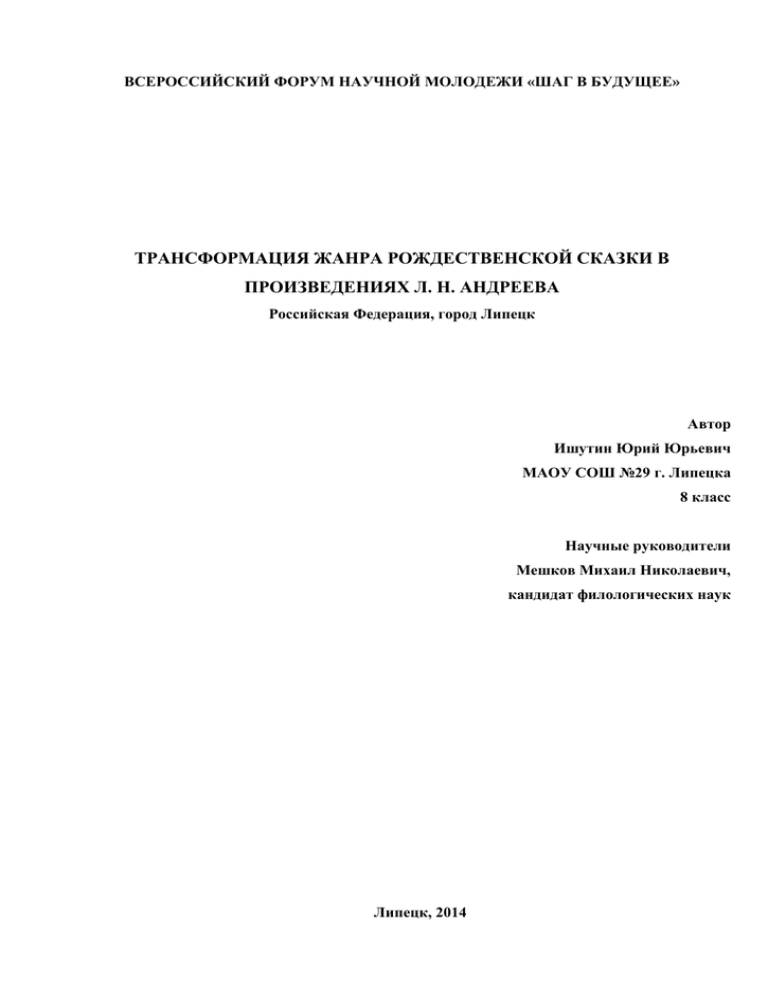
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. АНДРЕЕВА Российская Федерация, город Липецк Автор Ишутин Юрий Юрьевич МАОУ СОШ №29 г. Липецка 8 класс Научные руководители Мешков Михаил Николаевич, кандидат филологических наук Липецк, 2014 2 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. АНДРЕЕВА Ишутин Юрий Юрьевич Россия, Липецкая обл., г. Липецк МАОУ СОШ №29, 8 класс Введение В данном исследовании рассматривается трансформация жанра рождественской сказки в творчестве Л.Н. Андреева. На примере двух его рассказов «Баргамот и Гараська» и «Ангелочек» в сопоставлении с традицией рождественских рассказов писателей 19 века исследуются изменения, произошедшие в 20 веке в жанре рождественской сказки. Трансформация жанра рождественской сказки связывается с изменениями в общекультурной жизни рубежа веков. Актуальность исследования определяется тем, что рождественская сказка при всей кажущейся простоте содержит комплекс эстетических, нравственных идей, восприятие которых будет способствовать духовно-нравственному воспитанию современного человека. Жанр рождественской сказки присутствует в литературе разных народов, и его изучение способствует культурному пониманию традиций того или иного народа. В силу этого исследование рождественской сказки даёт возможность понять отдельные аспекты русской культуры и русского характера, а также проследить изменения, произошедшие в русской духовной жизни. Целью исследования является определение изменений, произошедших в жанре рождественской сказки в русской культуре в 20 веке, на фоне культурологической ситуации рубежа веков. Данная цель исследования обусловила следующие задачи исследования: - определить характерные черты жанра рождественской сказки; - определить отличительные черты жанра рождественской сказки относительно русской культуры 19 века; - исследовать нравственные идеалы, воплощаемые русскими писателями 19 века в жанре рождественской сказки; -исследовать религиозные аспекты, свойственные рождественской сказке в русской литературе 19 в.; - рассмотреть кризисные явления в культурной жизни рубежа 19-20 веков; - исследовать особенности жанра рождественской сказки в литературе 20 века (на примере произведений Л. Андреева) и определить отличия этого жанра относительно рождественской сказки в русской литературе 19 века; Теоретической основой исследования послужили работы Т. И. Сильман и Потанина Н. Л., посвящённые исследованию особенности жанра рождественского рассказа в творчестве Ч. Диккенса, работа Е. В. Душечкиной, в которой изучаются особенности жанра рождественского (святочного) рассказа в русской литературе и отдельные главы из книги И. А. Есаулова «Пасхальность русской словесности». 3 Жанр рождественской сказки в русской литературе 19-20 веков Жанр «святочного рассказа» находит своё отражение в литературе разных народов. «Дары волхвов» О. Генри, «Девочка со спичками» Г. Х. Андерсена, «Рождественские повести» Ч. Диккенса, «Синяя птица» М. Метерлинка, «Щелкунчик и мышиный король» Э. Т. А. Гофмана и многие другие. Становление и развитие жанра рождественского рассказа (или «святочных повестей») в русской литературе приходится на вторую половину 19 века. Сразу следует заметить, что в литературоведении предлагаются разные определения относительно названия жанра рождественских историй: предлагаются термины «святочный рассказ», «рождественский рассказ», «новогодний рассказ». Мы остановились на наиболее употребляемом и знакомом большинству термине «рождественский рассказ». Также заметим, что, на наш взгляд, временные рамки рождественского рассказа в русской литературе включают в себя не только временной интервал от Нового года и до Рождества, но и Пасху, праздник воскрешения, что соответствует особенности русской культурной традиции, тесно связанной с христианством. Этим было обусловлено, например, включение в корпус примеров произведения А. П. Чехова «Студент», а также исследуемого нами ниже рассказа Л. Андреева «Баргамот и Гараська». Становление жанра рождественской сказки в русской литературе преимущественно было связано с влиянием Диккенса, с переводами его «Рождественских повестей». Гуманизм Диккенса и его реалистическая манера изображения действительности – вот та основа, что так благодарно была принята и русской критикой, и русскими писателями. «Диккенс был писателем моральным. Он не только хотел изображать действительность, он также хотел искоренять зло и возвеличивать доброе начало» [Потанина 1998, с.105]. «Жемчужное ожерелье» Н. С. Лескова, «Мальчик у Христа на ёлке» Ф. М. Достоевского, «В Рождественскую ночь» А. П. Чехова, «Чудесный доктор» Куприна – это лишь небольшой список авторов, что обращались к этому жанру в русской литературе, и их произведений. При этом нельзя сказать, что рождественская сказка в русской литературной традиции была простым переложением историй Диккенса, подражанием его манере. Действительно, сохраняется типичный для святочного рассказа состав компонентов: хронотоп (действие от Рождества до Крещения), установка на чудо и счастливый конец. «Это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хотя в роде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и намечается большая деланность и однообразие. …Он должен быть истинное происшествие!» [Лесков Собрание сочинений Т.7 1989, с.4]. Однако в русской литературе при сохранении канонической формы рождественского рассказа происходит смещение смысловых акцентов. Для русской литературы был более важен реалистический подход к изображаемым событиям. «Чудесные элементы могут быть размыты, чудесное заслонено реалистическими мотивировками событий», – так пишет об этой особенности нашей литературной традиции А. А. Горелов [Горелов 1988, с. 272]. Смещается и понимание чудесного. Чудо волшебное, сказочное уступало место чуду духовного преображения, чуду спасения человека (яркий пример тому – многослойный, отточенный в соотношении формы и содержания «Студент» Чехова). Чудо духовного преображения соседствует 4 с описанием действительной жизни, реалистическая манера совмещается с христианским пониманием жизни, что характерно для русской классической литературы. Например, «Мальчик у Христа на ёлке» близок и по сюжету, и по реалистичности атмосферы не Диккенсу, а «Девочке со спичками» Г. Х. Андерсена. Нетрудно заметить перекличку этих произведений. Сравни: «Перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьём, – значит его всё же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил "с ручкой"; это технический термин, значит – просить милостыню» (Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»). «А вечер был последний в году – канун Нового года. В эту холодную и тёмную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая». За весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша» (Г.-Х. Андерсен «Девочка со спичками»). Читаем у Достоевского: «Это "Христова ёлка", – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки...». Финал рассказа «Мальчик у Христа на ёлке»: «А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёрзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у господа бога в небе» (Ф. М. Достоевский). Сравни с финалом сказки Андерсена: «Теперь она сидела перед роскошной рождественской ёлкой. Эта ёлка была гораздо выше и наряднее той, которую девочка увидела в сочельник, подойдя к дому одного богатого купца и заглянув в окно». «Она (бабушка) взяла девочку на руки, и, озарённые светом и радостью, обе они вознеслись высоко-высоко – туда, где нет ни голода, ни холода, ни страха, – они вознеслись к богу». Морозным утром за выступом дома нашли девочку: на щёчках её играл румянец, на губах – улыбка, но она была мертва…» («Девочка со спичками»). Достоевский более реалистичен. Это тот вариант рождественского чуда, когда спасение приходит к человеку в новой жизни, которая связывается с миром божьим и с установкой на то, что за земными страданиями следует жизнь в раю, где сам рай не только определённое место, но прежде всего состояние души, любовь ко всему живому. Именно в этом плане финал рассказа можно считать чудом. Если же убрать христианскую символику, христианские ценности, то финал рассказа не оставляет шанса на чуда. Смерть мальчика становится лишь одной из многих смертей среди подобных ему «мальчиков с ручками». А слова Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы» о слезинке ребёнка тогда следует воспринимать только как социальное наблюдение. «Да весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребеночка к «боженьке»… Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискуплёнными слезами своими к «боженьке»!» (Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»). Другой вариант чуда можно встретить в рассказе А. И. Куприна «Чудесный доктор». Здесь мы снова встретим не волшебное чудо, но чудо души человека. Чудо сопереживания, сопричастности другому человеку помогает преобразиться Мерцалову, спасает его. Куприн также не уходит от социальной проблематики, показывая бедственность положения Мерцалова, да и спасение приходит в том же социальном плане: дал денег, выписал рецепт. Однако чудо заключается не в этом, не в материальной стороне, а в духовной составляющей, в духовном единении людей, их взаимопонимании. Можно сказать, что Мерцалов находит свой рай, но не как конкретное место (смотри «Мальчик у Христа на ёлке»), а как ощущение любви ближнего к ближнему, духовной близости людей. «– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно 5 короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас». «Теперь он (Григорий, сын Мерцалова) занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мёртвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо» (А. И. Куприн «Чудесный доктор»). Таким образом, в литературе 19 века, ориентированной на восприятие мира через призму христианских ценностей, жанр рождественской сказки, заимствуя традиционную форму (хронотопчудо-счастливый конец), претерпевает значительные изменения. Вместо волшебства, подобного тому, что было в «Щелкунчике» или «Синей птице», мы встречаем чудо единения людей, узнавания и обретения себя, чудо, вписанное в действительный, реалистический мир. Герой обретает счастье в реальном мире, чувствуя единство с другими людьми, ощущая не жалость, но любовь других по отношению к себе. Если же это чувство любви отсутствует в реальном мире, то герой находит счастье у Бога, в райском мире. Вера в то, что после земной жизни человека ждёт счастье в мире небесном, становится своеобразным разрешением ситуации, когда человек не видит счастья в повседневной жестокости. Писатели словно напоминают, что человек есть образ и подобие Божие. Узнавание себя именно в этом плане и становится одной из особенностей жанра рождественской сказки в русской литературе 19 века. Однако уже в начале 20 века ситуация меняется, что связано прежде всего с кризисом христианских ценностей, «кризисом гуманизма», как определил состояние рубежа веков А. Блок. Ситуацию 19 века можно было представить как восхождение человека к небесному миру, миру счастья. Человек словно поднимался в гору, шёл к её вершине, преодолевая трудные подъёмы, встречая препятствия, но не отчаиваясь, так как христианство убеждало его в том, что этот подъём, земной путь, лишь этап на пути к Богу и обретению абсолютного счастья. Ситуация 20 века вносит коррективы в эту картину мира: человек по-прежнему поднимается в гору, по-прежнему терпит страдания, которые становятся ещё сильнее, но, очутившись там, на вершине, он не находит ничего, находит лишь пустоту, которую не знает, как и чем заполнить. 20 век с его идеей смерти Бога и появления нового сверхчеловека, революциями и войнами, подвергает сомнению сложившуюся христианскую картину мира, что приводит к отчуждению людей друг от друга, ощущению потерянности в этом изменившемся мире. Пустота, одиночество, разобщение людей – вот итог рубежа веков (попытка поставить нового человека на вершину скалы терпит крах). «Куда подевался Бог? – вскричал он. – Сейчас я вам скажу! Мы его убили – вы и я! Все мы его убийцы! Но как мы его убили? Как сумели исчерпать глуби морские? Кто дал нам губку, чтобы стереть весь небосвод? Что творили мы, отцепляя Землю от Солнца? Куда она теперь летит? Куда летим все мы? Прочь от Солнца, от солнц? Не падаем ли мы безостановочно? И вниз – и назад себя, и в бока, и вперёд себя, и во все стороны? И есть ли ещё верх и низ? И не блуждаем ли мы в бесконечном Ничто? И не зевает ли нам в лицо пустота? Разве не стало холоднее? Не наступает ли всякий миг Ночь и всё больше и больше Ночи? Разве не приходится зажигать фонари среди бела дня? И разве не слышна нам кирка гробокопателя, хоронящего Бога? И носы наши – разве не чуют они вонь гниющего Бога? – Ведь и Боги тлеют! Бог мёртв! Он и останется мёртвым! И это мы его убили! Как утешиться нам, убийцам из убийц? Самое святое и сильное, чем обладал до сей поры мир, – оно истекло кровью под ударами наших ножей, – кто оботрёт с нас кровь? Какой водой очистимся? Какие искупительные празднества, какие священные игрища ни придётся изобретать нам? Не слишком ли велико для нас величие этого подвига? Не придётся ли нам самим становиться 6 богами, чтобы оказаться достойными его?» (слова Безумца из «Весёлой науки» Ницше) [цит. по Вопросы философии 1990, №7, с. 146]. Кризис идеалов находит отражение во всех сферах культуры, в том числе и в литературе. Особенности жанра рождественского рассказа в творчестве Л. Н. Андреева Кризисная ситуация 20 века (обозначена в предыдущем параграфе) находит отражение и в жанре «рождественского рассказа», который претерпевает значительные изменения не в структурном, а содержательном плане. Проследить эти изменения можно на примере двух взятых нами произведений Л. Андреева «Баргамот и Гараська» (1898 г.) и «Ангелочек» (1899 г.). Оба рассказа можно отнести к жанру рождественских рассказов. Хронотоп первого – время Пасхи, воскрешения Христа; улица и дом, хронотоп второго – Рождество, время рождения малютки Христа; дом. В обоих рассказах можно проследить чудо преображения человека, в результате чего возникает желание отнести оба произведения к классическим рождественским рассказам 19 века. Однако при анализе этих рассказов можно увидеть, что ситуация рождественского чуда Андреева далека от той же ситуации 19 века. В «Баргамоте и Гараське» герои выписаны достаточно чётко, при этом одним из мотивов является сон души, то есть отсутствие чувств, а следовательно, невозможность духовного единения. «Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хотя и исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьёзным и солидным человеком, достойным всякого почёта и уважения». Отсутствие душевных потребностей, духовная глухота подчёркиваются отсутствием потребности молиться и лишь слабым ощущением праздника, отзвуком этого праздника («Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его»). Контрастом обстоятельному Баргамоту и наряженным пушкарям выступает Гараська («Отрепья, делавшие вид, что они серьёзно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, ещё не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределённой растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения»). Слова Андреева о бездонной душе Гараськи («Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души…») с учётом описания внешнего вида звучат иронично. Если ещё вспомнить финал рассказа, где Гараська говорит, что его никто раньше не называл по отчеству, то можно сделать вывод, что Гараська – это ещё один герой со спящей душой; Гараська словно забыл о том, что он человек. Мотив сна души дополняется традицией христосования. Обратимся к определению этого понятия, наиболее полно представленному в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. «Христосование бывает в конце пасхальной утрени, во время пения пасхальных стихир; оно состоит во взаимном лобзании, с приветствием: Христос воскресе! X. начинается в алтаре между священнослужителями, которые после этого исходят из алтаря с крестом, евангелием и иконами и становятся перед царскими вратами, лицом к предстоящим, которые лобызают сперва крест, евангелие и иконы, а потом дают целование священнослужителям. Затем и верующие целуют друг друга. Произносимое при этом приветствие напоминает радость апостолов при вести о воскресении Спасителя и служит выражением радости самих верующих и знаком мира и братской любви. Обычай X. весьма древний» [Словарь Брокгауза и Ефрона]. 8 Именно с традицией христосования связано намеченное пробуждение душ героев. В Баргамоте назревает что-то неясное, когда он видит реакцию Гараськи на разбитое яйцо. « – Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный. – Похристосоваться хотел… Тоже душа живая, – бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое всё более угнетало его. – А я, тово… в участок! Ишь ты!». И далее: «Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило». Желание Баргамота исправить ситуацию приводит Гараську в дом городового, где последний вспоминает, что он тоже человек, что у него есть отчество. «Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору… По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…». Если рассмотреть рассказ с этой стороны (воскрешение героев, их духовное преображение), то он укладывается в рамки традиционного рождественского рассказа: происходит чудо преображения человека, рождается чувство единения и любви, возвращение воспоминания о себе как образе и подобии Божьем. Однако рассказ трансформируется в рамках культурной ситуации 20 века: христосование так и не произошло, чувство, испытываемое Баргамотом – это не любовь, а жалость и стыд за произошедшее (при этом эти чувства едва осознаются им, являются лишь отголоском подлинных чувств, что было показано нами выше), Гараська вряд ли, согласно обычаю, был в церкви и святил яйцо, а сам Баргамот радуется тому, что подарит сыну не обычное, а мраморное яйцо, то есть обращает внимание лишь на формальную, вещевую сторону, забывая о религиозном смысле христосования. Именно «забывание» христианской символики, утрата «общих идей» актуализирует в рассказе идею разобщённости, которую так и не удаётся снять в финале. Чудо происходит: и Гараська, и Баргамот чувствуют необычность поведения каждого из них («Гараська воет! Баргамот изумился»; «Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее»; «Изумлению Гараськи не было границ»; Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить»; « – Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!»), но это чудо кратковременно, его не хватает для осознания героями своей внутренней красоты, так как те идеалы, что позволяли сделать человека счастливым в литературе 19 века, теперь стали формальностью, потеряли свое внутреннее наполнение. Герои разобщены, не понимают ни того, что происходит, ни друг друга: речь Баргамота бессвязна и, как и его мысли, не соответствует ситуации, а Гараська вместо слов только воет, лишь в конце пытаясь объяснить, что с ним. Чудо происходит, но оно кратковременно, герои не понимают его, так как разорваны связи с той христианской традицией, что была в 19 веке, поэтому чудо не может принести героям духовного преображения. В этом состоит особенность жанра рождественского рассказа в литературе 20 века. Другой рождественский рассказ, написанный Андреевым годом позже, – это «Ангелочек». В нём ситуация разобщённости и забывания человеком себя ещё более усиливается. В этом рассказе также сохраняется традиционная форма рождественского рассказа: действие происходит в канун Рождества, происходит чудо преображения героя. Однако, как и в «Баргамоте и Гараське», в «Ангелочке» традиционной остаётся лишь форма. У Сашки есть семья, но этой семьи на самом деле он лишён (мать груба по отношению к сыну, а отец безволен), есть люди, желающие помочь ему 9 (Свечниковы), но эта помощь продиктована старой памятью, желанием облагодетельствовать, да и сам Сашка характеризуется как «щенок», «волчонок», а на ёлке как «неблагодарный мальчик», «злой мальчик» и вполне соответствует этому своим поведением. Всё меняется, когда он видит на ёлке фигуру ангелочка, который и будет символом того преображения, чуда, что случится с Сашкой. И если в «Баргамоте и Гараське» христианским символом, способным преобразить героев, оказывается традиция христосования, то в «Ангелочке» это уже фигура ангелочка. Андреев проводит параллель между Сашкой и ангелочком: оба забыты среди мишуры, незаметны никому, но каждый из них подлинно красив («На обращённой к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху»). Пожилая дама увидит, что ангелочек красив, только тогда, когда приблизит его к себе. Красота ангелочка, красота необычная, не земная, преображает Сашку («Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем всё остальное»). Эта красота возвращает Сашке утраченный человеческий облик, меняет его внутренне; он соприкасается именно с той красотой, что увидел герой Достоевского («Мальчик у Христа на ёлке»). Только ёлка в рассказе Достоевского несла тепло, радость, ощущение счастья и единства всех со всеми, а ёлка в «Ангелочке» ослепляет «крикливой», то есть показной, искусственной красотой, и вызывает в Сашке не ощущение счастья, а только враждебность. Как и в первом рассказе Андреева, рассмотренном нами выше, теряется сакральный смысл, остаётся только форма, так как проверенные традиционные принципы уже не действуют. Поэтому и чудо снова оказывается мимолётным. «И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка. Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка». Чудо преображения происходит не только с Сашкой, но и с его отцом. Красота Ангелочка напоминает каждому из них о своей собственной красоте. Каждый человек есть подобие Божие, и потому каждый человек красив – именно об этом и напоминает ангелочек, точнее та красота, которую он несёт в себе (именно в этот момент отец и сын обретают ту «общую идею Бога для человека», о которой писал Чехов). «Всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки». Почувствовав это, отец и сын испытывают духовное единение, перестают быть разобщёнными. «Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди». Но это возрождение души снова оказывается мимолётным. В преображённый мир отца и сына вместе с пьяным бормотанием матери врывается мир реальный, а сам ангелочек тает, превращается в «бесформенный слиток». Та красота, что нёс с собой ангелочек, уничтожена, и начинается новый 10 обычный день. «Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топлёного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты». Слова Сашки о том, что ему скоро вставать, получают символический смысл. Это уже пробуждение от того очарования, что принёс с собой ангелочек, возвращение из мира небесного к миру земному. И поэтому буднично звучит последняя фраза: «В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз». И отцу и сыну предстоит вернуться в тот мир, из которого они сумели вырваться благодаря ангелочку; холод, который присутствовал в начале рассказа, появляется и в конце. Это ощущение мимолётности счастья, разрушения человека под влиянием действительности отразил в своём стихотворении «Сусальный ангел», написанном под впечатлением от «Ангелочка», А. Блок (отрывок). Ломайтесь, тайте и умрите, Созданья хрупкие мечты, Под ярким пламенем событий, Под гул житейской суеты! Так! Погибайте! Что в вас толку? Пускай лишь раз, былым дыша, О вас поплачет втихомолку Шалунья девочка – душа... Таким образом, жанр рождественского рассказа в 20 веке, сохраняя обязательные для этого жанра признаки, претерпевает значительные изменения, отразившиеся на содержательном уровне и связанные с кризисной ситуацией рубежа веков, отказом от религиозных принципов, которыми руководствовались писатели 19 века. Чудо по-прежнему способно произойти, но преображение человека оказывается мимолётным, вскоре он снова должен вернуться к своему прежнему состоянию, потому что те модели поведения и восприятия мира, которыми руководствовались раньше, оказываются лишёнными своего внутреннего содержания. Это подчёркивается и отчуждённостью людей, непониманием того, что происходит с ними. Заключение Жанр рождественского рассказа в русской литературе претерпел значительные изменения. И если поначалу этот жанр испытывал сильное влияние творчества Диккенса, то впоследствии 11 рождественский рассказ в русской литературе оформляется как автономный жанр, сохраняя при этом формальные признаки жанра. Рождественский рассказ в русской литературе испытывает на себе сильное влияние христианских идей. Именно это определяет его уникальность. На место волшебству приходит чудо духовного преображения, чудо воскрешения души, обретение человеком мира небесного как мира абсолютного счастья. Можно сказать, что рождественский рассказ уходит от чуда формального, необходимого по канону и приходит к чуду сакральному, где воскрешение человека связано с осознанием себя как образа и подобия Божьего и с духовным единением с другими людьми. Поэтому жанр рождественского рассказа и пасхальный рассказ в русской литературе по своим задачам оказываются тесно связанными. При этом христианские идеи вписываются в реалистический метод изображения действительности. 20 век ломает сложившуюся картину мира и привычные модели поведения. Отказ от христианских ценностей, формализация привычных понятий, утрата внутреннего смысла – всё это приводит к разрушению человека, разобщённости людей. Привычное для 19 века чудо оказывается мимолётным, неспособно долго существовать в новом мире, что находит отражение в жанре рождественских рассказов. Тоска по чуду, мимолётность чуда или даже невозможность его появления в мире – вот что в 20 веке определяет жанр рождественского рассказа. Жанр рождественского рассказа с точки зрения структуры, связи с традицией Диккенса, пересечения с произведениями зарубежных авторов активно исследовался в литературоведении. Однако среди этих работ лишь небольшое количество посвящено исследованию жанра рождественского рассказа с точки зрения религиозных ценностей. Новизна нашего исследования состоит в попытке исследовать жанр рождественского рассказа не с точки зрения структуры, а с точки зрения связи рождественского рассказа с христианскими идеями, а также через изменения, произошедшие в мире и отразившиеся на человеке 20 века, а следовательно, и на герое рождественских рассказов. Таким образом, через исследование изменений в жанре рождественского рассказа рубежа 19-20 веков можно сформировать представление о культурной ситуации 20 века, образе человека нового времени и влиянии этой культурной ситуации на становление данного образа. Теоретическая значимость обусловлена тем, что результаты исследования вносят вклад в понимание особенностей жанра рождественского рассказа в русской культуре, отдельных отличительных черт национального характера, помогают в формировании образа человека рубежа 19-20 веков и, как следствие, литературного героя, сформировавшегося в это время, а также позволяют определить жанр рождественского рассказа в русской литературе как самостоятельный жанр со своими отличительными чертами. В ходе исследования были получены следующие выводы: 1. Жанр рождественской сказки сохраняет традиционные черты, характерные для этого жанра; 2. Жанр рождественской сказки в русской литературе при сохранении традиционных черт получает новое смысловое содержание, связанное с христианскими ценностями, которые являлись обязательной и отличительной чертой русской литературы, а также реалистической манерой изображения событий; 3. Жанр рождественской сказки в литературе 19 века ориентирован не на волшебное чудо, а на чудо духовного преображения человека; 4. Жанр рождественской сказки в 20 веке претерпевает трансформацию, что связано с культурологической ситуацией 20 века и отказом от привычных моделей, связанных с христианскими ценностями; 12 5. Основным настроением в литературе 20 века становится ощущение отчуждённости людей, их одиночества, что находит отражение в литературе и соответственно в жанре рождественской сказки. 6. Преобладающим настроением в рождественской сказке в 20 веке становится ощущение мимолётности чуда, невозможности длительного преображения человека 1. Библиография Горелов А. А. Н. С. Лесков и народная культура [Текст] / А. А. Горелов. - Л. - 1988 13 2. Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра. [Текст] / Е. В. Душечкина. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995 3. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности [Текст] / И. А. Есаулов. – М.: Кругъ, 2004 4. Лесков Н.С. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 7. [Текст] / Н. С. Лесков. – М: Правда, 1989 5. Потанина Н. Л. Игровое начало в художественном мире Ч. Диккенса [Текст] / Л. Н. Потанина. – Тамбов. – 1998 6. Сильман Т. И. Диккенс. Очерки творчества [Текст] / Т. И. Сильман. – М. – 1958. 7. Словарь Брокгауза и Ефрона. http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron/ 8. Вопросы философии. 1990, №7, с. 143-176.