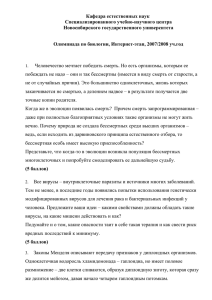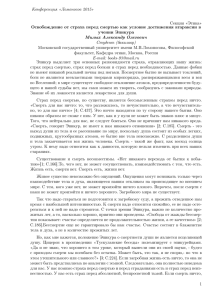феномен смерти в художественном изображении
advertisement
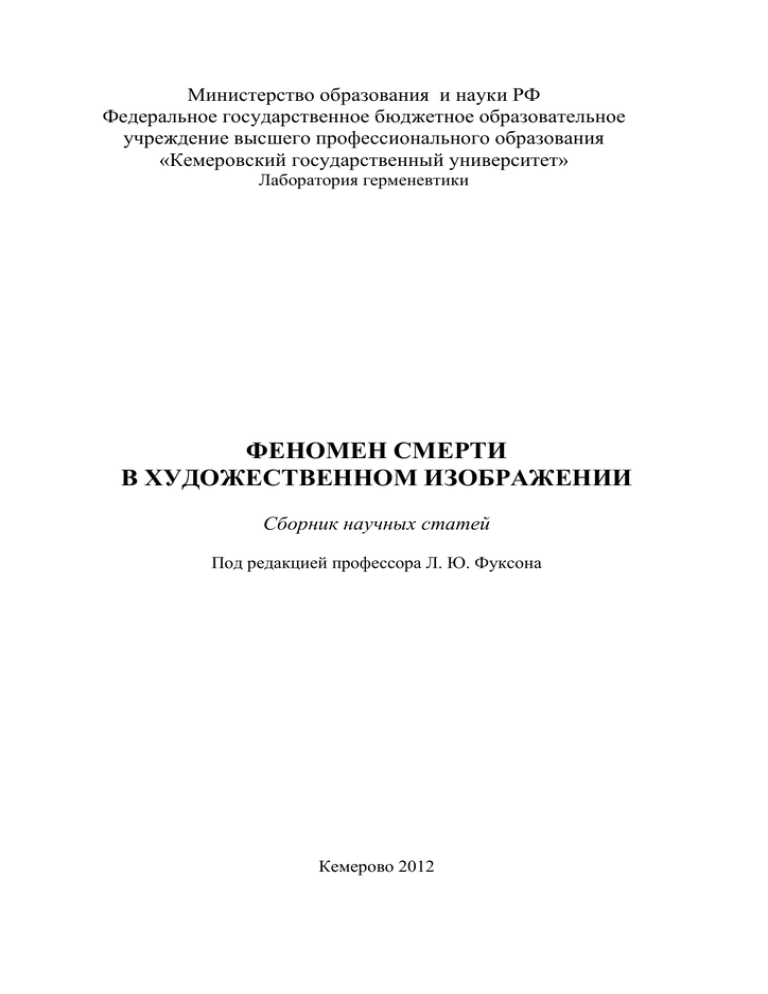
Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» Лаборатория герменевтики ФЕНОМЕН СМЕРТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ Сборник научных статей Под редакцией профессора Л. Ю. Фуксона Кемерово 2012 УДК 801.73; 82.01 ББК 83.0; 87.8 Ф 42 Печатается по решению редакционно-издательского совета Кемеровского государственного университета Научные редакторы: д-р филол. наук, профессор Л. Ю. Фуксон, канд. филол. наук, доцент Ю. В. Подковырин Рецензенты: доцент каф. теории и истории гуманитарного знания Института филол. и истории РГГУ, канд. филол. наук А. В. Корчинский, зав. каф. литературы и русского языка Кемеровского государственного университета культуры и искусств, канд. филол. наук, доцент М. В. Литовченко Ф42 Феномен смерти в художественном изображении: сборник научных статей / под ред. Л. Ю. Фуксона, Ю. В. Подковырина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2012. – 131 с. ISBN 978-5- 8353-1250-4 Предлагаемый сборник содержит статьи, с разных сторон и на различном литературном материале освещающие проблему художественного изображения смерти. Авторы статей – исследователи из Кемерова, Москвы и Новосибирска. Особое место в сборнике занимает впервые осуществлённый перевод главы из книги крупного немецкого философа ХХ века Е. Финка о феномене смерти. Сборник адресован специалистам-гуманитариям, а также интересующимся проблемой художественного истолкования смерти. © КемГУ, 2012 © Авторы статей, 2012 ISBN 978-5-8353-1250-4 2 ПРЕДИСЛОВИЕ Этот проект является продолжением сборника «Феномен игры в художественном творчестве, культуре и языке» (Томск, 2009). Если принять в расчёт соображение Эпикура о том, что когда мы здесь, смерти нет, а когда смерть здесь, нас уже нет, то изображение смерти, возможно, ставит перед художником (поэтом) наиболее трудные проблемы. Ведь он занят прежде всего тем, что должно явиться именно «здесь». При этом трудно отрицать значимость и частотность образов смерти в художественной литературе. К тому же, смерть не показана всегда сугубо лишь извне – как чужая смерть. Человеческая жизнь – предмет искусства – по сути, неотделима от смерти. Так может быть, Эпикур был неправ и смерть вовсе не «потусторонний» феномен? В таком случае, каковы способы присутствия смерти в художественном мире и какой свет это проливает на саму изображаемую жизнь? В качестве особого приложения сборник содержит впервые осуществлённый перевод на русский язык главы трактата Е. Финка «Основные феномены человеческого бытия», которая посвящена философскому истолкованию смерти. Приведём цитату из этого текста, могущую служить чем-то вроде эпиграфа к предлагаемому сборнику: «Поскольку смерть, строго говоря, не есть феномен, но пронизывает все феномены жизни человека и бросает на них свою тень, является пустотой ничто, пугающей нас, но и наполняющей глубочайшим доверием, постольку она представляет собой самый "интерпретируемый" момент бытия». 3 В. И. Тюпа (Москва) ЛИМИНАЛЬНАЯ ИНТРИГА ЧТЕНИЯ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО» Современная нарратология придаёт понятию интриг специальное значение напряжённости читательского восприятия, связывающей начало истории с её концом. Согласно рассуждению М. М. Бахтина, нарративным является такое высказывание, в котором взаимодействуют «два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели)»1. Наше участие в событии рассказывания определяется, по мысли Поля Рикёра, «нашей способностью прослеживать историю», приобретённой «знакомством с повествовательной традицией»2, поскольку новизна истории может быть воспринята только на фоне некоторой имплицитной нормы – ожидания развязки, сопрягающей начало и конец цепи рассказываемых событий. Наличие повествовательной интриги, на взгляд Хейдена Уайта, внедрившего это понятие в нарратологию, состоит в придании истории смысла путём объединения составляющих её событий в единстве архетипической формы рассказывания3. «В этом смысле Библия представляет собой грандиозную интригу мировой истории, а всякая литературная интрига – своего рода миниатюра большой интриги, соединяющей Апокалипсис с Книгой Бытия»4. Такая интрига состоит в напряжении событийного ряда, возбуждающем некие рецептивные ожидания и предполагающем «удовлетворение ожиданий, порождаемых динамизмом произведения»5. Это не интрига авантюрного поведения героев, а интрига чтения, подобная тому, как интригу спортивного чемпионата создаёт вопрос о его победителе и призёрах. С точки зрения поэтики, рассуждения Уайта и Рикёра касаются универсальных схем сюжетосложения. Имеется устойчивая традиция разграничения двух важнейших схем: «централизующей» и «нанизывающей» (Ф. Ф. Зелинский)6, «концентрической» и «хроникальной» (Г. Н. Поспелов и 1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 403-404. Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. М. СПб., 2000. С. 63. 3 См.: White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century. Baltimore; London., 1973. 4 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. С. 31. 5 Там же. С. 30. 6 См.: Зелинский Ф. Из жизни идей. Пг., 1916. С. 366. 2 4 В. Е. Хализев7), «циклической» и «кумулятивной» (Н. Д. Тамарченко8 и С. Н. Бройтман9). Последняя пара категорий разработана наиболее основательно. Кумулятивная схема – нарастание интенсивности однородных событий, ведущее к катастрофе, – была выявлена и описана В. Я. Проппом10. В составе циклической сюжетной схемы обнаруживаются два варианта: если «среднее звено связано с пребыванием персонажа в чужом для него мире и/или прохождением через смерть (в том или ином варианте – от буквального до всего лишь иносказательного)», то два обрамляющих звена «представляют собой либо отправку в чужой мир и возврат, либо смену состояния, предшествующего кризису, последующим возрождением»11. Первая вариация очевидным образом восходит через древний эпос к наиболее архаическим структурам мышления. Трёхфазная нарративная последовательность: утрата – поиск – обретение12 (концентрирующая внимание на подвиге героя, на восстановлении им исходной ситуации или даже общего миропорядка), воспроизводит универсальную мифологему умирающего и воскресающего бога13. Тогда как возрождение к новой жизни, знаменующее преображение, перемену статуса героя, через посредство волшебной сказки восходит к обряду инициации. Смерть и воскресение божества явились несомненным прообразом этого обряда, однако человек в нём не восстанавливался, как вечный бог, а преображался (или погибал). «Сходство очертаний между сказкой и мифом, – по мысли А. Н. Веселовского, – объясняется не их генетической связью, причём сказка являлась бы обескровленным мифом, а в единстве материалов и приёмов и схем, только иначе приуроченных»14. Освоение сказкой архаической символики инициации15 породило принципиально иную нарративную интригу16. Её интерес не в том, как произойдёт восстановление исходной ситуации, а в том, выдержит ли герой испытание смертью. Это лиминальная 7 См.: Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2009. С. 227. См.: Тамарченко Н. Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1988; Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века: проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997. 9 См.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. М., 2001. 10 См.: Пропп В. Я. Кумулятивная сказка // В. Я. Пропп. Фольклор и действительность. М., 1976. 11 Тамарченко Н. Д. Структура произведения // Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004. С. 204. 12 См.: Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос: генезис и типология. М., 1974. С. 246-279. 13 См.: Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 225-229. 14 Веселовский А. Н. Поэтика сюжетов // А. Н. Веселовский. Избранное: историческая поэтика. М., 2006. С. 539. 15 См. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 16 Подробнее см.: Тюпа В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов // От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996; Тюпа В. И. Словарь мотивов как научная проблема (на материале пушкинского творчества) // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Вып. 1. Новосибирск, 2003. 8 5 (пороговая)17 схема событийной цепи, кульминационным звеном которой служит пересечение границы между жизнью и смертью. Усвоенная впоследствии художественной словесностью данная сюжетная схема – «в отличие от сказки, которая по содержанию сюжета является реликтом»18, – образует напряжённую и едва ли не важнейшую для художественной литературы нарративную интригу ожидания либо статусного преображения героя, либо его гибели. «Архетипическая форма» (Уайт) лиминальной интриги в рамках драматургической традиции кристаллизовалась в общеизвестную каноническую схему развития действия: завязка – перипетии – кульминация – развязка. За этой схемой распознаётся сформированная сказкой четырёхфазная событийная цепь архаических повествований, исследованных Джеймсом Д. Фрэзером при рассмотрении «множества преданий о царских детях, покидающих свою родину, чтобы воцариться в чужой стране»19 (в соответствии с древнейшим укладом матрилокального наследования власти). Первой из четырёх фаз, соответствующей канонической завязке, служит фаза обособления. Помимо внешне-пространственного ухода или затворничества, в литературе Нового времени она может быть представлена внутренней позицией, предполагающей разрыв или утрату, или существенное ослабление прежних жизненных связей. Без такого или иного обособления фигуры героя и концентрации внимания на носителе некоторого жизненного импульса, могущего оказаться подавленным обстоятельствами, лиминальная интрига не может «завязаться». Второй в этом ряду выступает перипетийная фаза искушения – как в смысле обращения к радостям нерегламентированной жизни и прегрешениям, так и в смысле приобретения героем жизненного опыта, повышающего уровень его жизненной искушённости. Это фаза новых партнёрств, установления новых межсубъектных связей (в частности, обретение героем «помощников» и/или «вредителей»). Нередко здесь имеют место неудачные или недолжные пробы жизненного поведения, обеспечивающие эффективное поведение героя в последующих ситуациях. Третью (кульминационную) фазу составляет собственно лиминальная фаза испытания (смертью). Она может выступать в архаических формах ритуально-символической смерти героя, то есть посещения им потусторонней «страны мёртвых» (порой в форме сна как «временной смерти»); может заостряться до смертельного риска (болезни или поединка); может и редуцироваться до встречи со смертью в той или иной форме. Вся лиминальная интрига сконцентрирована вокруг этого перехода рубежа смерти. 17 В соответствии с установившейся в этнографии терминологией А. ван Геннепа и В. Тэрнера (См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. Гл. 3). 18 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 357. 19 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 180. 6 Наконец, четвёртая – фаза преображения, которая может оказаться и нулевой (несимволическая смерть, безвозвратная гибель). Здесь, как и на заключительной стадии переходного обряда, имеет место перемена статуса героя – внешнего (социального) или, особенно в новейшее время, внутреннего (ментального). Нередко символическое «новое рождение» сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и акцентируется его новое жизненное качество, которое в архаических сюжетах часто знаменуется женитьбой и брачным пиром. Это фаза завершения, «развязывания» нарративной интриги чтения. Так, жизненная перспектива нигилизма в «Отцах и детях» проясняется для читателя смертью последовательного нигилиста Базарова и, напротив, венчанием Аркадия, восстанавливающего свои временно ослабленные связи с естественной жизнью природы и других людей. Событийная цепь жизни Аркадия, лишённая рубежного звена пересечения границы жизни и смерти, может служить наглядным примером не лиминальной, а более архаической – собственно циклической – сюжетной схемы. В романе «Доктор Живаго» смерть является тематической доминантой, а её преодоление – архитектонической основой20 художественной целостности, смыслообразующим двигателем её нарративной интриги. Произведение открывается картиной похорон, а завершается провиденциальной картиной посмертной жизни «столетий» (после лиминального «восстания из гроба»). В тексте же романа религиозный философ Веденяпин характеризует историю после Христа как установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению (I, 5)21, а главный герой в напряжённейший момент своего существования мыслит: Теперь в Москву (архетипический мотив возвращения. – В.Т.). И первым делом – выжить (XIV, 13). Конструктивная роль лиминальной сюжетной схемы в нарративной структуре романа явственно просматривается. Имеются две символические смерти Юрия Живаго: две тяжёлые болезни с беспамятством накануне отъезда из Москвы и после побега в Юрятин из партизанского отряда. Обе предваряют перемену социального статуса и радикальные изменения уклада жизни героя (внешнего и внутреннего). Первая книга романа являет собой весьма чёткую четырёхфазную развёртку лиминальной интриги. Первая часть соответствует фазе обособления (главный романный герой теряет обоих родителей). Последующие представляют собой перипетийную цепь искушений, из которых особо значимы случайная встреча с Ларой, знакомство с нею в качестве сестры Антиповой, а также восхищение большевистским переворотом. В ряду этих перипетий об20 См.: Тюпа В. «Доктор Живаго»: композиция и архитектоника // Вопросы литературы. 2011. Январь – Февраль. 21 При цитировании текста романа римская цифра в скобках обозначает соответствующую часть его композиции, арабская – главу. 7 наруживается «пробная» лиминальная ситуация фронтового ранения, которая не приводит героя к преображению (тогда как именно это и происходит с Павлом Антиповым). Шестая часть завершается лиминальной фазой прохождения через вызванное болезнью бредовое состояние, в котором он пытается писать поэму о днях между положением во гроб и воскресением, мысля про себя: Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть (VI, 15). Фаза преображения приходится на часть седьмую, где герой, разочаровавшись в революции, обретает новую жизненную позицию: в поисках тишины устремляется в глушь, в неизвестность (VII, 11), чтобы жить сельскохозяйственным трудом и ради личной свободы отказаться от занятий медициной. Однако эта четвёртая фаза заметно редуцирована в контексте художественного целого с глубинной – экзистенциальной – проблематикой, далеко не сводимой к социально-биографическим моментам. Вместо традиционного возвращения, она протекает как уход (что соответствовало бы начальной фазе) и венчается очередной лиминальной ситуацией: в разговоре со Стрельниковым после ареста главный герой очевидным образом оказывается между жизнью и смертью. Цепь событий, составляющая вторую книгу романа, представляет собой следствие предпринятого ухода из эпицентра революционных преобразований и обещает новый виток лиминальной интриги. Эта вторая интрига сконцентрирована вокруг Лары. Фазу обособления составляет здесь разрыв с Ларой, совпадающий с насильственной мобилизацией доктора, чья медицинская специализация (т. е. противостояние смерти) вновь оказывается причиной его несвободы. Пребывание в лагере партизан служит для героя искусительной фазой новых партнёрств, за которой следует вторая столь же тяжёлая, рубежная болезнь. Накануне болезненного беспамятства Живаго думает: … весь вопрос в том, что возьмёт верх, жизнь или смерть. Но как хочется спать!» (XIII, 8). Очередной фазе преображения соответствует бытовое и экзистенциальное единение Юрия Андреевича с Ларой, в котором он предстаёт «вторым Адамом»22: Мы с тобой, – говорит Лара, – как два первых человека Адам и Ева (XIII, 13). В соответствии с архетипической архаикой преображение сопрягается с возвращением в предыдущее место обитания (Варыкино), где доктор становится самим собой – поэтом, реализующим движение мировой мысли и поэзии (XIV, 8). Лиминальное значение третьей (действительной) смерти героя далеко не очевидно. Нарративная интрига, предельно обострившаяся в четырнадцатой части23 романа, далее идёт на спад. Пятнадцатая часть под названием «Окончание» открывается конспективной фразой, радикально ослабляющей напряжение читательского ожидания: 22 В христианской традиции «вторым Адамом» нередко именуют самого Иисуса Христа. Об особой конструктивной значимости числа 14 в тексте и композиции произведения см.: Тюпа В. «Доктор Живаго»: композиция и архитектоника // Вопросы литературы. 2011. Январь – Февраль. 23 8 Остаётся досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он всё больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к действительности, и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете (XV, 1). Как видим, фабульный интерес последующего повествования самим нарратором явственно дискредитируется. За процитированной фразой следует замечание о развитии у доктора смертельной болезни сердца, которая тем самым как бы включается неотъемлемым атрибутом в новый статус героя и не может претендовать на роль очередной лиминальной фазы. К тому же, далее мы читаем историю возвращения доктора в Москву из лиминального (пограничного) уральского пространства, что обычно знаменует завершение стадии преображения и исчерпание интриги в целом (задолго до окончания текста). Следует, однако, уточнить само инновационное понятие нарративной интриги чтения. Помимо «эпизодического аспекта построения интриги»24, то есть, помимо конфигурации эпизодов, развёртывающих фабулу, обычно в художественном повествовании имеет место, к тому же, интрига слова, субъектной организации текста. Это интрига самого события рассказывания: композиционная конфигурация речевого ряда, которая и помимо фабульного интереса способна создавать и поддерживать напряжение читательского ожидания, сопрягающего полюса первого и последнего слов текста. Интрига слова связывает, например, немногосложную повесть из приведённой выше фразы с рассуждением Серафимы Тунцевой: Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью (XIII, 17). Другой пример: от арестантского халата, которому уподобляется солдатская шинель доктора в начале пятнадцатой части, нить речевой интриги протягивается к заключительным словам этой части о предполагаемой пропаже Лары в одном из неисчислимых общих или женских концлагерей севера (XV, 17). Такого рода нитями интриги слова густо пронизан весь романный текст «Доктора Живаго». В романе Пастернака, что вообще свойственно произведениям постсимволистского (неклассического) строя художественности, доминантная роль принадлежит именно этой субъектной интриге чтения, именуемой у Вольфа Шмида «презентацией наррации»25. Начавшись словами о нескончаемом похоронном движении в сторону могилы (Шли и шли и пели «Вечную память»…), текст произведения заканчивается словами о нескончаемом движении к воскресению: Ко мне на суд, как баржи каравана, // Столетья поплывут из темноты. 24 25 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. М.; СПб., 1998. С. 186. См.: Шмид В. Нарратология. С. 155-156, 173-174. 9 В композиционном отношении одиннадцатая часть романа под названием «Лесное воинство» составляет точку золотого сечения текста, разделённого на семнадцать частей. Будучи второй фазой «сюжета с Ларой», сибирский плен героя под углом зрения композиционного целого одновременно оборачивается лиминальным пребыванием в символической стране мёртвых26. Живаго принуждён стать обитателем землянок (своего рода могил, особенно учитывая обилие совершаемых в лагере убийств) лесных братьев27. Ритуально-архаическая символика данного композиционного фрагмента делает его лиминальным звеном более глубокого, чем сюжет, архитектонического уровня художественной целостности. Наиболее существенный эффект интриги слова здесь составляет композиционный переход от прозы к поэзии. Завершение романного текста стихотворным циклом, где голос провидческий поэта звучит, нетронутый распадом, предполагает со стороны адресата рекуррентную компетенцию «обратного чтения», предполагает соотносимость лирических шедевров с экзистенциальными всплесками рассказанной жизни. В основе такой организации события рассказывания угадывается не биографический дискурс жизнеописания (отступающий на второй план после четырнадцатой части, где пересекаются жизненные пути всех трёх мужчин Лары), а концептуалистский дискурс жизнепонимания. Он составлял изначальную подоплёку биографии главного героя, просвечивая в декларативных или медитативных откровениях персонажей, чтобы завершиться циклом поэтических откровений самой высокой пробы, питаемых духовной энергией христианского Слова. Ключ к этой интриге жизнепонимания обнаруживается в речи Николая Николаевича из пятой главы первой части. В ряду необходимого для преодоления смерти духовного оборудования философствующий персонаж называет любовь, личную свободу, а также идею жизни как жертвы. В этой тройственной модальности любви, свободы и жертвы и проживает свою жизнь поэт Живаго. По мысли Веденяпина, современный человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвящённых преодолению смерти, умирает, сам посвящённый этой теме (I, 5). В качестве фабульного персонажа, участника событийной интриги Юрий Андреевич умирает именно на улице под забором. Но лиминальная значимость этой смерти снимается композиционно-речевой конструкцией художественного целого. В аспекте композиционно реализуемой интриги слова он оканчивает своё существование, поистине посвящённый этой теме, поскольку сохранившиеся от его искале26 О лиминальной символике Сибири см.: Тюпа В. И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. Барнаул – Кемерово – Новосибирск – Томск. 2002. № 1. 27 См. раздел «Лесное братство» в книге В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки». 10 ченной жизни стихи и тематически, и своей бесспорной эстетической ценностью действительно преодолевают и его заурядную, негероическую смерть, и безвестную смерть его возлюбленной, инспирировавшей эти стихи, и всякую человеческую смерть вообще, искупаемую смертью и воскресением Христа. С. П. Лавлинский (Москва) ВЗГЛЯД НЕБЫТИЯ: РЕЦЕПТИВНО-ВИЗУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТИ В РАССКАЗЕ СИГИЗМУНДА КРЖИЖАНОВСКОГО «ЧЁТКИ» Понял теперь я: наша свобода Только оттуда бьющий свет… Николай Гумилёв. Заблудившийся трамвай Реализм видел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет – и символизм отвернулся от мира. Это тезис и антитезис, синтез подошёл к миру со сложным набором стёкол – и ему открываются гротескные, странные множества «точечных» миров… Евгений Замятин Рецептивное вхождение читателя в мир героя, по мысли В. Н. Топорова, всегда сопровождается «феноменологической редукцией», которая представляет собой замыкание того, что было (тогда — там — он) с теперь — здесь — Я. В основе такого совмещения – «спайности бытия» (П. А. Флоренский) – «лежит своего рода подыскивание себе, своему Я парадигмы, генеалогии, причины»28. Позиция читателя в таком случае всегда соотносится с хронотопом героя произведения и определяется механизмами имагинативной самоидентификации, логикой «отождествления себя с воображаемой ситуацией и соответствующей перспективой»29. Особого внимания заслуживают воображаемые ситуации и «перспективы» смерти, представленные в некоторых фантастических произведениях. С феноменологической точки зрения, встреча героя и читателя со смертью, как правило, реализуется здесь благодаря визуально оформленному пространственно-временному полаганию смысла небытия – художественной репрезентации его взгляда, под прицелом которого трансформируется не только 28 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 284. 29 Там же. 11 мир героя, но и хронотопические контуры того, что читатель по традиции считает реальностью. О чём в данном случае идёт речь? Попробую пояснить. Встреча героя и читателя со смертью происходит на границе. По мысли Е. Фарино, специфика подобного рода границы «состоит в том, что каждая её точка принадлежит одновременно двум разделяемым сферам, а она сама из разделяющей превращается в разделяюще-объединяющую, в медиатора. Пребывание на такой границе носит характер амбивалентного состояния «присутствия-отсутствия», «реально-ирреального», «чужого-своего», «двойного бытия» и т. п. <…> Эти промежуточные состояния часто возводятся в ранг единственного состояния мира, они не предполагают перехода к состояниям чётким и определённым. Они – не переход в равно реальное, а зона, которая позволяет соприкоснуться с «вечностью», с «запредельным»30. Среди произведений, в которых представлены модели взаимодействия героя с пространственно постулируемым иным миром, особо выделяются те, где рассказывается об испытаниях «предельно близким зрением» (М. Ямпольский) – по сути, это испытания взглядом небытия. Читатель вынужден здесь осваивать механизмы сознания, связанные в литературе, по мысли Ц. Тодорова, с гротескно-фантастическими образами и темой взгляда. Сюжетная ситуация, определяемая темой взгляда, в свою очередь, соотносится с «культурой антиглаза» или «минус-зрения» (Топоров) – данное понятие перекликается с понятием романтического «лимита зрения», принадлежащим Н. Я. Берковскому. Как отмечал Берковский, у романтиков «зрению извне представляются одни человеческие лимиты, но нужен хотя бы намёк, что не за ними последнее слово, что за областями, ими обведёнными, возможны ещё и совсем иные»31. Именно поэтому в произведениях романтиков вместо панорамноисторического видения «широкого пространства» прямой перспективы читатель осваивает вербально-оптические способы одинокого, интровертнофантазматического сознания, сконцентрировавшегося на рассматривании запредельного, тотально чужого. Как нетрудно понять, особая роль в таких случаях отводится перспективе обратной, задающей параметры гротескной реальности, которая выражает саму суть иного и визуальные способы его восприятия. Неслучайно слово взгляд всегда, по мысли Тодорова, заставляет вспомнить поэтику гротеска как таковую. Обращаясь к произведениям Гофмана (прежде всего к «Принцессе Брамбилле» и «Песочному человеку»), которые «буквально наводнены микроскопами, лорнетами, настоящими и фальшивыми глазами и т. п.»32, Тодоров заметил, что любое появление элемента сверхъестественного, неопознаваемого в визуальном опыте наблюда30 Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. С. 275 Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 459. 32 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М.: РФО - Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 93. 31 12 теля, сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда: к примеру, «в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков и зеркал»33. Так, у Гофмана обычный мир открывается только обыденному сознанию, «бюргерскому» взгляду – в нём нет и быть не может ничего таинственного, приближающего к смерти, приковывающего внимание наблюдателя своей странной непрояснённостью и способностью взирать «из-за предела» на самого наблюдателя. Между тем именно «косвенный взгляд» представляет собой единственный путь героя к сверхъестественному, а также путь трансцендентного к герою и читателю34. «Косвенный взгляд», по Тодорову, преодолевает видение в его привычных формах, становясь, по сути, трансгрессией взгляда, символом взгляда как феномена. В гротескно-фантастической традиции он может восприниматься как взгляд небытия, противоположный взгляду, который интерпретируется героем и читателем как нормальный, прямой, трезвый, реалистичный. Возможность воспринимать иное стимулируется «символами непрямого, искажённого, извращённого взгляда, каковыми являются очки и зеркало»35. Оптические приборы и разнообразные средства становятся образом взгляда, который отныне уже не является простым средством привязки глаза к некой точке в пространстве, теперь это не чисто функциональный, прозрачный и переходный взгляд. Эти предметы – в некотором смысле материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Существенна связь «квинтэссенции взгляда» с визионерским потенциалом: «Та же плодотворная двусмысленность присутствует и в слове «визионер» (visionnaire); это человек, который видит и не видит, представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения»36. Предельный вариант подобного «отрицания видения посредством видения» находим в рассказе Сигизмунда Кржижановского «Автобиография трупа», где трансгрессия взгляда выражена мотивом отделения зрения от наблюдателя (герой снимает очки, и мир, как налипь, исчезает из сферы его созерцания). М. Ямпольский, впервые обративший внимание на эту особенность поэтики Кржижановского, интерпретирует отмеченное отделение как своего рода символическую смерть человека-наблюдателя: «Стирание пространства открывает феноменальную бесформенность («точечного») «незрения», как будто маскируемого видением»37. Топоров впервые показал, что Кржижановский вообще активно разрабатывал в отечественной литературе ХХ века модель рецепции пространственно-временных координат внешнего и внутреннего миров, здешнего и мета33 Там же. С. 91. Там же. С. 92. 35 Там же. 36 Там же. 37 Ямпольский М. Наблюдатель. М.: Ad Marginem, 2000. С. 276. 34 13 физического, ближнего и дальнего, которые концентрируются в «минусхронотопных» измерениях и определяют свою «бытийно-небытийную» сущность в «щелях мира». По собственным словам писателя, сферой его творческого поведения являлся «экспериментальный реализм», – в некотором смысле, «реализм экспериментального зрения». Тема взгляда и сопряжённые с ней сюжетные мотивы и образы зрения (в том числе и «минус-зрения»), видения, глаз, зрачков, разнообразных оптических приборов («квинтэссенций взгляда») и т. п. являются одними из ключевых в таких рассказах, как «Странствующее «Странно», «Собиратель щелей», «Чётки», «Страна нетов», «Штемпель: Москва (тринадцать писем в провинцию)» и др. Вещественная выраженность взгляда, направленного за границы здесьвидимого, помимо нарративной и сюжетной экспликации, обладает особым рецептивным потенциалом. В связи с рассмотрением пространственнособытийной логики произведений Кржижановского Топоров размышлял об «изоморфизме творца и творения, поскольку в каждом из них порознь творящее и творимое начала <…> неразрывно связаны друг с другом»38. Это создаёт особые условия для восприятия читателем текста и художественного мира писателя в целом: «Уже при первом чтении удаётся составить довольно определённое представление о пространстве Кржижановского, о геометрии этого пространства; более того, читатель не только осваивает правила этого пространства, но и, по-видимому, готов иногда сам освоиться в нём, приняв его, может быть, даже в свой личный пространственный опыт, который становится от этого приобретения более богатым: пространство перестаёт быть нейтральным и гомогенным, но более дифференцированным, разнородным, антропологично-центрированным, личным, Я-ориентированным»39. Парадоксальность пространства, в котором смещаются границы внешнего и внутреннего, реального и фантазматического и т. п., по словам исследователя, вынуждает читателя принять его в своё сознание, «точнее, – во все слои пространства восприятия – от сферы подсознательного до сферы мистическипровидческого», визионерского. Рецептивный опыт в данном случае определяется эффектом хронотопической «заразительности» – читатель «инфицируется» этим пространством, а через пространство – и сюжетами произведений писателя40. Он вслед за героем обретает способность к «двойному зрению», позволяющему воспринимать бытийное и потустороннее в своей внезапно открывшейся одновременности41. 38 Топоров В. Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. С. 493. 39 Там же. 40 Там же. С. 500. 41 Об эффекте «выворачивания» пространства, создающего эффект «порогового испытания» героя «пугающим разломом», см.: Бирюкова Е. Е. «Vade mecum» Сигизмунда Кржижановского и хронотоп порога // Поэтика рамы и порога: функциональные формы грани14 Стоит также отметить, что многие психофизиологические и метафизические эксперименты Кржижановского с внезапно открывающимися возможностями человеческого видения перекликаются с некоторыми феноменологическими соображениями П. Флоренского и М. Мерло-Понти о природе зрения. Глаз, по мысли первого, есть орган и пассивного осязания, и активного движения. Ещё Аристотель отмечал, напоминает Флоренский, что зрение представляет собой утончённое осязание, ощупывание предмета глазом посредством светового луча. Древние рассматривали глаз как нечто движущееся, подходящее посредством испускаемых им лучей к предмету и его осязанию вплотную. Ссылаясь на древних философов, Флоренский замечает, что глаз вместе с другими органами восприятия происходит из того же зародышевого листка, что и кожа. Именно поэтому глаз и кожа являются попавшими на поверхность тела органами нервной системы42. Вместе с тем психологические механизмы визуального опыта, подобные тем, что детально воспроизводятся Кржижановским, всегда имеют не только физиологическую, но метафизическую подоплёку, поскольку, как отмечал Мерло-Понти, только зримое даёт наличное бытие того, что не есть «я», того, что в полном смысле этого слова есть: «Это возможно потому, что зримое представляет собой как бы уплотнение, сгущение универсальной зримости, единого и единственного Пространства, которое и разделяет, и объединяет, образуя основу всякой связи (даже связи прошлого и будущего, поскольку её не было бы, не будь они частями одного и того же Пространства). Каждая отдельная видимая вещь, при всей её индивидуальности, служит вместе с тем ещё и общим мерилом видимого, поскольку определяется как результат разделения, раскола тотального Бытия»43. В произведениях Кржижановского рассматриваются различные варианты «сгущения универсальной зримости» в визуальном опыте человека, преодолевающего «лимиты зрения» на границе жизни и смерти. Обратимся к одному из ранних рассказов писателя «Чётки» (1921), где описывается один из вариантов подобного преодоления. В «Чётках» композиционно выделены три части: две первые маркируются римскими цифрами, последняя – отточиями. Центральным событием первой является встреча героя-рассказчика (от его лица и ведётся повествование), прогуливающегося за городом со стариком («человеком, которого встречают в полях», как характеризует себя незнакомец). Старик дарит главному герою в знак благодарности за помощь, ему оказанную (герой находит в траве потерянный стариком «предмет» – «ноту ля-диез: с первой приписной линейкой»), «странные чётки». Центральным событием второй части – офтальмоцы в художественных языках. Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 4. / научн. ред. Н. Т. Рымарь. Самара, 2006. 42 См.: Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественноизобразительных произведениях. М., 1993. С. 88-89. 43 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, 1999. С. 249. 15 логические эксперименты с чётками. В последней части рассказывается о результатах эксперимента героя и внезапно открывшихся ему новых горизонтах видения. Нетрудно заметить, что Кржижановский намеренно выстраивает художественную модель, ориентирующую читателя на определённый способ восприятия сюжетной основы произведения. Её составляют архаические мотивы волшебной сказки: путешествие в «чужой» мир – встреча с дарителем – получение «чудесного предмета» – возвращение обратно. Последнее сюжетное звено самое важное, поскольку представляет собой подробное изображение событий, происходящих благодаря постижению тайны «чудесного предмета» в «своём» мире. В качестве оптического средства «косвенного видения» выступает офтальмоскоп – посредник между глазом героя и глазами мёртвых философов. Однако использование этой схемы, ориентация читателя на актуализацию сюжетных констант восприятия волшебной сказки, на «эстетику тождества» соотносимо с реализацией совершенно иного смысла. Он определяется сюжетным парадоксом, разворачивающимся благодаря визуальной реализации метафоры, появляющейся в самом начале рассказа и объясняющей читателю цель путешествия героя. «Придумыватель мыслей и книг», «думальщик» отправляется за город, чтобы «одолжить у ока небополя чувство малости и затерянности»: … И в тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерьне) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на часдва чувство малости и затерянности (164)44. Метафора «око небополя» как бы выходит из своих семантических берегов: слово «око», появившись в начале повествования, получает сюжетные обертоны и пронизывает весь текст, то в завуалированном виде, то в непосредственно явленном. «Оком» обладает не н е б о (что было бы вполне традиционным использованием этого слова в метафорическом образовании) и не п о л е сами по себе, а их единство, «двутелость», не позволяющая читателю интерпретировать о к о как составную часть исключительно з е м н о г о или н е б е с н о г о пространства. Прогулка героя имеет креативную мотивировку: он отправляется «в поля» (граница – «за шлагбаум») «за делом <…> Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего» (165). Позаимствовать «нужную эмоцию» («чувство малости и затерянности»), чтобы ликвидировать «недостачу», означает для героя стать объектом разглядывания, проникнуть в секреты этого нечеловеческого 44 Здесь и далее текст рассказа цит. по: Кржижановский С. Чётки // Кржижановский С. Чужая тема. Собр.соч. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 2001. С. 164–175. В скобках указаны номера страниц. 16 способа видения и использовать его в дальнейшем в креативных целях. Соответствующая эмоция переживается как бы в зазоре между взглядом внешним и внутренним, человеческим и нечеловеческим («оком небополя»). В первом же абзаце, повествующем о прогулке «за делом», для читателя уточняется одна существенная характеристика восприятия пространства городского и загородного. Прямые и ломаные линии городских улиц требуют от наблюдателя «кружащегося взгляда» – «глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ёрзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия», глаз, ищущий «деталей и мельков» (165). Глаз городского жителя изоморфен предмету своего наблюдения, он готов воспринимать пространство только как горизонтальное (прямое) и разорванное (ломкое, состоящее из мельков и деталей, по которым кружит глаз). Траектория видения «кружений полевого проселка» иная. Её логика непосредственно представлена в тексте: «зелень – синь – небо – земля – и все». Движение взгляда героя маркируется в сознании читателя как движение вертикальное (снизу – вверх, сверху – вниз). В данном случае читатель имеет дело с восприятием пространственного парадокса: движение по прямой совмещается с кружением взгляда и движением по вращающемуся пространству. Стало быть, восприятие пространства и в первом, и во втором случае есть восприятие движущегося человеческого тела – читатель имеет дело с «видением без остановок», видением-становлением. Первое пространство понятно, оно близко, герой встроен в него, но лишено креативного потенциала, второе – непостижимо, далеко, но переживаемо в своей непостижимости. Однако и в первом, и во втором случае герой имеет дело с рецепцией мира прямой перспективы – мира, который он опознает как чужой. Существенно, что рассказчик «Чёток» способен воспринимать природу только с квадрата холста (как природу изображённую и посредством прямой перспективы удержанную): На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я ещё, скрепя сердце, согласен: тут я смотрю её. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит на меня, вернее, сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные (164). Чуть позднее, объясняя старику «чего он ищет в полях», герой говорит: «В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле (здесь важна соотнесённость и «спайность» двух полей: одни поля связаны с миром природы, другие – с миром «придумывания» - первичность по отношению к Я героя книжного пространства, обладающего собственной волей. – С. Л.) <…> Перу моему, не мне (!), ему нужны слова, слова малости и затерянности: там в городе, их никак и нигде не достать (существенно использование глагола д о с т а т ь в речи героя – оно призвано атрибутировать начальную сюжетную ситуацию как архетипическую: как известно, герой волшебной сказки отправляется в «чужой» мир для того, чтобы достать нечто, не17 достающее ему в «своём» мире. Таким образом, функциональные признаки «мира небополя», как уже говорилось, уподобляют его «миру смерти». – С. Л.) (167). Далее «думальщик» объясняет старику, зачем ему нужны «слова затерянности и малости»: У наших письменных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вкруг звезд («я» «думальщиков», как бы упершись в земное, стягивает петлю вокруг оказавшихся в его власти звезд. – С. Л.) – мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел… (167168). Для рассказчика природа, «смотрящая человека и сквозь него», – нечто чуждое, пугающее и таинственное, поэтому человек лишён возможности созерцать природу, он ею, если использовать образ действия В. В. Розанова, «закружен», а следовательно, сам лишается возможности созерцания, как бы теряет антропную способность видеть, превращается сам в объект рассматривания. Однако по художественной логике рассказа, чувство затерянности, которого так жаждет герой, может возникнуть не само по себе в ходе загородной прогулки, но лишь благодаря последующему визуальному эксперименту с подаренным стариком предметом – необычайно крупными «белыми бусинами на связанной узлом чёточной нити». Существенным для рецепции последующих событий становится монолог старика, обернувшегося к краю оврага. Вот как мотивирует свой дар старик, выслушавший ответ героя на вопрос, чего же он ищет в полях: - Так, так понимаю, – старик раздумчиво прожевал губами. – Может быть, будет неблагодарно отдарить вас за помощь в розысках затерянностью (курсив мой. – С. Л.). Но если вы этого хотите… Странны, странны люди из-под крыш. <…> Вот здесь, обходя поля, я нашёл как-то труп: девочка, отроковица. Вкруг шеи – синцы от пальцев: удавлена. В выдавившихся наружу глазах мне удалось увидеть крохотное, остеклелое изображение мучителя. Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думальщик, что все смерти насильственны: пуля в сердце, пальцы вкруг горла, каверны в лёгких, дряхлость, одеревевившая жилы, – всё это разновидности насилия. Всё губит, всё отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия – когда убийца: всё. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших... миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: «Философствовать значит – умирать»? Впрочем, мой подарок, – старик притронулся к узелку, – объяснит без слов (168–169). Как видим, насильственная смерть несчастной отроковицы противопоставлена в речи старика смерти «людей, заболевших миром», для которых «убийца: всё». Этот тезис, по мысли старика, должен в полной мере объяснить подарок – объяснить «без слов», поскольку, как скажет в финале рассказа герой, «мало объяснить, нужно увидеть». 18 Вторая часть рассказа полностью посвящена эксперименту, производимому героем с подарком старика. Герой выясняет, что чётки – из глаз мертвецов. Преодолевая чувство брезгливости, рассказчик рассматривает их в офтальмоскоп. Первая и вторая бусины позволяет ему идентифицировать нить бусин как «чёточную нить» «глаз умерших метафизиков-элеатов» (здесь читатель наверняка припомнит слова Сократа, процитированные «дарителем» чуть ранее: «Философствовать значит – умирать»). Задержим внимание на последовательных операциях, производимых героем с глазами мертвецов, и кратко их прокомментируем. Первый глаз «дарит» смотрящему в него покой. Второй – эффект движения (герой вспоминает апорию Зенона Элейского про тщетную погоню Ахилла за черепахой). Третий глаз – «мир обратной перспективы, мир, в котором мнящееся малым и дальним – огромно и близко, а близкое и большое съёживается, малеет и уползает вдаль» (172)45. Для героя внезапно открывается мир небытия, мир, лишённый признаков первичной реальности, которая без труда опознается сознанием человека. Цепочка экспериментов с разными «глазами элеатов», поочередно снимаемыми с нитки и рассматриваемыми в офтальмоскоп, приобретает у Кржижановского отчётливый предметнозримый (визуально-тактильный) характер и позволяет герою сделать необыкновенное открытие (это главное событие второй части): <…> передо мной был мир о б р а т н о й п е р с п е к т и в ы , мир, в котором мнящееся малым и дальним – огромно и близко, а близкое и большое съёживается, малеет и уползает вдаль. И раньше, в снах, в предчувствиях (т. е. в маргинальных состояниях), я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в неё и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопалённым внутри её солнц, отодвинутых прямыми перспективами этого нашего мира за чёрные пустоты межпланетья. Я знал, обратная перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далёкой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое «я» там, в обратном мире, мнится далёким, чужим и ненужным (172). Последний глаз, отражая взгляд рассказчика, становясь одновременно частью этого взгляда, впускает в сознание героя (да и читателя тоже!) тот мир, которого он прежде не знал, но к которому (как сейчас он понимает) всегда стремился. Перед читателем разворачивается гротескный процесс освоения з а - п р е д е л ь н о г о – телесное превращение чужого в своё уподобляется в рефлексии рассказчика-героя хирургической операции: Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, мой мир, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слёзы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц (172). 45 Эффект, произведённый последним глазом, позволяет предположить, что он принадлежал Анаксагору, превратившему, по словам Флоренского, «само-живые божества Солнце и Луну в раскалённые камни» (См.: Флоренский П. А. Обратная перспектива // Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. С. 50). 19 Чужое таким образом вдруг опознаётся, оказывается своим. Если мир природы так и остался для героя миром отчуждённым, противостоящим его сознанию, то «чёрные пустоты межпланетья», разрывая границы привычных представлений героя, трансформируют сознание, делая его принадлежащим «обратному миру», где «тело и самое «я» <…> мнится далёким, чужим и ненужным» (172). Проведя серию офтальмологических экспериментов с глазами древних философов, рефлектируя свой визионерский опыт, герой «психомиметически» приобщается к трансцендентным способам восприятия реальности, культуре «перцептуальной памяти» – его видение мира теперь неразрывно связано с визуальными способностями древнего философа, визионерская энергия которого передаётся герою. Таким образом, сюжет о встрече со стариком, подарившим чётки, и об экспериментах с глазами умерших метафизиков может быть интерпретирован как сюжет о смерти «думальщика» и рождении философа. То, за чем герой отправляется в начале рассказа в поля («чувство малости и заброшенности»), он наконец-то обретает в финале. Выпадение из окружающего мира совмещено здесь с переходом героя в мир инобытия. Видимо, неслучайно Флоренский отмечал, что обратная перспектива у древних народов (например, у египтян) означала «освобождение от перспективы или изначальное непризнание её власти <…> ради религиозной объективности и сверхличной метафизичности»46. Сюжет рассказа Кржижановского «Чётки» предлагает читателю вслед за героем совершить захватывающее воображение и крайне опасное путешествие в запредельный мир обратной перспективы, где видимое обновлённым зрением («взглядом небытия») скрывает в себе пустоту, умиротворение, смерть («от туманных галактик до последнего дрязга» герой теперь видит лишь «безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки – бессильные миры», плененные человеческими руками и превращёнными в «орбиты, толкаемые грязным ногтем») и одновременно приобщает к свободной стихии «всепоглощающего зрения» (Мерло-Понти), философской по своей природе и, как следует из финала рассказа, недоступной обыденному сознанию. Начальная «недостача» жизни таким образом ликвидируется избытком инобытия: Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду – вкруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце <…> нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять – мало. Надо увидеть (174)47. 46 Там же. О других художественных подходах к моделированию «запредельного» пространства и способах его рецепции в русской прозе серебряного века см.: Петрова Н. А. Структура пространства в «Фанданго» А. Грина // Алфавит: строение повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленск, 2004. 47 20 В. В. Мароши (Новосибирск) МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ И АРХЕТИПИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «СЕРБСКОЙ СМЕРТИ» В ПРОЗЕ Э. ЛИМОНОВА Нет необходимости напоминать русскому читателю о длящейся вот уже несколько веков трагедии сербского народа – с небольшими перерывами на восстановление «post mortem». Только в ХХ в. Сербия прошла через две катастрофические даже по российским меркам мировые войны (уже в первой из них погибла треть всех сербов) и две балканских. Э. Лимонов принял участие в последней из них не только как журналист и публицист, поддержавший сербов, но и как авантюрист, участвовавший в боевых действиях. Сам писатель стремится создать впечатление гиперреалистичности, документальности своих «югославских» рассказов-очерков, которые собраны в книгу «Смрт» (2008 г.). Сербские политики (Слободан Милошевич), криминальные авторитеты (Желко Разнатович) и писатели (Данила Киш, Мома Димич) стали героями очерков-некрологов Лимонова в «Книге Мёртвых» (2001 г.) и «Книге Мёртвых-2» (2010 г.). В книге «Смрт», которую можно уверенно называть циклом, писатель собрал рассказы и мемуарные очерки, объединённые не столько местом действия (один из очерков, «Война в саду», посвящён Приднестровью), сколько образом массовой, коллективной смерти на войне сербов, хорватов, «турок» (боснийцев). Эпизоды из цикла уже не раз входили в другие книги писателя, но воспринимались в ином, не столь концентрированном контексте. «Смрт» как смерть «собирательную» писатель явно предназначал для особой книги. Вот характерная оговорка «Книги Мёртвых»: «В эту книгу не вошли сотни трупов или тысячи. Семь трупов из санитарной машины, разбомблённой на моих глазах на тенистой горной дороге в Боснии. Мы выкопали для них могилы в тяжёлом грунте. Я просто не знаю их имён. Не вошли несколько сотен трупов из Центра опознания близ Вуковара, я видел их в ноябре 1991 года, никто не знал их имён. Не вошли сюда трупы погибших моих товарищей по фронту в Республике Книнской Крайне, их судьба, как и судьба всего трёхсотпятидесятитысячного сербского населения, неизвестна, я надеюсь, что живых больше, чем мёртвых»48. О судьбе Книнской Краины и своих приятелейсербов Лимонов безуспешно вопрошал ещё в «Книге Мёртвых»: «Куда делись все эти люди? Где комендант? Где солдаты, с которыми я вместе служил? Где Светозар Милич? Где солдат Йокич? Что стало с полковниками Шкоричем и Княжевичем? Где капитан Драган, храбрый сербский Рембо? Где 350 тысяч сербов, населявших эту страшную и прекрасную страну? Мертвы или убежали»i. Больше половины объёма «Смрт» тоже занимают 48 Лимонов Э. Книга Мёртвых. СПб., 2001. С. 6 21 «Книнские истории», которые посвящены Книнской Краине – небольшой сербской республике в Хорватии, исчезнувшей в 1995 году в результате наступления хорватских войск и геноцида сербов. Разрушение своеобразного крестьянского уклада жизни как небольшого сообщества краинских сербов, так и всего сербского народа обозначено в авторском метатексте («Вместо предисловия») двусмысленным словосочетанием «сербская смерть»: «Сербская смерть быстрее русской…»49. Автор скорее всего имел в виду краткость произношения и написания сербского «Смрт» – экспрессивность непривычного для нашего глаза и уха слова со слоговым сонантом [r], без гласного и без смягчения («…бритвенно острое слово «СМРТ»…). Однако вряд ли он не отдавал себе отчёт в том, что подобные сочетания используются в отечественной публицистике прежде всего для обозначения «всеобщей, массовой гибели народа»: достаточно напомнить об иронически-абсурдистской программе интенсификации вымирания русской нации политолога С. Белковского50 или публициста газеты «Завтра» Д. Тукмакова, написавшего некролог-инвективу Е. Гайдару под выразительным названием: «Егор Гайдар. «Орден Русской Смерти»51. Книга оправдывает заданные метатекстом ожидания: в ней смерть на войне действительно носит скоротечный (без агонии, мучений и психологических деталей) и групповой характер. Такая смерть распространяется и на анонимных «товарищей по оружию» – сербов, и на персонажей без национальной идентификации (описание центра опознания в Вуковаре). Врагиантагонисты (хорваты, «турки»-мусульмане), правда, в чуть большей степени изображены как «трупы» и «тела» par excellence. Поэтому подробно описанная гибель и натуралистично описанный труп попутчика Душана Матича («Stranger in the night») подготавливают новеллистический пуант: на мёртвом обнаруживают крест католика («чужой среди своих») и выбрасывают его труп на позиции мусульман. В целом же смерть сербов и их антагонистов в книге комментируется подчёркнуто внеэмоционально, без особой «душевности», но с запомнившимися автору натуралистическими деталями. Это вообще одна из особенностей лимоновской танатологии: «Признаюсь, что не испытываю особенных эмоций при виде мёртвых. В лице мёртвых мы всегда жалеем себя, оплакиваем куски своей жизни и боимся прямо направленного на нас жестокого взгляда рождённой вместе с нами нашей Смерти»52. В «Смрт», по сути, все смерти вызывающе телесны и антипсихологичны: «Когда гражданские узнают, что ты был на войне, они обычно спрашивают: — Ты кого-нибудь убил? 49 Там же. С. 371. Белковский С. «Русская смерть. Общенациональная антикризисная программа: нас ждёт загробная путинская Россия». – URL: http://www.apn.ru/publications/article21422.htm 51 Тукмаков Д. Егор Гайдар. "Орден Русской Смерти" [Электронный ресурс]. – URL: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/10/847/31.html. 52 Лимонов Э. Книга Мёртвых. СПб., 2001. С. 5. 50 22 Как это было? — При этом они, видимо, ожидают, что ты им расскажешь о том, как «он» смотрел в твои глаза, ты — в его глаза. А перед смертью «он» тебе что-то прошептал, и ты теперь всю жизнь терзаешься. То есть гражданские ожидают, что произошла сцена в духе Достоевского: большие глаза, зрачки, прикрытая ладонью рана»53. Лимонов пишет всегда «вопреки»: в данном случае вопреки традиции русской психологической батальной прозы. Отношение Лимонова к смерти на войне определилось в Югославии 1990-х годов и было сформулировано ещё в «Книге Мёртвых»: «Хорошо кончившими» приходится признать тех, кто погиб рано и быстро, кто встретил пулю либо осколок, кто не мучился на больничной койке. Придётся тебе, читатель, захлопнув книгу, взяться за пересмотр твоей эстетики, если ты не остолоп»54. Поэтому и для «сербской смерти» в «Смрт» характерна именно «быстрота» – лаконичная повествовательность и массовость, контрастная с абсолютной неуязвимостью рассказчика. Эпизоды из обеих «Книг Мёртвых» могут рассматриваться как своеобразные автокомментарии к «Смрт»: «В моей жизни бывало, что рядом кто-то скоропостижно погибал, да так, что было беспощадно ясно, что смерть предназначалась мне, но промахнулись те силы, кто смерть осуществляет. Так, однажды мы с полковником Шкоричем, с шофёром и охранником небыстро ехали по асфальтовому серпантину дороги, ведущей в средневековый городок Обровац, близ Адриатики. Впереди двигался грузовик, обтянутый брезентом. В кузове – всего несколько солдат. День солнечный, ясный, едем в тылу войны. До ближайших позиций километры. Вдруг асфальт дороги со свистом облёвывают две мины. Одна сзади нас, другая спереди, у грузовика, поражает грузовик. Почти то же самое случилось годом раньше на выезде из Сараева. Выехали ночью, лишь изредка включая фары, один автомобиль за другим. Идущую впереди машину подбили. Она запылала. Людей добили при свете пожара, стреляли с ближних гор. На мне — ни царапины»55. В статьях о Лимонове привычной стала идентификация его автобиографического героя и самого писателя как вечных «подростков Савенко». Действительно, герой Лимонова после создания НБП окружен множеством молодых людей и подростков, не боящихся смерти. Спасение от смерти – в окружённости личности лидера массами, отрядами, молодёжью: «Нет, не один — слева и справа ребята, рождения восьмидесятых годов. Пацаны. Солдаты. <…> Искусство по природе своей индивидуалистично и потому буржуазно. Вот почему я ушёл в политику. Там работают с миллионами и с поколениями. Там никогда нет смерти»56. Не стал исключением и цикл «Смрт». В его системе персонажей наиболее ценимы рассказчиком не осторожные и мудрые старики (хотя они там присутствуют), а молодые люди или подростки, не 53 Лимонов Э. СМРТ: [ рассказы]. СПб., 2008. С. 46. Лимонов Э. Некрологи. Книга Мёртвых-2. СПб., 2010. С. 5. 55 Лимонов Э. Книга Мёртвых. СПб., 2001. С. 411. 56 Там же. С. 80. 54 23 знающие, что такое смерть: «Возраст, в котором двигательная активность превосходит активность тридцатилетних мужиков, когда чувство самосохранения, как правило, ещё не переросло в осторожность, когда нет ещё семьи – этой гири на ногах, когда война воспринимается как увлекательная игра и принимать её за игру не мешают даже вывороченные внутренности товарищей по казарме, – великолепный возраст!»57; «У обочины отряд, с первого взгляда, подростков. Они одеты в чёрные комбинезоны, увешаны оружием, на лбу чёрные и зелёные повязки. Выглядят они как массовка фильма о какой-нибудь мексиканской революции» (15); «На всём пространстве у здания лежат тела. Некоторые стонут и шевелятся. Другие недвижимы. Писатель с ужасом замечает, что у него на бушлате остановилась красная горящая точка, но, постояв, она перемещается на лежащего рядом молодого парня. «СМРТ», – бормочет писатель. И ползёт прочь» (16); «– Интересно было. Особенно поражают солдаты-подростки. Лет по четырнадцать, почти дети, а службу несут, может, и лучше взрослых. Я вчера даже там девочку интервьюировал четырнадцати лет» (166). Идеальный военный спецотряд оказывается отрядом подростков и гибнет вместе со всей непризнанной республикой: «Но там не было взрослых. Я не увидел там ни единого мужика старше тридцати. Вот почему это был особый отряд. Вовсе не потому, что диверсионный, а потому, что отряд малолеток» (202); «В 1995 году хорватские войска уничтожили Сербскую Республику Книнской Краiны. По моим сведениям, отряд Богдановича был уничтожен полностью. Они не просили пощады. Они ещё не успели этому научиться» (202). Проза Лимонова, вопреки своей кажущейся документальности, осознанно архетипична. Так, в «Смрт» изображается последовательно только очень холодная зима в Балканах и Италии и необычно холодная осень – времена года, символизирующие смерть и увядание: «Через час мы застряли в снегу» (185); «Шёл крупный снег. И тотчас таял, ибо это всё же была Северная Италия, а не средняя полоса России» (166); «Пахло трухлявой пряной гнилой осенью. До этого несколько дней шли дожди. Пахло плесенью» (40); «Хотя была ранняя осень, там повсюду был снег, свистел ветер в соснах, и было очень холодно» (20). Символика матери и отца, их «животной» связи их с сыном, разрыва с ними и возвращения к ним образует глубиннейший слой произведений Лимонова: «Отец и мать прикрывали меня от смерти. Впереди была не моя, а их смерть (ну, разумеется, если порядок смертей и рождений был обычный, а не экстраординарный, а он был обычный). Когда умерла мать, я оказался следующим на конвейере смертей. Открытым в лоб. Впереди нет уже родительских хилых спин. Ощущение незащищённости от ветра смерти и звездо57 Лимонов Э. СМРТ: [рассказы]. СПб., 2008. С. 200. Далее ссылки даются по этому изданию с указанием страниц в скобках. 24 падов Вселенной»58. Поэтому клишированная «пышнейшая и большая блондинка»59 может превратиться в мать-кормилицу пирующих военных: «Единственная женщина огромна. Она настоящая мать всем нам. Улыбается, приносит зараз по десятку тарелок всем нам…» (62) . Самый страшный рассказ в цикле – о гибели белой лошади – кормилицы большой крестьянской семьи сербов: «Отец был спокоен, видимо, ещё не понял, что семья лишилась кормилицы. Он был в шоке, потому спокоен» (224). В этом же ряду – «отец солдат» на войне – «Батька» (комбат) Костенко «с глазами рыси», солдат-отец серб, стыдящий своего молодого врага: «Однажды молодой солдат хорват долго ругался грязным матом про «печку матерну», то есть женский детородный орган матери. Старый солдат серб не вынес грязной ругани и пристыдил молодого человека. Очевидцы говорят, что он упрекнул парня, мол, оружие взял в руки, форму надел, а такие непочтительные вещи говоришь о матерях. Матерей уважать надо. Самое интересное, что молодой солдат хорват затих. Ему стало стыдно» (126). Поэтому персонажи не стреляют в спину убегающему отцу, который только что потерял убитым сына («Мы не стали в него стрелять»). Отцовское отношение к ребёнку врага мешает его убить: «Радостно мурлыкая, он взял хороший прицел, и в это время на балкон выбежал маленький сын соседа. – Я не убил его, – сожалел потом серб, – мальчика жалко стало» (151). Дистанция, демонстрируемая рассказчиком по отношению к православию сербов («…православный из меня никакой» (38) не мешает ему понять горе отца, потерявшего сына: «Я встал и вышел. Шкорич остался у лампы, под иконой и под распятием. Он стал набожным после гибели сына, сказали мне. А до этого был атеистом. Человеку нужно за что-то цепляться. Если Родины и войны не хватает, появляется Господь» (47). Групповая смерть подростков и детей («Отдельно в палатке поменьше – пять трупов детей. У одного очередью перебиты руки. Самый маленький труп лет пяти – с выколотыми глазами» (12) в повествовании имеет своей параллелью смерть старухи, представляющей архетип Матери: «Труп голой старухи, часть тела обожжена, в области груди видны огнестрельные раны, с грузовика стаскивают вниз на медицинскую тележку. Одна из рук старухи перебита и чуть не отваливается» (12). Символика изображения трупа старухи в предисловии в полной мере проясняется только в «Книге Мёртвых-2». Её смерть – предвосхищение смерти матери Лимонова: «Старуха лежала на диване. Она была похожа на увеличенную корку чёрного хлеба, надолго оставленного на солнце. Она была черна и местами желта. Рот у неё был приоткрыт, и оттуда выпирали огрызки металлических зубов. Челюсть была подвязана платком, но рот от этого не закрылся. Дело в том, что старуха 58 Лимонов Э. Некрологи. Книга Мёртвых-2. СПб., 2010. С. 356. Лимонов Э. СМРТ: [рассказы]. СПб., 2008. С. 61. Далее ссылки даются по этому изданию с указанием страниц в скобках. 59 25 умерла одна, никто при ней не находился. Умерла она с открытым ртом. Нашедшая её мёртвой наутро сиделка попыталась закрыть рот, но было поздно. Старуха была похожа на труп старухи, который он видел когда-то в центре опознания трупов под Вуковаром, в Сербии, ту старуху, правда, перед смертью пытали («У трупа старухи»). Старуха была его матерью. И это он был виноват, что у трупа не был закрыт рот. Будь он хорошим сыном, он бы присутствовал в момент смерти матери. Держал бы её за руку… Закрыл бы ей рот. Но он был плохим сыном, потому приехал наутро…»60. Сербия для рассказчика всегда «мамка-Сербия» (на сербском – «Мајка Србија»), то добрая, а то и эгоистично-жестокая к своим гибнущим сыновьям: «Последние часы пути до территории мамки-Сербии он молчал» (251); «А потом они бомбили и мамку-Сербию» (33); «А не с пшеничных полей матери-Сербии…» (72); «…что мамка-Сербия президента Милошевича решила отдать населённые сербами территории» (121); «В 1995-м она была сметена хорватским воинством. Мамка Сербия за неё не вступилась» (180); «Тут крестьяне проснулись и стали извлекать из мешков и баулов автоматы, карабины и даже один «томпсон». Дело в том, что мы уже находились вне территории мамки-Сербии, и всё могло случиться» (62); «Эта река является исторической границей мамки-Сербии» (241); «Без помощи мамки-Сербии мы долго не протянем…» (75). Архетипичность ситуаций книги состоит и в амбивалентности соседства смерти и «радости жизни», которая выражается в смехе, хохоте, еде, сексе (очерк «Солдатки»), сербской матерщине, связанной с символикой рождающего материнского лона. Солдаты, да и отцы-командиры, всё время смеются и хохочут: «…могучие и весёлые сербы снаряд за снарядом кладут, уничтожая понтонный мост, возведённый хорватской армией» (87); «Солдат подчищает пол кузова грузовика лопатой, кусок тела либо окровавленной одежды падает на тележку, на труп старухи. Солдаты спрыгивают и идут мыть руки всё к той же цистерне. Хохочут. Доктор, увидев непонимающий взгляд писателя, провожающий солдат, философски замечает, что СМРТ — это СМРТ, а «живот» есть «живот», то есть жизнь» (12); «Вокруг странные бородатые солдаты в чёрном: сапоги, кожаные куртки, чёрные папахи с кокардами. Хохочут, подталкивают друг друга» (10); Костенко: «Белые колготки», «белые колготки»! Олухи. Соседские ребята целку затащили и трахнули. А она сбежала! Смеётся» (15); «Писатель Лимонов стоит в первом ряду вблизи от грузовика. С ним разговаривают Константинов – председатель Фронта национального спасения – и дед на костылях. Все весёлые» (16); «Мишо упал на землю возле меня. Смеётся. Достаёт фляжку» (60); «Солдаты было захохотали, но тотчас замолкли, вспомнив о сбежавшем хорвате, он мог услышать 60 Лимонов Э. Некрологи. Книга Мертвых-2. СПб., 2010. С. 408. 26 нас» (145); «Воевода» расхохотался и сообщил, что, конечно, он ни в кого не собирался стрелять» (100); «Солдаты хохотали безудержно. В конце концов прямо в нашем присутствии сложилась легенда о том, как два журналиста, японец и рус, поехали прямиком на хорватские укрепления, а там, в районе Тузлы, как раз самые злые хорваты и стоят». – «К хрватам на кофий поехали!» – смеялись до слёз солдаты» (250–251); «Пятеро молодых прилипли каждый к своей подружке и о чём-то вполголоса беседовали. Часто прерываясь на хохот» (137). Вполне карнавальным выглядит и постоянное соседство в повествовании описаний обильной и вкусной балканской еды и питья (кофе, сливовица) с ситуациями опасности и смерти. Два контекста навскидку: «Стол был уставлен закусками: ягнятина, сушёное мясо, суп чорба. Военная Босния жила в те годы сытнее и обильнее, чем Россия» (38); «Водитель полковника извлёк из мешка большие бутыли сливовой водки, повеселевшие крестьяне поставили на стол сыр, творог, какие-то вкусные печёные овощи, огромный лук – непременное блюдо сербского стола, свежий хлеб» (90). В минуты опасности герои поминают «печку матерну» (рождающий материнский орган), используя сербское матерное ругательство: «Хрватские министры, в печку матерну, умели жить. Мы тоже немножко поживём хорошо, работа у нас тяжёлая и опасная»(193); « – Поворачивай! – заорал я. – Сейчас нас обстреляют! Ёб твою печку матерну!» (249); « – В печку матерну, – говорит Мишо. – В печку матерну, – повторяю я. Солдат уползает» (60). Приключения Лимонова представляют собой прежде всего инициацию героя войной. В этом смысле они и «нарциссичны», и ритуальны, как ритуализовано любое растянутое во времени и пространстве посвящение писателя в воина – настоящего мужчину: «Мне тогда казалось (и через годы я подтверждаю это видение), что Балканы — это мой Кавказ. Что как для Лермонтова и нескольких поколений российских дворян и интеллигенции Кавказ служил ареной подвигов и погружения в экзотику в XIX веке, так для меня балканские войны стали местом испытаний в конце двадцатого. Романтизм Шиллера и Байрона, Лермонтова и де Мюссе, так же, как воинские приключения Хемингуэя и Оруэлла, толкали меня на Балканы. Я остался на Балканах. Мне хотелось пережить всё, что только можно» (85). Из рассказов цикла в наиболее отчётливом виде подобную ритуальность содержит «Атака», где рассказчик испытан «чётниками» в бою не как «писец», а как «юнак» и повязан кровью убитых, возможно, им «турчинов» – мусульман: «Они стали пробовать меня на зуб» (54); «– Кончилось перемирие, рус. – Мишо не брал из моих рук автомат. – В одиннадцать часов турки должны были передать нам тела наших юнаков. Не передали. Конец перемирию» (54). Ср. в очерке «Черногорцы»: «Обряд инициации юноши в звание молодого мужчины, юнака (в сербской эпической поэзии «јунак» всегда значит «богатырь, молодец, удалец». – В. М.) включал в себя непременным условием привезённую на пике голову «турчина» (86); « – Это не сер27 бы, – шепчет мне Мишо. Я молчу. – Это турчины, мы их застрелили, – бубнит Мишо» (58). Дополнительную символическую остроту ситуации придаёт то, что атака происходит на бывшем еврейском кладбище, месте погребения: «… под Сараево нам противостояли мусульмане. А место называлось Еврейски Гроби, т. е. Еврейское Кладбище. Оно и было кладбищем, там лежали плиты на ничейной земле внизу. Я это увидел потом, во время атаки» (52). Уважение к сербским священникам («Сербские священники проще, человечнее и симпатичнее русских. <…> Их вера страдала дольше русской, потому они не принимают ханжества» – 88) отодвигает в сторону, пусть и на короткий временной промежуток, всегдашнюю лимоновскую сакрализацию войны. Рассказчик ритуально серьёзен, осознанно целуя руку владыке и созерцая нетленные мощи святого: «Владыка попросил открыть для меня мощи святого Петра Негоша, и мы попрощались. В этот раз я поцеловал руку владыке. Разбойники, поцеловав руку, пятились задом и задом же покидали приёмную, выпрямляясь только в коридоре. Нам открыли склеп и в склепе открыли гроб. Позднее мне сказали, что этой чести не удостаивались и главы государств. В гробу в красной с золотыми шнурами мантии лежал длинный скелет. Кожа на черепе сохранилась. Рук не было видно, они были прикрыты. – Здесь очень сухой воздух, – сказал старый служитель. – К тому же, святые не разлагаются. – Он был серьёзен, так же, как и я» (89). Только в «Смрт» появляются эпизоды, в которых в моменты смертельной опасности герой Лимонова молится о помощи Божией либо даже получает её: «На что я надеялся, я не знаю, но Господь наш Всевышний сделал так, что в этот момент сквозь дождь мимо нас быстро, не останавливаясь, проехал встречный автомобиль. Добровольцы бросились за автомобилем» (243); «О, Боги! Я понял там, на горной тропе в Далмации, как было нелегко Че в Боливии. Правда, он сам был доктором, и у него были с собой кое-какие медикаменты. Если я выживу, Иисусе Христе, святый наш Боже православный, клянусь, я всегда буду возить с собой баллончик с вентолином. О святый Боже! Клянусь» (160). Правда, совсем в духе Лимонова Че Гевара смешивается с Христом, а молитвенное обращение – с вентолином. Основным предметом разногласий Лимонова с литературоведением является постоянно оспариваемая писателем и постоянно демонстрируемая дружественной к нему филологией (в лице прежде всего А. Жолковского) литературность его якобы «прямых трагических» произведений. «Репортажность» рассказов цикла почти пятнадцать лет спустя отошла на второй план и сказалась разве что на рассказе «Stranger in the night», в котором для создания эффекта авантюрного пространства и времени действительно использовано «настоящее репортажа». Остальные построены на мемуарности, где «правда» смешана в той или иной пропорции с беллетристическим вымыслом. Особенно очевиден последний в «Самовольной отлучке», впервые опубликован28 ной в рамках проекта современного святочного рассказа журнала «Афиша» (2005 г.) и «Белой лошади», отсылающей к одноимённому рассказу И. А. Бунина. Попробуем посмотреть на «Смрт» и мы, приняв во внимание прежде всего литературную «танатологию» Сербии в русской литературе и отказавшись от журналистского и гиперреалистического взгляда на лимоновский цикл. В русской словесности с XIX в. начала складываться своя художественная мифология сербов и Сербии. Её фундаментом стали мотивы перманентной войны, кровавых боёв и казней, повсеместной насильственной смерти, мученичества сербского народа. Как правило, это точка зрения литератора, никогда не бывавшего в Сербии и знакомого с ней по переводам сербского фольклора и журнальным публикациям. Однако русские журналисты и писатели, побывавшие в стране во второй половине 1870-х годов на волне добровольческого движения (См.: Г. Успенский. «Письма из Сербии» (1876 г.); В. Мещерский. Правда о Сербии. Письма. СПб., 1877; А. Н. Хвостов. Русские и сербы в войну 1876 г. за независимость христиан. СПб., 1877), скорее, подрывали, чем подтверждали сложившуюся мифологию. Это происходило именно потому, что они опирались на свои личные, непосредственные впечатления, а не на знание сербской истории, культуры, фольклора. Кажется, что Лимонов должен был бы играть на их стороне, но этого, как мы покажем, как раз и не происходит. Более того, возвращаясь к ключевой для всей книги образной формуле «сербской смерти», акцентируем её до сих пор невостребованную часть: «Сербская смерть быстрее русской, она как свист турецкого ятагана» (7). «Турецкий ятаган» – историзм, архаичное оружие, когда-то востребованное в войнах сербов с турками, – рассказчик видит наносящим удар «здесь и сейчас». Собственно, бои с «турчинами» (отуречившимися босняками) в повествовании ничем не выделяются по сравнению с войной с «хрватами». Однако именно с турецким нашествием связан важнейший сюжет сербского православия – битва при Косовом поле и выбор князя Лазаря. Это тип сюжета, восходящий к мартирию, но распространявшийся и на весь сербский народ в целом. Общая мученическая жертва, начавшись с подвига князя Лазаря и сербского войска на Косовом поле, продолжается и по сию пору: пав на поле сражения, князь и его воины выбрали «Небесную Сербию», Вечную Жизнь, спасли свои души и страну, уступив её в земной жизни и истории врагам («Ја сам теби земно царство Дао, ал ако ме будеш послушао, // ја ћу теби вечни живот дати, у Рају ћеш царе уживати»). Образность «косовских песен» сохранилась, по крайней мере, в современной сербской публицистике: «Эта драма началась на Косове. Черногория и народ, живущий в горах, – это продолжение косовской мистерии. Всё, что в этих горах рождалось, рождалось из крови косовских воинов» (Иво Андрич)61; «Черно61 Иеромонах Кирилл (Бойович). Митрополит Пётр II Петрович Негош как христианский философ [Электронный ресурс]. – URL: // http://forum.srpskinacionalisti.com/ 29 гория – это Ноев ковчег, который возник во времена Косовского потопа. Тот ковчег носился над водой, а этот – над кровью» (поэт Матио Бечкович)62. Понятие Царства Небесного, куда по верованию православных сербов определён князь Лазарь, обозначено Евангелием, а кроме того, является и основной идеей любой героической эпопеи, где смерть на поле брани – путь к стяжанию вечной жизни на небесах и вечной памяти и славы на этом свете. Лимонов же, как то следует из комментария в «Черногорцах», используя троп с турецким ятаганом, имеет в виду, скорее, средневековые истоки современной балканской войны, процесс «отуречивания» сербов: «Когда на Балканах в XIV веке появились турки (германские восточные племена из Австрии пытались захватить Балканы уже с X века. Соседняя АвстроВенгерская империя сумела огерманить хорватов и словенов до такой степени, что тысячу лет спустя эти два племени полностью онемечены), то всё вконец смешалось на Балканах. Отуречивая славян и делая из сербов мусульман, а все мусульмане на Балканах в Боснии-Герцеговине суть по национальности сербы, турки заложили мину замедленного действия. Последствия – такие, что германская мина взорвалась в 1991-м – восстали хорваты и словены, а в следующем, 1992-м, восстали мусульмане. Разрывая напрочь Югославию» (78). Тем не менее, назвав некролог о С. Милошевиче «Мученик. Слободан Милошевич», Лимонов ясно даёт понять, что воспринимает его политическую миссию как продолжение сербского мартиролога. В этом контексте довольно сомнительными, с точки зрения своей глубинной обоснованности, являются оба варианта заглавия некролога, посвящённого криминальному авторитету и сербскому националисту Желко Разнатовичу («Аркану») – «Братва вокруг князя Лазаря» (в первой публикации 2000 г.) и «Ребята вокруг князя Лазаря»: «Аркана я больше не встретил. Так как к сербам больше не ездил. В марте 1994 года я окончательно приехал в Россию, чтобы победить здесь – или умереть. Чем и занимаюсь до сих пор. За Арканом же я следил внимательно издалека. Газеты писали о нём охотно. Он женился с помпой и шумом на красавице – фольклорной певице. Когда началась напряжёнка в Косове, Аркан немедленно появился там со своими «тиграми», наводя ужас на албанцев. Однако ясно, что никакая высшая храбрость и личные боевые качества 5 или 8 тысяч бойцов не могут противостоять «крылатым ракетам», сверхсовременным самолётам – воздушным армадам НАТО. Желко Разнатович, Аркан (по-турецки «Лев»), делал что надо и как надо, был настоящий рыцарь своего народа, какими они были, может быть, в битве при Косове в 1389 году, ребята вокруг князя Лазаря»63. Неожиданный мостик от сербов Косова поля к Аркану возникает в финале некролога именно как пуант и эффектный риторический ход. 62 63 Там же. Лимонов Э. Книга Мёртвых. СПб., 2001. С. 373. 30 Очерк «Кровь», вошедший в книгу «Смрт», обусловлен не только «точечными» событиями балканской войны (сдача крови для раненых, поездка на передовые позиции), но и одним из важнейших, «мистериальных» мотивов «сербского текста» в русской литературе (см. об этом ниже): «Казарму разбудили среди ночи. В коридоре офицерского нашего этажа топали множество ног, стучали в двери и что-то кричали. Я вскочил, влез в брюки, сунул в кобуру пистолет, сдёрнул с крючка автомат и выскочил в коридор. Оказалось, что нет, на нас не напали. В госпиталь привезли множество тяжелораненых, срочно нужна была кровь»64; «Офицеры исчезали один за одним в двери, где была криво приколота белая записка с надписью «КРОВЬ» (177); «Внезапно вошёл военный в каске. На ходу он расстегнул каску и сел. Снял каску. Руки, держащие каску, были в крови. Под каской голова его была повязана камуфляжным платком. Лицо его было разрисовано. Я впервые увидел разрисованного, как в кино разрисованы бойцы особых отрядов. … – Драган прямиком из боя, – сообщил Шкорич, приблизившись, и посмотрел на генерала с явным вызовом. – Он всегда ходит впереди своих бойцов. Руку ему вон осколком задело. – Шкорич указал на пол, где от Драгана остались обильные капли крови, плотные и не растекающиеся, как капли ртути» (185). Возможная сопричастность рассказчика мистериальности сербской войны становится темой комментария a propos к выполнению простой обязанности воина: «Воткнула иглу в вену, и кровь пошла из меня в дело. У меня редкая группа крови, во Франции её обозначают АВ+ и берут охотно. Как-то уже в России я услышал по радио, что у самого Иисуса Христа на Туринской плащанице оказалась моя группа крови: арамейская или средиземноморская. Говорят, такая кровь распространена у жителей Палестины. Как такая кровь попала в мои вены, не имею ни малейшего понятия. Кровь моя собралась в банке, и некрасивая тётка сняла с моей руки жгут и перебинтовала мне сгиб руки. Мою кровь куда-то тотчас унесли» (177). Обратим внимание на фирменный эгоцентризм рассказчика: это у Христа кровь Лимонова, а не наоборот! Кроме того, Лимонов в книге всячески подчёркивает свою чуждость, невовлечённость по отношению к столь значимому для сербов православному миру: рассказчик похож на хорвата, носит кольцо не на том пальце, не знает, как подойти под благословление владыки, крестится непонятным образом и т. п. – этакий Лютов среди сербской «Конармии». Поэтому его аллюзия и не воспринимается как намёк на приобщение героя к ритуалу жертвенного пролития крови за сербское «православство». Гораздо более значимым для рассказчика становится участие в героическом национальном эпосе в конце ХХ в. по образцу прежде всего античной 64 Лимонов Э. СМРТ: [рассказы]. СПб., 2008. С. 176. Далее ссылки даются по этому изданию с указанием страниц в скобках. 31 эпопеи: : «Я понял, что мне немедленно нужно именно туда. К сербским Ахиллам и Патроклам. Что гнусная реальность Москвы («Склочники и дебилы!») и гнусная реальность Парижа (алкоголичка и нимфоманка Наташа) меня не устраивают. Скорее туда, на каменные, бешено красивые плато вблизи Адриатики, к Ахиллам и Патроклам в камуфляже» (37); «… мне нужно было ехать, я же не за любовью явился в Белград, мне нужно было к Ахиллам и Патроклам» (55); «Они грязнили и опошляли в моих глазах образ героической земли, где героические люди, простые крестьянские Ахиллы и Патроклы, насмерть бились за свои горы, за свои сады и тени дубовых рощ» (67); «У них (книнских сербов. – В. М.) не нашлось своего Гомера, чтобы воспеть их подвиги и осудить их немыслимую злобу. Я видел их пороки, но я перед ними преклоняюсь. Они проявили себя немудрящими, прямыми, как древние. Они столетиями отвоёвывали эту землю от завоевателей и от родственных хорватов, два раза в двадцатом столетии пытавшихся навсегда решить их вопрос — сербского анклава в сердце Хорватии. Защищая свои скудные поля, своих тонкорунных поэтических овец, защищаясь, они воевали храбро» (152); «Сидим, мохнатые тени от трёх лампочек превратили нас в древних героев» (89). Поэтому сербы – действительно, рослый народ – в «Смрт» в основном изображаются как богатыри былин, великаны эпических преданий: «В результате постоянной борьбы выживали сильнейшие. Черногорцы, как правило, великаны, хотя встречаются и люди среднего роста, такие, как Бабакстарший. Великий их литератор и вождь Петр Негош был тонким монахом в два метра с лишним» (87); «Вместе (женщины – кучкой прильнув к богатырским плечам сербов, я отстал от них и подсмотрел) мы быстро нашли церковь Святой Агнессы» (133); «На диванах лицом к лицу сидели два великана и пили кофе, держа миниатюрные чашечки в огромных руках. Великаны были одеты в полевую форму югославской армии (192)»; «За дверью два огромных серба в военной форме. Улыбаются. Готов ли товарищ Лимонов? Готов» (8). Архаизация ситуаций, пейзажей, бытового антуража сопровождает романтическую в своей основе героизацию персонажей (как тут не вспомнить авторское сравнение Балкан с Кавказом). Гибнущий мощный герой с его «телом» и «поступком» для Лимонова важнее национального архетипа «князя Лазаря». Название некролога, посвящённого погибшим и умершим соратникам по НБП («Они будут ждать нас под сводами национал-большевистской Валгаллы…», указывает на веру в загробный рай воинов как подобие германо-скандинавской Валгаллы: «Они будут ждать нас под сводами националбольшевистской Валгаллы. Слушая Шостаковича и Моцарта»65. Парадиз, где продолжают сражаться и пировать герои, важнее для Лимонова Царствия Небесного. Смерть в бою и готовность к ней уравнивает всех персонажей 65 Лимонов Э. Книга Мёртвых. СПб., 2001. С. 422. 32 «Смрт», даже сербов и их врагов: «Правы все, кто воюет, кто подвергает свою жизнь опасности»66. Приоритетность влияния на «Смрт» разных литературных источников – проблема достаточно деликатная и вряд ли разрешимая. Сам писатель в «Смрт» упоминает роман «Мост на Дрине» классика сербской литературы Иво Андрича (русский перевод вышел в начале 1970-х годов): «Нам предстояло преодолеть ещё долгий путь на восток, предстояло переехать через речку Босна, давшую название Боснии, и ехать до самой Дрины, эта река является исторической границей мамки-Сербии. Существует классический роман «Мост через Дрину». Если вы хотите понять сербов, мусульман, Балканы, обязательно прочтите его»67. В этом романе смерть крестьянина-серба, посаженного на кол мусульманами, изображена как победа мученика-христианина над турками, победа Небесной Сербии над земной: «…все поняли, что крестьянин умер. И все сербы, как бы одержав незримую победу, вздохнули с облегчением. Люди теперь смелее обращали взгляды на леса и на казнённого. Все ощущали, что в постоянном соперничестве и состязании с турками на этот раз взяла верх их сторона. Смерть – самый страшный залог. <…> – Господи, прости его и помилуй! – Эх, мученик! Эх, горемыка наш! – Не видишь разве, что он теперь святой? Настоящий, брат, святой. И каждый исподлобья бросал оценивающий взгляд на покойника, всё такого же бравого, как будто бы он вышагивал перед ротой. Больше он не внушал им ни жалости, ни страха. Напротив, теперь всем стало ясно, насколько он оторвался от них и возвысился. На земле не стоит, ни за что не держится руками, не плывёт, не летит; центр тяжести заключён в нем самом; освобождённый от земных пут и земного груза, он избавился и от страданий; никто и ничто ему больше не может сделать – ни пуля, ни сабля, ни злые козни, ни человеческое слово, ни турецкий суд. Обнажённый до пояса, связанный по рукам и ногам, прямой, с гордо закинутой головой, он походил теперь не столько на человека с его неизбежным развитием и распадом, сколько на воздвигнутое в высоте твёрдое и не подверженное тлению изваяние, поставленное тут навеки»68. К сожалению, ничего похожего на этот панегирик мученику мы в «Смрт» не находим. Эгоцентризм и чувственный материализм героя становится непреодолимым препятствием на пути жертвенного и христианского отношения к смерти. Основа собственно русской мифопоэтики Сербии была заложена в «Песнях западных славян» Пушкина, в свою очередь, обязанных как мистифика66 Там же. С. 176. Лимонов Э. СМРТ: [рассказы]. СПб., 2008. С. 243-244. 68 Андрич И. Мост на Дрине. М.: Правда, 1985. С. 120. 67 33 ции П. Мериме, так и знакомству русского поэта с первым томом сборника Вука Караджича «Народне серпске пjесме» (1824 г.). Конечно, как на Мериме, так и на русских авторов решающее влияние оказал собственно сербский фольклор, в котором преобладают «юнацкие» и «косовские» песни, актуальные и по сию пору для большинства сербов. Современный исследователь так резюмирует метасюжет цикла Пушкина: «Главное, от чего свободны герои, – это страх смерти, и своей, и чужой. Смерти никто не боится – ни Стефан в «Видении короля», приемлющий мученическую кончину, ни гайдук Хризич с сыновьями, ни Елица, бросающаяся в реку из-за измены королевича Яныша. По сути, истории героев – преимущественно истории их смертей, в большинстве песен смерть героя оказывается центральным событием, о герое помнят, потому что помнят, как он умер. Именно таким образом обеспечивается герою жизнь после смерти, потому что смерть ощущается здесь как другая реальность, в буквальном смысле слова – инобытие (иное бытие). Очень характерно, что обращение к мёртвому в «Похоронной песне Иакинфа Маглановича» выглядит как обращение к живому, при этом факт смерти отнюдь не игнорируется»69. Вполне последовательны сюжетные концовки «Песен», завершающие и жизненный путь героев: «Тут и смерть ему приключилась»70; «Отрубили голову Радивою» (538); «И Феодор Стамати зарезал, // А жида убил, как собаку, // И отпел по жене панихиду» (540); «Семерых убил из них каждый, // Семью пулями каждый из них прострелен» (542); «Будь же богом проклят ты, чёрный, // Коль убил ты отца родного!» (548); «Их полковник повалился. // С ним сто двадцать человек» (546). В «Видении короля» льются потоки крови: «На помосте валяются трупы. // Между ими хлещет кровь ручьями, // Как потоки осени дождливой. // Он идёт, шагая через трупы, // Кровь по щиколку ему досягает <…> Кровь по сабле свежая струится // С вострия до самой рукояти» (534); «Нож злачёный весь был окровавлен…» (551). В нескольких «сербских народных песнях» (цикл «Из славянского мира» 1870–1879) А. Майкова развиваются те же пушкинские мотивы чрезмерного кровопролития: «А к полудню вся река уж явно // Алою окрасилася кровью» («Сабля царя Вукашина»)71; «Вижу – поле, залитое кровью; // Грустно месяц на поле глядит <...> // Славный витязь Марко королевич // Между трупов раненый лежит»72. Очевидно, что появление в составе «Смрт» мемуарного очерка «Кровь» (по-сербски – «Крв». – В. М.) необъяснимо вне высокого удельного веса мотивов, связанных с кровью, системы её метафор и гипербол в «сербском тек69 Свенцицкая Э. «Песни западных славян» Пушкина как художественное единство // Вопросы литературы. 2001. № 1. – URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2001/1/sven.html 70 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 3-х т. Т. 1. М.,1985. С. 537. Далее ссылки даются по этому изданию с указанием страниц в скобках. 71 Майков А. Н. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1984. С. 523. 72 Там же. С. 530. 34 сте». Приём «пушкинского» обрамления мотивами смерти использован и в отдельных произведениях цикла «Смрт». Они начинаются или завершаются мотивом смерти персонажей: «На всём пространстве у здания лежат тела. Некоторые стонут и шевелятся. Другие недвижимы. Писатель с ужасом замечает, что у него на бушлате остановилась красная горящая точка, но, постояв, она перемещается на лежащего рядом молодого парня. «СМРТ», – бормочет писатель. И ползёт прочь»73. «Это добрая история, но конец у неё (точнее, это произошло уже за временными рамками этой истории) всё равно мрачный» (138); «Дневной счёт был 2:2. По двое убитых с каждой стороны» (60); «А начальник полиции погиб так…» (111); «Молодой офицер военной полиции застрелил «Клинта» из подаренного им кольта «кобра-магнум». И был застрелен сам его телохранителями» (124). Мотивы перманентной «балканской резни» докатываются и до прозы начала ХХ в.: «– Райко медленно ответил: – На днях серба одного, Боиовича, на границе зарезали. Турци зарезали. И всем ясно представился зарезанный серб, какой-то Боиович, у которого мертвецки-жёлтый и крючковатый нос, как у Райко, и на горле широкая чёрная рана»74; «Все молчали – и, схватив круглый столовый нож, потрясая им в воздухе, Райко дико закричал: – Убию! Ой, какой я злой! Как у меня болит сердце! Ой, как болит!»75. Ю. Кузнецов, лидер «почвенной» русской поэзии, переводивший уже в конце ХХ в. сербскую поэзию и фольклор, использовал в своём авторском варианте «Сербской песни» предсказуемую метафору-рефрен: «Вместо солнца нож взошёл кровавый. <…> Ноет рана старая жестоко. // Вместо солнца всходит нож кровавый»76. В стихотворении отечественного барда А. Городницкого «Песни западных славян...» мотивика «резни», но уже без какоголибо христианского её оправдания найдёт своё завершение: «Ни надежды, ни просвета. // Иссушит колосья лето, // И юнак умрёт от ран. // Молодой душе пропасть // В поле боя опустелом. // Волк наелся белым телом, // Ворон крови попил всласть. // <…> Песни западных славян // Нетипичны для Европы, – // <…> // В песнях западных славян // Нет струны любовной тонкой, – // Рубят надвое ребёнка»77. Мифология, которая начала складываться в русской поэзии, была поддержана и в прозе. В этом же ряду и сюжетно отложенная смерть серба Вулича в «Фаталисте» М. Лермонтова, разрубленного пьяным русским казаком: «Он был родом серб, как видно было из его имени. Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, 73 Лимонов Э. СМРТ: [рассказы]. СПб., 2008. С. 16. Андреев Л. Избранное. Л.,1984. С. 103. 75 Там же. С. 104. 76 Кузнецов Ю. Стихотворения. – URL: http://www.stihi.ru/2007/01/27-2257 77 Городницкий А. Песни западных славян… [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bards.ru/archives/part.php?id=4568 74 35 чёрные волосы, чёрные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, – всё это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. <…> Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали моё замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться»78. На верную и желанную смерть в Сербию едет в «Анне Карениной» уже внутренне мёртвый Вронский: «– Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану? – О нет! – как будто с трудом понимая, сказал Вронский. – Если вам всё равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас; для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций»79. Побывавший в Сербии Г. Успенский обратил внимание на разницу в отношении к войне русских добровольцев и сербов. «Искателями смерти» в Сербии становятся именно русские: «По приезде в Белград он просит тотчас же отправить его на поле битвы, негодует до слёз на то, что его заставляют ждать, негодует на сербов, про которых рассказывают, что они бегают в кукурузу, и не дерутся насмерть, как хочет драться он. <…> Судите сами, какое впечатление на серба, любящего «кучу» (свою семью. – В. М.), должен был производить вновь прибывший брат, для которого – «всё один чёрт» и который, напротив, бежит «от кучи», то есть от бездны всей массы условий его личной жизни, условий, которые заставили его находить удовольствие в смерти почти только потому, что «всё один чёрт»80. Романтический Вулич превращается у Л. Андреева в экспрессионистски выразительного и злого Вукича. В рассказе «Иностранец» (1901 г.) русский студент Чистяков, собирающийся эмигрировать в Германию, стать «иностранцем», открывает для себя потерянную Родину, сочувствуя студентусербу Райко Вукичу. Лейтмотивы его образа в повествовании – необычно сильная любовь к родине-матери, готовность умереть за неё, злость, кровь, боль и страдание, смерть, рана: «О далёкой родине он пел; о её глухих страданиях, о слёзах осиротевших матерей и жён; он молил её, далекую родину, взять его, маленького Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцеловать перед смертью ту землю, на которой он родился; о жестокой мести врагам он пел; о любви и сострадании к побеждённым братьям, о сербе Боиовиче, у которого на горле широкая чёрная рана, о том, как болит сердце у 78 Лермонтов М. Ю. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.,1990. С. 581-583. Толстой Л. Н. Анна Каренина. Роман: в 8 ч. Ч. 5-8. Л.,1979. С. 353. 80 Успенский Г. Письма из Сербии [Электронный ресурс]. – URL: http://readr.ru/glebuspenskiypisma-iz-serbii.html?page=6##ixzz1gxXMtHG1 79 36 него, маленького Райко, разлучённого с матерью-родиной, несчастной, страдающей родиной»81. На тех же мотивах, но с явным усилением стигматов общенационального мученичества сербов, у Андреева построена риторика публицистического «Слова о Сербии» (1914 г.): «И только вслушавшись в хрипоту этого далёкого и бодрого голоса, только заметив, как изо дня в день слабеет он от непрерывной потери крови – вы почувствуете в нём и глубочайшую тоску, и отчаяние – почти что ужас. С Сербии началась война, первым убитым в этой великой борьбе народов был серб; и этого не забудет, и это отметит история. И с того первого убитого серба и до того серба, которого убили вчера, убивают сегодня, сейчас – четыре месяца мужественно бьётся маленький, одинокий, героический народ со своим королевичем Александром <…> сербской крови, сербского ужаса, сербского несчастья! < …> загорелое, сухое тело мужественного серба сплошь покрыто рубцами от турецких ятаганов и немецких зазубренных штыков < …> Вся его историческая жизнь – это жизнь сурового мученика-трудолюбца, у которого в одной руке заступ, а другую он поднял для защиты головы; его жизнь – это непрерывный мартиролог мучеников за свободу, бесконечная вереница распятых, распятых! Он минуты отдыха не знал за столетия, он не изведал счастья простой безопасности <…> Помогите сербу, который молча истекает кровью»82. Любопытно, что Лимонов в эссе «Нора и Родина» тоже отказывает российскому горожанину, как и Л. Андреев – «иностранцу» Чистякову, в любви к Родине и готовности умереть за неё, противопоставляя ему в том числе и сербских крестьян: «Россия – это прежде всего чёрно-белая зима. Белая равнина, где, как маковые зёрнышки на бублике, рассыпаны группки мёртвых три четверти года деревьев. <…> Белая плоскость с чёрными нитями дорог, проскоблённых как бы ногтем на замёрзшем стекле. Белое – это саван мёртвого, это бельё больного, это снег. Белое – это не жизнь во всяком случае. Земля не должна быть белой три четверти года. (Ну хорошо! Две третьих!), белой и морозной с минусовыми температурами. Это противоестественно. Холод и белое – это отвратительно. < … > Из кислых пелёнок вырастают белотелые девочки и слабовольные юноши. Они не знают пейзажа, или не считают его своим. У выращенных в четырёх стенах, у них нет чувства пространства. У них нет плотского, чтоб увидеть и пощупать, – понятия Родина. В известном смысле у них нет Родины. Их родина – это щель между кроватью, шкафом, ковром, грузными телами папки и мамки. В то время как для жителя молдавского Приднестровья, или Сербии, или Чечни, или Абхазии, или Карабаха – это улицы и дымки села, окрестные горы, леса, животные, сады, родной дом, выходящий окнами на единственный и неповторимый свой пейзаж: это разнообразные и оригинальные соседи – сельские жители. <…> Родина – это твой кусок осо81 82 Андреев Л. Избранное. Л.,1984. С. 104. Андреев Л. Андреев Л. Слово о Сербии. – URL: http://www.rastko.rs/rastko-ru/ 37 бенной земли, где ты жил в детстве, а потом вышел оттуда и живёшь в более широкой Родине. Вот первой детской Родины у русского человека нет. Потому с оружием в руках свои настоящие человеческие дома с деревьями и садами отстаивали абхазы, сербы, приднестровские украинцы и молдаване, карабахские армяне»83. Во второй половине 1940-х годов «сербская тема» снова стала актуальна и в советской литературе. Фронтовой корреспондент и поэт Я. Белинский, воспевая героизм сербских партизанских отрядов, использовал всё тот же изначальный набор лейтмотивов (нож, кровь, смерть), но в оригинальном, «сонантном» звучании и написании: «Твердил я сербского склады, / Учил я сербский стих. / Как сербские слова тверды. / Как мало гласных в них. // Но как в бою они звучат, / Тогда лишь ты поймёшь, / Когда в штыки идёт отряд, / По-сербскому – «на нож». // Я понял трудный их язык, / Народа дух открыв, / Язык разящий точно штык: / Срб. Смрт.84 Крв». Белинский предвосхищает Лимонова, собирая воедино, в пределы строки мифопоэтические концепты «сербского текста» как поэтические экспрессемы. Так «Срб» намертво сцепляется в русской литературе с «Крв» и «Смрт». Наконец, в начале 1990-х на волне газетных публикаций и преувеличенных слухов о новых русских добровольцах в Сербии (первый русский отряд в войне 1991–1993 гг. назывался «Царские волки»; См. также в мемуарах О. В. Валецкого «Волки белые». Сербский дневник русского добровольца 1993–1999. М., 2006) поэт Сергей Стратановский, очертил возможный путь русского монаха-воина «на Косово поле» как «смертную стратегию» Огненного Волка: «Смертных стратегий / Социально приемлемых / выбор не так уж велик. / Можно, скажем, от идолов мира / В монастырь удалиться / и, душу спасая, молиться / Умирая для мира / И вдруг заскучав, озверев / От клопов монастырских, / от грязных интрижек, решиться / Добровольцем отправиться / к братьям единоверцам / За морями живущим / и в гнев обращая безжалостный / Голубиную кротость, / вчерашнюю святость, назваться / Волком Огненным, / и под именем этим сражаться / И от пули желанной / Погибнуть на Косовом поле»85. Конечно, вряд ли Лимонов знал хотя бы половину просмотренных нами произведений русской литературы на «сербскую тему» Да и мы обозрели лишь их небольшую часть, выбрав самые значимые. Однако преемственность «Смрт-ности», восходящей к русскому романтизму и героическому эпосу самих сербов, совершенно очевидна. Ближайшие годы покажут, куда пойдёт история Сербии – к всеевропейской толерантности – или по кругу «сербской смерти на Косовом поле». Симпатии ещё более мессианской и мученической русской культуры, как нам хотелось показать, различимы даже во «внеправославной» прозе Лимонова. 83 Лимонов Э. Нора и Родина. – URL: http://www.polit.ru/article/2006/03/28/limonov/. Белинский Я. В кн.: Лирика 40-х годов. Фрунзе. «Кыргызстан». 1977. С. 71. 85 Стратановский С. Тьма дневная. М., 2000. С. 57. 84 38 Л. Ю. Фуксон (Кемерово) К ВОПРОСУ О САТИРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СМЕРТИ Тема, очерченная названием статьи, предполагает определённую теоретическую проблему, а именно – особый статус события смерти в мире сатирического произведения. Мы намерены сказать об этом сначала несколько общих предварительных слов, а затем по возможности углубить сказанное с помощью рассмотрения пьесы Н. Эрдмана «Мандат». Сатирическое толкование как «смех сквозь слёзы» есть раскрытие печального состояния человека и жизни – «лишённой божественного начала» (Гегель). Вместе с тем, отсутствие «божественного начала» дано в сатире не прямо, а посредством его выявляющейся симуляции. Собственно смеховая интенция сатиры связана как раз с устранением иллюзии жизни («разоблачением»). Именно потому, что маска в сатирическом образе оказывается «лучше» лица, демаскировка представляет собой осуществляющееся в смехе, но при этом невесёлое открытие86. Как интерпретируется образ смерти в сатирическом мире по указанной смеховой логике? Сама возможность изображения смерти здесь кажется сомнительной: умереть может лишь живое существо, а как раз жизнь-то с сатирической точки зрения и открывается как мнимая. Попробуем в свете сформулированной проблемы рассмотреть комедию «Мандат», в которой событие смерти, с одной стороны, постоянно обещается, но с другой – так и не наступает. Следует ли считать это событие закономерно, существенно несостоявшимся? Название пьесы Эрдмана обозначает не только вещь, играющую важную сюжетную роль. Оно, как это часто бывает, открывает символический план произведения, собирающий воедино различные его смысловые плоскости. Мандат – это удостоверение полномочий. Выдвижение удостоверения в центр художественного мира (а такова как раз художественная функция названия) означает тотальность отчуждения и полное отсутствие доверия, веры в изображаемом плане произведения как непосредственного отношения к бытию. Реальность и человек предстают здесь потерявшими свои естественные полномочия. Их правомочность должна быть подтверждена бумажным свидетельством, обозначена. В художественном мире пьесы всё непосредственное исчезает в тотальной опосредованности, онтология оттесняется семиотикой. Внешняя сторона изображаемой реальности не открывает внутреннюю, а скрывает. Между ними чисто конвенциональное отношение. Выставленное напоказ оказывается симуляцией. Такой смысл имеет, например, спор героев в начале комедии о том, какую картину повесить в комнате (1,1). 86 Подробнее об этом см.: Л. Ю. Фуксон. Смех как способ истолкования // Литературное произведение как герменевтическая проблема. Кемерово, 2011. 39 Картины развешиваются не для обитателей дома, а для гостей, посетителей, представляя собой обозначение вкусов хозяев – социальную, идеологическую аттестацию владельца. То есть они оказываются не чем иным, как своего рода мандатом. Картина с различными изображениями на обеих сторонах выставляется в виде средства «лавирования» при смене посетителей: можно переворачивать картину сообразно обстоятельствам. На одной стороне картины – пейзаж «Вечер в Копенгагене», на другой – портрет Карла Маркса. Картина, с одной стороны, «крик души для наслаждения органа зрения», а с другой – «орудие пропаганды» (1, 1). Различным изображениям соответствуют различные языки, кодировки описания. Такая «двуликая» картина является, по сути, портретом владельца и сатирическим образом человека вообще, теряющего в этой смене чужих лиц (масок) собственное настоящее лицо. Для Олимпа Валериановича Сметанича (говорящее «старорежимное» имя) условие женитьбы его сына – приобретение чего-то вроде гарантирующего безопасность свидетельства (мандата) – партийного родственника. Иван Иванович Широнкин ходит с горшком на голове, опрокинутым из-за соседа: «Повашему – это горшок, а по-нашему – это улика» (1, 3). Вопрос Насти «Да разве вы, Иван Иваныч, вообще-то, в горшке живёте?» показывает это столкновение онтологии и семиотики вещи. Горшок превращается из вещи в знак. К такому превращению тяготеют все вещи в мире пьесы. Ту же особенность мы обнаруживаем в диалоге брата и сестры Гулячкиных: Варвара Сергеевна. Значит, ты теперь вроде как совсем партийный? Павел Сергеевич. С ног и до головы. Подожди, Варвара. Вот я даже портфель купил, только билета партийного нету. Варвара Сергеевна. Ну, с портфелем, Павел, и без билета всюду пропустят (1, 10). Портфель перестаёт здесь просто «быть» и начинает «означать», становясь пропуском, «мандатом». Но то же самое происходит и с самим героем, который весь («с ног и до головы») ввергнут в мнимую, чисто конвенциональную реальность («вроде как»). Здесь не слишком существенно то, что Павел Сергеевич вовсе не намеревался никого обманывать, выдав желаемое за действительное. Слова о том, что он «человек партийный», вырвались у него почти нечаянно и его самого страшно напугали (1, 3; 1, 4). Павел Сергеевич, как гоголевский Хлестаков, является «олицетворённым обманом». Однако так непроизвольно высказанная претензия героя выражает закономерность устройства самой изображаемой реальности. Самозванство, симуляция, выдавание одного за другое – типичный для сатирически интерпретированной жизни момент. Не случайно Иван Иванович Широнкин называет Павла Сергеевича Лжедмитрием, а в третьем действии Автоном Сигизмундович произносит фразу из трагедии самозванства «Борис Годунов»: «Народ безмолвствует». У любой вещи и человека в мире комедии «Мандат» обнаруживается вторая – оборотная – сторона. Кухарка Настя в платье императрицы «прямо как настоящая» (2, 14; 3, 2). Шарманщик, человек с барабаном, 40 женщина с попугаем и бубном выдают себя за рабочий класс (2, 20). Но это не собственная их инициатива, а хозяев дома, которые, в свою очередь, симулируют наличие партийных родственников. По признанию Валериана Олимповича, он в бога дома верит, а на службе – нет (2, 29). Подразумевается, по-видимому, принципиальная разница «дома» и «службы» как личной (подлинной) и публичной (притворной) зон существования. Однако в буквальной форме выражения героя сама вера не просто прячется, а как бы «отключается» на службе, теряя в таком прерывном характере свою субстанциальность и превращаясь, наряду с неверием, в чисто внешнюю манифестацию. Настоящее лицо героя исчезает в смене масок. В финале пьесы говорится о том, что не только люди, но «даже мандаты ненастоящие» (3, 17). И так далее. Такова вся изображаемая в пьесе Эрдмана – симулированная – реальность. Она не есть, а обозначает, указывает на иное. Понаблюдаем за тем, как герои пытаются открыть чужой сундук (2, 10): Варвара Сергеевна. (...). Мы, кажется, люди честные, на нас никто подумать не может. Павел Сергеевич. А что если маменька? Варвара Сергеевна. Маменька обязательно на Настьку подумает, потому что кухарки – они все воровки, и наша, наверное, воровка (...). Павел Сергеевич. Сколько на свете бесчестных людей развелось, прямо никакому учёту не поддаётся. (Всовывает гвоздь в замок, пытается отпереть.) В этой сцене герои отнюдь не обманщики. Они на самом деле в себе не узнают воров, «бесчестных людей», так как выводят моральные определения не из актуально совершаемых действий, а из готовых конвенций: «мы «люди честные», а кухарки «все воровки». Всё действительное в смеховой ситуации пьесы «Мандат» оттесняется знаковым, чисто условным. Читатель ставится автором на позицию соотнесения не совпадающих друг с другом конвенционального мнения и действия персонажа, то есть мнимого и подлинного. Такому образу человека в пьесе соответствует сатирически построенное слово: «Вы, мамаша, рассуждаете совершенно как несознательный элемент» (1,1). В различных клише: «несознательный элемент», «буржуазные предрассудки» и т. п. – «сознательная» точка зрения берётся в готовом виде, как чужая и потому – мёртвая – интенция. Такое же чужое слово, слово-маска, может обозначать, наоборот, «интеллигентность»: «мы не революционеры какие-нибудь, а интеллигентные люди» (1,1). Возьмём ещё один типичный пример. Надежда Петровна. Как же теперь честному человеку на свете жить? Павел Сергеевич. Лавировать, маменька, надо, лавировать. Вы на меня не смотрите, что я гимназии не кончил, я всю эту революцию насквозь вижу. Надежда Петровна. Тёмное оно дело, Павлуша, разве её увидишь. Павел Сергеевич. А вы в дырочку, мамаша, смотрите, в дырочку (...) 41 Переносное значение выражения «видеть насквозь» отменяется, и высказывание соскальзывает к прямому, буквальному значению. В данном случае это служит переводу слова из идеологического плана в бытовой, из плоскости понимающей проницательности, политической грамотности («насквозь вижу») в плоскость приспособленческого подглядывания («в дырочку»). Переносная, фигуральная семантика работает здесь лишь по инерции, в виде мёртвых остатков, опознаваемых в таком качестве лишь в живом кругозоре читателя. Автоном Сигизмундович восхищается издателем Сытиным, который «печатал газету “Русское слово”, и как печатал! Трёхэтажный дом для газеты построил и во всех этажах печатал. Зато, бывало, как мимо проедешь, сейчас же подумаешь: ”Вот оно – оплот Российской империи, трёхэтажное “Русское слово”...». Здесь серьёзность патетического отзыва о печатном «Русском слове» нечаянно для героя, но, конечно, по смеховой воле автора, уничтожается непечатным «трёхэтажным» русским словом. Такой эффект возникает в результате интерференции, пересечения разнонаправленной (возвышенной и грубой) семантики, семиотического qui pro quo. Коль скоро реальность мира пьесы тяготеет к смене бытийного статуса на знаковый, то при такой полной утрате непосредственности существования сам знак (посредник) теряет свои бытийные ориентиры (референтную функцию), а это приводит к тому, что в репликах героев постоянно происходит путаница языковых конвенций, семиотическая рассогласованность. Валериан Олимпович предлагает руку Варваре Сергеевне, чтобы пойти в столовую, а она соглашается выйти замуж: «Мне очень стыдно, но я согласна». Вместо буквального предложения опереться на руку актуализируется фигуральное (брачное) предложение (2, 16). Надежда Петровна говорит кухарке: «Молчи, когда с тобой разговаривают» (1, 5). Здесь требование молчания отменяет сам смысл понятия «разговор». Или, в том же явлении, Настя рассказывает о фотографии: «Карточки эти размера маленького, и лицо на них получается только до пояса» (происходит смешение семантики целого и части). Двусмысленным получается признание Ивана Ивановича Широнкина: «Честь женщины не пустой звук для меня, это цель моей жизни» (2, 2). Герой реагирует на весть об обещанном приходе коммунистов так: Олимп Валерианович. Посмотри на меня. У меня не очень приличный вид? Валериан Олимпович. Нет, папа, как всегда (2, 18). Именно в связи с ожидаемым появлением коммунистов «очень приличный вид» – плохая рекомендация. Ответ сына двусмысленен. Комедия открывает своего рода семиотический лабиринт, знаковую перенасыщенность, постоянную смену и пересечение кодировок и конвенций, как, например, вторжение реплик персонажей читаемой Настей книги в её разговор с Иваном Ивановичем в начале второго действия: 42 Настя. «Мерзавец, – вскричал герцог. Тебе не место в этой комнате». Иван Иванович. За что вы меня так, Анастасия Николаевна? (2, 2). И т. д. В диалоге Валериана Олимповича и Варвары Сергеевны (2, 16) при тривиальной путанице имён, когда герой спрашивает героиню о «теории относительности Эйзенштейна», а героиня подхватывает разговор о кинематографе, открывается ускользающий от самих героев и адресованный «через их головы» читателю смысл. Случайное, с виду чисто внешнее созвучие фамилий физика и кинорежиссёра порождает ошибку, которая неожиданно обнаруживает серьёзную подоплёку: автор книги «Монтаж» действительно разработал тоже своего рода «теорию относительности» любого отдельно взятого монтажного фрагмента. Однако в самом комическом мире пьесы тема относительности тоже имеет существенное значение: герои её пытаются всегда действовать в зависимости от тех или иных обстоятельств, от «системы отсчёта», демонстрируя полнейшую релятивизацию ценностных ориентиров своего бытия. Из того, что в центре изображаемого мира пьесы «Мандат» находится исходная неудостоверенность существования, вытекает его субстанциальная тревога, неустойчивость, внутренняя необеспеченность, нужда персонажа во внешней поддержке, защите, маске. Сама жизнь воспринимается героями комедии как тотальная угроза. Заявка темы самозванства (объявление в первом акте Павлом Сергеевичем себя «человеком партийным») становится одновременно началом развёртывания темы страха: «За эти слова, мамаша, меня расстрелять могут». На это Надежда Петровна возражает: «Всякие я слова в замужестве слыхала, всякие. Вот покойный Сергей Тарасыч уж такие слова говорил, что неженатому человеку передать невозможно, так и то своей смертью от водки умер, а ты говоришь...» (1, 4). В страхе Павла Сергеевича смерть (за «слова») воспринимается как предельная мера жизненной серьёзности слова. Реакция же матери переводит предмет из политического плана в бытовой, что эту серьёзность сразу отменяет: характер слова («что неженатому человеку передать невозможно») и характер жизни полностью соответствуют характеру «своей» смерти («от водки»). Необоснованность страха героя переводит его претенциозное заявление в плоскость мнимой серьёзности (симуляции) самой жизни. Здесь, аналогично упомянутому ранее дифирамбу, в котором газета издателя Сытина «Русское слово» называется «оплотом» империи, происходит развенчание слова (знака), за которым не стоит ничего реально серьёзного; слова, ставшего онтологически невесомым. Гибелью угрожает сундук Надежды Леопольдовны, о котором говорится, что он «очень опасный» (1, 7), и в котором спрятано платье императрицы: «...если это платье обнаружат у нас – мы погибли!» Важно заметить, что 43 опасность вещи состоит здесь не в том, что она есть, а в том, что она означает. Павел Сергеевич сетует: «...при старом режиме меня за приверженность к новому строю могут мучительской смерти предать», а «при новом режиме за приверженность к старому строю могут мучительской смерти предать» (2, 12). В этих параллельных высказываниях двойная уязвимость, осознаваемая героем, оказывается следствием его «лавирования», обозначения своей «приверженности» тому или другому «режиму» сообразно обстоятельствам. Такое изменчивое обозначение является мнимым, самозваным. Реальная «приверженность» чему-то есть само существование. Но здесь шаткость существования ощущается именно как следствие его чистой конвенциональности. При попытке взлома сундука Надежда Петровна кричит: «Караул! Застрелю!» (2, 11) и сначала боится «большевиков» («Арестуют они меня, окаянные, сейчас арестуют!»), а потом – «жуликов»: «Караул, грабят!». При этом Павел Сергеевич и Надежда Петровна воспринимают прежде всего сигналы угрозы (револьвер, арест, грабёж), не узнавая друг друга как мать и сын. Состояние неустойчивости, опасности порождается пересечением и враждой различных кодировок, конвенций человека и окружающего мира. Предчувствие гибели проходит через всё действие пьесы с самого начала до финальной сцены, в которой Иван Иванович Широнкин обещает: «Товарищи, соблюдайте спокойствие и не расходитесь, потому что вас всех повесят. Милиция!» (3, 17). При этом ожидаемая весомость наказания воспринимается как залог реальности якобы рискованного (преступного) действия. Герои пьесы постоянно преувеличивают значение любого своего дела или слова, что постепенно подготавливает финальное «превращение напряжённого ожидания в ничто». После нечаянного выстрела Павел Сергеевич просит сестру: «Варька, пощупай меня, я жив?» (2, 11). Жизнь в этой сцене, как и вообще в комедии «Мандат», не обнаруживается непосредственно – необходимо чьё-то удостоверение. Но такое чисто внешнее свидетельство закономерно для статуса жизни в сатирическом мире вообще: это лишь подобие жизни, отсутствие её внутренней непосредственной подлинности. Узнавание кухарки Насти в мнимой императрице и крах идеи возрождения русского престола сопровождаются восклицанием Олимпа Валериановича: «Значит, опять ничего нет – ни её, ни меня, ни вас?» (3, 17). Обращает на себя внимание слово «опять»: состояние, при котором «ничего нет», оказалось исходным, ненадолго прервавшимся тут же разрушенной иллюзией. Налицо классический итог сатирического события – откровение изначальной мнимости жизни. Комедия «Мандат» наполнена ожиданием событий и, как уже было замечено, постоянным преувеличением их масштаба. Например: «Подумайте, какие эти большевики самонадеянные, сейчас я с мужем иду по улице, а мили- 44 ционер стоит на углу и делает вид, как будто бы ничего не случилось» (3, 14). Или: Надежда Петровна. А если тебе за такое геройство каменный памятник высекут? Павел Сергеевич. Высекут? Надежда Петровна. За такое геройство обязательно высекут. В назидание потомству... (2, 12). Здесь трижды повторённое слово «высекут» открывает различные плоскости ожидаемого, одна из которых связана с персонажами, а другая – с читателем. Персонажи склонны здесь, как и в других случаях, преувеличить важность происходящего (запечатление «геройства»). В читательском же горизонте событие (порка) соразмерно значительности самого персонажа. Отсюда снижение семантики выражения «назидание потомству» (чтоб другим неповадно было). Такой же смеховой механизм наблюдается в сцене, где Автоном Сигизмундович комментирует журнальную картинку: «Верховный главнокомандующий Николай Николаевич под ураганным огнём неприятеля пробует щи из котла простого солдата. Где теперь такие герои? Подумать только, какой пример. Каждую минуту мог умереть, но не дрогнул и пробовал щи под огнём неприятеля...», на что слуга, отставной солдат, высказывает своё мнение: «Так точно, мог умереть, ваше превосходительство, потому как солдатские щи хуже всякой отравы...» (3, 8). Героический ореол снимается переводом смерти в сугубо бытовой план. Аналогичная ситуация в начале пьесы, когда Иван Иванович говорит, что мог в опрокинутой ему на голову лапше «до смерти» захлебнуться, на что Надежда Петровна замечает: «Эдак, Иван Иваныч, одному таракану рассуждать впору, а люди в лапше не тонут» (1, 3). Так постоянно в комедии корректируется масштаб происходящего, идёт ли речь о «спасении России» (2, 12) или о фальшивом мандате, копия которого «послана товарищу Сталину» (2, 32). Но каждый раз мерилом серьёзности ожидаемого события оказывается риск гибели, а отмена этой серьёзности и значительности означает мнимость такого риска. Все угрозы и страхи, которыми переполнена пьеса Эрдмана, оказываются напрасными, но при этом отнюдь не из-за неистребимости жизни (как в юмористических произведениях), а из-за её иллюзорности. Жизнь здесь теряется за мнимыми свидетельствами и уверениями. В безжизненном же мире сама смерть оказывается невозможной. Когда Павел Сергеевич упоминает свой «отрешённый от жизни труп» (3, 17), то эта тавтология – нечаянное открытие исходной безжизненности, которая и не позволяет настоящей смерти состояться. Комедия заканчивается фразой Павла Сергеевича: «Мамаша, если нас даже арестовать не хотят, то чем же нам жить, мамаша? Чем же нам жить?» (3, 18). Герой оставлен на самого себя, и оказывается, что его активность носила чисто внешнее, «заёмное» происхождение. За маской открывается не лицо, а пустое место. Зритель слышит сетования не о гибели, а о том, что да45 же нельзя погибнуть, нечему гибнуть. Это апофеоз сатирически истолкованной – мнимой – жизни. Отсюда становится понятным, почему в сатирическом произведении события реальной, подлинной смерти почти никогда не бывает. Но что означает наше «почти»? Мы имеем в виду те немногочисленные случаи, когда смерть всё же появляется в сатирическом мире. При этом её появление не представляется, однако, как событие. Можно указать в качестве примеров сатирически изображённой смерти на прокурора в «Мёртвых душах» Гоголя или героя чеховского рассказа «Смерть чиновника». В десятой главе первого тома «Мёртвых душ» сообщается о том, что прокурор, растревоженный слухами о Чичикове, «пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер». Эта смерть, совершенно немотивированная («ни с того ни с другого»), никак не позволяет увидеть прекратившуюся жизнь. Не случайно живой прокурор почти не упоминается, за исключением отзыва Собакевича в пятой главе: «Один там только и есть порядочный человек – прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Сатирический образ смерти построен принципиально не как жизненная потеря, что связано как раз с иллюзорностью представленной жизни. Поэтому лишь увидев «бездушное тело», узнали, «что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда её не показывал». Аналогично изображается смерть чеховского Ивана Дмитрича Червякова, сама жизнь которого обнаружилась «нечаянно» лишь однажды – в событии чихания. Но как раз это единственное проявление человеческого естества герой воспринимает как свою вину, полностью растворяясь в казённости своего мнимого существования. Поэтому так символически изображённая смерть («не снимая вицмундира») не находит человека в чиновнике, что провоцирует не сочувствие, а смех. Комедия Н. Эрдмана типологически примыкает к названным произведениям, выявляя особый статус образа смерти в сатирическом мире в тесной связи с особым характером сатирически интерпретированной жизни. Фальшивый мандат есть сатирическое обобщение: за знаком не обнаруживается обозначенной реальности. Безжизненное состояние человека сатира символически разоблачает как изначальное, что лишь замаскировано мнимой, самозванной активностью героя. 46 Ю. В. Подковырин (Кемерово) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНКАРНАЦИЯ СМЫСЛА В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «АКТЁРСКАЯ ГИБЕЛЬ» Наличие у литературного произведения (и шире – у всякого произведения искусства) некоего смысла допускается и читателями, и литературоведами как нечто само собой разумеющееся и, как правило, не становится предметом специальной рефлексии. Такое допущение имеет место, даже если речь идёт о нарочито «бессмысленных» текстах, например о зауми. Ведь сама гипотеза о бессмысленности произведения может возникнуть только «на фоне» априорного допущения его осмысленности. Однако кажущаяся самоочевидность осмысленности литературных текстов соотносится с маргинальностью самой категории «смысла» и связанной с ней проблематики в литературоведческой науке. Литературоведы, пытаясь ответить на вопрос, в чём смысл того или иного конкретного произведения, словно бы «перескакивают» через более фундаментальный вопрос: что такое смысл? Отмеченная маргинальность категории смысла, по-видимому, объясняется двоякой редукцией данного феномена в литературоведческих исследованиях. Во-первых, в истории и «предыстории» науки о литературе смысл редуцируется к «содержанию» произведения, что имеет место уже в классической (гегелевской) эстетике. В «Лекциях по эстетике» Г. В. Ф. Гегеля такие слова, как «содержание», «дух», «смысл» способны заменять друг друга, как, например, в этом фрагменте: «оно [художественное произведение. – Ю. П.] должно выявить внутреннюю жизнь, чувство, душу, содержание, дух [здесь и далее курсив наш. – Ю. П.], то есть всё то, что мы и называем смыслом художественного произведения»87. Во-вторых, смысл зачастую смешивается с понятием «значение», что характерно прежде всего для семиотических и лингвистических подходов к литературе. Так, в книге И. П. Смирнова с многообещающим названием «Художественный смысл и эволюция поэтических систем» ещё до каких-либо дефиниций авторские представления о «смысле» выдаёт сам текст: «В этой картине [мира произведения. – Ю. П.] эвристическим путем могут быть высвобождены отдельные элементы – значения [здесь и далее курсив наш. – Ю. П.], которые входят в классы значений, например, в группы пространственных, временных, причинно-следственных и тому подобных смыслов»88. Несмотря на огромную разницу между отмеченными подходами к «смыслу» литературного произведения, они оба могут быть определены как монологические. Под монологизмом здесь понимается рассмотрение произведе87 88 Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. СПб.: Наука, 2007. Т. 1. С. 96. Смирнов И. П. Смысл как таковой. СПб.: Академический проект, 2001. С. 15. 47 ния с позиции только одного сознания. При таком подходе к произведению его смысл неизбежно объективируется, становится пассивным предметом обнаружения и овладения (при этом неважно, находится смысл «внутри» текста как его «содержание» или же «реализован» в самом тексте, который, следовательно, является «сложно построенным смыслом»). Однако понимание смысла только как продукта «объективирующих» познавательных процедур существенно искажает представления о его природе. По нашему мнению, правильная постановка вопроса о специфике художественного смысла возможна только на базе диалогических подходов к литературному произведению, в рамках которых оно понимается как целостное эстетическое событие. Для прояснения специфического способа бытия художественного смысла в данной работе используется понятие инкарнации (воплощения). В философии ХХ века это понятие переносится из сферы богословия в этику и эстетику (в работах Г. Марселя, М. Бубера, М. Бахтина). Непосредственная связь этого понятия с эстетикой словесного творчества и герменевтической проблематикой устанавливается в ранних философских текстах М. М. Бахтина, однако не становится в них предметом специального рассмотрения89. М. М. Бахтин использует понятие «инкарнация» в первую очередь для разграничения теоретической и нравственной сфер человеческой жизни. По словам М. М. Бахтина: «Теоретический мир получен в принципиальном отвлечении от факта моего единственного бытия и нравственного смысла этого факта»90 (с. 13). То есть познание (в смысле научного познания) возможно только при «вынесении за скобки» познающего как конкретной личности, а смысл как предмет отвлечённого от конкретного человеческого присутствия теоретического мышления фактически оказывается вне гуманитарного горизонта. Это не только бесплотный (вне пространства и времени) и не соотнесённый с каким-либо местом в бытии смысл; это, так сказать, нечеловекоразмерный смысл. Именно такой вид смысла М. М. Бахтин определяет как «неинкарнированный», являющийся лишь «пустой возможностью» (с. 41). Однако чтобы приобщиться действительному событию бытия, искусственно «измышленный» субъект познания (теоретический субъект) должен «воплощаться» (с. 11) в действительном мыслящем человеке. То есть приобщение «исторически событийному бытию» (с. 11) понимается М. М. Бахтиным как воплощение человека. Воплощению мыслящего субъекта соответствует в нравственной философии и эстетике М. М. Бахтина и воплощение 89 Соотношение понятий «инкарнация» и «смысл» в работах М.М. Бахтина 20-х гг. подробно рассматривается в нашей статье: Подковырин Ю. В. Соотношение понятий «инкарнация» и «смысл» в эстетике словесного творчества М. М. Бахтина // Мир науки, культуры, образования. № 4 (29). Ч. 1. С. 301–303. 90 Здесь и далее, кроме особо оговорённых случаев, работы М. М. Бахтина цитируются по следующему изданию с указанием страниц: Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари, 1996. Т. 1. 48 самой мысли (смысла). Таким образом, смысл из абстрактного содержания теории становится предметом (целью) всякого поступка, всякой познавательной и эстетической деятельности, становится уже не отвлечённой «истиной», а жизненной «правдой» (с. 45–46). Но именно в силу своей телеологической природы жизненно-этический смысл в точном значении этого слова не может быть «воплощён», в отличие от смысла художественного. Незавершённость жизненного события предполагает открытость его смыслового горизонта. Для участника события жизни её смысл всегда как бы сдвинут вперёд, имеет характер возможности, а между наличным бытием и смыслом всегда имеется некий «зазор», который не устраняется законченностью отдельных дел и поступков91. Поэтому с помощью понятия «инкарнация» невозможно точно определить способ бытия жизненно-этического смысла. Инкарнация смысла в общих чертах – это как раз устранение упомянутого «зазора» между наличным бытием (так сказать, «плотью» жизни) и смыслом. В последнем случае смысл – это и есть само бытие, «самоосмысленное» и «выразительное» в бахтинском значении этого понятия – «осмысленная материя или материализованный смысл»92. Однако, по М. М. Бахтину, до конца совпасть со своим смыслом может лишь бытие «другого», но не бытие «я», так как жить – значит «не совпадать со своею наличностью» (с. 95) «Инкарнация смысла бытию» осуществляется в эстетической ситуации: «плоть смысла» доступна с позиции «вненаходимости» уже не участнику жизненного события (герою) в акте ответственного поступка (ему как раз смысл раскрывается как телос, а не как тело), а формируется автором и постигается читателем в актах «участного понимания». Именно автору и читателю только и доступна «наличность воплощённого смысла» (с. 201) – эстетический план бытия человека-героя. *** В предлагаемой статье феномен художественной инкарнации смысла описывается на материале рассказа А. П. Чехова «Актёрская гибель». Уже первые строки чеховского рассказа «затрагивают» читателя странной двусмысленностью. Фраза «Благородный отец и простак Щипцов (…)»93 построена таким образом, что в момент первочтения может быть понята в буквальном смысле, как обозначение жизненного статуса героя, а не его актёрского амплуа. В кругозоре читателя «двоящийся» смысл этой фразы соотносится с целым жизни героя и, в частности, с некоторыми особенностями его поведения. Так, уходя из театра после ссоры с антрепренёром и пережитого 91 Ср. схожие размышления Л. Ю. Фуксона в начале книги «Чтение» (Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. С. 3). 92 Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари, 1996. Т. 5. С. 8–9. 93 Здесь и далее текст рассказа цитируется по изданию: Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1974–1982. Т. 4. С. 345–350. 49 чувства «разрыва в груди», Щипцов «забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду». Само по себе это действие вполне прозаично и убедительно объясняется душевным и физическим состоянием героя. Однако в соотнесении с упомянутой первой фразой текста оно обнаруживает дополнительный смысл, самому герою недоступный. В обоих случаях – на уровне речи повествователя, характеризующего героя, и на уровне поступков – наблюдается стирание границы между профессией и жизнью, действительностью и ролью, лицом и маской. Внимательное знакомство с произведением позволяет обнаружить целый ряд моментов, демонстрирующих смещение указанных смысловых сфер. Так, с одной стороны, собственно человеческие, а именно телесные, качества Щипцова («необычайная физическая сила»), оказываются «на службе» у его профессии: роль необычайно сильного, но глуповатого Митьки в «Князе Серебряном», кроме Щипцова, играть «некому». С другой стороны, «сценический» характер обнаруживает сама жизнь Щипцова: в кругозорах коллег амплуа «сильного простака» как бы вмещает в себя целое его личности (есть основания полагать, что до «разрыва в груди» с этим «согласен» и сам Щипцов). Отмеченное размывание границ между профессиональной и частной, ролевой и действительной сторонами жизни, лицом и маской характеризует ту сферу жизни, которая в широком смысле может быть определена как бытовая, а в рассказе представлена актёрским бытом. Коллеги Щипцова и за пределами сцены остаются в значительной мере в границах своих амплуа. Так, jeune premier Брама-Глинский и в номере Щипцова выглядит как щёголь («в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару»), а трагик Адабашев в бытовом разговоре о касторке придаёт своему лицу «таинственное выражение». Антрепренёр Жуков в жизненных ситуациях разыгрывает сцены: «начал истерически хохотать и хотел даже упасть в обморок, но (…) отложил обморок до более удобного случая и уехал». Даже театрального парикмахера называют «почему-то» Риголетто. При этом совершаемый автором выбор среди всех возможных сфер жизни именно актёрской представляет собой осмысление жизни в целом. Наделяя героя определённой «плотью» (не только в узком смысле этого слова – телом, но в целом – конкретной жизнью), автор совершает осмысливающую акцию, а сама жизнь на «территории» художественного произведения воплощает, «обналичивает» свой смысл. В «Актёрской гибели» акцентируются присущие всякой бытовой действительности игровые, «ролевые» черты. Подлинная, онтологическая, сторона жизни в мире чеховского рассказа выглядывает из-под маски быта подобно тому, как бледность «заболевшего» Щипцова проступает сквозь несмытый грим. Смысловая структура рассказа может быть представлена с помощью следующего ряда оппозиций: 50 быт игра профессиональное актёрские дарования грим Шут «руготня» деятельность дом «благородный отец» внешнее верзила «Простак» «болезнь» - бытие жизнь личное необычайная сила лицо Иванович молчание пассивность дорога «ни жены, ни детей» внутреннее плачешь задумался смерть и т. д. Ещё раз подчеркнём, что данная система оппозиций представляет собой уже некую рационализацию, «развоплощение» инкарнируемого (присутствующего «телесно») в событии чтения смысла. Истолкование без такой вербальной артикуляции смысла невозможно, но сама она представляет собой нечто вторичное по отношению к первоначальному причащению «наличности воплощённого смысла» (Бахтин) – целостному бытию героя. Именно «на фоне» важнейшей в рассказе оппозиции быта и бытия только и возможно понимание главного события произведения – «болезни» актёра Щипцова. Коллеги-актёры, антрепренёр, театральный парикмахер Евлампий, вообще, склонны истолковывать случившееся с Щипцовым как физическую болезнь. Такое истолкование происходящего с «верзилой-простаком» объясняется отчасти тем, что, как уже было замечено, целое его личности сводится окружающими к физическим качествам, а также общей сосредоточенностью укоренённого в быте взгляда на поверхности жизни. Неверная оценка товарищами Щипцова его состояния обусловлена не их субъективной душевной чёрствостью. В контексте целого рассказа эта «слепота» персонажей имеет ту же природу, что и «слепота» самого Щипцова, которому истинные жизненные ценности открываются только на «горизонте» смерти. Произошедший «разрыв в груди» воспринимается Щипцовым, судя по всему, не как физическое страдание («ничего не болит», – признаётся актёр), а как предвестие смерти («там бы помереть», «а теперь шабаш»). Герой в буквальном смысле этого слова порывает, хотя и не по своей воле, с бытовой действительностью, с присущими ей шумом («руготнёй») и суетой, и переходит в небытовую действительность предстояния смерти. Неожиданность случившегося для самого Щипцова передаётся в тексте словом «вдруг», тогда как ссора с антрепренёром определена как событие обыкновенное. Открывшаяся герою реальность смерти приводит к переоценке ценностей, характерным проявлением которой является, к примеру, изменившееся 51 отношение к дому. На вопрос комика Сигаева «Что у тебя болит?» Щипцов отвечает, что хочет домой, а потом уточняет, что речь идёт о Вязьме. Характерно, что Сигаев сначала не понимает смысла, который Щипцов вкладывает в слово дом («А ты нешто сейчас не дома?» – недоумевает комик), чем и обусловлена необходимость в уточнении. Непонимание Сигаева вызвано тем, что изначальный смысл слова дом (как отчий дом, «родина» – это слово также произносит «заболевший» Щипцов) в актёрском – профессиональном – кругозоре комика стёрся. Дом для актёра – понятие условное (отсюда и обозначение Сигаевым гостиничного номера как «дома»). Специфика актёрского профессионального быта предполагает постоянное пребывание в дороге, отсутствие корней. География странствий (Ростов-на-Дону, Таганрог, Херсон) вырисовывается в воспоминаниях Щипцова и его коллег. В обновлённом кругозоре Щипцова дому и связанным с ним ценностям возвращается центральное место. Оценка Щипцовым случившегося с ним, передаваемая точным словом «шабаш», не отменяет, как нам представляется, того смысла, который оформляется в кругозорах его товарищей. Именно соотношение в рамках одного мира разных «действительностей» становится тем смысловым моментом, который раскрывается находящимся на границе художественной реальности автору и читателю. О взаимной «вненаходимости» бытовой и онтологической сфер жизни воспринимающий субъект узнаёт не из слова повествователя и не из реплик персонажей. Этот важнейший момент смысла произведения читатель воспринимает не рационально, а буквально видит «внутренним оком», так как этот смысл воплощается в действительности художественного мира, в частности, в таких деталях, как коньяк, касторка, кровососные банки и т. п. Все эти вещи самим фактом своего специфического присутствия в мире рассказа осмысливают этот мир как двойственный – разделённый на онтологическую и «житейскую» области. Таким образом, в кругозорах автора и читателя вещи, как и другие подробности художественного мира, становятся не только предметами, но и способами осмысления и оценки. Для актёров, антрепренёра и театрального парикмахера выход в бытийную сферу оказывается закрытым, на что указывает их поведение. Инерция «ролевого» восприятия жизни приводит к тому, что всё выходящее в человеке за рамки амплуа предстаёт временным отклонением от нормы: болезнью или причудой. Так, на фоне привычного жизненного «амплуа» Щипцова как своеобразный курьёз («такого буйвола, как ты, никакая холера не проберёт», – говорит Брама-Глинский) воспринимается товарищами и его «болезнь». Ещё большим отступлением от привычной жизненной роли представляются вдруг появившиеся у «простака» чувства («ничего ты не чувствуешь, а всё это у тебя от лишнего здоровья») и не сценические, а просто человеческие слёзы. Странная, с точки зрения обыденной логики, фраза комика Сигаева «Нешто актёру можно плакать?» как раз обнаруживает трудноразличимую в 52 контексте актёрского быта границу между профессиональным и человеческим. В то же время сам Щипцов как бы отсутствует в той действительности (смысловой), в которой проходит его «лечение». Этим обусловлено то равнодушие и пассивность «автомата», с которым Щипцов позволяет вливать себе в рот касторку, поить себя коньяком и покрывать грудь кровососными банками. Неэффективность упомянутых «лекарств» и методов лечения обусловлена, как это становится понятно читателю, не тем, что данные средства выбраны неправильно, а тем, что произошедшее с Щипцовым событие не сводится к его физическому состоянию. Между действительностью быта, в которой разыгрывается «комедия» лечения Щипцова (повторяющийся эпизод с лечением касторкой создаёт очевидно комический эффект), и действительностью, открывшейся ему после «разрыва в груди», проходит отчётливая смысловая граница. Те немногочисленные случаи оживлённой или одобрительной реакции Щипцова на реплики и рассказы товарищей вызваны тем, что в этих рассказах упоминаются ценности, которые занимают важное место в обновлённом кругозоре «прихворнувшего» актёра. Так, jeune premier Брама-Глинский вспоминает о том, как Щипцов однажды выпил один целый «бочонок» вина, а потом «ходил греков бить». Эти воспоминания, «приятные» для Щипцова, очевидно, не связаны с его актёрской профессией, а имеют отношение к той необычайной физической силе, которой он «славился». Как уже было сказано, эти физические качества осознаются товарищами Щипцова как его жизненное «амплуа», на фоне которого болезнь и неожиданно проявившиеся у актёра «чувства» воспринимаются как необоснованный (или, по меньшей мере, неожиданный) выход из привычной «роли». Вместе с тем физическая сила Щипцова, в отличие от его сомнительных актёрских дарований, является тем, в чём находит проявление именно его личность, в чём он «показывает себя». «Артистическая» сторона жизни в воспоминаниях Щипцова показана именно на фоне этой физической силы, она буквально побивается верзилойактёром. Антрепренёры, знаменитые писатели, художники – все эти персонажи артистического быта появляются в воспоминаниях Щипцова только в связи с тем, что он их «бил». «Подвиги» Щипцова (убитая кулаком лошадь, шапки, снятые с жуликов) заслоняют в его воспоминаниях профессиональную (актёрскую) сторону жизни, так как именно в них обнаруживается личность героя. Почему же «приятные воспоминания» вызывают у Щипцова непонятные окружающим слёзы? Такая несвойственная этому герою сентиментальная реакция («мерлехлюндия», «психопатия чувств», как определяет это комик Сигаев) вызвана, видимо, тем, что эти воспоминания впервые соотносятся Щипцовым с целым его жизни. Причём жизнь эта осознаётся как прошедшая, «пропавшая». Такое восприятие жизни как целого в неожиданно расширившемся кругозоре актёра, обусловлено тем, что сама эта жизнь рассматривает53 ся, так сказать, с «внежизненной» (конечно, не в эстетическом смысле этого слова) позиции. Внешне это выражается не только в отмеченной пассивности Щипцова (обусловленной его «вненаходимостью» по отношению к той игровой действительности, в которой совершается «комедия» его лечения и утешения), но и молчаливостью обычно шумного и склонного бросаться в драку артиста. Оценка собственной жизни как «пропавшей» определяется тем, что в поле зрения Щипцова оказываются те ценности, которые составляют альтернативу его профессиональному существованию (жена, дети, Вязьма как «родина», дом), являются упущенной возможностью. Об изменении смысла понятия дом в кругозоре Щипцова уже было сказано. С домом как ценностью непосредственно связаны жена и дети, которых у «благородного отца» Щипцова в жизни, а не на сцене, не оказывается. Невозможность вернуться в Вязьму, чего так желает главный герой, обусловлена, конечно, не только и не столько тем, что до неё «тысяча пятьсот вёрст» и не страхом перед «необозримыми полями, нескончаемыми лесами, болотами». В Вязьму для Щипцова так же невозможно попасть, как невозможно вернуть «пропавшую» жизнь, своеобразным символом которой в кругозоре Щипцова и является этот город. Между тем и в обновлённом взгляде Щипцова жизнь раскрывает только часть своего смысла. Действительно, для самого главного героя этот, неожиданно открывшийся ему, смысловой «регион» бытия заслоняет все прежние, осознаётся как подлинный. Именно на фоне этой новой правды вся предыдущая жизнь осмысливается стариком-актёром как «пропавшая». В жизненно-этическом (и потому всегда частичном) кругозоре Щипцова «актёрство» предстаёт как неправильно сделанный выбор, а жизнь в Вязьме с женой и детьми – как упущенная возможность («Не идти бы в актёры, а в Вязьме жить», – признаётся Щипцов комику Сигаеву). Однако правда Щипцова, при всей её подлинности для него, оказывается меньше правды самой жизни как целого. Это смысловое целое жизни, охватывающее частичные смыслы, может быть доступно только с запредельных этому целому точек зрения – с формообразующей позиции автора или же с причастновненаходимой позиции читателя. Именно с позиции смысловой «вненаходимости» становится видно, что ошибочный выбор Щипцова – это следствие, так сказать, «ошибочности» самой жизни. Необходимым свойством изображённой в рассказе действительности как целого является её объективная двойственность. В мире этого чеховского рассказа (а этот мир – не часть мира «вообще», а его альтернативное подобие – «гетерокосмос») собственно человеческие – предельные – ценности оказываются заслонёнными ценностями профессиональными и в целом бытом с его суетой, шумом и «руготнёй». Кругозор же читателя как раз и является тем «местом», в котором бытийно-бытовая двойственность жизни инкарнируется как её смысл (правда). 54 Необходимо ещё раз подчеркнуть, что такое откровение правды (смысла) жизни как её целостного образа становится возможным только в событии чтения. Единственный и единый смысл жизни раскрывается читателям чеховского (и любого другого) рассказа с двух сторон: изнутри и извне самой жизни. Во-первых, читатель, сопереживая герою, причащается незавершённому событию его жизни с её заданным смыслом. По справедливому замечанию Л. Ю. Фуксона, «момент этической сопричастности (не жизнь, но сопереживание) обязателен в восприятии художественного произведения», так как «ценностные коллизии преломляются [выделено автором. – Ю. П.], а не отменяются в новом модусе бытия»94. Только в сочетании с таким этическим соучастием возможно понимание эстетического смысла, который читателю раскрывается как нечто действительное, а не ещё возможное. Жизнь в чеховском рассказе, как и в любом другом художественном произведении, тем, что она есть (а не могла бы быть или не быть) и есть именно таким образом, осмысливает себя, как бы говорит сама за себя. Описанное претворение смысла в жизнь – и есть инкарнация смысла. 94 Фуксон Л. Ю. Ценностная структура (литературного) произведения // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М.: Изд-во Кулагиной: Intrada, 2008. С. 291. 55 А. М. Павлов (Кемерово) ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ В ФИЛЬМЕ О. ТЕПЦОВА «ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ»: К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ УЖАСНОГО В ФИЛЬМЕ Фильм О. Тепцова «Господин оформитель» (по сценарию Ю. Арабова) снят по мотивам рассказа А. Грина «Серый автомобиль». В кинокритике конца 80-х годов к фильму была «приклеена» жанровая мерка «первого советского фильма ужасов». Действительно, элементы поэтики ужасного обнаруживаются в художественной структуре фильма: мрачность атмосферы Петербурга (на улицах практически нет людей; у зрителя часто возникает ощущение, что герой один среди стен города); пространство роскошного дома Грильо изображается в традициях готического «романа ужасов» и т. д. В фильме неоднократно появляется выражение ужаса на лицах самих героев. Перечислим эти эпизоды. Первый эпизод – Платон Андреевич стоит над постелью умирающей от болезни Анны Белецкой. Второй эпизод – директор и сотрудники магазина созерцают изготовленный Платоном Андреевичем манекен, лежащий в футляре. Третий эпизод – ужас на лице Грильо, когда он смотрит на Анну-Марию после проигрыша в карты. Четвёртый эпизод – вернувшись с кладбища, Платон Андреевич в своей мастерской видит, что лицо куклы (а именно куклу он считал носителем вечной, неизменной красоты) покрыто, можно сказать, изъедено морщинами. Пятый эпизод – после смерти Грильо Платон Андреевич приходит в его дом, заглядывает в комнату Анны-Марии и видит, как та несколько раз взмывает в воздух и происходят довольно странные деформации с её телом. Шестой эпизод – Платон Андреевич стоит у гроба Грильо, к нему крадётся Анна-Мария и хочет схватить его за шею, герой неожиданно поворачивается, и камера выхватывает его большие от ужаса глаза. В предлагаемой статье мы как раз и постараемся разобраться в природе ужаса в данном произведении, прояснить роль названных сцен, их связь с основными образно-смысловыми противоречиями фильма и на основе этого прийти к пониманию позиции зрителя. При описании основных закономерностей фильма возможны пунктирные отсылки к тексту рассказа А. Грина «Серый автомобиль». Для того чтобы выявить особенности построения образной системы «Господина оформителя», обратимся к анализу начального эпизода фильма (сцена танца), так как именно в нём намечены основные его коллизии. Так, в начальном эпизоде фильма отчётливо проявляется образносмысловое противоречие: «живое – искусственное», «человек (Пьеро)» – 56 «кукла», причём куклы (мёртвое, механическое) маскируются под живое, имитируют его. Сам танец напоминает распускающийся цветок. «Блуждания» же Пьеро среди кукол можно истолковать как поиск человеком живого среди искусственного, кукольного. Заметим, что музыкальный ряд начального эпизода представляет собой сочетание механической музыки и женского голоса. Таким образом, противоречие живого и искусственного подчёркивается музыкальным оформлением фильма. Пьеро и куклы в начале фильма противопоставлены также по их телесным свойствам. В сцене танца Пьеро имеет подвижное лицо, обладающее мимикой, в отличие от кукол с застывшими, неизменными улыбками на деревянных лицах. В конце танца слышен звук дующего ветра. Кукольность для зрителя с самого начала оказывается соотнесённой с холодом и смертью, а в итоге – с пустотой. Когда дует ветер, куклы вообще исчезают, а вместо них остаются лишь белые их одеяния. Смерть представлена в виде куклы без лица, несущей впереди себя маску. Действительно, мотив подмены, вытеснения живого мёртвым, искусственным становится сюжетообразующим. Анна-Мария также уходит из магазина и играет роль живой женщины («вам никогда не сравниться с живой, чьими правами вы завладели»). Заметим, что в комнате Анны-Марии нет камина: Анна-Мария, по словам Грильо, камины терпеть не может (оппозиция: «тепло – холод»). В финале фильма, в сцене у гроба Грильо, Анна-Мария также не подходит близко к камину, в то время как Платон Андреевич стоит возле камина, откуда достаёт горящую щепку и кидает её в Анну-Марию. В начальном эпизоде также существует прямая проекция на финальный эпизод фильма: Пьеро падает, выставляя руки перед лицом, когда на него движется смерть; так же и герой в финале падает на землю и закрывает лицо от света едущей прямо на него машины. Скорее всего, в начальном эпизоде фильма, в сцене танца, в свёрнутом виде представлен сюжет фильма. Начальный эпизод фильма рассчитан, видимо, на то, чтобы вызвать чувство ужаса у зрителя. Слово и действие здесь заменяются визуальными (образ смерти, белые одеяния кукол и Пьеро – знак болезни, приближённости полюсу смерти: цвет одежды кукол, как выяснится позже, совпадает с цветом одежды больной и умирающей Анны Белецкой) и акустическими впечатлениями (механическое в музыке95, под которую осуществляется танец). На95 По-видимому, не случайно в качестве музыкального сопровождения выбирается музыка С. Курёхина. Сам С. Курёхин в «аннотации» к альбому «Опера богатых» (значительная часть музыки к фильму взята из данного альбома) отметил: «Целью авторов являлось создание сети подвижных мотивов, упрощённых до максимума (так называемый музыкальный минимализм). В идеале таким мотивом должна быть одна нота при переменной гармонической функции. Но автор ещё не дошёл пока до такого совершенства, когда всё 57 чальный эпизод фильма вводит зрителя в художественный мир, задавая определённый эмоциональный настрой. Ужас в начальном эпизоде фильма также сгущается, концентрируется, требуя непосредственной телеснопсихической реакции зрителя. Попытаемся прояснить специфику позиции зрителя данного фильма, а также доказать, что переживание ужаса зрителем не случайно и вытекает из образной логики произведения. Для этого видится необходимым осмыслить отмеченное выше противоречие между человеком и куклой. Выясняется, что Платон Андреевич воспринимает Бога, Создателя («этого с нимбом на голове», – так называет его сам герой) как соперника. Красота, созданная Богом (в фильме актуализирована античная легенда об Антиное, любимце царя Адриана, считавшемся идеально красивым, изображавшемся с атрибутикой Диониса), подвержена болезни и смерти: «Этот Антиной в одночасье умрёт от какой-нибудь лихорадки», – как говорит Платон Андреевич. Это рассуждение персонажа позволяет уяснить смысл эпизода, когда Платон Андрееевич стоит у постели Анны Белецкой. Очевидно, что умирающая девушка увидена глазами героя. В начале зритель видит широко раскрытые от ужаса глаза героя, направленные на умирающую девушку, следом камера переводится на икону, висящую на стене. Затем икона очень медленно исчезает, и на её месте снова появляется крупным планом искажённое страданием лицо девушки. Движение камеры в данном случае передаёт движение взгляда самого героя. Платон Андреевич в этом эпизоде испытывает ужас, созерцая божественную красоту, обречённую умирать в страшной болезни. Ужас героя в данном случае носит экзистенциальный характер (ужасают, видимо, сами законы бытия, созданного Творцом, где Антиной может в любой момент умереть от болезни). Позиция героя (его «бунт» против Бога-Создателя) не есть результат рефлексивных усилий, а следствие увиденного, пережитого ужаса чужой смерти. Сам же Платон Андреевич пытается создать красоту, не подверженную воздействию времени, болезни и смерти, сделать лучше и совершеннее, нежели Создатель. Кстати, претензия героя на роль Бога подчёркнута в фильме творчество можно строить на одной ноте…Воздействие на слушателя достигается путём вдалбливания одного или двух примитивных мотивов» (См.: Курёхин С. Краткая аннотация к альбому «Опера богатых»). Несмотря на общий несерьёзный тон этой «аннотации», в этом высказывании композитора содержится ключ к пониманию его музыки. Музыкальный ряд строится не столько на линейном развёртывании, движении музыкальной темы, сколько на «кружении» вокруг одного и того же, повторении, варьировании одного и того же мотива в разных тональностях, что создаёт «механический эффект» в самой музыке С. Курёхина. 58 следующей деталью (шляпа Платона Андреевича, которую в начале фильма он не снимает, напоминает зрителю нимб вокруг его головы). Значимой оказывается оппозиция: Господь Создатель – Господин Оформитель. Создание Господа Бога – человек, имеющий, помимо внешности, ещё и душу (внутренний мир). Герой же, по его собственному признанию, «из человека и куклы…выбирал последнее», куклу почитал «лучше оригинала», так как именно вылепленному телу (существующему «на холсте или в мраморе»), с его точки зрения, гарантирована вечность. Такая позиция героя фильма тем не менее вряд ли совпадает с позицией зрителя. Дело в том, что, как показывает сюжетный уровень фильма, сфера деятельности Платона Андреевича сопряжена не с жизнью, а со смертью (так, в начале фильма герой ищет тело, для того чтобы лепить с него манекен, в морге). Создание красивой формы сводится к заводу механизма, автомата, бездушной куклы (не случайно куклами, которых сделал герой, «мог бы гордиться сам дьявол» – кукольное тем самым сближается с инфернальным началом: кстати, Платон Андреевич выигрывает у Грильо в покер с помощью «джокера» – карты с изображением дьявола, могущей «маскироваться» под любую другую карту). То, что на протяжении всего фильма герой сопряжён с локусами смерти (в частности, можно вспомнить посещение им кладбища незадолго до финала), как раз и позволяет выявить некий «зазор» между позицией героя и зрителя. Второй эпизод ужаса в фильме как раз и связан с созерцанием лежащего в футляре манекена, сделанного Платоном Андреевичем. Футляр (замкнутое пространство) и находящаяся внутри него кукла напоминают мёртвое тело в гробу. Видимо, здесь ужас возникает при созерцании красоты, оформленности смерти, пустоты. Заметим, что сами образы смерти в фильме не случайны. В контексте фильма смерть, переживание смерти, ужаса смерти – свойство, отличающее человека от куклы. Главные герои фильма (Грильо и Платон Андреевич) умирают, в отличие от куклы Анны-Марии. Обратим внимание на то, как подаются в фильме события их гибели. Незадолго до смерти на лице Грильо также появляется выражение ужаса (после проигрыша он с ужасом смотрит на Анну-Марию, у которой лицо так и остаётся непроницаемым – проекция на начальный эпизод танца: застывшие лица кукол – живое лицо, мимика Пьеро). Сама смерть Грильо трактуется Платоном Андреевичем как успокоение («Бедняга, вот ты и нашёл свой покой»). Такая оценка смерти свидетельствует об изменении сознания Платона Андреевича. Если ранее для него существование смерти – причина неприятия законов бытия, созданного Творцом, то теперь смерть воспринимается положительно (с ней связано успокоение). Сам Платон Андреевич в финале фильма, раненый, сидит под деревом, и его омывает дождь (приобщение к миру природы). Важно, что в это время музыка не механиче59 ская (как в финальном аккорде фильма, когда герой падает на мосту и на него надвигается машина), а просветлённая, напоминающая церковную, органную. Сам факт того, что Грильо способен переживать, говорит о том, что он шире своей социальной роли коммерсанта (то, что делало его существование «кукольным»96 – Грильо действительно в начале очень бесстрастен и самоуверен). Можно сказать о том, что герои умирают «живой смертью», если пользоваться выражением самого А. Грина. Правомерность этих рассуждений доказывает один часто повторяющийся в фильме жест героя. Так, в финале фильма камера выхватывает залитое кровью лицо Платона Андреевича крупным планом. Герой проводит рукой по своему лицу. Этот эпизод «рифмуется» со сценой у гроба Грильо, когда герой также касается лица покойного. Аналогичный жест присутствует и у героини, когда она проводит рукой по своей щеке после того, как Платон Андреевич кидает в неё горящей щепкой. Жест Платона Андреевича напоминает жест скульптора (ср. с эпизодом, в котором он ощупывает, словно лепит, шею Анны-Марии, когда та находится у него в мастерской). Герои фильма как бы проверяются на степень человечности, на меру соотнесённости в них живого и механического (кукольного). То, что на лице героини не остаётся ожога, – результат деяния героя, стремившегося создать вечную, не подвластную разрушению красоту. Ей достаточно погладить рукой по щеке, чтобы вся кожа стала такой же, какой была прежде (акцентируется внешняя форма, не подверженная воздействию огня). Эта сцена, скорее всего, также вызывает ужас у зрителя, причём не меньший, чем упомянутая в начале сцена, когда герой в мастерской обнаруживает куклу, чьё лицо испещрено морщинами (здесь внутренняя мертвенность куклы, видимо, отражается в её внешнем облике). Лицо Платона Андреевича в крови (знак живого), тело не сохраняет своей самотождественности, как у Анны-Марии, зато смерть связана со страданием и переживанием её ужаса (показанное во весь экран лицо героя в финале)97. 96 Заметим, что в рассказе А. Грина «кукольность» как раз и связана с жизнью ради денег и материальных благ. Коррида Эль-Бассо, отождествляемая героем-рассказчиком с куклой, – «послушный раб вещей»: «туалетных принадлежностей, экипажей, автомобилей, наркотиков, зеркал и драгоценностей» (См. Грин А. С. Собрание сочинений в 6 т. М., 1980. Т. 4. С. 325). Грильо, как известно, также богатый коммерсант («кредит, учёт, «Биржевой вестник», – так описывает систему его жизненных ценностей Платон Андреевич). 97 В рассказе «Серый автомобиль» главный герой Эбенезер Сидней также видит в героине Корриде Эль-Бассо живое только в ситуации пребывания на пороге смерти. Он обращается к ней с такой фразой: «Да, воск капает с прекрасного лица вашего. Оно растопилось. Стоило гневу и страху отразиться в нём, как воск вспомнил свою прежнюю жизнь в цве60 Своей высшей точки зрительский ужас достигает, видимо, в эпизоде, когда Платон Андреевич в последний раз приходит в дом Грильо уже после его смерти. Рассмотрим одну из самых «жутких» сцен фильма, когда Платон Андреевич стоит возле гроба Грильо и повёрнут лицом к нему. В это же время камера переносится в пространство лестницы, спускающейся в эту залу с гробом. Камера движется вниз по лестнице, затем открывается дверь в залу, после чего герой увиден со спины, затем камера всё больше и больше начинает приближаться к герою. Ужас этой сцены обусловлен (в музыкальном отношении она оформлена тревожной нагнетающейся музыкой), скорее всего, тем, что у зрителя возникает ощущение, будто герой увиден глазами куклы. Глаз зрителя буквально встраивается в глаз куклы (чего-то мёртвого, механического)98. Напомним, что в доме никого нет, кроме Анны-Марии и старого слуги, который вообще в дальнейшем словно испаряется (появляются лишь подобные Анне-Марии, одетые в чёрное статичные манекены). После выстрела же во весь экран «вырастает» сияющее улыбкой лицо Анны-Марии, смотрящей зрителю прямо в глаза. Глаз человека встречается с глазом куклы. Такая организация финальной сцены позволяет зрителю ощущать собственным телом ужас замещения живого мёртвым, искусственным, кукольным. Этот ужас усиливается, если в сознании зрителя всплывает начальный кадр фильма, когда кукольная рука заводит некий механизм (напомним, что Анна-Мария во время первого визита Платона Андреевича в дом Грильо занимается починкой часов – механизмов). Получается, что сама история фильма рассказана куклой (поскольку живых свидетелей случившегося не остаётся). Выше мы уже отмечали, что старый слуга Грильо бесследно исчезает в последней сцене фильма. То же самое происходит, по сути дела, и с комическим слугой Платона Андреевича. Если до поездки героя на кладбище слуга находился вместе с хозяином в мастерской, то по возвращении Платон Андреевич оказывается абсолютно один в её тёмном пространстве. В начале фильма, кстати, неизвестно куда совершенно фантастическим образом пропадает монашка, которую преследовал герой. Возникает эффект логически необъяснимого исчезновения живого, так что герой фильма в финале остаётся один на один с «кукольным» миром инфернальных сил и также гибнет при столкновении с ним. тах» (Грин А.С. Указ. соч. С. 340). Эти слова герой произносит после того, как Коррида побывала на краю обрыва. 98 В рассказе Грина, по которому снят фильм, Эбенезер Сидней также встаёт на точку зрения машины, «автомобиля» и моделирует в своём сознании «зрительное впечатление Машины от Человека» (Грин А. С. Указ. соч. С. 328). В фильме встраивание «взора» зрителя во «взор» куклы связано, видимо, с усилением, сгущением зрительского ужаса. 61 Такие ситуации в фильме не случайны и также влияют на зрительское восприятие. Вообще мотив пустоты (отсутствия какой-либо жизни) становится сквозным при изображении Петербурга и его более мелких локусов. Например, в начале фильма Платон Андреевич спускается по лестнице, проходя через пустые театральные помещения (лишь внизу он встречает, видимо, режиссёра спектакля, говорящего о «несомненном успехе», и двух фотографов); в сценах, происходящих в подъезде дома Платона Андреевича, абсолютно не видно квартир, в поле зрения попадают только лестница да большие окна. Живое очень часто в фильме заявляет о себе лишь в звуках (весёлая маршевая музыка в начале фильма за окном кабинета, где Платон Андреевич обсуждает с директором магазина будущую витрину; игра на фортепиано, которая слышится в мастерской Платона Андреевича и на улице его дома; женский голос, исполняющий арию из «Травиаты» в эпизоде, когда герой направляется в дом Грильо в последний раз; гудки паровоза, лай собак, аплодисменты публики, смотрящей кукольное представление и т. д.), но непосредственно визуально не проявлено, словно это существует в некоем другом измерении, по ту сторону от пространства, в котором происходит действие. Живое неожиданно прорывается, нарушая мрачный колорит изображённого мира, и затем исчезает, оно также обладает свойством кратковременности. Внимание зрителя буквально «цепляется» за это живое, проносящееся мимо него и противостоящее ужасу болезни, смерти, одиночества человека перед инфернальными силами, его незащищённости перед ними. Завершается же фильм изображением мира без человека, без живого вообще, картиной мёртвой природы (заросший сорняковой растительностью дом Грильо), пустоты. В заключение скажем, что эпизоды ужаса в фильме связаны с изображением глаз героев. Лица героев часто в сценах переживания ими ужаса показаны крупным планом, что определяет особый тип визуального поведения зрителя. Зритель должен вглядываться, всматриваться в определённую точку изображения и останавливать там свой взгляд. Тем самым предполагается не столько обозрение кадра целиком, сколько локализация на его мельчайших частях. Зритель вряд ли воспринимает фильм, по сути дела, только как линейную последовательность кадров (такая модель восприятия фильма нарушается; фабульный ряд в фильме постоянно прерывается сценами, эпизодами, напрямую не связанными с развёртыванием основных событий), он всматривается в мельчайшие детали, вслушивается в негромкие звуки, звучащие, как правило, из-за кадра, то есть находится в постоянном поиске живого в мире (подобно Пьеро в начальной сцене танца), где это живое постепенно исчезает; испытывает ужас подмены живого искусственным. Фильм требует максимальной чувственной активности зрителя, благодаря чему он сам освобождается от механического в самом себе. 62 М. М. Сычёва (Кемерово) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СМЕРТИ В ПЬЕСЕ ГЕНРИ ЛАЙОНА ОЛДИ «ВТОРЫЕ РУКИ» Тема смерти и всего, что с ней связанно (загробный мир, бессмертие, жизнь после смерти), волновавшая человека с древнейших времен и нашедшая отражение в мифологиях различных народов мира, не теряет актуальности и в XXI веке. Современное искусство – в том числе литература – постоянно обращается к теме смерти, основываясь на уже существующих представлениях о смерти и перерабатывая их. Проблема смерти и жизни после смерти особенно ярко представлена в произведениях писателей-фантастов: в «Корпорации “Бессмертие”» Роберта Шекли, в романах Бернарда Вербера «Танатонавты» и «Империя ангелов», в «Гарри Поттере» Джоан Роулинг (легенда о дарах смерти, сцена на вокзале Кинг-Кросс в последней книге о Гарри Поттере) и так далее. В творчестве Генри Лайона Олди99 проблема смерти в большей или меньшей степени поднимается практически в каждом произведении. Этой же проблеме посвящена пьеса «Вторые руки»100. Действие пьесы происходит в лавке «Second hand», находящейся в загробном мире (в пьесе отсутствуют как таковые понятия «загробный мир», «жизнь после смерти», «мир смерти» и т. п., мы вводим данные понятия для облегчения восприятия статьи). То, что находится снаружи лавки, не изображено прямо, но об устройстве этого мира можно узнать из реплик персонажей: «Выбралась на улицу: город. Как везде. Разве что душно. И тускло: ни день, ни ночь <…> Короче, явились мы в банк: администрация, пенсионные вклады, срочные… На вас, говорят, счет открыт. Еще с рождения <…> И еще эта кофточка <…> Акрил пополам с шерстью» [529], «А тут, как везде: магазины, кабаки, отели… Менты, опять же. Конторы разные. Счета» [543]. Таким образом, загробный мир представляется в пьесе как город, подобный современным городам в человеческом мире. Разница только во времени: нет ни дня, ни ночи, поэтому невозможно понять, как долго герои находятся в этом городе. Пространство лавки наделено теми же характеристиками: «Свет тусклый, мертвый. Тишина» [525]. Тусклость освещения лавки перекликается с отсутствием времени суток в городе, характеристика «мертвый» указывает на то, что это мир смерти. При переходе из мира жизни в мир смерти отсутствует ощутимая граница, смерть в пьесе – это продолжение жизни: «Понимаете, я лежала в больнице. 99 Генри Лайон Олди – псевдоним двух харьковских писателей-фантастов – Олега Семеновича Ладыженского и Дмитрия Евгеньевича Громова, работающих в соавторстве с 1990 года. 100 Олди Г. Л. Вторые руки // Олди Г. Л. Шутиха. М., 2006. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках. 63 Гипертонический кризис. Врачи обещали: скоро домой отпустят. И вдруг ваши заходят [чиновники из мира смерти. – М. С.] <…> Смеются, говорят: «Встань, мол, иди!» «Встала, пошла» [529]. О том, что переход все же произошел и героиня умерла, свидетельствует упоминание неких «ваших», лиц, относящихся к миру смерти и выполняющих роль медиумов. Заметна граница между миром живых и миром мертвых в репликах Лавочника, обращенных «в зал», к воображаемой публике: «…снизойти ко мне все равно не в вашей власти. Публика есть публика, этим все сказано. Поэтому мы просто начнем. Ладно? Только скажите, я очень прошу вас, скажите: там, снаружи, вечер? У вас – вечер? Поздний? Скажите, что вам стоит… Вечер, да? Скоро звезды? Ночь?» [526]. Обращаясь к публике, Лавочник в то же время обращается к тем, кто находится в мире живых. Отсюда деление пространства на «ваше» (то есть пространство зрителей, пространство жизни) и не названное, но подразумеваемое «наше» (пространство мира смерти). Попадая в иной мир, человек получает деньги (кто-то копейки, кто-то миллионы), лотерейный билет и свою старую одежду, которая своему владельцу уже не подходит, и он должен приобрести новую. Это и приводит персонажей в «Second hand». Вещи в лавке подержанные, недорогие и вышедшие из моды. Поэтому в лавку заглядывают только те, у кого на «посмертном» счету копейки. Одежда в лавке не рассортирована, она висит хаотично – это указывает на то, что все вещи (а значит и жизни) равноценны. Каждая вещь воплощает в себе жизнь. Если это вещь подержанная, то в ней воплощена чья-то уже прожитая жизнь. Но жизнь эту можно прожить еще раз. Покупая вещь, человек получает новую жизнь и живет по сценарию той жизни, которую в ней прожил прежний владелец. Однако детали меняются: «Костюм ее [учительницы Любови Борисовны. – М. С.], а носить вы станете. <…> Тут, скорее, общий покрой, а остальное – за вами» [532], – так отвечает Лавочник на вопрос одного из действующих лиц о том, в точности ли повторится жизнь прежнего владельца костюма. В пьесе Г. Л. Олди вещь – это слепок жизни человека, его судьбы, следовательно, и продолжение человека. Но в то же время каждый новый владелец вносит в вещь что-то свое, меняет ее под себя, так же, как и вещь меняет человека (приобретая чужую вещь, человек не до конца повторяет судьбу ее прежнего владельца). Жизнь, заключенную в вещи, герои могут почувствовать, когда примеряют вещь, когда в лавке включается свет и когда кто-нибудь рассказывает о жизни. Например, в ремарке, следующей после того, как Лавочник взял в руки костюм учительницы: «Гвалт буйной, школярской переменки. «Марь Ванна, он меня линейкой!», топот ног, вкусные удары портфелями по спинам, «8 а! сдать тетради! 8 а, кому сказано!..» Всплывает назойливое: «В творчестве Чехова красной нитью проходит…» Стихая, гвалт переходит в программу телевизионных новостей. Заглушая голос диктора: «Любочка! Накапай мне валокордину…» Хнычет младенец, над ним сюсюкает бабушка. 64 Сирена «Скорой помощи». Траурный марш Шопена. Плачут соседки, одновременно договариваясь, кто будет печь блины для поминок» [527]. Вещи одушевляются, жизнь, заключенная в них, «оживает»: «Шепчутся, трепещут вещи»[553]. Вещи включены в список действующих лиц. К тому же постоянно подчеркивается, что вещи двигаются: по лавке гуляет сквозняк, от которого одежда колышется, когда загорается яркий электрический свет, сквозняк превращается в ураганный ветер, вещи словно просыпаются: «вся лавка гуляет, плещет, вскидывается» [558]. «Оживание» вещей при ярком свете закономерно: в загробном мире, как было отмечено выше, свет тусклый, а яркое освещение напоминает о мире живых, о солнце, и заставляет одежду оживленно гудеть. Вещи обладают своего рода голосом. Этот голос вещи – голос самой жизни, той конкретной жизни, с которой связана вещь. В момент активности вещи персонажи пьесы слышат отголосок судьбы человека: звуки, связанные со средой, в которой этот человек жил, с его профессией и с его смертью. Несколькими штрихами намечается вся жизнь человека: в приведенной выше истории жизни учительницы русского языка и литературы – это вечный круговорот: работа, дом и телевизор, семья, затем смерть. В вещи заключена типичная жизнь учителя, ее будничная сторона, и такая же будничная сторона смерти. Голос жизни слышен и в воспоминаниях некоторых персонажей: помимо их прямой речи – вербализованного воспоминания, звучит еще некий звуковой фон, отраженный в ремарках. Постепенно этот фон перекрывает слова персонажа и как бы заменяет их: «Блин Поприколу: <…> Бывало, ночью фары врубишь на дальний… Слова рассказчика постепенно тонут в нарастающем гуле мотора. Визжат тормоза – машина вписывается в очередной поворот. Свистит ветер. Слышно, как время от времени щелкают о днище вылетающие из-под колеса мелкие камешки…» [546]. Как видим, вещь (соответственно и судьба человека) определяется профессией: кожаная куртка мелкого рэкетира, костюм учительницы, платье поварихи, кимоно живой «груши». «Профессиональный» принцип доминирует также и в номинации действующих лиц. Это связано с тем, что в загробной жизни человек забывает свое имя. Некоторые придумывают себе имя, но действующие лица именуются по профессии (Лавочник, Околоточная). Сюда же можно отнести Хомо Дозяйку, пусть даже это имя не совсем соответствует профессии данного персонажа (героиня – повариха). Тем не менее выбор имени обоснован именно основным занятием, характером жизни персонажа: «Мы обобщим простую домохозяйку до целого вида. Кухня, подгузники, уборка, походы в магазин. День – ночь, сутки прочь. Семья превыше всего. <…> С сегодняшнего дня вы Хомо Дозяйка» [528]. Исключение составляет Блин Поприколу, названый по фразе, которую он постоянно повторяет. 65 Несмотря на то, что принцип наименования схожий, Лавочник отделяет себя от Хомо Дозяйки, говоря, что он не является видом, обобщением: «Я сам по себе» [529]. То же самое относится к Околоточной. Персонажи вообще делятся на тех, кто прибыл в город на время, лишь до нового рождения (Хомо Дозяйка, Блин Поприколу), и тех, кто там работает – каторжан (Лавочник, Околоточная). Людям, попавшим в загробный мир, отведен срок до того, как по ним пробьет колокол, и им нужно будет возвращаться в мир живых. Но если в момент удара колокола у человека не будет новой одежды, его задерживают и направляют на какую-либо должность, на каторгу. По истечению срока каторжанин освобождается и должен приобрести себе одежду. Каторжане и временно находящиеся в мире смерти различаются по нескольким признакам. Во-первых, все каторжане физически слепы, глаза у них завязаны поясом, на котором нарисованы глаза. Нарисованные глаза выполняют функцию глаз как органов чувств. В образах каторжан прослеживается мифологическая основа: у древнегреческой богини правосудия были завязаны глаза, что символизировало беспристрастность. Образ Лавочника связан с образом Фемиды еще одним атрибутом: у него есть весы, с помощью которых он определяет, хватает ли у покупателя денег на выбранную вещь. Умершие же зрячи, но в то же время они, в отличие от каторжан, не видят и не понимают сути происходящего, ищут справедливости и не ценят жизнь. Так, справедливости ищет Хомо Дозяйка: «Взамен всего прошлого – борща, детей, стирки! – кофточка. Акрил пополам с шерстью. <…> Нет, я понимаю: не героиня, не монашка. <…> Но детей рожала!.. Нищим подавала… иногда. Мужу не изменяла. И в итоге: восемнадцать пятьдесят. <…> Разве это справедливо?» [529-530]. Блин Поприколу считает иначе: «Все путем устроено. Вот если б я по жизни козлом был, стукачом или отморозком бесшабашным – хрен бы я тут что имел! Однако ж имею. Значит, жизнь понимал. И она меня поняла. <…> Все четко. Система! Порядок. Заработал – получи» [543]. Но Лавочник утверждает, что оба они – Хомо Дозяйка и Блин Поприколу – не правы. В городе лишь видимость системы и порядка: «Глупо искать закономерность и зависимость одного от другого. Ты можешь быть честнейшим человеком, ходячей совестью, бессребреником, а здесь оказаться нищим. Или, наоборот, миллионером. <…> Справедливость – фикция. Обманка. Можете называть это везением или невезением, удачей, случаем, лотереей, в конце концов. Это выше нашего понимания. Или системы нет вообще, или она есть, но понять и «прочесть» ее мы не в силах» [543]. Во-вторых, каторжане как бы в крайней мере потеряли все, что было связано с жизнью: они почти ничего не помнят, не чувствуют вкуса пищи и еды, не нуждаются во сне, и даже не могут уйти с места работы. И именно поэтому для них такую ценность приобретает сама жизнь, вне зависимости от того, будешь ты богатым или бедным, счастливым или не очень: «Мы приходим сюда с единственной ценностью – перекинутый через руку плащ, 66 кофточка, куртка, обжитые, настоящие!..» [537]. Поэтому в финале Лавочник, получивший внезапное освобождение, хватает в руки первую попавшуюся вещь – кимоно живой «груши», – так как уверен, что жить нужно ради самой жизни. Каторжан, в отличие от некаторжан, можно считать более привязанными к миру смерти, так как они лишены памяти, у них нет свободы перемещения и основных ощущений – вкусовых, зрительных (их глаза слепы, они ничего не видят, если на глазах у них нет повязки). Но это состояние смерти лишь временно, по истечении каторжных работ они должны приобрести себе новую одежду и вернуться в мир живых. Для некаторжан пребывание в мире смерти выглядит как продолжение жизни. Никакого страшного суда в мире смерти нет, тем не менее в пьесе обнаруживается образ весов – мифологического символа правосудия (часто загробного). Обычно весы призваны определить нравственные достоинства человека, но в пьесе это не так: весы – всего лишь определяют – хватает ли денег на вещь. На одной чаше весов лежит вещь-жизнь, на другой – деньги. Суд духовный подменяется товарно-денежными отношениями. Товарноденежные отношения связаны с жизнью, причем с бытовой ее стороной, с обыденностью. Таким образом, в пьесе еще раз подчеркивается редукция жизни к её материальной составляющей. В городе есть чиновники, о которых часто упоминают персонажи, к тому же среди персонажей пьесы есть представитель власти: Околоточная, то есть надзирающая за небольшим участком – околотком. Обязанность Околоточной – задерживать грабителей и тех, кто на момент удара колокола (это своего рода сигнал о том, что нужно возвращаться в мир живых) не имел новой одежды. Таких людей, как было сказано выше, оставляют в городе на каторжные работы. В эпизоде, когда по Блину Поприколу, оставшемуся без нового костюма, бьет колокол, есть задержание, но суда как такового нет. Есть только приговор, скорее даже самоприговор, который произносит Блин Поприколу, сам того не подозревая: «Бери, начальница. Бери с поличным. Волоки в кутузку. Пусть Митяй в президенты. Пусть ворюга – от Версаче. А я тут останусь» [554]. На эту реплику Лавочник тут же реагирует: «Он сказал! Он сам сказал! Сам! Приговор! Он сказал: «Тут! Останусь! Все слышали?!» [554]. Даже если предположить, что других – в несколько иных ситуациях – все же судят, то это в любом случае не суд над душой и ее прегрешениями в земной жизни, а суд за нарушение законов мира смерти. Значим в пьесе также образ колокола, точнее, его боя, так как сам колокол остается невидимым как для персонажей, так и для читателей. Вопервых, колокол бьет по тем, кто попал в мир смерти, обозначая момент ухода в мир живых. Во-вторых, колокол бьет тогда, когда Лавочник или Околоточная пытаются выспросить что-нибудь о жизни у других персонажей, у некаторжан. В такие моменты «в отдалении бьет колокол» [546], прерывая воспоминание-рассказ о жизни. Каторжане – Лавочник и Околоточная – в по67 добных эпизодах начинают внезапно оправдываться куда-то в пустоту, поэтому создается впечатление, что бой колокола как бы предостерегает. Но прямо этот факт текстом не подтверждается, возможно, герои просто слышат как по кому-то, находящемуся вне лавки «Second Hand», бьет колокол. Помимо ситуации Страшного суда в пьесе присутствует еще одно традиционное представление о жизни и смерти как цепочке перерождений. Но здесь нет никакой закономерности: человек перерождается в того, на чей костюм-судьбу у него хватит денег, а количество денег, перечисляемое на счет попавшим в мир смерти, случайно и не имеет никакой закономерности. Таким образом, в пьесе Генри Лайона Олди «Вторые руки» происходит смешение традиционных мифологических, религиозных и художественных представлений о смерти. По сути, смерть в пьесе является продолжением жизни. Это проявляется даже на вербальном уровне – лексика, прямо связанная со смертью, употребляется крайне редко: мертвый свет, умереть, гробануть (в значении убить), «лицо его безжизненно» (о Блине Поприколу, когда он становится Лавочником) – всего четыре лексемы на весь текст. При этом слова «умереть» и «гробануть» употребляются не по отношению к действующим лицам, а при разговоре о судьбе тех, чьи вещи продаются в лавке; прилагательное «мертвый» характеризует свет, а «безжизненность» лица следует понимать, скорее, как безэмоциональность, неспособность чувствовать. О смерти действующих лиц никогда прямо не говорится, факт и обстоятельства их смерти реконструируются из контекста: «Я сюда [в мир смерти. – М. С.] прямо из офиса явилась. Бизнес-леди, три полиграфических объединения. Ну, инфаркту-то без разницы: бизнес, не бизнес, леди, не леди…» [550-551]. Также представление о смерти как о продолжении жизни, как о промежуточном этапе между одной жизнью и началом другой проявляется в отсутствии четкой границы между жизнью и смертью, в структуре пространства мира смерти, которое почти не отличается от пространства мира живых. Смерть как отсутствие ощущений, скорее, впечатлений, свойственна персонажам-каторжанам, но она не является смертью абсолютной, это лишь временное состояние, через которое персонажи понимают ценность жизни в ее физическом и бытовом аспектах. В пьесе также отрицается справедливость и воздаяние по заслугам, и единственной ценностью человеческой жизни, таким образом, становится жизнь как таковая, вне зависимости от ее условий. 68 Из классического философского наследия Е. Финк: « Существенно то, что человек есть работник, игрок, любящий, борец и смертный.» 69 Книга Ойгена (Евгения) Финка «Основные феномены человеческого бытия» (1979) известна русскому читателю лишь по переводу раздела об игре, осуществлённому Алексеем Викторовичем Гараджой. См.: Проблема человека в западной философии. – М., 1988. Перевод части труда Финка, посвящённой смерти, выполнен Любовью Юделевной Фуксон по изданию: E. Fink. Grundphänomene des menschlichen Daseins, 2., unveränderte Auflage. – Freiburg, 1995. Е. Финк. Основные феномены человеческого бытия Смертность человека «Всегда моё» как проблема: конечность самости Характеристика человеческого бытия через формально-указующее определение «всегда моё», завершившая наши методические рассуждения при постановке темы в общем виде, стала для нас затем отправным положением для вхождения в неё. Приблизительный смысл выражения «всегда моё», повидимому, легко понять. Всем хорошо знакомо то обстоятельство, что каждый человек переживает жизнь «изнутри», каждый на свой лад «обладает» бытием; что оно не «ничейная вещь», каковые имеют место, подобно валунам или морским волнам; что бытие акцентировано принадлежностью к проживающему его, существующему. Однако трудна и полна ловушек для рассудка попытка точно помыслить такое приблизительное представление о «всегда моём». И подобные размышления, в свою очередь, не праздное занятие пустого остроумия, не упражнение в утончённом мудрствовании, это размышления, в которых человек ищет ответа на вопрос, кто он таков вообще. Понятие «всегда моё» касается, в первую очередь, структурных моментов внутреннего доступа человека к бытию в переживании и, далее, моментов заданного или намеченного абриса характера, поскольку человеческая жизнь – это не только «течение», но «даётся» соответственно каждому своя, требует решений, намерений, действий самореализации. Сюда относится также и момент само-интерпретации бытия через самого себя и своеобразный «приоритет» актуального настоящего по отношению к другим модифицированным, бывшим и будущим настоящим. Мы кратко указали на то, как трудно оградиться от отчуждающих способов мышления и как сомнителен, к тому же, метод, оперирующий логикой данного. Однако, помимо всего этого, выражение «всегда моё» включает в себя смысловой горизонт, воспринимаемый как естественный, который не только не безобиден, но и особым образом опасен. В чём же заключается эта опасность? – Не в чём ином, как в некритичном, непроверенном заимствовании из вековой, почтенной традиции 70 западной метафизики завещанных ею основных представлений о человеке. Если «всегда быть моим» относится к конституции бытия и даже характеризует эту конституцию в целом и принципиальным образом, то тем самым создаётся впечатление, будто заново подтверждается одно старое учение, а именно: что суть человеческого бытия заключается в «личности», в Ясамостности, в свободе и историчности, в одиночестве индивида и в духовности – а вовсе не в способах коллективного свершения жизни, не в единении, не в стихийных силах крови и эроса. Так человеческое в человеке помещается прежде всего в самостность как таковую, его субстанцией считается тогда субъективность, а именно – субъективность индивида, понимаемая «монадно» как заключённое в себе, относящееся к себе самому единство и единичность. Если человеческое бытие соответственно всегда – моё, то экзистенциальный пунктуализм кажется правильным выводом. Правда, нельзя пройти мимо коллективных феноменов – но тогда они легко попадут в сомнительный разряд «упадочных феноменов», последствий бездеятельной, ленивой свободы, которая сама недостаточно решительно выбирает себя, недостаточно решительно утверждается в своём одиночестве. Там, где у открытого для себя самого, «освоенного» для себя бытия не хватает радикальной «решимости» на предельную самостоятельность, там чёткое акцентирование «всегда-моё» кажется поблекшим до неопределённой, расплывчатой, лишённой напряжения позиции общепринятого человеческого поведения. Индивид живёт тогда так, как живут вообще все. Свершение жизни утрачивает остроту решимости и акцент на собственных намерениях. Человек отдаёт себя во власть общепринятого, распространённого, публичного, традиционного и конвенционального жизненного уклада, позволяет распоряжаться собой обычаю и традиции, и диктату «общественности». Бытие практикуется по действующим схемам, человек снял с себя ответственность перед самим собой; индивид живёт не на свой страх и риск, он избегает опасностей и бремени свободы, идёт вслед за стадом и имеет при этом «чистую совесть» стада, испытывает глубокую радость от отставки собственной свободы и освобождения от мук выбора. Это самоотчуждение человека образует феномен, который подхватывается и разрабатывается то в целях «критики культуры», то в целях более строгой экзистенциальной критики, то по ту сторону какой-либо «моральной» оценки – как, к примеру, в страстном различении «индивида» и «публики» Кьеркегора, в «Великом инквизиторе» Достоевского, в полемике Ницше против «человека стада» и, в самой плоской форме, – в политических лозунгах сегодняшней планетарной конфронтации «Запад» – «Восток». Говорят, будто бы самоотчуждение не противоречит основной структуре «всегда моё», что оно является, скорее, потенциальной формой его упадка, а именно – будничной, усреднённой, привычной формой существования человека. По-настоящему «всегда моим» бытие становится лишь в редкие часы. Прежде всего и чаще всего люди вверяются потоку – дел, каждодневных обязанностей профессии; жизнь проживается как заданная программа, прожива71 ется как жизнь ремесленника, директора банка, простого обывателя и т. д.; тут, безусловно, не обходится без решений; каждый день приходится принимать решения в многочисленных ситуациях, приходится брать на себя ответственность, приходится принимать чью-то сторону в конфликтах. Но означают ли такого рода решения действительно акт человеческой свободы, чёткую самоактуализацию нашего существования? Разве они в большинстве случаев не рутина, искусная житейская техника? Разве здесь действительно осуществляется выбор из глубины остро осознанного «всегда моего» человеческого существования? Процесс выбора и принятия решения тоже имеет свою бытовую форму там, где он совершается в стиле общепринятого поведения. Лишь временами более глубокая мотивация прорывает поверхность хлопотливой деловитости – и человек категорически и серьёзно принимает на себя ответственность за риск быть индивидом. Это не обязательно означает, что он обособляется, что он отворачивается от окружающих его людей. В безмолвной жертве для другого человеческое бытие в большей степени может сохранить одинокое величие, чем в эгоистичном преследовании собственных целей. «Себялюбие» и «самоотверженность» могут сближаться в моральном смысле соответственно с эгоизмом и с экзистенциальным альтруизмом. Есть бытовое себялюбие, жажда выгоды вообще, и есть великое себялюбие – и точно так же самоотверженность может быть мелкой, низкой и заурядной, но в редкостные моменты, в самоотверженности, в жертве, проявить «величие». А теперь принципиальный вопрос: нацелено ли «всегда моё» человеческого бытия на структуру самостности? Должно ли «быть моим» непременно пониматься в том смысле, что собственное Я есть хозяин и собственник человеческой жизни, что личная свобода планирует, направляет и реализует свершение жизни? Заключается ли «собственность» бытия (в смысле сущностности) в том, что оно решительно приписывается хозяину, одержимо Я? В хайдеггеровском понятии «собственного характера» вот-бытия совмещаются оба значения слова «собственность», совпадают сущность и самостность, субстанция и субъективность. Сущность вот-бытия толкуется из основополагающей возможности самой острой разобщённости, из крайней напряжённости свободы. В существовании человеческого вот-бытия в качестве определяющей силы задаёт тон самость. Так как по своей сущности человек «самостный», он прежде всего и чаще всего может самозабвенно вести бездумное существование в посредственной обыденности. Самозабвенность есть модус упадка самости; отчуждённая жизнь масс есть искажение настоящей жизни «индивида», однако это такой жизненный уклад, который недостижим с помощью моральной критики. Упадок самости входит в состав самости, она может лишь всякий раз активизировать свою самость при условии, что она возродит себя из упадка. Свобода как жизнь самости не является, так сказать, устойчивым состоянием, она существует только в освобождении свободы, в её утрате и восстановлении. Она не может сохраняться не72 прерывно, она, пожалуй, больше, чем любой другой феномен, выдана и вверена разрушительной власти времени. Она по своей природе сама пронизана временем – непостоянна, подвижна, теряет и вновь обретает себя. Именно связь самости, свободы и времени и разрабатывается в хайдеггеровском анализе «несобственного» и «собственного характера вот-бытия». Этим характеризуется его глубинное отличие от любой идеалистической антропологии, которая и человека тоже пытается интерпретировать, исходя, главным образом, из его духовного естества, из самостности и свободного самоопределения и самовоздвижения. То, на что делает упор Хайдеггер, – это конечность человеческой свободы, конечность самости. Самость человека понимается не как «управляющий мирового духа», не как некое явление, не как вместилище того, что распознаёт в философии идентичность с ней и возносит себя к «абсолюту». Человек остаётся изгнанным в свою конечность, это не подлежит отмене, даже если бытие, бытие всего сущего в целом будет нуждаться в конечном человеке для своего обнаружения. Человек, хотя он и имеет загадочную, почти непостижимую привилегию быть живым средоточием события истины, сам никогда не «абсолютен», не бывает устойчивым, постоянным и неизменным, как боги, никогда не бывает самодостаточным и совершенным. Самость человека конечна – и это означает: не только ограничена, стеснена рамками, она предназначена «концу». Поэтому Хайдеггер развивает заложенную во «всегда моё» самостность и свободу человеческого вот-бытия в известной степени с позиции исключительнейшей и острейшей ситуации «свободы к смерти». Мы упорно продолжаем задавать свой вопрос: правомерно ли считать основное определение «всегда моё» уже предварительным выводом о том, что сущность бытия человека состоит единственно в монадной субъективности, в самости и свободе. То, что этим затронуты важные основные черты, не оспаривается. Сомнительным мы находим единственно односторонность подобной интерпретации жизни. Элементарные жизненные феномены подвергаются опасности рассматриваться как формы упадка подлинного самостного свершения жизни, хотя они являются более исконными, чем «быть самостью». С позиции «быть самостью», пожалуй, вообще невозможно понять и разработать, пусть даже как философскую проблему, феномены пола, зачатия и рождения, надындивидуальной общности, мистерии эроса, национальности, расы и т. д. Разве общность строится из монадных самостей, разве социальность сводится к взаимной соотнесённости множества индивидов – или здесь существуют бытийные феномены, которые предваряют любую индивидуальную раздробленность жизни? Нам важно здесь не столько противопоставить традиционной ориентации на индивидуальный план бытия некий противоположный взгляд, к примеру, коллективный аспект, и указать на всеобщие основные феномены – нам необходимо, скорее, увидеть неоднозначность, изменчивость облика человека, запечатлеть запутанный, таинственный нрав бытия в столкновении множества противоположных подходов. Мы в 73 своей сути не сводимы ни к самости и свободе, ни к лишённому «Я» полу и стихийному жизненному потоку, мы есть как одно, так и другое – и это, в свою очередь, не безмятежная гармония двух сторон, а постоянное опровержение, напряжённость противоположных принципов, что составляет мучительную тревогу, равно как и трепетное блаженство нашего здесь-бытия. Понятием «всегда моё» нами, таким образом, не должен превышаться момент внутреннего свидетельства жизни, естественная ситуация осведомлённости об интимном, но также и грозном характере нашей жизни. У нас есть уникальное темпоральное преимущество быть в настоящем свидетелями событий человеческого бытия и с позиции этого несравненного настоящего сильнее напрягать, вырабатывать, пересматривать и углублять уже несущее нас понимание и таким путём прийти к коренной самоинтерпретации. Что есть человек? Кто мы? Этот вековой вопрос мы должны задать поновому, с позиции нашего здесь-и-теперь-бытия. Как необыкновенно и удивительно пребывание человека между землёй и небом! Здесь его поприще, на несущей тверди земной, которая простирается под ним закрытым царством. Здесь он созидает свою страну, удобряет её потом своего труда, он расчищает дикие заросли и прокладывает след своей трудовой деятельности по угодьям, он окружает себя творениями своих рук и своего духа, обставляет себя произведениями искусства, домами, городами, храмами, машинами. Он живёт в открытом пространстве стран и морей, и бескрайнее голубеющее небо воздвигает над ним свой лазурный купол. Между закрытой землёй и открытым пространством неба помещена обитель человека – и он во многих формах и структурах соотносится с ней. Он не просто лишь живёт, он проявляет отношение к своему земному бытию через самоактуализацию в игре, в радости праздника и культовом танце; люди соединяются парами, и из их объятий выходят отпрыски, которых они любят больше, чем себя. Вместе с тем не только согласие правит меж людьми, но и раздор, спор, борьба; они куют оружие, стремятся к власти и победе, к господству. Труд и любовь, игра и власть – вот простейшее содержание их «жизни», но эта жизнь длится не вечно, она предназначена «окончанию», на неё падает тень смерти. Существенно то, что человек есть работник, игрок, любящий, борец и смертный. Является ли это случайным набором человеческих черт или чем-то большим, можно ли произвольно продолжить этот перечень или речь идёт на самом деле об «основных феноменах»? Издавна стало привычным определять местом человека промежуточное положение между животным и богом. Говорят, будто человек не только объективно есть нечто промежуточное между названными сферами, но он сам в своём бытии проявляет отношение к этим сферам, его жизненные усилия являются неустанной борьбой между животным и божественным в себе; будто анимальное, звероподобное в нём стремится утянуть его вниз, пытается как бы загнать его обратно в животное царство; но божья искра в человеческой душе есть огромная сила, которая делает его способным возвыситься, которая гонит его на другую стезю, на стезю 74 некоего уподобления богу, на путь homoiosis theo, как это сформулировал Платон. Образ человека в переданной нам европейской метафизике в значительной мере детерминирован этой схемой. Он часто всё ещё исподволь связывает нас, даже когда мы полагаем, что ушли от этой традиции. Но вот вопрос, который мы должны задать: действительно ли человек сродни животному или у него совсем иная сущность? Разумеется, этот вопрос не имеет цели поставить под сомнение право на биологические исследования, оспаривать правомерность естественнонаучных перспектив по отношению к человеку. С естественнонаучной точки зрения, человек, бесспорно, сродни животному в строении тела и в жизненных функциях органов. Животное, по крайней мере, «высшее животное», тоже обладает определёнными умственными способностями, у него есть чувственное восприятие, ассоциативная память, ограниченная практикой понятливость. Однако естественнонаучная точка зрения понимает человека не в его сущности, не может выделить в чистом виде различие между животным и человеком и будет поэтому всегда указывать, скорее, на «сходное» и «общее» у всех живых существ. Животное тоже строит логова и гнёзда, пчёлы собирают пропитание на зиму – и всё же, строго говоря, животное никогда не «работает»; животные пылают страстью и спариваются, кормят своих детёнышей и часто проявляют трогательную преданность – и всё же они никогда не бывают «любящими». Они бьются друг с другом, охотятся друг на друга и убивают друг друга – и всё же они никогда не бывают «борцами», подобно человеку. Они резвятся и забавляются друг с другом, и всё же это никогда не бывает настоящей «игрой». Животные тоже заканчивают своё существование, гибнут – и всё же они не «смертные». Поскольку человек – это работник, игрок, любящий, борец и смертный, он не имеет родства с животным. Такие черты никогда не объяснить, исходя из животной сущности. Если мы, с другой стороны, не слишком антропоморфно трактуем бога, представляем его не слишком похожим на человека и при этом не хотим заслужить насмешки Ксенофана, сказавшего, что «эфиопы говорят, будто их боги курносы и черны, фракиняне же представляют своих богов голубоглазыми и рыжеватыми» (фр. 16) – если мы мыслим понятие бога в духе метафизики Платона или христианства, то мы не можем сказать и о боге, ни что он «работает», ни что он «играет», «борется», «любит» и «умирает». Он наверняка не создавал мир, как какой-нибудь смертный мастер, вынужденный обходиться заданным, имеющимся в наличии «материалом», чтобы лишь придать ему иную форму. И он в своём всемогуществе не может иметь надобности «бороться», не может иметь врагов, в борьбе с которыми обнаружились бы пределы его силы; он не может «играть» в смысле конечной самоактуализации своей жизни; он не может также «любить» аналогично тому, как любят люди вследствие раздвоенности бытия на мужское и женское начала; и в своей надвременной «вечности» он не может «умереть». Идя от бога и животного, не объяснить пять названных сущностных черт челове75 ка, они не находят обоснования ни в животном, ни в божественном происхождении. Ввиду их невозможно считать человека помесью из животных и божественных элементов. Таким образом, при попытке истолкования бытия в этих горизонтах труда, любви, игры, борьбы и смерти мы не можем некритически пользоваться зоологическими или теологическими категориями. Но что нам послужит начальным звеном в человеческом истолковании человеческого в человеке? Перечисление основных феноменов пока ещё не включает в себя даже предварительного наброска классификации. Переплетение этих феноменов между собой влечёт за собой трудноразрешимые методические проблемы. «Ковёр» нашей жизни кажется сотканным по некоему загадочному рисунку, напоминает в своей нераспутываемости гордиев узел. И в роли Александра, разрубающего мечом спутанный клубок, выступает смерть; она решает загадку жизни, приводя её к угасанию. До наступления смерти никто не только не может почитаться «счастливым», до неё никому, вероятно, не известна также и окончательная, полная правда о человеке. Переплетение центральных экзистенциальных феноменов невозможно высветить, применяя наивную «феноменологическую дескрипцию»; каждый из них предполагает другие, имплицирует другие, они пронизывают друг друга и настроены друг на друга. «Анализ» таких феноменов означает поэтому нечто большее, чем исследование какого-либо данного факта; парадоксальность, противоречия нашего реального и конкретного существования невозможно представить в виде аккуратной, наглядной, систематизирующей их таблицы. Энигматический характер человечества не растворяется в чистом эфире мышления, как облака тумана от солнца. Мы не смотрим на наше бытие божьими глазами – даже в мышлении. Наше мышление само определяется неоднозначностью, в которой мы вынуждены жить. Поэтому безразлично, где именно в ряду основных феноменов мы начнём истолкование. Ряд не линия, ведущая согласно системе и прямолинейно от первого предмета рассмотрения ко второму и третьему – он представляет собой круг. Трудность заключается в том, чтобы с более ясным пониманием войти в этот «круг», хотя мы, в принципе, живём в нём. Мы знаем эти перечисленные феномены – всякий знает их. Они не нуждаются в демонстрации и представлении. Они хорошо знакомы нам изнутри, как жизнь, которую они в значительной степени составляют. И всё же мы не сразу находим в своём арсенале соответствующее понятие, которое мы составили бы себе сами. Зато каждый из этих основных феноменов уже «истолкован», интерпретирован в пространстве общественного понимания жизни. Обычай, традиция и традиционная власть «институтов», в принципе, высказывались в своём обнародованном «учении» о жизни о труде, любви, смерти – и сформировали прочные воззрения, общественное отношение, морально санкционированные учреждения и т. д. Если мы хотим выработать своё отношение к основным феноменам нашего существования путём философского рассуждения, то мы не можем просто перенять и повторить эти 76 традиционные толкования – мы должны размышлять, исходя из нашего настоящего, из нашего свидетельства. Мы начнём с вопроса о смерти. Глубина нашего здесь-бытия – актуальность переживаемого нами настоящего – определяется с позиции нашего отношения к смерти. Что же это за особенное «отношение»? Является ли оно вообще отношением, связью, подобно взаимосвязи между двумя вещами? Находимся ли мы здесь, а смерть «там»? Или она повсюду с нами, везде, где бы мы ни были? Человек в качестве человека всегда живёт в тени смерти. Это не значит, что мы всегда думаем о ней, всегда находимся в мрачном настроении. Она здесь с нами и когда мы радуемся, в самом непринуждённом веселье, в самом утончённом блаженстве. Мы знаем о ней, знаем о смертности человека, о конце всех усилий, всех страданий и всех радостей. Мы твёрдо знаем, что от смерти не уйти, но нам не известен час её прихода. Сознание смерти перестраивает все наши возможности. Это не обязательно должно вершиться в бегущей мира печали, в страхе и ужасе, отравлять каждое желание, вносить горечь в каждое наслаждение. Это лишь ограниченное количество вариантов выражения нашего отношения к смерти, ощущения её мрачного величия, перед которым до основания содрогается всё конечное. Есть другие, совершенно другие подходы, которые являются не менее исконными и где смерть утрачивает своё жало, хотя и не отменяется «спасительным учением о нездешнем». Сознание смерти человека не следует связывать с депрессивными настроениями и ограничивать ими; оно делает своё дело также и в «возвышенном», праздничном расположении духа, пусть и на иной лад. Но сознание смерти не изгнать, это самое глубинное достояние человека. Человек не случайно понимает себя как «смертного». Не потому, что все люди доныне умирали, следует ожидать, что и в будущем все люди будут умирать. Смертность – это не внешнее, лишь добавленное назначение человеческого бытия, она, напротив, сущностно составляет и бытие сущего, которым мы являемся во всякое время. Но что же это за сущностное назначение? Указывает ли оно на некое сущностное «свойство» человека? Является ли смертность вообще «свойством», которое относится к предметному что сущего? Сравним значение слова «смертный» с другими значениями, такими, как «подвижный» или «искусственный», «продающийся» и т. п. Подвижное можно двигать (или оно само движется), приходит в движение; оно не должно всегда пребывать в актуальном движении. Способность к движению – это способ бытия материальной вещи, к которому относятся как «покой», так и «движение». Быть подвижным означает, следовательно, пребывать либо в покое, либо в движении. Термин характеризует вещь в окончательном виде, каковой она является, когда бы она ни являлась. «Подвижное», пока оно вообще есть, никогда не перестаёт быть движимым. Подвижность есть существенное, а не сопутствующее свойство, которое могло бы приходить или уходить. Или выражение «искусственное». Искусственность определяет в целом существование всех изготовленных, созданных вещей. Термин обозначает 77 бытие искусственных предметов с момента их происхождения. Происхождение – это не нечто такое, что было важным только в начале этих вещей и больше не имеет к ним отношения в последующее время. Пока они есть, их продолжает определять их происхождение, они никогда не прекращают быть «искусственными вещами», пока они продолжают быть, они никогда не смогут стать произросшими природными вещами. Или ещё: вещи могут также определяться приданной им «целью», целью, которую они не преследуют сами, которая, скорее, преследуется с их помощью. Плодам самим для себя не нужно иметь свойство продаваемости, но для торговца, у которого они являются товаром, продаваемость важна. В качестве товара их бытие включено в совокупность чужих свойств. Но человек может не только предназначать другие вещи для чего-либо, придавать им цель, он может таким же образом обходиться и с ближними и даже с самим собой. Он даёт себе цель, к примеру, выбирает «профессию». Чем обширнее у него возможности выбора, тем меньше внутреннее принуждение. Меньше всего выбор, по-видимому, у того, кто следует внутреннему призванию, в котором проявляется стремление к чему-либо. Это «внутреннее призвание» можно уяснить или не распознать, но нельзя «выбрать». Но как же обстоит дело со смертным бытием человека? Определяет ли оно человека таким же образом, как подвижность целиком определяет бытие телесной вещи или происхождение, не снимаясь, – бытие искусственных вещей? Однако словом «смертный» не описывается то, как человек постоянно себя ведёт. Ведь он живёт будучи смертным. Возможность двигаться относится к телесной вещи иначе, чем возможность умереть – к человеку. Когда наступает движение, телесная вещь продолжает быть; когда умирает человек, он исчезает. Потенциальность здесь, скорее, потенциальность вероятного небытия, чем вероятного бытия. Возможно, скажут, что смертное бытие является назначением, аналогично целевому назначению. Мы назначены смерти, обречены на смерть. Но разве мы обречены на смерть как жертвенные животные? Распорядилось ли это назначение нами извне или это самостоятельно избранное назначение? Или вообще внутренняя тенденция нашей жизни? Человек имеет возможность приговаривать к смерти других людей, он может в качестве самоубийцы исполнить подобный приговор над самим собой. Эти известные возможности обращения с чужой или собственной смертью часто поставляют модели для мифологического истолкования смерти. Она считается божьей карой, наложенной на наш род, некой «данью греху». Тем самым смерть получает иное истолкование, становится внесущностным феноменом, вторичным явлением. Но смерть есть основной феномен нашего человеческого существования. Этим подразумевается нечто большее, чем бренность. Всё живое бренно, не один лишь человек, все конечные вещи в целом отмечены печатью разрушения, несут на себе клеймо гибели. Всё, что есть между небом и землёй, между открытым простором и несущей закрытой землёй, является «исчерпываемым», не обладает неиссякающей силой удерживать себя 78 в бытии. «Откуда вещи берут своё происхождение, туда же и должны они сойти по необходимости; ибо они должны платить пени и быть осуждены за свою несправедливость сообразно порядку времени» (фр. 1), – гласит изречение Анаксимандра на заре западной философии. «Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, / годна вся эта дрянь, что на земле живёт»101; не только человек медленно увядает, как трава от косы жнеца, но также и животное должно сойти вниз; всё рождённое вновь возвращается к земле, которая извергла его. То, что выходит из лона, кончается в могиле. Подобно тому, как цветы, зеленеющие луга и золотые волны летних полей приносит та же богиня, которая приносит и зимнее паровое поле, и скудность земли, рождение и гибель всех конечных вещей так же тесно сплетены друг с другом. Что поднимается, тому назначено пасть; что имеет силу, обречено на иссыхание. Всё живое кончается, но исчезают также и огромные неживые вещи, горы и реки, континенты и моря. Даже самые могучие вещи не обладают силой, не истощаясь удерживать себя в бытии вопреки абсолютному могуществу времени, которое приносит и забирает, строит и разрушает, соединяет и разбивает. Поверх преобразования и движения всех конечных вещей – сияние и тень Персефоны. Однако человек не только конечное сущее среди множества конечных вещей. Посреди всеобщей бренности и временнóго круговорота зарождения и гибели один лишь человек есть тот, который имеет своё отношение к бренности как таковой. Человек, поскольку он открыт исчезновению как концу, исчезновению всех вещей и себя самого, – смертный. Он не просто увлекаем потоком времени, он знает о своём падении и исчезновении, испытывает разрушительные изменения, свистящий ветер бренности. Закончить своё существование должны все живые существа, населяющие землю, однако «умереть» может один лишь человек. Смертное бытие как основная черта человеческого существования «Смертное бытие» человека есть предопределение нашего бытия, которое известно каждому, о котором каждый странным образом знает – но которую тем не менее трудно постичь и истолковать. Мы попытались воспользоваться им как сущностным определением, которое характеризует человечество как таковое в качестве основной черты человеческого существования, не свойственной ни животному, ни богу. Но как мы «смертны»? Когда мы обычно формулируем определения вещей, мы, как правило, подразумеваем, что эти определения свойственны вещи, в то время и пока вещь «есть», существует, длится; наличность вещи образует естественную предпосылку её определений. В большом количестве имеющихся определений существование и длительность вещи подразделяется по-разному. Вещь есть носитель свойств. Свойства положены ей, поскольку, в то время и пока она существует. Вещь 101 Гёте И. В. Фауст. Пер. Н. Холодковского 79 есть субстанциально неизменное, пока в этом устойчивом носителе остаются или меняются некие свойства. Примером этого было у нас выражение «подвижный». Оно подразумевает сохраняющееся свойство материальных телесных вещей, свойство, которое положено им в них самих, пока они есть. Они существуют, находясь либо в покое, либо в движении. Несколько иначе обстоит дело со вторым из приведённых ранее примеров. Слово «искусственный» называет бытийную конституцию вещей, которые явились не из природы, а произведены человеком. Как фабрикаты в самом широком смысле слова они бытийно всегда остаются отнесёнными к фабрикации и никогда не могут отринуть это происхождение. Но ведь это прежде всего понимающий человек специально принимает в расчёт и называет заложенную в искусственных вещах отнесённость к их происхождению. Таким называнием он относит эти сущие вещи к событию изготовления, где они возникли – где их когда-то ещё не было, где они имели лишь воображаемую преэкзистенцию в виде намерения, плана, в виде идеи, были «воплощены» в процессе выполнения плана. Позиционирование таких вещей как «искусственных» относит, так сказать, их нынешнее сплошное бытие и существование к горизонту небытия. Где бы мы ни распознали искусственность какой-либо вещи, сфабрикованность фабриката, мы различаем также сущее в отношении к ничто. Но это мы, люди, суть те, кто видит сотворённость искусственных вещей – для нас они заключают в себе отсылку назад к ничто, которое имеет отношение к их происхождению. Осознать сотворённое как сотворённое может, в принципе, лишь существо, которое в своём бытии имеет отношение к ничто. И, надо полагать, лишь открытое для ничто существо вообще может «творить», «производить», «разрабатывать». В контексте наших рассуждений теперь важно, чтобы мы охарактеризовали термином «искусственный» сущие вещи некоторым образом за пределами их бытийного существования. Но тем самым мы не навязываем этим искусственным вещам нечто такое, чего они сами в себе не заключали бы; они сами находятся в отношении обратной отсылки к своему происхождению – техническому изготовлению человеком. Вещам мы навязываем нечто, когда своей волей, демонстрируя свою свободу, присваиваем им целевое свойство, которого они не имеют сами по себе. «Быть продаваемым», товарный характер, денежная стоимость произросших или изготовленных вещей означает привязывание фиктивных смысловых моментов к реальному бытию определённых утилитарных, имеющихся в окружающей среде предметов. Человек фиксирует «цену» – сами по себе вещи «бесценны». Ценностные характеристики – это «добавленные», а не «обнаруженные» определения, они отсылают к «добавленности», подобно тому, как искусственные вещи отсылают к своему изготовлению. Они тоже берут своё начало в человеческой свободе и имеют особое отношение к ничто. Стоимость, товар, деньги суть продукты конечной человеческой свободы. Краткое рассмотрение трёх типов определений, таких, как «подвижный», «искусственный» и «продажный», позволяет в итоге уточнить наш вопрос: 80 какой же род определения подразумевается в слове «смертный»? Является ли это объективным суждением о непрекращающемся состоянии человека? Разумеется, пока человек жив, он смертен, мёртвый уже не смертен, не рождённый ещё не смертен. И «смертное бытие», бесспорно, подобает только живущему. «Быть-в-живых» является предпосылкой смертного бытия. Это, видимо, просто до тривиальности. Но это ли имеется в виду, когда мы говорим о смертном бытии человека как основной черте его существования? Имеем ли мы в виду утверждение о человеке как бы извне, что он «во всякое время достаточно стар, чтобы умереть»? Имеем ли мы в виду, что его жизнь может в любой момент прерваться, угаснуть, прекратиться – и что эта потенциальность возможного в любое время небытия определяет его жизненный путь, так сказать, «в себе»? – Или мы мыслим понятие смертного бытия аналогично тому, как мы мыслим понятие искусственности – в отношении отсылки данного сущего к горизонту ничто? Понимаем ли мы смертное бытие как определение, которое было придано нам иной, сверхчеловеческой, властью – может, мы предуготовлены смерти как гладиаторы на арене, как приговорённые к казни? Заключается ли смертность человека в объективной обречённости на смерть? Чисто интуитивно на этот вопрос, вероятно, ответят, что хотя объективная ситуация неизбежного конца человеческой жизни и должна обязательно входить в мыслимое понятие смертного бытия, но что смерть, кроме того, прежде всего «духовная реальность», поскольку в жизни человек терзаем страхом смерти. Скажут, что «переживание» такого страха в ожидании грядущего неминуемого, но ещё не известного во времени, вероятного в любой миг события смерти составляет основное содержание человеческой смертности, она есть лик жизни с чертами постоянной боязни и тревоги вследствие мысли о смерти. Именно здесь и лежит проблема. Разумеется, и то и другое верно: существуют объективные данные и фактическое положение вещей, что человек «заканчивается», что он живёт лишь ограниченный период времени и лишь изредка он равняется веку; и существуют также субъективные свидетельства того, что нас в продолжение всей жизни посещает страх смерти, даже если мы и не «размышляем» о ней непрестанно. Именно тот факт, что мы в большинстве случаев отодвигаем мысль о смерти, пытаемся забыть, вытеснить и заглушить её, свидетельствует скорее о том, как сильно она нас гнетёт. Она караулит в полумраке подсознания, и она внезапно нападает на нас, как только возникает опасность, угроза; наша воля к самосохранению – это, так сказать, единственный способ борьбы с мыслью о смерти, пусть даже мы и не признаём этого. Однако принципиальная проблема заключается здесь в том, является ли вообще достаточным различие «объективных природных данных» и «субъективных свидетельств переживания», чтобы подобающе охарактеризовать бытийную конституцию смертности человека. Знакомство человека со смертью является более исконным, чем любое реальное познание какой-либо вещи. Знакомство со смертью относится к открытости самого себя, само- освоению 81 человеческого бытия, к самостному отношению человека к собственному бытию и к сущему в целом. Самостно открытым бытие является, будучи в то же время открытым для актуального целого, из которого только лишь и могут выйти нам навстречу вещи как предметы представления и осмысления. Открытость собственного существования есть в своей основе всегда также и открытость мира. В понимающем обращении со смертью возникает «напряжение» между всем нашим открытым себе и открытым миру бытием, а не просто интенсификация через переживание и окрашенность настроением некоего «знания» о положении вещей. Но как раз для «открытого себе и открытого миру» существования у нас пока нет подходящих слов и подходящих категорий. Мы снова и снова оказываемся оттеснёнными в схему «субъект и объект» и задаём тогда вопросы, следует ли понимать смерть как «природное событие» или, скорее, как внутреннюю душевную реальность боязни смерти, страха и т. д. Как внешнее природное событие и как внутренний душевный феномен смерть и, соответственно, сознание смерти имеет вид реальной постижимости, не обладает таинственным, неоднозначным характером непостижимого, которое постоянно затрагивает нас – и всё же не поддаётся нашим попыткам ухватить его. Но, возможно, постижимость, доступность как раз и не является тем исконным способом, каким смерть наличествует в бытии человека; возможно, смерть как внешнее природное событие или как психический момент боязни смерти является уже вторичным феноменом. В более заострённой форме мы можем сформулировать это так: там, где смерть вообще каким-либо образом «феномен», нечто себя-являющее, нечто данное, некий внешний или внутренний факт, там уже имеют место производные подходы. Она становится тогда неким предметом внутри феноменального мира, неким «происшествием» в нём, в то время как мы в действительности в своём отношении к смерти относимся к таинственному, внепространственному и вневременному измерению отсутствия, которого не встретить нигде в зоне присутствия, ни «снаружи» в природе, ни «внутри» в душе – и которое тем не менее определяет нас, и определяет до самой глубины души. Бытийной связи человека с тёмной страной смерти нелегко подняться до ясного осознания. Следует начать, так сказать, с производных связей и уяснить себе их границы. Мы сказали ранее, что человек кончается, как вообще все живые существа, да просто как все конечные вещи, – но среди всех творений он отмечен тем, что осознанно относится к исчезновению как таковому. Правда, возможно, скажут: ведь и бог тоже созерцает всеобщий водоворот бренности, взлёт и падение вещей, он даже управляет их изменением и движением, обусловливает рождение и гибель являющихся и вновь исчезающих форм. Но бог наблюдает за течением времени из вечности, он действует по ту сторону времени и пространства, влияя на пространство и время, он «толкает снаружи…». Его абсолютное понимание пространства и времени не привязано к самому пространству и времени, не имеет пространственной и временной 82 реализации. А человек стоит один как конечное творение в пространственновременном мире, его захватывает и увлекает с собой поток времени, его рассеивает экстенсивная сила пространства. Исчезая сам, он знает об исчезновении конечных вещей; будучи бренным, он знает о бренности. У него одного среди бренных существ «дурной глаз», он уже в весеннем блеске видит зимнюю безотрадность, в цветении – гибель, в силе – слабость, в восходе – закат, в жизни – смерть. Мы не являемся более, как говорит поэт, «едиными» и «в согласии» с природой, которая обыкновенно по-матерински лелеет свои творения; мы в разладе с природой, отчуждены от неё, наша жизнь всегда тотчас же распадается на «положенное» и «противоположное»: «Одновременно мы цветём и вянем, / А где-то ходят львы, ни о каком / бессилии не зная в блеске славы»102. Мы предвидим не только наш конец, мы с грустью заглядываем вперёд, во всеобщую, непрерывную и неудержимую гибель. К прочим живым существам мы относимся, как Кассандра к весёлой толпе троянцев, тянущих в свой город деревянного коня. Мы открыты вихревой пляске всех появляющихся и уже тем самым обречённых на исчезновение вещей. Всё, что возникает, должно опять исчезнуть. Оры приносят, и оры всё забирают. Время есть непрестанное порождение и уничтожение. Человек – самое временнóе в своей основе существо, поскольку он не только несётся во времени, истекает в его течении, но понимающе относится к этому течению, всё приносящему и всё забирающему. Человек осознаёт время как время, то есть как творящий и ничтожащий горизонт бытия. А теперь следовало бы задать более конкретный вопрос: как человек понимает окончание всех вещей. Понимает ли он его всюду одинаково – кончается ли всё равным образом? Или есть разные виды окончания? Может быть, если говорить лишь об универсальном окончании всех вещей, без учёта специфических способов конкретного прихода-к-концу, это означало бы, при известных условиях, недопустимое нивелирование? Как кончаются, скажем, неорганические природные вещи, к примеру, каменная глыба? Гранитный валун, на который мы наткнёмся во время прогулки в Шварцвальде, пожалуй, произведёт на нас глубокое впечатление своей тысячелетней незыблемостью, своей долговечностью. Мы перед ним как муха-однодневка. И всё же мы знаем, что он искрошится, медленно распадётся, что его подтачивают холод, жара, ветер, солнце и дождь. В конце-концов он изотрётся, превратится в пыль. Неорганическое заканчивается, распадаясь. Однако хотя в распаде и исчезает доныне сохранявшаяся «форма», но материя остаётся; она возвращается в элементарное состояние, из которого, возможно, вновь образуются какие-нибудь формы. Гибель не означает здесь абсолютного уничтожения. Иначе, по всей видимости, обстоит дело с живым. Биологии известно много видов непрерывности жизни, которая проходит через различные формы. Деление клетки, «идентичность» протоплазмы и т. д. являются сложны102 Рильке Р. М. Дуинские элегии. Элегия четвёртая / пер. В. Микушевича. 83 ми теоретическими проблемами вследствие необходимого здесь формирования понятий. Проще ситуация представляется там, где мы в феномене обнаруживаем «окончание» индивидуальной формы как временного носителя жизни. Растение увядает, животное околевает. Что же тут происходит с растением и животным? Как вообще что-то, что «есть», может вдруг «прекратиться»? Разве это прекращение не есть превращение в другое бытийное состояние, подобно тому, как гранитный валун, распадаясь, превращается в пыль? Этого мы, по-видимому, не можем утверждать по отношению к живому. Живое не может всегда удерживать себя в живом бытии, оно кончается в мёртвом бытии. Но что же такое это мёртвое бытие? Может быть, мёртвое бытие есть особый способ «быть»? Не образуют ли «жизнь» и «смерть» такую же полярную противоположность, как «тепло» и «холод»? Холод не менее бытиен, чем тепло. Можем ли мы сказать также и о мёртвом, что оно не менее бытийно, чем живое? Есть ли вообще мёртвое? Не сбивает ли нас с толку язык, где значение «есть» о любом, о чём бы ни шла речь, имплицитно как бы заявляет «бытие», когда вообще говорится лишь, что оно «есть» такое-то либо такое-то? В свете употребления глагола-связки «ничто» тоже «сущее», ибо мы говорим, что оно «есть» отрицание всего сущего. Что же мы на самом деле имеем в виду, объявляя нечто доныне «живое» «мёртвым»? Прежде живое исчезло – но не просто «ушло», оно не спряталось, не лишилось видимости. Оно угасло, уничтожилось. Конец живых организмов не просто резкий переход из одного определённого бытийного состояния в другое, но резкий переход из бытия в ничто. Речь о резком переходе всё ещё направляет на ложный путь, так как обычно к каждому резкому переходу принадлежит переходящее, к каждой metabole некий hypomenon. Когда вещь становится больше или меньше, когда она меняет свой цвет и тому подобное, то вещь всё же должна остаться как нечто исходное, чтобы с ним мог состояться резкий переход. Однако резкий переход от жизни к мёртвому бытию не может произойти с исходным субстанциальным «носителем» резкого перехода. Хотя мы тысячи раз наблюдали гибель растений и животных, наш рассудок отказывается помыслить это известное явление. Что означает «прекратиться», «уйти безвозвратно в ничто» – где это ничто, куда исчезают живые организмы? Ведь не бывает так, чтобы там, где только что жил живой организм, вдруг возник вакуум, исчезли как по волшебству растение, животное, человек. Сохраняется остаток, труп животного, труп человека. Мы называем его бездыханным, говорим, что из него исчезла жизненная сила, душа. Труп как мёртвое тело, без сомнения, есть сущее. На трупе мёртвое бытие являет свой феномен. Труп принадлежит миру живущих, которые устраняют его различными способами. Труп наиболее подвержен разрушению и распаду, разъедается и растворяется тлением. Тление есть процесс распада органической субстанции. Истлевая, органическая материя возвращается в неорганическую природу. Кажется, что прежде живой индивидуум с распадом и исчезновением трупа растворяется в ничто. Тело возвращается обратно в землю. 84 Но как обстоит дело с «душой»? Имеем ли мы здесь аналогичный феномен, как у тела? Тело существует ещё некоторое время «бездыханным» в качестве трупа. Продолжает ли, со своей стороны, существовать также и душа в бестелесной форме? Или именно она угасает первой? Может быть, самым смертным является душа, в то время как тело, даже распадаясь на атомы, продолжает участвовать в нескончаемой протяжённости материи? Феномен, кажется, говорит в пользу этого. И всё же человеческий ум никогда не мог примириться с этим. Он грезит о «бессмертии»; он объясняет конец живого как «отделение души от тела», но это отделение не рассматривается в качестве феноменального случая; разделённых «частей» не существует, пусть даже и раздельно, в одном и том же мире. Тело остаётся здесь в виде трупа. О душе неведомо, куда она уходит, да и уходит ли она вообще, является ли ещё «сущим» – хоть в высших сферах, хоть в низших мирах. О душе «полагают» разное. При этом судьба душ растений и животных не слишком-то заботит, хотя и есть мифологии, как, к примеру, миф о переселении душ, которые вообще занимаются проблемой духовного. Но чаще всего считают, что лишь человек имеет «бессмертную душу», в то время как растение и животное, что касается их души, в смерти, вне всякого сомнения, угасают, совершенно уничтожаются. Правда, при формулировании и экзегетическом изложении таких верований мало учитывается, что идея бессмертия человеческой души должна была бы включать в себя ясное понятие об абсолютной уничтожимости душ растений и животных. Мы не будем здесь высказывать свою точку зрения на положения религиозных вероучений, потому что они лежат вне возможностей самоинтерпретации человеческого бытия в аспекте его основных феноменов. Наш вопрос заключается в следующем: как является нам скончание живого вообще? Мы живём, осмысливая бренность в общем и целом, но бренные вещи исчезают не все одинаковым образом. Неживое исчезает одним путём, живое – другим. У неживого исчезает, так сказать, только форма, но не вещество; распадается лишь определённая конфигурация, и уже в разрушении образуется некая новая. Распад, старая и новая формы – всё это феномены, которые пребывают в сфере феноменального мира. Вероятно, это процессы, которые зачастую тысячекратно превосходят по длительности человеческую жизнь, и всё-таки мы проникаем в смысл таких процессов; мы знаем законы природы, которые управляют свойствами материи. У живого мы хотя и можем описать типичные черты в картине кончины, дать точную обрисовку каждой фазы с точки зрения живого наблюдателя и привести, сверх того, множество физиологических оснований умирания, однако само событие кончины происходит в пограничной зоне феноменального мира; умирающий живой организм (будь то растение, животное или человек) как бы уходит из зоны пребывания. Конечно, такой уход мы не должны опрометчиво и наивно толковать как движение, в котором пребывает нечто движущееся. Мы не знаем, переходит ли «уходящий» в процессе умирания живой организм в ничто или в так называемый «иной мир». Кончина видится с на85 шей позиции, с позиции живущего свидетеля как уход, как оставление нашей сферы, но мы не располагаем феноменальным понятием о «куда» такого «удаления». Событие остаётся непостижимым для нас. Очень важно удержать именно этот момент и прежде всего – выдержать, претерпеть его. Человек есть конечное существо, «бес-конечно» заинтересованное в себе самом, озабоченное собой, не желающее мириться с тьмой, которой окутывает нас смерть; кажется, что он едва способен жить с нераскрытой тайной, он пытается «заглянуть за кулисы». Мы зачастую скрываем от себя истинную проблему, лишаем себя возможности продуктивным образом отнестись к мистерии смерти и жизни, так как мы слишком быстро придумываем здесь некое «замирье», населяем его воображаемыми фигурами, прообразы которых мы позаимствовали, однако же, в здешнем мире. Нам невыносимо заглядывать в пустоту, мы живём в метафизическом «horror vacui». Мы оперируем проекцией земных связей на не-земное и потустороннее, воспринимаем смерть как ворота, через которые проходит умирающий, чтобы попасть как бы в иную страну, в иной мир. Мы по обыкновению вообще никогда старательно и серьёзно не додумываем до конца, в чём же заключается отношение человека, понимающего кончину живых существ, к тому «ничто», которое как бы окружает таинственно наш феноменальный мир здесь-бытия и теперь-бытия и всё же не является ни зоной, ни страной «по ту сторону Ахерона», ни «замирьем». Мы сказали, что человек, уносимый потоком бренности, понимает преходящее бытие всех конечных вещей. Этот тезис, хотя он и выражает сущностную ситуацию человеческого существования, следует ограничить в том смысле, что такое понимание не носит характера полного постижения, а скорее постоянно грозит утонуть в непроницаемой тьме. Нам известно, что неорганические образования распадаются, но нам не ясно, в чём, в принципе, заключается устойчивость материального вещества, что это означает для временнóго горизонта, о чём свидетельствует её неустраняемое пребывание в единстве взаимосвязей феноменального мира – по сравнению с совершенно иным способом, каким кончается живое. Живое оставляет после себя только свой труп – а само непостижимым образом «уходит». Традиционные представления о разделении в смерти двух бытийных элементов живого оставляют совершенно непродуманным момент, какого рода разделение это вообще может быть. Разделение элементов – это процесс, хорошо знакомый нам в телесных феноменах; сложное распадается, но распадение происходит при этом в одном и том же месте и в одно и то же время. Но где и когда происходит разделение души и тела? Ведь, как утверждают, душа должна выйти, исчезнуть из феноменального пространственновременного мира явлений. Разделение не может происходить в мире явлений, не может само быть «феноменом». Такие представления, как «дальнейшее существование» души после смерти, должны были бы, как уже говорилось, дать, кроме того, информацию о том, почему продолжение жизни, посмертное бытие присуще лишь человеческой душе, почему не душе животных и 86 растений. Если в этих вопросах человек остаётся привязанным – как всегда в деле философии – к собственной способности познания, к скудному светочу «lumen naturale», а не «озаряется» божественными откровениями, тогда будет честнее признаться себе, что в нашем понимании бренности всех конечных вещей есть неясности, вместо того, чтобы конструировать фантастические миры грёз в лёгкой, воздушной материи недоказуемого и неопровержимого. Нам не известно, куда погружается живое, уходя с этого света, – но нам известно, что всё живущее кончается и должно кончиться. Как же построено такое знание и незнание? Стоят ли здесь свет и мрак «подле» друг друга – или же именно здесь знание и незнание переплетены друг с другом, свет и мрак перемешаны и образуют сумрак, который в общем и целом бросает тень на человеческое понимание бытия? Как «сущее» вообще может «кончиться»? Экзистенциально заостряясь, этот вопрос остаётся актуальным во всяком человеческом знании смерти и конца. Мы набросали ситуацию человека как некоего понимающего внутреннего бытия в потоке времени. К этой ситуации относится неясное, сумеречное знание о всеобщем исчезновении вещей. И себя самого человек видит вовлечённым в это исчезновение. Он не составляет исключения – его жизнь есть непрерывное исчезновение и падение; мы падаем в низвергающийся водопад времени – как это сказано в «Песне судьбы Гипериона»: «А нам суждено / Покоя не ведать нигде. / Люди, страдая, / Вслепую бредут, / Жизни часы их проходят, / Как низвергаются воды / Из года в год, / Со скалы на скалу. / В неизвестности бездну»103. Но встаёт вопрос: что же означает вовлечение человека во всеобщее исчезновение вещей? То, что мы участвуем в этом, несомненно. Но разве наше участие в этом не имеет совершенно особого и исключительного характера – может быть, в своей «преходящести» и в своём «низвержении» мы иные, не такие, как вещи, как неорганическое, и даже не такие, как живое в целом, не такие, как растение и животное? Сейчас речь не о том, чтобы разбирать какое-то мнимое первенство или превосходство человека, на основании которого он будто бы возвышен над другими живыми существами, а они будто бы назначены служить скамеечкой для его ног. Речь, скорее, о взгляде на вид бытия и бытийную конституцию смертного человека, чья смертность хотя тоже означает открытость для бренности всех конечных вещей, но ещё не растворяется в ней. Смертность ещё не осознана, если остановиться на вовлечённости человека в универсальность бренности. В этом случае она ещё не прояснена. Мы в течение своей жизни многогранно и разнообразно имеем дело с человеческой смертью. И пусть сначала это не собственное, не самостоятельное знакомство. Правда, смерть – это событие, которое, как хотелось бы думать, более всего касается каждого; это событие, за которым нет и не может быть более событий в земной жизни; оно предельное и последнее; оно как грядущий конец меня самого в значительной 103 Гёльдерлин Ф. Песнь судьбы Гипериона / пер. Е. О. Неусыпкиной. 87 мере определяет и формирует моё Я-бытие и самостное бытие. И всё же человек обычно как раз не находится в ясной связи со своей смертью. Он пребывает в пространстве нравов, традиций, обычаев, вращается в рамках официальной интерпретации смысла смерти человека и смертности нашего рода. Социум, к которому он принадлежит, в принципе, толковал смерть как таковую; не бывает человеческого сообщества, которое могло бы существовать без интерпретации смерти. Толкование смерти является основополагающей чертой любого сообщества. Культ, древнейшие обычаи, фундаментальнейшие условия жизни связаны с толкованием смерти. Но и самое современное технократическое общество никогда не сможет существовать без такой интерпретации, как бы оно ни пряталось за «механизмами». Общество неизбежно обнаруживает в своём жизненном круге смерть как чудовищную силу, которую ему никогда не удастся ни опротестовать, ни проигнорировать. Но оно всё вновь и вновь делает попытки как-то приспособиться к этой зловещей силе, способной уничтожить все планы, разрушить все надежды, как бы заговорить и изгнать её с помощью культовых форм, смягчить людям бремя ударов судьбы в виде смертных случаев при помощи благотворительных структур, регламентировать ход общественной жизни путём выработки стандарта отношения к смерти. В обществе определённым образом установлено, как следует относиться к смерти, как сохранять «самообладание», как выражать скорбь; известны и признаны ритуалы погребения; существует целая новейшая отрасль промышленности, живущая этим. «Ожидаемая продолжительность жизни» индивида давно рассчитана страховыми обществами на основании статистик смертности и выражается в соразмерной сумме страховой премии. Однако было бы абсолютно неправильно видеть в общественной точке зрения на смерть человека лишь неличное отношение к смерти и выступать в защиту исключительно такой позиции, где одинокий индивид восстаёт против толкования смерти обществом, полисом. Этой проблемой мы ещё должны будем заняться более обстоятельно. В философии смерти имеет место также несостоятельный радикальный «индивидуализм», который как раз и препятствует тому, чтобы мистерии ушедшего в мир иной духа, кому живущий посвящает венец и память, стали мучительным и настоятельным вопросом мысли. Приоритет знания смерти в целом человеческого существования Проблема смерти имеет в целом человеческого существования своеобразный приоритет. Это не просто некий волнующий вопрос наряду с другими волнующими вопросами, не просто некая проблема наряду с другими проблемами. В знании смерти пробуждается восприимчивость ко всему загадочному и неопределённому. Когда миф повествует о том, что человек, отведав с древа познания, осознал свою обречённость смерти и тем самым утратил рай, 88 то это указывает на весьма примечательную связь познания и смерти. Обещание змия, «eritis sicut deus…», было выполнено, по-видимому, иначе, чем ожидалось. Человек не стал, как бог, не стал всемогущим, всеведущим и вечным – как он; он стал похож на бога тем, что познал различие вечного и преходящего – но с противоположной стороны. Живя в бренности, как растение и животное, он коренным образом отделён от этих укрытых от опасностей и защищённых живых существ тем, что он «узнаёт» бренность как таковую, пронизан её болью до самых глубин своего существования. Важную роль, которую играет знание смерти, невозможно переоценить. Везде и всюду оно с нами, во всех актах свершения жизни, в счастье не менее, чем в горе, в беззаботном веселье точно так же, как в страхе. Смерть наш постоянный конвоир, за каждым столом жизни уже сидит «каменный гость». Он поджидает всех. Никто не может спастись от него бегством. Он настигает каждого. Характер отношения человека к своей смертности многогранен – и всё же, в сущности, возвышенно однообразен. Она является великой темой религии и мифов. Загадку смерти обвивают глубокомысленные толкования; из представлений о суде после смерти черпает свою принудительную силу мораль. А для философии глубочайшим стимулом служит сознание смерти человека. Бес-конечный субъект, с вечной уверенностью в себе самом, обладающий бытием как неотъемлемой собственностью, не имеет нужды философствовать – да и не может философствовать. Философия есть единственный в своём роде шанс смертного человека – она берёт своё начало в сознании смерти, является самым ярким его выражением. Античность тоже характеризует философию как melete thanatou, как озабоченность смертью – точка зрения, которая господствует в диалоге Платона «Федон». Этот диалог, содержащий беседы о смерти готового к казни Сократа с его друзьями, толкуют, как нам кажется, неверно, когда видят в нём радикализм «настроения бегства от мира», аскетический отказ от земного. Здесь философия развивается из основополагающего отношения к смерти. «Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью…», – говорится там. В «Федоне» философия разворачивается в величественной односторонности как философия смерти. Интерпретация тематики платоновских диалогов с позиции фундаментальных воззрений на каждый из основных феноменов человеческого бытия была бы вообще интересной и поучительной задачей. Подобно тому, как в «Федоне» ведущей темой является смерть, в «Государстве», в «Политике», в «Законах» – это власть, в «Пире» – эрос, в «Тимее» и всюду, где мастерство и умение становятся преимущественной моделью понимания, – труд, и во всех диалогах, уже благодаря самой художественной диалогической форме, позволявшей Платону состязаться с поэтами, – игра. Поскольку сознание смерти составляет пафос нашего существования, оно упрямо и неотвратимо настраивает всю духовную жизнь человека. Мы ограничены и втиснуты в рамки не потому только, что наш интеллект перемешан 89 и переплетён с чувственностью, наш разум затуманен и омрачён чувствами; человеческий дух есть в себе смертный дух, убеждённый в неотвратимости собственного конца, пронизанный временем и знающий время как таковое. Смертность входит в наше бытие не потому, что у нас случайно оказалось «тело», внешняя биологически организованная форма, а с ним и телесные ощущения. Смертность не отступилась бы от нас, даже если бы у нас забрали тело. Скорее наоборот. Смертное бытие определяет способ нашего телесного бытия. Человек ни в коем случае не бог, наделённый животным телом. Его телесность не такая, как у животного, а его духовность не такая, как у бога. Наш дух всецело окрашен смертностью, и этот смертный человеческий дух особым, неповторимым образом действует в теле. Здесь, умышленно искажая и замалчивая факты, действовала вековая традиция понимания человека как помеси животных и божественных элементов. И именно проблема смерти была искажена тем, что в человеке хотели найти черты животного и бога одновременно; говорилось, что человек, с одной стороны, умирает, как животное; его тело распадается и истлевает; но, с другой стороны, единственно человек среди всех земных созданий участвует в вечном бытии; его душе назначена вечная жизнь: в краю блаженства или в краю вечных мук. Правда, человеку при этом не присвоена вечность, которую оставляет за собой бог – вечность до, во время и после всех времён. Человек однажды приходит, проживает земное время, и только «после» смерти начинается его судьба в вечности. Таким образом, ему назначается посмертная «вечность». Человеческое бытие, согласно этому представлению, есть «помесь» из времени и вечности. Если такие воззрения претендуют на то, чтобы считаться философской истиной, то на них возлагается нелёгкая задача пересмотреть и объяснить в понятиях вульгарное различение «времени» и «вечности», а это означает, в свою очередь: в ходе анализа смерти остановиться на смысловых горизонтах «ничто» и «отсутствия», которые «непостижимым образом» окружают наше здесь-бытие. В знании смерти прежде всего содержится знание бренности всех конечных вещей. Человек знает, что не только он один исчезнет, что исчезнет всё, имеющее конечные очертания, форму и облик. Если он понимает время как время, то он сознаёт также его чудовищную разрушительную мощь, его разлагающую силу, которая превосходит любую силу отдельной вещи, удерживающую её в бытии. Время истощает всякую конечную бытийную силу. В грозах времени рушатся скалы, высыхают моря и гаснут звёзды – живое намного слабее и субтильнее, его пребывание здесь коротко; оно старится и увядает. Что появляется на свет, должно в скором времени снова сойти вниз. Короток день жизни живых существ. Но как раз это и составляет острое, сложное напряжение в человеческом понимании сущего, того, что это «сущее» «есть» лишь некоторое время. Как же такое вообще возможно? Как может то, что есть, когда-либо перестать быть? Как возможны уход, растворение, исчезновение, как может ничто быть допущено в бытие и бесчинствовать в нём? Разве понятие сущего 90 решительно и определённо не отталкивает от себя понятие ничто? Есть ли вообще более глубокая и полная противоположность, чем та, которая существует между бытием и ничто? Разве не следует сначала и прежде всего продумать и зафиксировать это различие, чтобы всё не потонуло в тумане неопределённости и неопределяемого? Это отличие бытия от ничто есть первенец европейской онтологической философской мысли Парменида. Уяснение этого разделения означает почти божественную способность мышления. Когда мыслитель Парменид осознаёт этот crisis, изгоняет всяческое ничто из бытия и любому ничто отказывает в бытии, он следует указующему повелению Дике. Только dikranoi brotoi (фр. 6), двухголовые смертные, мнят, будто в сущность бытия допущены возникновение и исчезновение, что «сущее» может начинаться и заканчиваться. В высшей степени важно, каким образом у Парменида пронизанность бытия временем связана со смертным человеком. У Платона парменидовское отделение бытия от ничто вызывает плодотворное возмущение и даёт толчок к созданию собственной философии. Он становится, как он говорит в «Софисте», «отцеубийцей» Парменида, он должен попытаться мысленно встроить ничто в бытие, по крайней мере, движимые, возникающие и исчезающие отдельные вещи трактовать как смешение бытия и ничто. То обстоятельство, что при этом бытийная конституция отдельных вещей, onta gignomena, толкуется с позиции идей как бытие более низкого ранга, как бытие, как бы изъеденное ничто, показывает, насколько Платон, несмотря на «отцеубийство», всё ещё отдаёт должное Пармениду. Начиная с этого момента, западная философия по-прежнему кружит вокруг смущающей ум проблемы: как сущее вообще может прекратиться. Смертность человека пронизывает и настраивает всё человеческое понимание бытия. Наибольшую остроту приобретает, однако, этот вопрос в отношении самого человека. Конец неорганических природных вещей есть распад, при котором исчезает определённая форма, но остаётся вещество. Конец живых организмов уже менее понятен, более загадочен. Мёртвые тела пребывают ещё какое-то время в органической форме, затем постепенно распадаются и превращаются в неорганическую вещественность. Живое бытие организмов представляет собой, очевидно, нечто мимолётное. То оно внезапно появляется, то вдруг вновь уходит; кажется, что это такой вид бытия, который полностью может превратиться в ничто. Но то, каким образом исчезает сам человек, является для человека самой волнующей и более всего тревожащей его неясностью в его понимании бытия вообще. Пока он жив, он сознаёт собственное бытие и не сомневается в нём; эта несомненность имеет приоритет перед каждым реально данным нам иным сущим. В отношении всех иных вещей мы можем ошибаться; мы можем считать такого рода вещи «сущими», в то время как это лишь обман чувств, фантасмагории нашего воображения. Но в отношении себя самих мы в принципе не можем заблуждаться на предмет того, что мы есть, пока и если мы сами осознаём себя. Здесь нас не смогли бы ввести в заблуждение ни всесильное 91 существо, ни «дух лжи», как это впечатляюще излагает в «Размышлениях» Декарт. Самоочевидность нашего бытия имеет безусловный приоритет перед любой другой бытийной очевидностью. Но в этом самоочевидном, самоудостоверенном бытии человека, в самой глубине, ютится сознание смерти. И даже если человек может оградить себя от возможного заблуждения, он не может оградить себя от ничто. Заблуждение – это только одна из форм ничто и далеко не самая страшная; есть много благотворных заблуждений, которые украшают жизнь: иллюзии, надежды, планы. Декарт полагает, что он нашёл архимедову точку опоры, некий «fundamentum inconcussum» в неиллюзорной бытийной достоверности мыслящего Я. Конечно, пока оно осознаёт себя, никакая власть, в том числе и власть бога, не сможет ввести его в заблуждение насчёт того, что он есть. Совершенно невозможно вообразить, что существуешь и при этом тебя нет, ибо Я и должно быть воображающим. Но то, что выходит из этого картезианского рассуждения, не является «абсолютным» и свободным от недействительности, чистым и незамутнённым бытием человека. В роскошном декартовом мысле-плоде сидит червь, могильный червь. Это уверенное в себе самом бытие человека само никогда не бывает разновидностью божественного бытия. Человек, уверяющий себя в неиллюзорности собственного бытия, знает в самой глубине души о своей смертности. Пока он сознаёт себя, он должен быть, он никак не может представлять собой иллюзию. Но в то время как он осознаёт себя, в то время как он сознаёт себя живым, он знает также о своём будущем уходе – знает, что его существование конечно и ограничено. Всё его земное пребывание определено робким, пусть даже по временам забываемым вопросом: сколько ещё осталось? Заложенный Декартом «фундамент» новой метафизики не может изгнать ничто из несомненного для себя бытия человека; оно, напротив, погружено в него в виде сознания смерти. В этой точке высшей несомненности бытия и высшего сознания бренности проблема понимания бытия человека приобретает исключительную остроту. В отношении самого себя человек меньше всего способен понять, как это он может исчезнуть; как столь уверенное в своём бытии, а также столь надёжно методически удостоверенное сущее сможет прекратить существовать; и всё же он с жуткой определённостью знает о смерти. Здесь философия как ход выработки понимания бытия имеет неиссякаемый источник. Наш разум чувствует и знает, что он здесь не только сбит с толку, но даже пребывает в опасности. Двигателем мысли является сейчас нечто большее, чем удивление, большее, чем блаженно-сосредоточенное созерцание красоты вещей. Не страсть к размышлениям – страх и ужас перед грозящим невообразимым ничто выводит нас из обыденной бездумности и вынуждает ставить крайние вопросы. Истолкование смерти и проблема бытия переплетены между собой. Сознание смерти бродит в проблеме бытия человека, и, с другой стороны, смерть человека представляет собой онтологическую проблему, которую невозможно ухватить с помощью категорий, 92 применяемых нами к вещам. Скончание человека имеет иную природу, чем окончание камня, растения или животного. Камень распадается, растительная и животная жизнь «угасает». А человек в смерти «уходит» из общества живых. Такой уход – сложная и неясная проблема. От этой проблемы обычно слишком уж быстро отступаются, трактуя уход согласно привычной схеме движения феноменов, к примеру, как перемену места, как переход из царства видимого в невидимое царство духов. Решающее значение имеет такое радикальное понимание ухода, каким он реально и видится нам, когда умирают ближние – а именно, как исчезновение из тотальной сферы «местопребывания» вообще, а не просто как отбытие в другую страну. Уход умирающего мы называем кончиной. Мёртвый – это «усопший». Между живыми и усопшими самый большой разрыв. Из могилы нет пути назад. Кончина не подлежит отмене. Из смерти невозможно вернуться, как из путешествия в далёкую страну. И всё же мёртвые затрагивают живых, заполоняют бытие живых. Живые имеют определённое отношение не только к себе и друг другу, но также и к усопшим, к предкам, к давно существовавшим прародителям, которые прожили свой век на свете, а теперь спят в земле. Общественная жизнь во многом сформирована и определена культом мёртвых. Память об усопших и собственное ожидание того, что находится за порогом смерти, пронизывают друг друга в тысячах форм верований в загробную жизнь. Пророческими картинами мифологической фантазии расцвечивают люди то пустое пространство, которое распахнула смерть, – они заполняют пустоту, они населяют её богами и демонами, судами, «небесами» и «адскими безднами», они помещают земные условия в ничейную землю по ту сторону Стикса. Человек как будто не в состоянии отказаться от земных вещей, не в состоянии вынести громадную безмолвную пустоту, в которую ушёл мёртвый. Каждый раз он пытается помыслить и представить усопшего как живого – в другом месте; он даёт ему с собой в могилу еду на дорогу, его любимые вещи, кувшин, мази, украшения и т. п. С удивительной настойчивостью распахнутую мёртвую пустоту без конца прикрывают и заполняют представлениями об отношениях и порядках в царстве живых. Если религия говорит: не видел того глаз и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его, – то философия считает, что мёртвое царство «загробного мира» не следует разукрашивать картинами земной жизни, что его нужно выдержать в его жуткой пустоте, прежде чем узнаешь его подлинные мистерии. При таком общем подходе к проблеме необходимо принять в расчёт возражение, которое нам придётся кратко рассмотреть. К примеру, может быть высказано сомнение, что предмет обсуждения, пожалуй, уже представлен ненадлежащим образом, поскольку объяснение началось как раз с примера «чужой смерти». Разве уже оговорено, что чужая смерть, т. е. смерть ближнего Другого, имеет приоритет в плане методики анализа смерти? Разве не следовало бы прежде начать с внутреннего сознания смерти, которое каждый, соответственно, носит в себе? Но мы спросим в ответ на это, в чём же вооб93 ще состоит различие, которое заключено в терминах «чужая смерть» и «собственная смерть»? Тот факт, что различие является важным, неопровержим. Трудно лишь указать, как определить его точно. Прежде всего, следует остерегаться упрощённого истолкования этого различия. Чужая смерть не есть лишь «объективная», внешняя смерть, которая является биологическим событием, констатируемым фактом – и больше ничем. И собственная смерть тоже не только «пережитая», узнанная изнутри, специфически «человеческая смерть». Различие между чужой и собственной смертью нельзя втиснуть в грубую схему «события» и «переживания» – несущественной и существенной точек зрения на смерть. Нельзя с полным правом утверждать, что чужая смерть занимает менее важное место в раскрытии сущности смерти, чем собственная. Здесь таится уже упомянутая опасность «солипсизма» в философии смерти. Смерть Другого, бесспорно, имеет иную структуру, чем собственная. Данное различие мы намерены трактовать пока совершенно наивно, воспринимать его так, как мы понимаем это различие и обращаемся с ним в повседневной жизни. Смерть появляется в человеческом сообществе как «смертный случай «. Умирает кто-то, чужой, который не имеет к нам никакого отношения. Мы этим не особенно задеты, мы проявляем некоторое участие, как это принято в цивилизованном обществе. Смерть Другого является, таким образом, «событием», происшествием в нашем социальном окружении; врач устанавливает момент наступления смерти, выясняет причину, выписывает свидетельство о смерти. В контексте бытового времени живых, в их окружении и в определённое время произошёл смертный случай; умер некий человек. Время живых не останавливается, смерть стала в этом времени датируемым событием. Для нас, живых и оставшихся в живых, чужая смерть есть происшествие, имеющее своё место и время. После смерти Другого время продолжает идти совершенно естественно; мир не останавливается; родственники занимаются подготовкой к похоронам и, возможно, уже спорят о наследстве. В мире живых случай смерти Другого есть событие, за которым следуют другие события. Со смертью Другого для нас, живых, время не кончается. То, что для него было «последним часом», для нас – определяемое по календарю и по часам время, мгновение в бесконечной череде последующих мгновений. Для нас, безучастных зрителей, да и для родственников тоже, жизнь продолжается. Этот момент, то, что у нас есть время после времени усопшего, то, что мы после его кончины продолжаем жить, живём дальше, переживаем события, имеет первостепенное значение для генезиса представлений о посмертной участи души покойного. В то время как мы продолжаем жить на земле, мы полагаем, что он «в то же время» вовлечён во внеземные события и происшествия. И у нас, живых, есть известная «связь» с мёртвым, мы чтим его память, ухаживаем за его могилой, выполняем его последнюю волю и т. д. Но если мы рассматриваем смерть Другого таким образом, как фиксируемое событие, мы в то же время знаем, что его смерть является такой только 94 для нас, но не для него. Понимание чужой смерти включает в себя момент того, что для умирающего она является его собственной смертью. Мы знаем, что для него смертный час есть «последний миг», что за ним не последует больше времени, что для него не будет «никакого продолжения». Умирающий, скажем так, не может больше датировать свою кончину, включить её в объективный временной контекст; умирание есть полное и совершенное выпадение из совместного, смешанного, интерсубъективного мира людей и вещей. Смерть Другого – это «феномен», несомненно, поразительный и особенный феномен, но именно нечто такое, что явлено нам; мы наблюдаем агонию, угасающий взор; видим труп; и мы полагаем, что умирающий в момент кончины прекращает сознавать себя, переживать самого себя. Его собственная смерть не является для него «феноменом». Собственную смерть нельзя, так сказать, «пережить»– согласно известному суждению Эпикура, что смерти не нужно бояться, ибо её нет, пока есть мы, а когда есть она, нет нас. В понимании чужой смерти заключено определённое, хотя и скудное, понимание собственной смерти, так как мы наблюдаем умирание Другого с сознанием, что для него самого это его собственная смерть. Но и умирающий тоже пытается до некоторой степени увидеть своё собственное умирание глазами людей, остающихся в живых; он отдаёт распоряжения насчёт своих «похорон», выражает последнюю волю, объявляет завещание, наставляет своих детей и т. д., выражая свою волю, он ещё раз спешит в будущее «после себя», видит свою ситуацию из объективного временного горизонта интерсубъективного будущего, хотя сам он не будет больше принимать участия в том будущем. Таким образом, в осмысление собственной смерти часто включена проекция на чужую смерть. Умирающий до некоторой степени «переносится» в остающихся в живых, а остающиеся в живых «переносятся» в умирающего. Но при этом всегда понимают, что сейчас умирает не только «Другой» или умираешь «ты сам», но что человек вообще и неизбежно должен умереть. Уже в обыденном понимании смерти всегда примысливается момент неотвратимости смерти. Не через индуктивный вывод приходишь к уяснению того, что по закону природы все люди должны умереть, не потому, что был свидетелем ряда смертных случаев. Знание того, что нам не миновать смерти, питается не опытом чужой смерти. Напротив, чужая смерть порой так потрясает и трогает нас потому, что в ней мы a priori имеем перед глазами пример собственного будущего умирания. В повседневной жизни мы, правда, пытаемся ускользнуть от этого «memento mori»; ведь смерть настигает «Другого, «ещё» не нас. Но именно эта уклончивость убедительно показывает, как уже в восприятии каждой чужой смерти скрыто видится собственная смерть. Смерть Другого есть его собственная смерть, человек вообще умирает всегда своей смертью. Смерть неотвратимо призывает каждого индивида в его самости, востребует его лично. От неё нельзя уйти, никогда нельзя заставить Другого умереть вместо себя. Смерть уникальна. Собственная смерть характеризуется, в противоположность чужой 95 смерти, тем, что она не может быть для нас «происшествием» в ряду событий, она представляет собой «последнее событие», после которого ничего не приходит, или приходит ничто. Мы можем, правда, в качестве эксперимента мысленно перенестись в зрителя нашей собственной кончины, заранее нарисовать себе собственный смертный час; но мы почувствуем, что это не будет подлинным и исконным отношением к своей смерти. Нам нужно, скорее, принять всерьёз мысль, что в смерти наше время заканчивается, что у нас не будет больше никакого времени – для нас не будет больше темпорального потом, что мы окончательно израсходовали весь запас и у нас не остаётся никакого остатка времени для использования его в каком-то другом месте. Смерть делает человеческое бытие «цельным», она есть последний положенный нам рубеж, который не перейти. Чтобы понять и уяснить, насколько это в человеческих силах, сущность собственной смерти, не являющейся для нас самих феноменом, отнюдь не нужно дожидаться её прихода. Наоборот, мы знаем наверняка, что тогда для нас угаснет не только время, для нас угаснет также и всяческое понимание и постижение, окрашенное временем. Собственную смерть мы постигаем не тогда только, когда мы действительно умираем, но всегда ещё при жизни и в течение жизни. Она «присутствует», прежде всего, в форме странного, пронзающего всю нашу жизнь и приводящего нас в трепет внутреннего сознания смерти. Но это сознание смерти как раз не «переживание» смерти, также не предвосхищённое воображением, заранее переносящим нас в «смертный час», «представление» грядущей смерти. К собственной смерти у нас более исконное отношение, заключающееся в постоянном ожидании и готовности, в признании нашей конечности – в приятии того, что она наверняка предстоит нам. В то время как чужая смерть для нас каждый раз феномен настоящего, собственная смерть в возможной здесь оригинальности есть напряжённое отношение к будущему. Собственная смерть не является для нас феноменом, она есть предстоящее. Для других, переживших нас, она со временем станет феноменом в их социальном окружении. Теперь можно задать вопрос: с чего же правомерно начинать анализ смерти – с данного каждый раз феноменально, в настоящем, смерти ближнего Другого или с внутреннего сознания смерти, которое каждый носит в своей груди? И тут нам представляется, что постановка вопроса как альтернативного имплицитно уже указывает на предварительные ответы, которые нельзя считать полностью удовлетворительными. Разве можно заранее решить, является ли более изначальным социальный аспект или аспект одиночества смерти? Ведь возможно, что смерть определённым образом крайне обостряет человеческое одиночество и одновременно возвращает отдельного индивида в общий глубокий фундамент жизни. Вероятно, смерть нельзя понять в философском плане «однозначно», как обыкновенно понимают какие-либо феномены и данные анализа; она выказывает противоположные, противоречивые аспекты – она сама есть наличествующее противоречие, такое противо96 речие, что уверенное в своём существовании, знающее себя сущее до корней пронизано сознанием ничто, в котором ему неизбежно назначено раствориться. Различие между чужой и собственной смертью мы предварительно уже изложили в заключение рассмотрения вопроса о «феноменальной данности». Смерть ближнего есть «феномен», собственная – нет. Но это означает лишь то, что мы можем выступать свидетелями события во время кончины ближних, а во время нашей собственной – не можем. Вот структура, которая имеет место всегда, независимо от того, как совершаются толкования смерти людей. Но нам приходится принимать во внимание толкования смерти; интерпретация бытия тоже входит в состав бытия. И здесь явно существует огромная разница в том, повторяет ли человек бездумно общие, имеющие хождение взгляды и мнения о смерти, о чужой и собственной смерти и о смерти вообще – или он пытается выработать самобытное отношение к смерти, исходя из опыта своего существования. И при этом дело обстоит не так, будто обыденное и поверхностное отношение к смерти направлено прежде всего на чужую смерть и игнорирует собственную. И так же мало справедливо, будто истинное отношение бытия к смерти может быть получено исключительно из отношения к собственной смерти. Есть бытовые интерпретации всегда-моей смерти, и есть глубокие истолкования смерти как социального феномена. И точно так же нельзя неосмотрительно отождествлять обыденное банальное суждение о смерти, продукт инертной мысли, с традиционным толкованием смерти, как и усматривать «оригинальность» в каждой по-новому звучащей точке зрения. Существует древняя мудрость и много модной псевдооригинальности. Это совершенно разные аспекты и различия: различие между чужой и собственной смертью, различие между «самостоятельностью» и «несамостоятельностью» интерпретации смерти – и различие между традиционным и оригинальным творческим толкованием человеческой смертности. Если принимать во внимание эти различия и не смешивать их неосторожно, то, по-видимому, вернее убережёшься от опасности абсолютизации какого-то одного аспекта и опрометчивого отказа рассматривать другие взгляды как чисто вульгарные. И пусть смерть играет и переливается множеством смыслов и каждый раз вновь вырывается из тисков мышления, всё же нельзя терять решимости постижения – и на этой непроходимой территории тоже, согласно слову Гегеля: «Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережёт себя от разрушения, а та, которая претерпевает её и в ней сохраняется, есть жизнь духа»104. 104 Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. СПб., 1994. С. 17 97 Многообразие перспектив смерти. Человеческая жизнь как арена смерти Многообразие перспектив смерти характеризует эту скрытую под масками силу, бросающую тень на наше бытие. Она выступает в тысяче различных форм: как спокойная смерть от старости, где прожитая жизнь плавно растворяется в сумраке; как необъяснимая детская смерть, которая, грубо срывая цветок, вовсе не позволяет жизни подняться и достичь зрелости; как массовая смерть от эпидемии или на войне, где умирают толпами; или как мучительная смерть от продолжительной болезни, а также насильственная смерть в акте убийства или казни. Всё в новых и новых вариантах является смерть среди живых, каждый раз по-новому умеет расставить свои трагические акценты, в несчётном числе ролей играет она пьесу о «Каждом» – и каждый раз ошеломляет людей своей непостижимостью, своей абсолютной властью и беспощадностью. Она забирает сильнейших мира сего, равно как и беднейших нищих; героя, равно как и труса; не щадит ни праведника, ни мудреца. Ей не могут противостоять ни богатство, ни власть, ни здоровье, ни красота, ни смелость, ни добродетель, ни самый высокий интеллект. Всё, в чём жизнь выказывает полноту и бытийную силу, становится несущественным перед лицом смерти, вянет, как трава под косой жнеца. Всё живое поступает в её владение, но человек осведомлён о своём жребии, он подобен осуждённому в ожидании страшного часа. Куда бы мы ни устремлялись, мы идём навстречу смерти, всякий жизненный путь заканчивается в ней; она есть неминуемый финиш, любой шаг ведёт к гибели; тому, что лучезарно восходило, в конце концов надлежит сойти вниз. Экзистенциальное чувство человека в целом настроено на это знание смерти и окрашено им. Это, разумеется, не означает, что мы непрерывно думаем о своей бренности, что мысль о смерти отравляет нам всякую радость и лишает остроты всякое наслаждение. Уныние не самая располагающая к размышлению форма свершения бытия. И когда мы предаёмся земным радостям и справляем праздники, это тоже не всегда лишь «бегство» и не слепой угар забвения. Во вселенской радости точно так же присутствует изначальная причастность к смерти – как в горе, как в меланхолии и элегическом настроении. Многообразие масок, под которыми смерть появляется в жизни человека и утверждает свою абсолютную власть, с самого начала осложняет её непосредственное постижение с помощью понятия. В каком-то одном аспекте её не «поймать»; та, в объятия которой мы неизбежно попадаем, всякий раз ускользает от понятийной сети. Но именно на этой ситуации мы и должны сосредоточить своё внимание. Смерть появляется под многими масками. Что это означает? Сейчас мы не будем описывать в духе «пляски смерти», какие облики и маскировки, какие устрашающие гримасы и какие утешительные мины она принимает, как она атакует любой возраст и одолевает самое цельное, самое пышное и самое плотное бытие. Мы зададим намного более простой и элементарный вопрос: 98 где же находится арена её появления, где сцена, на которой она появляется и в конце концов торжествует победу? Ей, бесспорно, принадлежат все фигуры – но где именно полностью предаются ей люди, где это свершается? Нигде больше как в жизни человека. Если мы будем зачарованно наблюдать только за тем, как ей достаётся каждое индивидуальное бытие, как оно неизбежно становится её добычей и она на каждом в отдельности доказывает свою незыблемую власть, то мы упустим из виду, что её господство предполагает жизнь, что должно существовать поле жизни человека, чтобы она могла беспощадно свирепствовать на нём, не щадя никого, ни дитя, ни старца. В нашем понимании смерти заключается убеждённость в том, что умирают все. Но подразумевает ли это, что когда-нибудь смерть окончательно завершит своё дело уничтожения человека, что всё живое исчезнет в смерти? Никоим образом. Да, каждый должен умереть. Но сколько бы ни забирала смерть, взрастают всё новые люди; всегда больше оставшихся в живых относительно умерших; и когда наступит черёд этих оставшихся в живых, будут другие, новые оставшиеся в живых. Смерть как бы никогда не закончит свой «труд», у неё без конца будет появляться новая работа. Плодородие жизни никогда не оставит смерть без дела. Неиссякаем бьющий ключом поток живых существ, на свет являются всё новые особи; и хотя на них лежит печать смерти, но в пору своего земного бытия они становятся свидетелями смерти, хотя бы некоторое время бывают «оставшимися в живых». Этим самым мы затрагиваем некую фундаментальную структуру бытия, которая должна существенно дополнить анализ смерти. Смерть невозможно рассматривать «изолированно»; она есть основной момент человеческого бытия, но имеет внутреннюю сущностную связь со всеми другими основными феноменами. Ничтожаще-уничтожающая сила смерти логически связана с бьющей ключом энергией жизни в феномене половой любви. Философия смерти нуждается в дополнении философией эроса. Только с этой точки можно увидеть, что представляет собой вечное самообновление человеческой жизни в детях и детях детей и как этим, в свою очередь, определяется ситуация анализа смерти. Переплетение жизни и смерти также имеет отношение к этой ситуации. Рассматривать проблему смерти только лишь в перспективе отдельного, обречённого на смерть и открытого смерти индивидуума есть неприемлемая однобокость. Что и говорить, он затронут больше всего, он каждый раз «главный актёр» в пьесе, но его смерть, вместе с тем, представляет собой ситуацию сближения с родными, членами семьи и другими оставшимися в живых. С методической точки зрения крайне сомнительно игнорировать эту особенность ситуации, изображать её как «несущественную» или вообще как «неличную». Ибо тем самым излишне акцентируется аспект одиночества смерти и она выводится за рамки социального окружения, где она, между тем, обретается. И прежде всего тем самым отсекаются сокровенные связи с прочими основными феноменами бытия. Множество масок смерть может иметь только потому, что она в своей сути многозначна и таинственна, даже противоре99 чива, так как она в качестве смерти одного человека вместе с тем явлена другим людям. Смерть пронизывает жизнь, поскольку она поражает и уничтожает каждого из живущих, каждого индивидуума – но жизнь подрывает смерть своим плодородием, своей мощью зачатия и рождения и окружает каждую отдельную смерть остающимися в живых свидетелями. Поэтому бессмысленно также спорить о том, собственная или чужая смерть должна иметь безоговорочный приоритет в истолковании смерти. Оба момента важны, они неразрывно связаны друг с другом. Всякая собственная смерть есть вместе с тем и чужая смерть. Умирающий умирает не только «для себя», но и «для других». И соприсутствие других не просто внешний фон, не имеющий большого значения; оно удостоверяет продолжение жизни, которая именно в этот миг крушится и уничтожается в данном «единичном случае». Правда, если исходишь из тезиса, что в качестве сущностной структуры человеческого бытия как таковой выступает «самостность», индивидуальность, и если намерен видеть в безличном свершении жизни лишь моменты упадка, то оказываешься вынужденным отдать в анализе первенство собственной смерти. Но это представляется нам неверным. С позиции собственной смерти можно обнаружить, скорее, экзистенциальную подавленность, в которую повергает нас предстоящая смерть, можно сформулировать словами страх и ужас или героическое мужество по отношению к собственной неизбежной участи; собственная смерть поражает нас, как правило, острее и жёстче, чем чужая смерть, прежде всего тогда, когда чужой действительно «неродной» нам человек, т. е. не член семьи, не тот, с кем нас связывают узы крови или любви. Смерть самого любимого человека способна нанести нам более страшный удар, чем собственная. Надо полагать, любая мать готова умереть за своего ребёнка. И Алкестида умирает за Адмета, Ахилл готов идти на смерть, чтобы отомстить за Патрокла. «Жертвенная смерть», которой умирают люди друг за друга, за идеалы и религиозные убеждения, указывает на возможный опыт смерти, который преодолевает раздвоение на «собственную» и «чужую». Личность, прежде всего «Я» в современной субъективистской философии сознания, есть некий искусственный препарат абстрагирования – это «центр переживания» с относящимся к нему полем восприятия; в этом поле она обнаруживает порой другие «Я», точно такие же «центры», точно такие же средоточия окружающего их предметного поля. «Другой» – говорится при этом – является «объектом» для меня, пусть и не простым объектом, наподобие камня или дерева; он такой объект, который есть «субъект» для себя – аналогично тому, как я представляю собой объективный субъект для него. «Другой» объективирует меня посредством своего воображения так же, как и я объективирую его посредством моего воображения. Но объективация означает для субъекта отчуждение. Я отчуждаю другого и вместе с тем знаю, что он точно так же отчуждает меня. Своим «взглядом» (Сартр) я объективирую его, а он – меня; мы свергаем друг друга с престола привилегированного положения: служить субъектом для всех объектов в целом. Если толковать 100 Другого только с такой точки зрения, то он в своём инобытии характеризуется исключительно «негативно»; он – не моё Я, скорее всего, какое-то Я. Представляя себе Я подобным образом, в какой-то мере во множественном числе, я теряю свою привилегию, каждый есть всегда своё Я. Но подобные Я существуют лишь в воображаемых взаимоотношениях; «своё» и «чужое» определяют друг друга лишь с позиции субъективного и, соответственно, объективного бытия. Здесь не примысливаются никакие жизненные отношения. Для такого «Я-субъекта» воображаемого мира «чужим» видится всё, что не входит в реальный состав его переживания – у него как бы нет ни отца и ни матери, ни детей и ни родственников, он не «любит» и не «ненавидит», он не «работает» и не «играет», он не является «смертным». Он, в сущности, некая голая конструкция, которой была придана теоретическая характеристика бытия в изолированном виде, вырванная из конкретных экзистенциальных связей. И если «экзистенциальная философия» при рассмотрении проблемы смерти намерена отдать первенство собственной, а не «чужой смерти», то это, как мне видится, представляет собой присвоенное наследие метафизики сознания. И Другой рассматривается здесь, в свою очередь, ещё как голая редупликация собственной самости и тем самым как «производный»; и здесь всё ещё проявляется опасение впасть в недопустимый и неподобающий «объективизм» при отказе от первенства Я. Однако решающее значение имеет рассмотрение смерти с самого начала именно в двойном аспекте, осознание её как своей и чужой одновременно, и при этом не так, будто бы это лишь два варианта встречи со смертью, а с учётом неизбежного сцепления и переплетения обоих аспектов. Ибо от этого зависит, высветится ли вообще глубинный двойной характер смерти. Сопоставим ещё раз вкратце чужую и собственную смерть. Чужая смерть встречается нам, остающимся в живых, в виде внешнего происшествия в социальном окружении. После чужой смерти мир идёт дальше, бег времени не прекращается. Смерть Другого не «конец света», исчезает лишь один индивидуум. Для оставшихся в живых после этого смертного случая последует ещё много «событий»; смерть Другого не устанавливает «крайней» пограничной ситуации. Я остаюсь в живых и этим, соответственно, оставляю смерть позади себя, я сохраняю связь с другими людьми и с самим умершим, храня, по обычаю, память о нём. В противоположность этому с собственной смертью изначально встречается умирающий. Умирающий погружается в «одиночество», где помощь ближних более невозможна. Обычная жизнь означает совместно делить жизнь и её возможности; один может выручить другого, выполнить вместо него какое-либо дело, если тот не может сделать его сам. В делах заместительство допустимо, можно делать их за других. Но «умереть» каждый должен сам, совершенно самостоятельно; здесь заместительство невозможно. Приближающаяся к нам смерть не выпустит нас из своей избирательной хватки; она безошибочно выбирает определённого индивида. Никогда мы не осознаём свою индивидуальность острее, чем в ситуации одиночества смер101 ти. Мы выпадаем из поддерживавших нас доныне связей с другими людьми; единение жизни в смешанном «мире» мало-помалу идёт на убыль; у нас впереди нет больше времени, наш запас «израсходован», мы перестаём быть современниками ближних; у других впереди ещё есть время, целая масса; у умирающего впереди нет «ничего». Он чувствует, как его исключают из общества живых, как рушатся мосты. Для него смерть представляет собой крайнюю из всех возможностей бытия, которую в принципе невозможно оставить позади. За этой крайней возможностью ничего больше нет. Таким образом, собственная смерть – как это формулирует Хайдеггер – предельная «безотносительная, достоверная и в качестве таковой неопределённая, необходимая возможность присутствия».105 Наш вопрос заключался в том, может ли первоочередный разбор собственной смерти, как бы ни потрясало и ни приводило в смятение подобное предвосхищение будущего, с полным основанием определять анализ смерти в целом. Образ умирающего, каким бы значительным он ни был, – это тот аспект, который должен мыслиться нераздельно с образом остающихся в живых. И это не в каком-то банальном смысле, не как феноменальная характеристика произвольно взятого «смертного случая». В смерти Другого, если она не касается нас, несомненно, всегда заключена опасность душевной апатии, нейтрализующая и нивелирующая жуткое и таинственное событие. Врач, ежедневно имеющий дело со смертями, работник похоронного бюро, солдат на войне могут выполнять свою работу зачастую лишь благодаря тому, что рутина защищает их как бронёй. Или, опять же, любопытствующие, жадные до сенсаций, для которых смерть других людей – зрелище, они легко поддаются, когда им хотят продемонстрировать «несобственный характер» перспективы чужой смерти. Конечно, отношение к чужой смерти, скорее, не тождественно отношению к собственной смерти. Её ситуация не характеризуется такой же ужасающей серьёзностью: ведь до тебя самого очередь ещё не дошла. Но даже широко распространённые и часто встречающиеся неправильные установки по отношению к чужой смерти не исключают того, что здесь возможна поистине глубокая и изначальная настроенность на неё. И наоборот, можно, вероятно, сказать, что зачастую люди неадекватно относятся к собственной смерти, ищут прибежище в утешительных рецептах, в которые фактически не верят, или стилизуют свой уход, желая произвести впечатление на «потомков». Собственную смерть можно точно так же фальсифицировать, как и чужую; только это встречается, по всей вероятности, менее часто, так как в большинстве случаев по мере её приближения любая поза надламывается. В качестве необходимого методического вывода из всех этих рассуждений вытекает принципиальное требование объяснять проблему смерти, продвигаясь по двойной колее обзора одновременно в направлении как своей, так и чужой смерти, и при этом связывать собственное свидетель105 Хайдеггер М. Бытие и время / пер. В. В. Бибихина. М. 1997. С. 258–259 102 ство с передаваемой из поколения в поколение премудростью; ибо размышление о смерти есть не просто древнейшая мысль человеческого рода, это первейшая мысль, та мысль, с которой вообще началось всё познание жизни и мира. Жизнь как чудо и загадка открылась нам только вкупе со смертью. С той поры, как человек знает смерть, он в состоянии любить жизнь как таковую. Давайте вернёмся к тому месту нашего анализа, где мы совершили экскурс в проблему спорного приоритета собственной и чужой смерти. При этом мы стараемся по возможности удержаться от опрометчивого предварительного решения в вопросе о столь сомнительном «приоритете». Мы отделили смертное бытие человека от окончания неживых вещей, заключающегося в распаде, и от скончания живых существ, живое бытие которых «угасает», так сказать, рассеивается в ничто, а бездыханный труп ещё некоторое время сохраняется. Однако «ничто», в котором исчезает жизненная энергия растений и животных, не является для человеческого разума такой же досадной и волнующей проблемой, как странное и таинственное ничто, в которое уходят от нас мёртвые. Сейчас это следует сформулировать яснее. Тот факт, что нас больше тревожит и заставляет ломать голову то ничто, добычей которого становимся мы, чем ничто растения и животного, можно было бы попытаться объяснить лишь издержками человеческого интереса к самому себе. Неужели для нашего себялюбия действительно настолько мучительно исчезнуть в ничто, в то время как мы миримся с этим в отношении другого живого? Мотив человеческого интереса к самому себе, несомненно, играет здесь определённую роль. Но только через него это различие не постичь. Правда, для человеческого разума, как уже неоднократно подчёркивалось, возможность превращения «сущего» в «ничто» вообще некий crux (затруднение) – наше бытийное понимание глубоко озадачено этим тесным сцеплением бытия и ничто и ввергнуто в бессчётное количество вопросов. Мы то и дело попадаем на окольные пути мышления, которым надлежит освободить нас от этой непостижимой мысли. Одну из таких лазеек представляет собой, судя по всему, догматический материализм, который в качестве единственной реальности утверждает материальную субстанцию, признаёт лишь по-новому преобразующиеся конфигурации неизменной массы вещества, так что в конечном итоге ничто не возникает и не исчезает, масса вещества во вселенной остаётся всегда одинаковой, а возникают и распадаются вследствие движения соответственно лишь конкретные формы. На этой точке зрения названной проблемы более не существует. Сущее всегда продолжает существовать, ничего не пропадает и не прибывает. В плотной, компактной массе вселенской материи «ничто» не находит прорехи, оно в лучшем случае остаётся снаружи, по ту сторону материи, и окружает её в виде «пустого». Философская несостоятельность, даже ущербность, этой концепции заключается не только в том, что здесь феномены живого просто редуцированы до бытийных видов неорганической наличности. Здесь также совсем не ставится и не разрабаты103 вается проблема целостности в этой так называемой вселенской материи, иначе вскоре должно было бы обнаружиться, что оттеснённое на периферию пустое только и определяет в общем суммированную целостность материи. Но если серьёзно отнестись к бытию живого в его нефальсифицированной феноменальной сущности, встаёт неотступная проблема: что вообще может означать «прекращение» жизни. Живое, по-видимому, устанавливает границы собственной сферы сущего, имеющего специфический тип бытия. И это живое кончается, должно кончиться. Что это за бытие, которое «может кончиться»? Куда исчезает кончающаяся жизнь? Этот вопрос о «куда», конечно же, метафора, в нём не имеется в виду направление или место, куда отправляется закончившаяся жизнь. Хотя мы и не понимаем, что это может значить, что нечто живое «прекращается», но мы изо дня в день наблюдаем подобное прекращение, угасание живых существ. Жук, на которого мы неосторожно наступаем во время прогулки, демонстрирует нам феномен закончившейся жизни. Животное обладает органами чувств, инструментами восприятия, благодаря которым оно приспособлено к условиям окружающего его мира. Околевание животного свидетельствует об угасании одушевлённой жизненной силы, служившей наряду с прочим также и обнаружению вещей окружающего животное мира. Следовательно, угасает не только сила самоудержания, питающая душа, аристотелевский treptikon, но и сила вожделения, orektikon, а также душевная энергия воображения, aisthesis. Подобное угасание животного в совокупности его душевных энергий остаётся, несмотря на неизменную данность таких случаев, непостижимым для нашего понимания, но оно вынуждает нас примыслить ничто к бытию живого сущего в качестве его составной части. В процессе угасания растительной или животной жизни к власти приходит, так сказать, уже заложенное в бытии живых существ ничто; это, некоторым образом, относится к бытийной конституции растения и животного. Их «бытие» имеет принципиально временный характер. Только если сопоставить его с неистребимым бытием материи, вещества и если взять это материальное бытие за образец для понятия бытия в целом, тогда попадёшь в затруднительное положение. Но в противном случае ничто, характеризующееся окончанием растения и животного, есть внутримирное ничто. К структуре живых растений и животных в качестве бытийной конституции изначально относится временность, бренность. Разве это не относится также и к человеку? Разве мы не обязаны сказать и о нём тоже, что к его бытийной конституции относится исчезновение, смертный час? Невозможно отрицать, что человек точно так же кончается, и притом в соответствии с законом бытия, а не так, будто его случайно настиг злой рок. Но скончание имеет здесь принципиально иной характер, чем у растения и животного. Мы назвали его «кончиной». Как определить её в противоположность к прочему скончанию живого? Отличие человека от животного и растения кажется не таким значительным, как различие между живым суще104 ством и неживым неорганическим. И эту точку зрения не без основания представляет биология, зоология и антропология, взятые в естественнонаучном ракурсе. Вопрос лишь в том, имеет ли силу подобная точка зрения для философии. Как раз когда она изначально не рассматривает человека как животное высшего вида, а исходит, наоборот, из фундаментальной структуры бытия, тогда человек обретает исключительное положение в космосе, обособляющее и отличающее его от всего прочего сущего. Тогда животное и растение онтологически ближе к камню и волне, нежели к человеку. Пусть существует иерархия земли, воздуха или воды, вплоть до травинки, которая питается ими, и далее, до животного, который видит и съедает её; это различные бытийные виды и бытийные конституции – однако все они объединены тем, что имеют касательство к сущему, являющемуся «внутримирным». Человек, правда, тоже существует во вселенной, но никогда таким же способом, как названные вещи. Камень, растение и животное не имеют связи со вселенной, не живут в открытости для целокупности сущего. Они «безмирны», хотя и внутримирны. Глубинное различие между человеком и животным чаще всего скрыто, так как согласно унаследованному определению сущности человека как animal rationale мы причисляем человека к царству животных и видим его отличительную особенность в более высокоразвитом интеллекте. Но у животного тоже есть интеллект, пусть и «более низкий». С такой точки зрения между шимпанзе (знаменитого опыта Кёлера) и профессором психологии, проводившим опыт, лишь относительная, пусть даже и немалая разница. В противоположность этому разница становится абсолютной, если определять человека с позиции его открытости миру – как внутримирное сущее, которое экстатически относится к целому мира. Эта экстатика есть суть человеческого существования. В её свете и надлежит в конечном счёте трактовать и постигать все основные феномены бытия. Это относится и к смерти. Ничто, в котором как бы угасают живые существа за исключением человека – это внутримирное ничто, структурный момент бытийной конституции растения и животного. Ничто, в которое «уходит» умирающий, – это такое ничто, в котором в известной мере зачёркивается всё «в-мире-бытие» бытия. Само это ничто не принадлежит феноменальной сфере, не есть часть наличности присутствующего и появляющегося. Только, так сказать, на основе открытости миру понимающего человека формируется для нас горизонт, где мы встречаем безжизненное и живое, где мы обнаруживаем глыбы земли, волны, потоки воздуха, огонь и свет, растительность и зверьё. Внутри этого «горизонта» мы находим в-живых-бытие и конец живых существ. Но человеческую смерть мы должны понимать как крушение этого горизонта, охватывающего всё сущее, как утрату нашей открытости для присутствия присутствующих вещей. Именно потому, что мы можем не только уяснить жизнь человека как внутримирное событие, но должны постичь её как внутримирное открытое бытие для целокупности мира присутствия сущего вообще, нельзя воспринимать смерть как простое падение в ничто в духе описан105 ного «угасания». Здесь кроется более глубокая причина того, почему человек не может удовлетвориться взглядами на смерть человека, аналогичными взглядам на окончание животных или растений. И, далее, здесь кроется причина преодоления здешнего и земного в мифологических представлениях. Миф имеет право выходить за пределы феноменального мира в своём толковании смерти человека, однако его сомнительная сторона заключается в том, что он заново локализует и темпорализует ещё одну, вторую, «феноменальную область» там, в таинственном ничто, и удваивает в воображении мир явлений. Миф не оставляет ничто таким, каким оно выказывает себя нам в уходе умирающего. Он воздвигает за миром явлений некое «замирье». Чтобы избежать этого удвоения мира, необходимо более определённо сформулировать понятие мира явлений. Следует опровергнуть не «удвоение» как таковое, а удвоение сферы явлений. Возможно, мир действительно не совпадает с универсальным полем появления, как мы обыкновенно полагаем, – возможно, торжество мира заключается в двойной игре появления и исчезновения, восхода и заката. Что означает для нас понятие «мир явлений», и какое следствие для проблемы смерти имеет более точное определение этого понятия? Обычно мы оперируем понятием явления как противоположностью понятия «сущности». При этом мы уже движемся по траектории в направлении внутримирной вещи, отдельного сущего как такового. Вещи имеют различный облик; пребывающие в себе субстанции, они, наряду с этим, вдобавок выказывают себя, демонстрируют некий внешний вид. Такой внешний вид может в той же мере скрывать, в какой и являть. У вещи множество возможностей выглядеть иначе, чем она есть на самом деле; тогда мы говорим, что её явление не соответствует её сущности. Или вещь, поскольку её воспринимают, познают, попадает в определённые условия познающего субъекта. Тогда говорят, что мы познаём не вещь как таковую, а вещь, деформированную нашими условиями познания, «вещь как явление». Используемое в философии понятие явления многозначно и обременено долгой традицией употребления. Когда мы говорим здесь о «мире явлений», то мы имеем в виду не противоположность внешнего и внутреннего, не различие фасада и сущности вещей, равно как и не отличие их «само-по-себебытия» от деформированного нашей способностью познания для-нас-бытия и уж вовсе не различие «нереальности» и «реальности». Мир явлений, скорее, универсальная область, в которой обитают такие различия. Мир явлений в контексте наших рассуждений означает всеобъемлющее поле присутствия вообще, пространственный, временной ареал всех отдельных и всё же собранных вместе вещей. Всякое всегда есть отдельное и сосуществует с множеством, неисчислимым множеством других отдельных вещей – и все сопряжены в великой фуге космоса, образуя единство. В качестве основополагающей сущностной черты понятого таким образом мира явлений мы примем индивидуализированное бытие внутримирных вещей и охваченность всего индивидуального сущего единым временем-пространством. Всё взаимосвязано и 106 одновременно обособлено. Пространственные и временные границы как разделяют вещи, так и связывают их. Границы образуют контуры и линии соприкосновения соседствующих вещей. Область явлений – это царство различимости. Но различённое, разделённое не оставляет свободных промежутков, в которых «ничего» бы не было, там есть, по меньшей мере, моменты связующего пространства и времени. Всё появляющееся точно так же разорвано, зафиксировано в своей отдельности, сковано своим очертанием – как и связано, с другой стороны, с прочим отдельным, соседствует с ним и собрано вместе в огромном присутствии. Разделение и единение, многообразие и единство господствуют, перемежаясь, в царстве различий. Когда мы ведём настолько бездумное существование, что кажется, будто мы забыли о смерти, то нам, вероятно, представляется, будто эта сфера разъединения, где всякий отделён от всякого, даже если и связан с ним, и есть вообще мир – мы ошибочно полагаем, что отдельная вещь представляет собой, естественно, модель сущего в чистом виде и с этой точки должно постигать смысл бытия. Только когда перед нами вспыхнет смерть, когда мы увидим уход умирающего, тогда, возможно, придёт смутная догадка, что покойный, которого мы почитаем, действительно изолирован от края «различий». Проблема смерти и бытийное понимание мира явлений: бытие как присутствие Основное значение проблемы смерти в философском понимании заключается не в показе разнообразных феноменов смерти как определённого внутримирного процесса, последнего события для умирающего, происшествия в ряду других случаев для остающихся в живых свидетелей его кончины; и не биологически – медицинские аспекты смерти человека стоят здесь на переднем плане. Вообще всё, что можно постичь и эксплицировать в смерти как «феномен», всё, что можно непосредственно выявить и предъявить, лежит, так сказать, в принципе «по эту сторону смерти». Сюда относится смерть ближнего, оставшееся мёртвое тело, ритуал погребения и уважение к его памяти. Всё подобное этому имеет вид происшествия в широкой сфере появляющихся вещей и появляющихся процессов. Мы видим такие события в горизонте определённого бытийного понимания. Феноменальным миром по эту сторону смерти распоряжается, его переживает и вынашивает некое особым образом выраженное и артикулированное понимание бытия, он подчиняется определённой онтологии. Правда, мы живём, прежде всего и большей частью придерживаясь невысказанной точки зрения, что это бытийное понимание есть единственно возможное, мы движемся в нём, даже не сознавая его «естественности», не говоря уж о том, чтобы задавать о нём вопросы. Мы понимаем бытие как бытие сущего, как бытие многого и многообразного, как 107 бытие реально различённых вещей и процессов, как бытие индивидуализированного, отдельного, конечного. Наше бытийное понимание само конечно – не только потому, что ограничена наша способность понимания и мы не полностью проницаем загадку бытия, оно конечно также и потому, что мы назначаем «сущим», в первую очередь, конечное, ограниченное, оформленное и отличённое, отдельные вещи, имеющие твёрдые очертания, форму и доступность для контакта, определённое наименование. Мы, безусловно, знаем, что всё отличённое и отдельное находится во всеобщем взаимодействии друг с другом – что вещи включены в гигантские системы связи пространства и времени, что имеются сквозные структуры, такие, как материальное вещество, элементы, отпочкование которых суть отдельные вещи; мы знаем, далее, что необозримое множество отдельных вещей имеют обозримую классификацию и систематизацию на основе видовых признаков. Каждая отдельная вещь принадлежит к общему типу, роду и виду; каждая имеет долю в надындивидуальной «сущности». Области сущностей, со своей стороны, образуют обозримые системные формирования. И, наконец, мы знаем, что отдельные вещи, элементы, сущностные сферы и пространство и время сосуществуют во всеобъемлющей и всё собирающей воедино целостности мира. В бытийном понимании, первично ориентированном на внутримирную отдельную вещь, имеющем в ней идеальную понятийную модель, возникают величайшие трудности, как только человеческий разум пытается представить себе и зафиксировать в понятии целокупность всех вещей, безусловную тотальность сферы явлений. Ибо область явлений в целом не позволяет надлежащим образом постичь себя с помощью мыслительных средств, сформированных применительно к тому, что обнаруживается в них; категории конечного не справляются с задачей постичь тотальность сферы явлений, в которой проявляет себя конечное, отдельное, индивидуализированное. Но эта трудность относится к бытийному пониманию, обитающему в «мире явлений». Известная диалектика, которая базируется на противодействующем напряжении между внутримирной вещью и целым мира, хотя и создаёт колебания такого бытийного понимания, но принципиально не разрушает его. Бытие принципиально понимается как появление, как «присутствие». Нам нелегко осознать, что появление более первично, чем появляющееся, присутствие более первично, чем присутствующее, так как мы приступаем к осознанию, начиная с отдельной вещи. В понятии «появления» мы должны мысленно свести воедино несколько существенных черт. «Появление» означает, во-первых, выход в сферу видимого, выказывание себя, восхождение сущего в открытость. Говоря образно: подобно тому, как пробиваются растения из закрытого царства земли в открытое, свободное пространство под небесами, как при этом каждое из них обретает форму, очертание, облик, отличается от других – как всё прорастающее вместе с тем возвращается в прежнее состояние, в почву, из которой оно выходит, так восходят отдельные сущие вещи в область появления, показываются в просвете между землёй и небом, несут 108 момент закрытости и момент открытости, они есть скрытая в себе «субстанция» и одновременно «выказывающий себя образ». Вещи «появляются» – это не означает в нашем понимании в данный момент, что вещи будто бы были уже до этого, а затем ещё вдобавок и «появились». Появление подразумевает здесь «прибытие-в-бытие». Вещи существуют лишь при условии, что они появляются – выходят в просвет между небом и землёй. Небо и земля – это внешние пределы «присутствия». Всё, что находится между ними, отмечено разъединённостью. Но «появление» подразумевает, в свою очередь, причастность вещей к человеку. Правда, это определяется не столько отношением реального знакомства, сколько возможностью постижения, принципиальной близостью всего появляющегося сущего к вопрошающему человеку. Место присутствия определяется не без участия человека. Его местопребывание и жилище находится в основном среди появляющихся вещей – он сам не только появляющаяся вещь, но представляет собой такую вещь, которая искусно опрашивает все прочие, заносит их в знание, – вещь, которой все прочие являют и представляют себя. Правда, человеческое знание не учреждает обособление вещей, но включает его в своё понимание. И, наконец, ко всякому появлению относится в качестве непреложного медиума время. Появление – это вовремени-бытие. Понятие «присутствия» или «явления», определяющее в качестве невыраженного горизонта наше традиционное бытийное понимание, следовательно, тройственно: оно включает в себя восхождение отдельного сущего между небом и землёй – со-ответствие отдельных вещей опрашивающему человеку, который сам есть отдельная вещь среди отдельного – и сплошное встраивание и размещение всех вещей во времени. Философская значимость смерти состоит, таким образом, в глубинном сломе традиционного бытийного понимания. Экзистенциальный феномен смерти указывает на то, что лежит за пределами «феноменального», становится некой чудовищной стрелкой, показывающей направление в безымянное и бесформенное, из зоны присутствия в тёмное, непостижимое измерение «отсутствия». Рассматриваемая с позиции смерти сфера бытия, доныне ясная, получает вопросительный знак, от которого не отмахнуться. Естественная, наивная достоверность бытия расшатывается, становится сомнительной. Онтология, которую применяют живые, разработав её для своих целей, ставится под вопрос усопшим, который тревожит общество живых как непонятная загадка, ускользает от их бытийных понятий и бытийных представлений и всётаки остаётся некой силой. Усопший уже не воспринимается лишь как умерший Другой, как отживший ближний, но как осознанная каждым живущим возможность и собственной смерти тоже. Из внутреннего, неотступного, пусть даже временами и заглушаемого, сознания смерти каждый, кто ещё дышит на свете, знает, что он предназначен смерти – что он сам должен стать «усопшим», что с каждой минутой, с каждым вдохом уменьшается время, отделяющее его от собственного конца. Но такое сознание смерти – это не про109 сто пустое, смутное знание предстоящего будущего, которое как таковое остаётся совершенно неопределённым. Всякий знает, что его смерть есть уход из сферы обособления и дифференциации, исчезновение из области явления, удаление в неизвестность, для которой у нас нет ни имени, ни образа, ни понятия. Сначала смерть имеет для нас характер уничтожения; мы понимаем её как гибель, безвозвратный уход и исчезновение, как прекращение нашего бытия. Характеристика смерти остаётся сплошь отрицательной. Но встаёт вопрос, как понимаются при этом такие отрицания. Вероятно, могло бы быть так, что негативные свойства здесь всё ещё выводятся из такого понимания «ничто», которое в пространстве явления принципиально пребывает у себя на родине. Тогда смерть не рассматривалась бы как сила, указующая на нечто за пределами сферы явлений. Каждая онтология как понимание бытия, выработанное в определённых терминах, включает в себя учение о «ничто». И притом такое учение о ничто ни в коем случае не просто дополнение, некий довесок, придающий системе законченность. Какое-либо определённое понимание бытия вообще никогда не выработалось и не зафиксировалось бы в понятиях без примысливания к нему ничто. Необходимая тесная связь бытия и ничто относится к высшим спекулятивным проблемам философии. В ограниченных рамках нашей специальной проблемы мы не можем останавливаться на этом. Но мы задаёмся вопросом: какое понимание ничто слышится прежде всего, когда мы характеризуем смерть как уничтожение? Взято ли это ничто уничтожения действительно из первоначального, пусть даже и смутного знания о самой смерти – или мы при этом характеризуем смерть всё ещё слишком безоговорочно с позиции бытийного понимания, действительного для мира явлений? Как там распознано и понято ничто? Мир явлений представляет собой в целом выход наружу и само-проявление конечных вещей, собранных во всеобщем присутствии. Он не есть одна единственная большая вещь; он разбит, расколот и раздроблен на множество, бесчисленное множество отдельных вещей, всячески распылён; и всё же рассыпанные вещи одна подле другой, собраны воедино и связаны между собой. При этом не все вещи существуют одновременно, они на разные лады идут друг за другом. Круговорот прихода и ухода, появления и исчезновения, прироста и убывания, непрерывное изменение правит вещами. На этом сущем, которое проявляется в поле присутствия и является вопрошающему человеку, ничто обнаруживает себя во многих образах. Каждая вещь всегда одна-единственная, единичная, и это означает: она не является ничем другим; в своём так-бытии она исключена из иначе-бытия; она имеет очертания, заключена в границы; граница разделяет, обособляет, прерывает; она настолько же негативный момент, как и позитивный – в качестве соединения, соприкосновения. Вся целиком сфера явления изрезана линиями, разграничивающими вещи, как бы тысячекратно разорвана, разломлена, раздроблена. Ничто в качестве элемента границы принадлежит к бытию вообще всех конечных вещей. Но границы вещей не образуют, так сказать, 110 неподвижных переплетений, статичных линий, они пребывают в беспрестанном движении; вещи изменяют свои границы, они увеличиваются или уменьшаются; на своих границах все вещи ведут борьбу друг с другом; где одна вырастает, другая должна уменьшиться, где одна становится сильнее, другая становится слабее – где одна начинается, другая должна кончиться. Не только пространственные, но и временные границы находятся в движении. Всё время всплывает вновь появляющееся и тонет старое, но сфера появления остаётся незыблемой. Разрушение сущего относится к способу действия феноменального мира. Мы уже указывали на это как на волнующую и мучительную проблему для человеческого разума: как вообще то, что он признавал «бытием», может исчезнуть, раствориться в ничто? И мы подчёркиваем, что это проблематично прежде всего в бытии живых существ, у растения и животного. У ничто много форм проявления в области появления. Было бы важно, хотя и в высшей степени трудно, составить применительно к бытию появляющихся вещей таблицу ничто, в которой было бы зарегистрировано ничто как граница, ничто как качественное различие, ничто как повреждение, лишение, упадок, как распад и как угасание и т. д. Кант в «Критике чистого разума» составил таблицу ничто (А 292), разработал многогранное понятие ничто, как ens rationis, как ens imaginarium, как nihil privativum и nihil negativum; но этим он ещё не выработал высшую из всех возможностей, а именно: как человек, постигающий бытие, воспринимает ничто в самом сущем. Некий особый вид границы таится в различении мыслящего Я и всего мыслимого, в возможном раздвоении всего появляющегося сущего на «Я» и «Не-Я». Значимость проблемы смерти состоит теперь в том, что она заключает в себе вызов перешагнуть как через господствующее в мире явлений достоверное бытийное понимание, так и относящееся к нему понимание ничто. Трактовка смерти только как уничтожения означает самую предварительную и совершенно не разработанную позицию, с которой только и следовало бы задать вопрос: как при этом вообще характеризуется ничто? Если бы смерть была просто распадом в «ничто», понятое феноменально, то нам не нужно было бы страшиться её – тогда эпикуровская аргументация была бы справедливой. Распад в такое «ничто» был бы, очевидно, не страшнее, чем бывшее когда-то ещё-не-бытие. Странно, однако, что это почти никого не волнует. Ведь мы знаем, что и до нашего рождения существовала земля, жили люди – но нас не беспокоит, что нас тогда не было; мысль об этом совершенно не причиняет нам боли. А ведь следовало бы отметить для себя, что приход из ничто в бытие такая же парадоксальность, как и уход из бытия в ничто. Но почему же горизонт установленного смертью конечного будущего имеет такой приоритет? В смерти, в её никогда не открывающейся «странности» в противоположность представлениям о всех прочих бытийных отношениях, в её неприемлемости в феноменальном, как бы выказывает себя глубокий разлом в человеческом бытийном понимании. Оно теряет свою кажущуюся 111 «цельность», открывается новое, зловещее измерение. Если не принимать во внимание смерть, двигаться, понимая, исключительно в поле появления и присутствия, то бытийная связь везде сплошная, везде непрерывная и непроницаемая. Хотя сфера сущего и разорвана подвижными границами, изборождена противоположностями, но она всегда и всюду заполнена сущим. Когда исчезает какая-нибудь вещь, пустого места не остаётся, там сразу же поселяется другая. Если реальность тоже представляет собой арену беспрестанного брожения, то это означает, что она всегда и повсюду заполнена вещами и процессами, движением и событиями. Реальность не знает «пустот». Относящееся к ней ничто обитает в бытии сущего, вплетено в него, на тысячи ладов взламывает его; но у ничто нет собственной провинции в реальности. И вот посреди этой всюду плотно заполненной действительности неким особым образом воцаряется вопрошающий человек. Он может жить не только в воображении, поскольку он, безусловно, относится к «реальности»; но он обладает также способностью жить и в представлениях, ожиданиях, воспоминаниях, в надеждах, в фантазиях, эпизодически и лишь мысленно пребывать в воздушном пространстве «воображаемого»; фантазируя, он касается «возможного», надеясь или страшась, прикасается к ещё предстоящему будущему; он может, забегая вперёд, «нарисовать себе» в воображении эти горизонты неданного, он может проецировать образы. Затем он заполняет открытые горизонты этими фантазиями, помня в то же время об их фиктивности, их произвольности. Но какими бы произвольными ни были подобные «образы» в отдельности, мы при этом никогда не сможем изобрести что-то такое, что находилось бы в противоречии с бытийными структурами реальности; мы при этом никогда не изменяем сущностную структуру самой реальности. Горизонты, в которые мы, фантазируя, вторгаемся, относятся в качестве горизонтов к актуальной реальности нашего настоящего и потому по праву должны иметь ту же самую бытийную конституцию. Однако иначе, совершенно иначе обстоит дело с горизонтом ничто, открывающимся в человеческом сознании смерти. Это не то обычное, не то близкое и знакомое ничто, которое мы знаем как структуру границы в сущем и т. п.; это и не горизонт будущего, «тесно» примыкающего к актуальному настоящему. Смерть, представленная фигурой «усопшего», обозначает измерение пустоты, которое не является ни пространственным, ни временным, ни вообще полем «присутствия» и «появления». И всё же мы каждый раз склоняемся к тому, чтобы трактовать эту «пустоту» как некий ещё не исследованный край, мы переносим туда свои трансцендентные мечты. Мы воздвигаем «по ту сторону смерти» утрированное отражение земного бытия из воздушной материи желаний и надежд. Обыкновенно мы не отдаём себе отчёта в том, что за порогом смерти прекращается время, а также и обособленность, что все образы суть плоды иллюзии, наивно оперирующие земными бытийными представлениями. Распахнутое смертью измерение пустоты имеет совершенно иную сущность, чем обычно любой пространственный или вре112 менной горизонт. Оно категорически отвергает всякую воображаемую наполняемость. В этом-то как раз и заключается для нас, живых, ошеломляющий ужас смерти: в том, что она является во множестве масок, а мы при этом всё же знаем, что за маской нет лица. Даже голова Горгоны отраднее безликости смерти. Две наиболее распространённые ошибочные установки по отношению к смерти заключаются, во-первых, в фиктивной проекции вымышленного замирья, помещённого и локализованного по ту сторону смерти, а во-вторых, в отрицании распахнутой смертью «пустоты». Толкование смерти как «второй жизни» в ином месте так же неверно, как и желание сделать её феноменальным ничто в единой взаимосвязи мира явлений. Первое ведёт к ложной «трансцендентности», второе – к ложной «имманентности» бытия. Одна ошибочная установка некритически и непозволительно «расширяет» относящееся к миру явлений бытийное понимание, вторая ошибочно утверждает «замкнутость» этого бытийного понимания, упускает из виду, что смерть как раз «распахивает» её и радикальным образом подвергает сомнению. Может быть, нет ничего труднее, чем оставить жуткую пустоту встречающего нас в смерти «ничто» такой же пустой, какой она встречает нас изначально. Мы неустанно спасаемся бегством от этой пустоты, неизменно пытаемся обезопасить корабль жизни от вторжения того невообразимого и всё же неминуемого. Мы играем перед собой трагикомическую пьесу жалких попыток избежать неизбежного – или, по крайней мере, завуалировать его, отодвинуть до крайнего, как можно более позднего предела жизни или подсластить его горечь перспективой «рая». Но абсолютная власть смерти глумится над такими человеческими, слишком человеческими ухищрениями, она в каждое мгновение правит нашей жизнью, пронизывает и пропитывает наше бытие вкусом уничтожения – как закваска хлеб. Во всём, что мы делаем, когда мы боремся или любим, работаем или играем, знание о бренности всех конечных вещей и в особенности знание о смерти человека пронизывает нашу повседневную жизнь, придаёт нашему здесь-бытию глубину неповторимости. Мы не просто «смертны» в объективном смысле, мы неустанно и ежесекундно проживаем нашу смертность. Только в смерти мы ускользаем от неё. Наши размышления призваны объяснить, что понятие смерти как выделения из феноменального мира различий структурируется более определённо только с позиции удовлетворительного понятия мира явлений – но что, с другой стороны, именно с позиции смерти даёт о себе знать «незавершаемость» бытийного понимания, относящегося к миру явлений. За этим стоит более принципиальный и фундаментальный вопрос: исчерпывается ли смысл бытия в области присутствия, где всё отдельно и всё отдельное вновь собрано и накрепко соединено в обнимающей фуге «космоса»? Исчерпывается ли смысл бытия во временном и пространственном бытии многого и многообразного сущего? Относится ли к сущности бытия начальный момент появления, раскрытие для человека и сплошное овременение? Размышляющая ин113 терпретация смерти вторгается в высшие и принципиальнейшие вопросы философии в целом. Проблема бытия имеет глубокую связь с проблемой смерти. Таинственная пустота, в которую уходит усопший, видится нам, оставшимся в живых, в каком-то смысле «противоположностью» мира явлений, в котором мы живём. Здесь всё раздельно, разобщено, обособлено, оторвано от основы, предоставлено самому себе – здесь всё в споре друг с другом, и примирение зачастую тоже носит характер борьбы и победы; на своих границах вещи борются за власть и превосходство; каждый индивидуум изо всех сил держится за своё особенное бытие, стремится удержаться в нём, обходиться отмеренным ему запасом сил до тех пор, пока это возможно. Рассмотрение этой подвижности, волнения и самоутверждения всех конечных вещей даёт основания зародиться, чисто негативно, некоему противоположному понятию о всеединстве до всяческих различий, до разрыва на куски и части, понятию простого и обнимающего бытия, неделимого, неподвижного, безвременного, непреходящего, связного, нераздробленного, безначального и несокрушимого «бытия». Понятие «земного», «посюстороннего» как бы вызывает противоположное понятие «потустороннего», «лежащего по ту сторону явления», понятие человеческого тут-бытия указывает на некое «прочь-бытие», имеющее форму – на бесформенное, выразимое при помощи языка – на невыразимое, временное – на «вечное» и т. д. Но вызванные таким способом понятия ещё не обладают легитимной мыслительной реальностью; следовало бы сначала проверить, насколько подобные противопоставления «феноменальным понятиям» являются полными отрицаниями сферы явлений, не заимствуют из неё скрытые элементы конструкции. Чем строже умеренность этих понятий, чем дальше они сами уходят от представлений, обитающих в мире явлений, тем «более пустыми» и более неопределёнными они становятся. Пожалуй, невозможно отрицать, что как раз большинство понятий метафизической традиции имеют характер таких понятийных новообразований, переступающих через границы мира явлений и созданных в противоположность ему. Возможность создания таких понятий в принципе заложена в горизонте таинственного «ничто», пребывающем в человеческом сознании смерти, которое мы описательно определяем бесполезным словом «пустота». Возможность метафизики «абсолютного» создавать свои понятия теснейшим образом связана со смертностью человека. Сейчас мы не будем останавливаться на проблеме истинности таких «трансцендентных понятий». Во всяком случае, они очерчивают границы бытийного понятия, образующего противоположность к бытийному понятию феноменального сущего. Пока вообще индивидуированная «вещь», т. е. сущее в горизонте явления, остаётся основной онтологической моделью, человеческую смерть можно толковать только как «уничтожение и гибель» – и точно так же несомненно, что метафизические понятия, образованные по принципу противоположного, остаются пустыми и ничего не говорящими по отношению к явлению. Умирание, увиденное с позиции явления, есть уход в ничто. 114 Эту интерпретацию смерти в плоскости явления, то есть с позиции живого, нельзя опрометчиво перепрыгнуть или вовсе скрыть под какими бы то ни было сокровенными мечтами сердца человеческого. По крайней мере, не в сфере философии, если она является попыткой трезвого, лишённого иллюзий самопонимания человеческого бытия и сторонится «назидательности». Но мы задаём вопрос: не заложены ли в человеческом знании смерти ещё и другие черты, возможно, не так явно, как страх за самобытие? Этот страх, безусловно, преобладающая основная черта. Ничто не заставляет индивида чувствовать себя таким изолированным от всех, таким загнанным в отчаянное одиночество – как его собственная, предстоящая ему смерть. Индивидуальное свершение жизни как бы заостряется до крайности в чётко осознанном отношении к будущей собственной смерти. Поначалу индивид может осуществлять многие житейские дела совместно с Другими, он может практически спрятаться в чувстве коллективной защищённости, он плывёт по течению в общем потоке, участвует в общественных делах – но умирать ему приходится одному, здесь прекращается какое бы то ни было соучастие. Можно, конечно, вместе с другими «ринуться» в бой, сражаться, но никогда нельзя сообща умереть. Каждый остаётся в одиночестве. На этом пути нет спутников. Следовало бы только спросить, не таит ли в себе это крайнее отчуждение как предельное заострение всегда-собственной индивидуальной участи тайных возможностей резкого перехода – возможностей, которые трудно облечь в слова и которые, однако, в один прекрасный день смутно предугадывает каждый. Защищавшая нас доныне «самость» в самую последнюю минуту отрекается от себя, не сопротивляется больше неизбежному – и внезапно происходит преображение маски смерти: то, что вызывало ужас у живого, становится возвращением в родные места для умирающего. Смерть теряет облик ужасающего и разрушительного – разрушение касается конечной самости, персональной самостности и самостоятельности; смерть мягко освобождает от оков разъединения, она освобождает от пожизненного заключения в одиночной камере индивидуального существования, она взламывает тесную темницу заключённого в капсулу Я; она становится освободителем не потому, что освобождает нас от боли и земного страдания, от страха и заботы, но потому, что она крушит нашу «конечность», позволяет излиться нашему прежде скованному бытию в море всеединого. Из подобного предчувствия произнесено слово умирающего Сократа: «Критон, мы должны Асклепию петуха!»106 или сочинён дифирамб Ницше: «Золотое веселье, приди! / Ты смерти затаённейшее, сладчайшее предвкушение!».107 Острейшая обречённость переходит в чувство защищённости. Это не более чем намёк. Мы должны остерегаться скоропалительно делать из этого капитальные выводы о содержательном определении страны мёртвых. Мы не имеем права 106 107 Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 93. Ницше Ф. Солнце садится / пер. В. Микушевича. 115 совершить ту же ошибку, за которую упрекаем мифологию: выдумывать и разрисовывать замирье, пусть даже и при помощи понятий, противоположных сфере явления. Земное время – это ситуация наших размышлений о смерти. В принципе мы только «до» смерти говорим о смерти. Будучи живыми, мы знакомимся со смертью, терпим эти мрачные мысли или бежим от них. В «этом мире» мы пытаемся наметить понятие «преисподней», на этом свете чтим память об усопшем, которого мы уложили в затворяющую землю. Таким образом, кажется, что мёртвый в определённом смысле вовлечён в царство живых. Но он не укладывается и не вовлекается сюда полностью. Он остаётся мрачной фигурой, не позволяющей живым достичь полной завершённости бытийного понимания; фигурой, взламывающей жуткое измерение пустоты. Когда Гегель в «Феноменологии духа» на примере античной трагедии, на судьбе Антигоны и Полиника разъясняет символический смысл напряжённого отношения между государственным правом на этом свете и правом семейного пиетета, обращённого прежде всего к «усопшему», то он имеет в виду тем самым не просто нравственный конфликт, а более глубокий пласт напряжённого противостояния между бытийным пониманием явления и его разрушением «смертью». Измерение мёртвого кажется нам несуществующим, недействительным и не имеющим власти. Но вот формулировка Гегеля: «Мёртвый, чьё право нарушено, знает поэтому, как найти орудие мести за себя, орудие одинаковой действительности и мощи с той силой, которая оскорбила его. Эти силы суть другие общественности, чьи алтари осквернили псы и птицы трупом покойника, который не был возведён в бессознательную всеобщность путём подобающего ему возвращения в лоно стихийного индивида, а остался на поверхности земли в царстве действительности и в качестве силы божественного закона получает теперь некоторую обладающую самосознанием действительную всеобщность. Эти другие, полные вражды силы восстают и разрушают общественность, которая обесчестила и сломила свою силу – благоговение семьи».108 Власть мёртвого: мёртвый как ключевая фигура проблемы бытия Власть мёртвого, скрывшегося из царства живых, из края различий, границ и выразимости словом, огромна. Это не власть земного мира – не та власть, сила которой может быть сломлена или, по меньшей мере, ограничена другой силой. У мёртвого нет больше конечной силы, чтобы противопоставить её другой конечной силе; у него нет более возможности действовать, найти себе место и утвердиться на нём. Взятый в масштабе конечных вещей, он беспомощен, бессилен, уничтожен – призрачная тень, имеющая своё постепенно разрушающееся и исчезающее пристанище лишь в воспоминаниях, в памяти оставшихся в живых. Но именно мнимое, иллюзорное бессилие усопшего как таковое есть власть, «нечистая» власть, странность и непостижимость которой сбивает с толку, до глубины души тревожит живых, поку108 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. Г. Шпета. СПб.: Наука, 1994. С. 254 116 шается на их уверенность в безопасности, на достоверность бытия и подрывает их. И собственно подрывающим моментом является вовсе не мрачное напоминание «memento mori», чем мёртвый служит для всех живых, как хотелось бы, вероятно, объяснить это с психологической точки зрения; ведь чтобы мы вообще были в состоянии уяснить себе такое напоминание, мы должны уже изначально чувствовать затронутость тёмным измерением и потрясение от этого, нас в нашем существовании должно коснуться дуновение пустоты, в которую уходит мёртвый. Страна мёртвых, не отдельно взятые мёртвые – вот то, что испокон веков бросает зловещую тень на сияние и блеск земного мира. Выражение «страна мёртвых», разумеется, неоправданная метафора, противоречие в себе: ведь «страна» представляет собой развёрнутое пространство, в котором что-то происходит, случаются происшествия, разыгрываются события. Каждая страна вообще должна существовать в одном единственном мировом пространстве, в одном единственном мировом времени. Страны, регионы, местности – как бы далеко друг от друга они ни находились, пусть даже на расстоянии миллионов световых лет – все они лежат внутри одного и единственного всеобъемлющего присутствия, где являет себя разнообразное сущее. Сверх того ничего нет и ничего не может быть. Сфера присутствия принципиально «единственная». Когда говорят о многих «мирах», о земных и небесных ландшафтах, то это не вымышленные представления. Неслучайно самое смелое воображение «метафизики» потустороннего вынуждено использовать пространственные образы, оперировать временными представлениями, в том числе и в случае, когда понятие «вечность» описывается как «неподвижное сейчас», как «nunc stans». «Страна мёртвых» не зона посреди всеобщего присутствия, не отдалённая провинция, не пространственновременная сфера. Этой «страны» нет – это во всех смыслах «нейтральная полоса», иллюзорное царство теней, некое ничто. Мы назовём это загадочное ничто, которое даёт о себе знать единственно в аспекте ухода умирающего, «отсутствием» – а именно, в связи с вопросом, исчерпывается ли сущность бытия в «присутствии», в «появлении», структурированном, различённом и собранном воедино восхождении многообразного сущего, или же нет. Мёртвый становится ключевой фигурой проблемы бытия. Следует ли мыслить понятие бытия таким образом, чтобы оно принципиально оставалось связанным с сущим как «индивидуированным» и «отдельным», включая их «общие структуры» – или же необходимо, отталкиваясь от индивидуального, обратиться к изначальной основе, в которой всё – едино? Мёртвый означает для нас, живых, прежде всего, уход из разобщённости; человек прекращает быть определённой «самостью». Каждый живой отличается от всякого другого живого не только внешними очертаниями своего физического облика, телом, реальной раздельностью собственного организма и других вещей и организмов, но и более существенно – чистым самоотношением, самостной установкой и самоутверждением. В смерти исчезает явлен117 ный образ такого самоутверждения. Индивид перестаёт удерживать и защищать свою индивидуальность; он отрекается от духа, знания и воли и прежде всего – от воли быть самим собой; он умирает, уходит из царства различий, ускользает в призрачность, в загадочное «ничто». Но именно это падение в недействительность, которое мы, оставшиеся в живых, наблюдаем в мёртвом, эта кончина и уход и отречение от себя самого имеет для нас огромное значение. Это загадка и тайна, которая в глубине души пугает и угнетает нас. Вообще говоря, существует много тайн и непроницаемых загадок. Бытие каждой вещи непрозрачно для нас – мы всякий раз понимаем лишь малую толику, в то время как большая часть не поддаётся пониманию. Но, пребывая в таком удивлёнии и недоумении от неуяснённого бытия окружающих нас вещей, испытывая от этого боль неведения, мы, эти неведающие, всё же уверены в собственном бытии. Непонятность вещей окружающего мира есть момент нашего бытия. И хотя тем самым наше бытие приведено в смятение, но оно при этом, будучи смятенным, всё-таки существует. Загадочность чужого, не-человеческого сущего мы выдерживаем. Такая загадочность как раз обычна для нашего конечного бытийного понимания. Загадки чужих вещей являются нам в контексте и движении нашей жизни. Совершенно иначе обстоит дело с загадкой смерти человека. Хотя эта загадка существует и для нас тоже, поскольку мы живы – но она будит в нас сознание того, что мы «ещё» живы и в скором времени, вероятно, «уже не будем» жить. Загадка касается здесь не просто некоего не постигнутого сущего, но сущего, постигающего бытие. Обычно бытийное понимание образует бесспорное условие всех загадок и проблем – но перед лицом смерти именно сама эта предпосылка убеждается в своей спорности. Тем самым загадка приобретает экзистенциальное заострение. Понимающее бытие существо совершенно убеждается в своей конечности как преходящести бытийного понимания. Смерть угнетает нас возможностью выпасть из «истины» как обнажения сущего и утонуть в ночи единообразного. Поэтому человеческая надежда постоянно пытается судорожно ухватиться за идею о том, что мы, пусть и утрачиваем, умирая, здешние вещи, многие и разнообразные вещи мира явлений, но всё-таки сохраняем при этом способность понимания, наблюдения и восприятия и, таким образом, располагаем духовными органами, способными познать некие «сверхчувственные» миры, небесные сферы и адские вместилища, райские кущи и места расплаты. Смерть превращается в «переход», преображение нашей жизни, которое не уничтожает Я, а сохраняет его целым и невредимым, освобождает от свинцовой гири земной жизни и делает чище, яснее и более приспособленным к созерцанию потусторонних вещей. Твёрдая вера в бессмертие стремится прежде всего к тому, чтобы удержать единство личности, единство сознания, единство Я и при этом ошибочно представить Я как жизнь сознания, способного к опыту. Тогда говорят, что продолжая жить после смерти, человек приобретает новый, своеобразный и невозможный в земной жизни опыт. При этом почитают себя рассудительными и критичными 118 уже в случае, когда посмертный опыт не разрисовывают и не расцвечивают слишком красочно, когда раю не приписывают прелести, как в учении Магомета, когда место расплаты не оснащают орудиями пыток и огнём – когда подобные «картины» понимают только как аллегорию. Но при этом совершенно не задумываются над тем, что же вообще может означать в этом случае «опыт». Однако опыт, относящийся к структуре человеческого духа, – это опыт земной жизни – опыт разнообразного индивидуального сущего, это опыт самого индивидуального Я, полученный от индивидуальных вещей. И этот опыт земной жизни включён в систему априорных предзнаний – и лишь благодаря этому включению имеет свой смысл в качестве «опыта». Но a priori понимания в принципе относится только к миру явлений. О сверхчувственном мире, который мы «познаём», как утверждают, только после смерти, мы, по-видимому, не имеем никаких априорных предзнаний. Таким образом, после смерти момент опыта нашего духа должен был бы обособиться, освободиться от власти «априорности», охватывающей и направляющей его. Тогда мы пришли бы к такому понятию опыта, в соответствии с которым «опыту» не пришлось бы с необходимостью удерживать себя в сфере обнимающего бытийного понимания. Но разве мы смогли бы тогда вообще что-либо понимать, иметь какие-либо суждения? Разве может быть так, чтобы функции нашего духа, отвечающие за мысли и суждения и, собственно, составляющие сейчас априорное бытийное понимание, отсутствовали, а опытное познание тем не менее осуществлялось? В качестве единственного выхода из этой дилеммы у приверженцев твёрдой веры в бессмертие есть только одно решение: в смерти мы полностью утрачиваем свою земную способность к познанию и взамен неё получаем абсолютно новый орган сверхъестественного познания; но и тут оставалось бы труднообъяснимым, как же возможно при подобной замене единство Я, связность воспоминаний, непрерывность понимания. Где бы ни интерпретировали смерть как некий «переход», как переход в другое измерение, в царство сверхчувственного, везде отстаивают смену места действия, но при этом – идентичность личности. И к тождественности личности имплицитно примысливается также и тождественность её разума, её познавательной способности. Миф позволяет душе усопшего жить дальше как бы в другом месте, заставляет «переживать» посмертные судьбы, имеются своего рода путевые заметки о необычайных странствиях, о несказанных радостях и невыразимых страданиях. Но ни один «усопший» ещё не заговорил сам, ни один человек, перешагнувший порог смерти, не вернулся обратно. Поскольку представления о потустороннем мире исходят от самого человека, они в принципе остаются лишь предположениями живых, допущениями, в которых голос сердца звучит громче, чем голос разума, картины необузданной фантазии разрастаются пышнее, чем понятия мышления. Принципиальная философская значимость страны мёртвых, того таинственного ничто, которое окружает всё сущее на земле и которого нигде и ни119 когда нет, о котором мы лишь смутно догадываемся, поскольку туда уходит от нас умирающий, заключается, в конечном счёте, в том, чтобы взломать замкнутость мира явлений, поколебать его бытийную прочность и окунуть всё мировое присутствие в засасывающую пустоту отсутствия. Страна мёртвых – это царство теней усопших, Аид, в котором не просто стёрто и сведено к элементарному покою пра-единого всё многообразие вещей, но где отдельный человек отказался от своей индивидуальности. Мысль об Аиде нам чаще всего невыносима. Человеческие, слишком человеческие фантазии, картины надежды и картины страха наполняют воображаемую безмолвную, вне места и времени «страну позади Ахерона». Основой изобретения всевозможного «замирья» служит, в конечном счёте, «преисподняя». Все представления о потустороннем мире косвенно берут своё начало в стране мёртвых. Было бы важно раскопать корни мифологических и метафизических спекуляций относительно сверхчувственного «мира» и показать при этом, как смерть почитается в них жизненной силой и жизненной тайной. В «ничто» страны мёртвых распахнуто, так сказать, безграничное измерение, которое осваивают и заселяют миф и метафизика. Танатологическое происхождение подобных концепций ясно указывает нам на то, как власть смерти добирается до самых высоких вершин человеческого духа. Здесь мы не намерены вести спор с мифом и «абсолютной метафизикой» в банально «просветительском» духе; но нам представляется необходимым понять, что такого рода взгляды не являются простыми, общеизвестными высказываниями о действительности, о всеобщей связи появляющегося сущего – но что они, скорее, говорят и судят о появляющейся реальности, уже опираясь на внешнюю картину смерти. На жизнь они смотрят глазами смерти. Смерть принадлежит бытию; её невозможно отделить от него. Людская жизнь обречена на смерть. Из перспективы смерти возможны существенные свидетельства о бытии человека. Однако это не должно означать, что только лишь и исключительно с позиции смерти надлежит определять весь смысл бытия. Но смерть по логике всегда оказывает обратное воздействие на жизнь человека, образуя смысл и вызывая в своей непостижимости желание знать. Она есть погружённое в нас жало, которое мы не можем ни изгнать, ни смягчить, самый чёткий индекс нашей конечности. Пронизанность человеческой жизни смертью проявляется также в том, что мы назвали «необычайной властью мёртвого», в той роли, которую усопший как таковой играет в жизни человеческого общества. Тот, кто умирает, кажется низринутым в крайнее бессилие; он не может больше что-либо сделать, на что-то повлиять, не может действовать и добиться признания. Но это бессилие само есть огромная сила. Она несёт древнейший ужас, является на самом деле «mysterium tremendum». В жизни покойный был одним из многих, возможно, занимал высокое положение на иерархической лестнице, создаваемой самими людьми для себя. Он характеризовался какими-то отличиями; но подобные неравенства и различия пребывают в пространстве некоего более глубокого равенства в звании; все живые равны друг другу в ка120 честве живых – и пусть они по-разному одарены благами жизни, но они пребывают в совместном владении жизнью как первичным благом, являющимся необходимой предпосылкой к любому другому благу. Смертный случай, затрагивающий отдельного человека, отличает этого отдельного как место вторжения некой сверхчеловеческой силы. Он сам как бы обретает демонический характер; он возвышается над прочими. Это не означает возрастания его прежней значительности. Хотя смерть героя, государственного деятеля и поднимает больше шумихи, чем смерть простого человека – но это многократно перекрывается именно сущностью подлинной значимости мёртвого. Она определяется не тем, чем он был, а тем, чем он является в настоящее время в качестве мёртвого. Тот факт, что и героям приходится сойти в могилу, что Ахилл должен умереть, что всё сияющее в свете жизни на земле должно погаснуть в безмолвии ночи, где нет ни имён, ни различий, ни дистанций или иерархий – всё это воспринимают как злой рок человеческого жребия; нет никакого выхода, никакого спасения – и нет также никакой конечной силы, способной противостоять смерти. Когда Ахилл волею Гомера говорит в Аиде, что он предпочёл бы быть лакеем на земле, чем замечательнейшим из героев в царстве теней, то это не выражение «античного пессимизма», не понимавшего смысла смерти, как это часто приходится слышать; это, скорее, выражение, ясное поэтическое выражение того, что в смерти стираются различия живых, что нищий и король равны. Это означает не только: равно бессильны и равно недействительны; это означает также: равно сражены сверхчеловеческой силой смерти, равным образом переведены в демонический ранг. Существенной чертой понимания смерти является то, что смерть означает отмену конечной ограниченности индивида. Пока человек дышит, он ещё не окончателен, он всё ещё испытывает себя. Процесс жизни – это постоянная самореализация в выборе решений. Только в смерти мы «готовы» – завершены. Но не таким образом, чтобы сохранялась достигнутая форма. Законченная форма разобьётся. Умирая, человек завершает историю своей жизни, долгий, трудный путь самоформирования. Приобретённая «самость», сделавшая, как таковая, своё дело, покидает себя. Подобно тому, как живые символически укладывают в землю или предают огню труп, этот жалкий остаток обособленной экзистенции, как тем самым они возвращают стихиям отделённую часть и демонстрируют этим, что завершённый индивид сбросил с себя свою индивидуальность, так память живых некоторое время хранит воспоминания о частностях, но её искренность и глубина проявляется не в этом удерживании любимых образов, а в большей степени в том, чтобы отпустить их в бесформенный грунт. Тогда уход мёртвых не воспринимается как исчезновение в потустороннем царстве, к которому у нас, живых, ещё нет ни путей, ни доступа – кончина умирающих воспринимается как возврат к тёмной, подземной основе, несущей всё земное бытие людей. На могилах мертвецов живые сооружают свои жилища. Лары и пенаты выступают их ангелами-хранителями, которым они доверяют, 121 под надёжную защиту которых отдают своё подверженное опасностям бытие. Отсутствие умерших как благодатная сила царит в бытии, поставленном под угрозу. Здесь было бы уместно указать на исключительное значение культа мёртвых для всех форм человеческого общежития. Общество обретает своё самосознание и самопонимание в значительной степени в своём отношении к мёртвым. Культ мёртвых – это не просто одна «сторона» культа; он есть первейший культ. В культе мы имеем подлинный социальный аспект смерти. Культ управляет мистериями, прежде всего – мистерией смерти. Это означает не просто совокупность ритуалов, сакрально-возвышенных форм обращения со смертью человека, как, к примеру, в церемониях погребения и в уходе за могилами, – культ есть прежде всего некий надындивидуальный пра-опыт, социальная открытость проблеме смерти, это основная точка зрения полиса на смерть. Индивид в рамках культа, возможно, уже больше не в состоянии постичь архаическую смысловую глубину культовых жестов и слов – и всё же при этом его охватывают и несут такие ощущения, в которых тесными узами причудливо сплетаются первичный страх и первичное доверие. Не что иное, как символическая сила культа, позволяет проявиться двусмысленно изменчивому двойному опыту смерти, который так плохо поддаётся однозначному подходу мышления и откроется, вероятно, лишь диалектической, парадоксальной мысли. «Двойной опыт» подразумевает выставляющую напоказ и одновременно скрывающую сущность смерти. Она ввергает индивида в крайнее одиночество и забирает его обратно в оберегающую праоснову всеединого – она уничтожает. Но «уничтожение» имеет не только смысл гибели обособленного; уничтожение представляет собой освобождение от разобщения; смерть страшит нас, но даёт нам вечный покой. Культовую мудрость мистерии смерти нелегко представить и выразить по двум существенным причинам: во-первых, потому, что она почти всегда таится под покровом догматических мифологических или метафизических учений о потустороннем мире, во-вторых, потому, что она имеет внутреннюю связь с бытийным феноменом любви, со знанием о бесконечности жизни человека благодаря зачатию и рождению. Смерть и любовь составляют единое целое – любовь всегда окружена смертью, а смерть всегда преисполнена магической силой эроса. Ужас и блаженство неразделимо перемешиваются в бытии человека, выказывание и сокрытие пронизывают друг друга, взаимно предполагают одно другое. Мы должны ещё попытаться увидеть неизбежную, неустранимую взаимосвязь смерти и любви. Пока мы толковали смерть в её абстрактной односторонности, как бы изъяв её из бытийного переплетения основных экзистенциальных феноменов. Но многозначно существуя в различных отношениях одновременно, обсуждать эту одновременность существования мы можем всётаки лишь последовательно. Желание всё «сказать одновременно» вообще уничтожило бы высказывание. И в этом обстоятельстве тоже проявляется непрочность и конечность нашего бытия и нашего «логоса». Таким образом, 122 высказывания нуждаются в опережении, являются «предварительными». Философия смерти открывает огромное, необозримое поле в бесчисленных истолкованиях смерти, появившихся в ходе истории в различных человеческих культурах; тут можно извлечь множество возможных фундаментальных точек зрения и помимо всех догматических тезисов о потустороннем мире. Пусть даже истолкование страны мёртвых как второго воображаемого мира явлений не является ложным – пусть даже человек способен стойко выносить и терпеть пугающую пустоту, всё равно возможны и иные подходы человека к смерти. И эти взгляды не обязательно должны служить щитом человеку, пытающемуся скрыться от смерти; это могут быть также свободные, открытые позиции, в которых он подставляет себя под её удар и отдаётся ей, в чувстве уничтожения испытывает ностальгию по основе. Чем решительнее человеческий род возвращает себя в природу, тем смиреннее принимает он участь земной бренности; он живёт и существует в сопричастности к земле, из которой он выходит и в которую нисходит. Он не раздувает свою волю до непрерывного самоутверждения, которое не желает сдаваться, страстно цепляется за волю, за самостное бытие, за личное существование и надеется на возможность сохранения индивидуальности за чертой смерти. Он не закрывается от нашествия и вторжения простой земли, позволяет взломать и уничтожить себя, «сдаёт» себя. Это экзистенциальное чувство по отношению к смерти выражено в «Девятой Дуинской элегии»: «Земля, я люблю тебя. Верь мне, больше не нужно / Вёсен, чтобы меня покорить, и одной, / И одной для крови слишком уж много. / Предан тебе я давно, и названия этому нет. / Вечно была ты права, и твоё святое наитье – / Надёжная смерть…».109 Смертность человека понимается и приветствуется здесь как неизбежное назначение. Во всём предыдущем рассмотрении смерти этот момент был ведущим. Сознание смерти есть неизбывное, сокрытое в самой глубине души сознание достоверности нашего бытия. Смерть – это абсолютная власть, которая распоряжается нами. Она ставит нам предел, заканчивает наше бытие. Несмотря на то, что мы, по обыкновению, можем чего-то добиваться и что-то загадывать, что-то намечать и устраивать, смерть не поддаётся посягательству планирования. Она приходит, когда захочет, приходит, как вор в ночи. Каждый миг существует вероятность, что она проникнет в дом, взломав дверь. В круге своей жизни человек волен кое-чем управлять, имеет полномочия распоряжаться вещами и процессами – но он не имеет полномочий распоряжаться смертью; он отдан в её власть. Смерть появляется, так сказать, как абсолютный владыка над живыми, трепещущими перед ним. Но это истинно лишь в совершенно определённом смысле. Человек не может удерживать смерть на расстоянии от себя, не может спастись от неё, не может скрыться и спрятаться от неё. Она настигает всех и каждого – «окончательно и бесповоротно». 109 Рильке Р. М. Девятая Дуинская элегия / пер. В. Микушевича 123 Однако человек обладает удивительной, колоссальной властью, чтобы всё же иметь возможность определённым образом распорядиться смертью. Ведь смерть – это не только природное событие, наступающее, наконец, когданибудь с незыблемостью закона природы. Недостаточно сказать о нашей ситуации, что мы уверены в приходе смерти, но мы никогда не знаем наверно о времени её прихода. Не всегда смерть – «слепой» случай, происходящий с нами. Человек имеет страшную власть убивать. В качестве «убийцы» он распоряжается смертью, обычно не поддающейся распоряжениям. Он не может задержать смерть, когда она приходит, но он может призвать её и вынудить прийти раньше, чем она пришла бы по зову природы. В смертность человека включена способность лишать жизни. Человек не просто сам по себе обречён на смерть, он может, в свой черёд, обречь на смерть себя самого или других людей, он имеет возможность самоубийства и убийства. Чтобы увидеть стихийный характер этих бытийных вероятностей, нужно сначала заблокировать какую бы то ни было «моральную оценку». Убийство представляет собой некий особый фундаментальный способ обращения с смертью. Возможно, скажут, что животные тоже «убивают»; они охотятся друг на друга и пожирают друг друга. Но тут обнаруживается, что для оценки поведения животных мы не располагаем необходимыми разработанными категориями, которые были бы почерпнуты из определённого понимания. Наивный «антропоморфизм» точно так же затушёвывает бытие животных, как и человеческое бытие. Животные, которые убивают друг друга, дерутся друг с другом, охотятся друг на друга и пожирают друг друга, не живут при этом в открытости для смерти как таковой. Но убийство человеком включает в себя понимание смерти, предшествующее ей намерение. Мы говорим также и о том, что человек «убивает» иные, не-человеческие существа, что он употребляет в пищу растения, забивает животных и т. д. Однако в строгом смысле это не является убийством, это скорее умение вызывать кончину других существ, которые сами не открыты смерти. Под убийством в собственном смысле мы терминологически понимаем разрушение жизни открытого смерти человека. Ужас убийства заключается в том, что один человек приближает другого человека к смерти, открывает ему крайнюю угрозу и опасность и затем энергично сбрасывает его в уничтожение. В акте убийства убивающий понимает, что жертва ещё могла бы продолжать жить – а жертва с ужасом осознаёт, что её жизнь укорачивается до срока лишь вследствие человеческого насилия, не вследствие неизбежного воздействия сил природы. Смерть, которую несёт нам природа, мы, скорее, готовы принять, признать её фатальность; зато смерть от человеческой руки мы не захотим принять ни за что на свете, подобной угрозе смерти мы будем сопротивляться изо всех сил и с самой яростной, первобытной жаждой жизни будем отчаянно стараться спастись. Для убитого смерть приходит из чужой свободы; против этого и восстают его собственная свобода и самоутверждение. 124 Особый, трудно интерпретируемый случай представляет собой убийство самого себя – по всей видимости, акт наивысшей свободы, как у мудрецастоика, или акт отчаяния, когда бытие стало невыносимым. Самоубийство есть острейший и чрезвычайный вариант, обратный «самосохранению». У человека самосохранение не является – как у животного – слепым инстинктом, управляющим всем его поведением. Человек, как правило, в высшей степени заинтересован в своём существовании. И этот интерес включает в себя способность предвидеть и распознавать опасности, избегать их, остерегаться их по мере возможности. Если бы человек, к примеру, пошёл на то, чтобы поддерживать самосохранение в питании (по крайней мере, в наших климатических зонах), ограничиваясь лишь теми продуктами, которые он обнаружит в природе, то есть оставаясь на ступени «собирателя», то это означало бы медленное самоубийство. В открытости для угрозы возможной нехватки продуктов питания берёт своё начало побуждение «производить» продукты, сеять, чтобы собирать урожай, трудиться в поте лица своего, чтобы наполнять кладовые запасами. В качестве движущей силы подобных стараний работает понимание смертельной опасности и тем самым, знание смерти. Возможность убивать других людей даёт тому, кто уверен в этой своей возможности, сознание исключительной силы и превосходства. Он понимает, что может не просто преодолеть и подавить сопротивление другого, но и «уничтожить» его, полностью устранить его противодействие. Ощущение власти, которое даёт такое знание, и на другой стороне – страх человека, которому угрожают смертью, ведут к совершенно особым «отношениям» в человеческом мире. В конечном счёте, с точки зрения на смерть как на убийство следует осмысливать феномены труда и власти. Многообразие интерпретаций смерти В рамках основных феноменов человеческого бытия смерть занимает особое место: она в строгом смысле не является феноменом, который можно предъявить, продемонстрировать, во всякое время привести к наглядной данности; её нельзя связать с каким-либо безусловно понятным феноменальным содержанием и описать в нём – ни как собственную смерть, которая ещё только ожидается, ни как чужую смерть. Хотя смерть ближнего и является событием в нашем окружении, которое мы наблюдаем – мы видим как бы угасание его жизни, но мы не в состоянии уловить и постичь, что же в сей миг происходит с Другим. Умирая, он, собственно, скрывается от всех форм со-бытия с нами; он оставляет после себя свой труп, оставляет память о себе. Труп мы хороним, память мы храним; покойный исчез для нас и перенесён в гиперболизированный образ «безобразности», в некий демонический характер. Множество существенных черт можно уловить в смерти человека – но не её саму. Мы можем охарактеризовать, как она «вступает» в жизнь человека, как мы открыты ей, как в глубине души нас определяет и настраивает созна125 ние смерти, как мы общаемся с усопшими в культе, как любое человеческое сообщество имеет свои корни в почитании мёртвых, черпает свои самые прочные связующие силы в царстве теней – согласно слову Гегеля: «Мощность открытого духа коренится в подземном мире; уверенная в себе самой и уверяющая себя достоверность народа имеет истину своей клятвы, всех в одно связующей, лишь в бессознательной и безмолвной субстанции всех, – в водах забвения».110 Мы можем многое сказать о смерти и о мёртвом, но никогда о том, что, в сущности, есть смерть. Сама она не феномен, она вершится как исход из мира явлений, как «избавление», как исчезновение из всеобъемлющего присутствия, в котором принципиально собраны все «феномены». Поскольку смерть, строго говоря, не есть феномен, но пронизывает все феномены жизни человека и бросает на них свою тень, является пустотой ничто, пугающей нас, но и наполняющей глубочайшим доверием, постольку она представляет собой самый «интерпретируемый» момент бытия. Смерть есть сильнейшая движущая сила наших упований, нашей мысли и поэзии, воображаемая зона, где поселяются спекулятивные мечты. Все потусторонние миры опосредованы смертью. Через врата смерти все надежды людей устремляются к истинному «счастью», к настоящей справедливости, к освобождению от страдания. От смерти мы ожидаем всего того, чего не могла дать нам жизнь. Мы малодушно боимся её, потому что нам известно, как беспощадно она срезает своим серпом, и всё-таки в верующем сердце живёт надежда, что она принесёт исполнение наших глубочайших упований. Она нам страшна и вместе с тем «близка»; у неё два лика, уничтожения и избавления. В широком диапазоне противоположных точек зрения на смерть хранятся бесчисленные, ставшие исторически действенными толкования смерти, в принципе породившие миф, религию и культ. Наверняка будет несправедливо по отношению к этим силам бытия отмахнуться от них просто как от религиозной мишуры «ничейной земли», опосредованной смертью, просто как от утопической фантасмагории сердца. Это колоссальные жизненные реальности, импульсы необычайной силы, свидетельствующие, что отношение человеческого бытия к стране мёртвых представляет собой источник мощных жизненных энергий и творческих изобразительных сил. И если бы через них с человеком заговорила некая сверхчеловеческая, божественная мудрость и открыла и явила нам отнятые у нас «последние вещи», то вся мировая мудрость философии действительно превратилась бы, благодаря подобному откровению, в глупость – оказалась бы бесконечно отсталой и разгромленной в пух и прах. Но философии пришлось бы покориться этой участи, покориться спокойно – ибо она в качестве конечного человеческого знания не может, да и не желает вступать на путь состязания с богами. Философия придаёт значение исключительно тому, что человек, исходя из собственных возможностей, может знать о смерти, как он познаёт её как 110 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. Г. Шпета. СПб., 1994. С. 254 126 границу, как измерение пустоты, как внутреннее сознание – в страхе и трепетной надежде. То, что философия ограничивает себя человеческим разумом, скудным светочем lumen naturale, является её аскетической чертой. И очень трудно проявлять сдержанность в отношении смерти как самого «интерпретируемого» момента бытия – говорить только то, что мы можем сообщить о ней с нашей позиции, с позиции свидетельства нашей собственной жизни. Но здесь будет честнее не утверждать больше того, что знаешь. Что касается потусторонней участи души, жизни после смерти и т. п., то пусть это остаётся возвышенным предметом веры и надежды; но это не является предметом человеческого знания, областями доступного нам опыта. Однако у философии есть определённые критические вопросы к вере; так, прежде всего, вопросы об элементах, из которых строятся неземные, потусторонние «миры», о смысле продолжения существования, о правомерности использования пространственно-временных представлений по ту сторону земного времени и земного пространства. Всё, что философия может сказать о смерти, кажется ничтожно малым по сравнению с пёстрыми, цветистыми, восторгающими и ужасающими описаниями, в которых изображает страну мёртвых миф. То, что может сказать философия, – это скорее знание незнания – она стоит ещё по эту сторону реки Стикс, она обозревает область явлений, разнообразную, изменчивую, подвижную сферу присутствия, наблюдает пляску конечных вещей в хороводе, их появление и исчезновение, их цветение и засыхание – а с другой стороны, там, за тёмной рекой времени она видит окутанное туманом, неясное, бесформенное, непостижимое царство теней усопших, огромную, безмолвную пустоту ничто. Она не бывала пока ещё в лодке Харона, не отведала ещё вод Леты, но у неё есть острейшее сознание этого «ещё не». И она никогда не сможет заговорить так, будто бы уже вернулась из преисподней, будто взглянула глазами мышления на потусторонние вещи. Философия – не орфическое знание. Но для неё важно выразить и закрепить в понятии открытость смерти и пронизанность смертью человеческого бытия. По сравнению с догматическими учениями о потустороннем, она всегда должна казаться себе бедной и ограниченной, она не может взять даже крохи с воображаемых столов мифа, так как она не может вкушать яства небесной мудрости, не знает, что делать со «знанием», которое не осмысляется ею самой в аспекте конечности. Она кормится горьким хлебом человеческой мудрости, в которой свет и тьма пронизывают друг друга, понимание прячется внутри неисчерпаемой загадки. Это принципиальное различие мифа и философии необходимо иметь в виду, когда мы оглядываемся на «скудный результат» нашего анализа смерти. Ход наших рассуждений можно сжать до нескольких шагов. Человек смертен. Он один среди всех созданий природы умирает, т. е. кончается, всю свою жизнь двигаясь навстречу концу; он предназначен смерти и знает об этом предназначении; он ощущает свою отмеченность неким незримым клеймом, клеймом бренности. Сознание смерти есть вообще самое достовер127 ное знание, которым мы располагаем, и вместе с тем с ним связана крайняя неопределённость в вопросе о «когда». Мы идём навстречу смерти, куда бы мы ни шли, и всё же её предвидение скрыто от нас непроницаемой завесой. Мы можем ожидать её каждое мгновение и тем не менее оказаться захваченными ею врасплох. Так как человек заранее осведомлён о своём конце, он открыт и распахнут бренности всех конечных вещей вообще, у него «лик Кассандры», он уже во всяком цветении видит засыхание, в каждом восходе – закат. Это отличает его от животного и от бога. Он не так укрыт в бренном, как животное, и не так отрешён от бренности, как бог. Он стоит на пронизывающем ветру бренности, он самое исчезающее существо посреди исчезающих вещей. Мы открыты универсальному исчезновению и, однако, никогда не постигнем, как вообще может кончиться «сущее»; наше бытийное понимание напряжено этим противоречием до такой степени, что готово дать трещину. Неорганические вещи распадаются, животное и растение «угасают». «Ничто» демонстрирует принципиально внутримирный характер в гибели как неорганического, так и органического, учреждает здесь бытие появляющегося сущего. Не то у человека: смерть вскрывает – для остающихся в живых – таинственное измерение отсутствия; ничто, в которое скрывается умирающий, не есть феноменальное ничто. Только смерть человека придаёт вообще какой-то смысл речам о «потустороннем»: потустороннее означает по ту сторону мира явлений. Мы обнаружили значительные различия в отношении собственной и чужой, частной и общественной, одинокой и коллективно-социальной смерти. Правда, эти различия получили лишь предварительные характеристики, не были достаточным образом эксплицированы. Но нам было важно прежде всего выдвинуть проблемы и, таким образом, прояснить заключённую в человеческом отношении к смерти двойную возможность её понимания: как предельного заострения человеческой разобщённости или как освобождения от раздельного единичного существования. Методическое значение анализа смерти заключается в том, что им была выявлена не только основная черта человеческого существования, которой нет ни у животного, ни у бога, но и, прежде всего, было указано на невероятное напряжение и загадочную глубину человеческого понимания бытия, истины и мира. Смерть, таким образом, не просто лишь бытийная структура; касается не только человека самого по себе, но целиком всего человеческого отношения к бытию, истине и миру. Бытийное понимание смущено смертью, потому что мы не принимаем до конца мысль, что сущее может превратиться в небытие – что даже мы, мы, которые так твёрдо уверены в собственной действительности, так несомненно убеждены в ней, можем внезапно утратить своё бытие. Истина заключается для нас пока в том, что утрачивается защищённость очерченных границами, определённых контурами вещей; истина есть обычно истина о конечном. Тезис о противоречии, фундаментальный тезис учения об истине, формулирует – в изложении Аристотеля – отнесённость истины к каждому отдельному сущему. Если всё едино и каждому может 128 подходить, а также не подходить то-то и то-то, тогда нет никакой определённости, никакой устойчивости такого-или-иного-бытия – тогда невозможно ничего различить, невозможно ничего утверждать. Однако этот тезис о противоречии является законом истины в сфере индивидуированного, появляющегося сущего. Но смерть – серьёзная, страшная стрелка, которая указывает на нечто за пределами сферы индивидуализации и вызывает вопрос об истинах, не касающихся индивидуального. То обстоятельство, что понятие мира с точки зрения смерти человека становится двояким, что выступает наружу различие между царством различий и царством бесформенного Аида, составляет важнейший момент аналитики смерти. Ибо тем самым открывается в своей диалектической напряжённости всеобъемлющая связь человеческого существования с миром. Мы существуем не только в отношении к сфере явлений, где собрано и связано в единство универсального присутствия всё разнообразное, многочисленное сущее, мы существуем также в отношении к тёмной пра-основе, к бездне, из которой восходит всё конечное и в которую обратно погружается всё обособленное. Двойственность человека как «живого» и как «мёртвого» становится знаком фундаментальной двойной области, на которую имеет свой взгляд относящееся к миру существо. Так как мы в аспекте смерти открываемся удвоению, то разбор проблемы смерти мы поставили на первое место. Ибо и в прочих основных феноменах бытия заключена определённая актуализация человеческой открытости миру. Если мы теперь временно оставим проблему смерти, то это произойдёт не потому, что мы считаем, будто «справились» с ней, – мы едва лишь наметили самые общие направления проблемы. Смерть имплицирована, везде поразному, в других бытийных феноменах, мы то и дело будем наталкиваться на её неоднозначность <…>. 129 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 3 В. И. Тюпа (Москва) Лиминальная интрига чтения романа «Доктор Живаго» С. П. Лавлинский (Москва) Взгляд небытия: рецептивно-визуальные аспекты смерти в рассказе Сигизмунда Кржижановского «Чётки» Мифопоэтические и архетипические аспекты «сербской смерти» в прозе Э. Лимонова В. В. Мароши (Новосибирск) Л. Ю. Фуксон (Кемерово) М. М. Сычёва (Кемерово) 11 21 К вопросу о сатирической интерпретации смерти 39 Ю. В. Подковырин Художественная инкарнация смысла в рассказе А. П. Чехова «Актёрская гибель» (Кемерово) А. М. Павлов (Кемерово) 4 47 Живое и мёртвое в фильме О. Тепцова «Господин оформитель»: к вопросу о специфике ужасного в фильме 56 Художественная концепция смерти в пьесе Генри Лайона Олди «Вторые руки» 63 Из классического философского наследия Е. Финк Основные феномены человеческого бытия. Смертность человека 130 69 Научное издание ФЕНОМЕН СМЕРТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ Редактор З. А. Кунашева Подписано к печати 15.11. 2012 г. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная №1. Усл. печ. л. 8,19. Тираж 300 экз. Заказ № Кемеровский государственный университет. 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6. Отпечатано в типографии ООО "ИНТ", 650003, г. Кемерово, пр. Химиков, 43а, тел.8(3842) 738797. 131