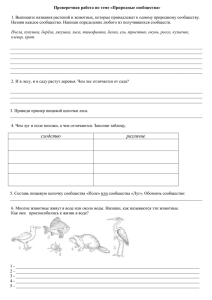РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт
advertisement

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт «Русская антропологическая школа» Русская антропологическая школа Труды Выпуск 12 Москва 2013 УДК 008.001 ББК 71.4я43 Т78 Председатель редакционного совета Вяч. Вс. Иванов, академик РАН Редакционный совет Г.И. Зверева, С.Ю. Неклюдов, Т.М. Николаева, Е.И. Пивовар, В.А. Подорога, Р.А. Симонов, А.Л. Топорков, Ф.Б. Успенский, Т.В. Цивьян Главный редактор К.В. Бандуровский Редакционная коллегия О.В. Аронсон, А.В. Гараджа, А.А. Олейников, Е.В. Петровская, И.А. Протопопова, Е.В. Пчелов, А.И. Сосланд ISSN 2223-9340 © Коллектив авторов, 2013 © Российский государственный гуманитарный университет, 2013 1. Сообщество: теория и практика А. Олейников Сообщество в теории* Проблематика сообщества объединяет множество современных гуманитарных и социально-научных дисциплин. Существует целый ряд философских, социологических, политических, антропологических теорий сообщества. Но возможна ли сегодня междисциплинарная теория сообщества? В статье делается попытка очертить контуры такой теории посредством анализа двух тем, которые являются сквозными для большинства известных нам исследований, посвящённых проблематике сообщества. Если первая тема («сообщество и общество») предполагает изучение сообщества из внешней ему перспективы общества и рассматривает его в терминах специфического и крайне проблематичного социального явления, то вторая тема («сообщество и индивидуальность») включает в * Работа поддержана НИР РАНХиГС No. 125 «Современные теоретико-методологические основания исследования сообществ: развитие коммунитарной исследовательской программы». 5 А. Олейников себя те исследования, в которых участие в жизни сообщества выступает обязательным условием самореализации личности. Ключевые слова: сообщество, общество, коммунитас, индивидуация, коммунитаризм, практика, sensus communis, способность суждения. Введение Слово «сообщество» за последние годы превратилось в один из ключевых терминов гуманитарных и социологических исследований. Чтобы объяснить его популярность и востребованность1 , пришлось бы написать отдельную большую научную работу, на которую мы пока не можем претендовать. Очевидно одно — комплекс явлений и проблем, описываемых с помощью этого термина, настолько обширен и разносторонен, что невольно приходится задумываться об очередном повороте, который охватывает всё большое число дисциплин социально-гуманитарного цикла. Но можно ли утверждать, что те явления политической, культурной и социальной жизни, которые схватываются сегодня в терминах сообщества, — говорим ли мы здесь о совместных художественных или (нео)религиозных практиках, политическом активизме или формах виртуальной коммуникации, о более или менее организованных или чисто «аффективных» способах взаимосвязи и взаимодействия — предполагают общий тематический горизонт, позволяющий разглядеть контуры некоей теоретической парадигмы, стоящей за употреблением этого понятия в различных дисциплинарных контекстах? Иначе говоря, возможна ли 1 Конференция УНИ РАШ РГГУ «Опыты сообщества», статьи участников которой вошли в настоящий сборник «Трудов РАШ», проходила в 2011 г. одновременно с проводившейся в МГУ XIV-й Фулбрайтовской международной гуманитарной летней школой «Создание сообществ посредством слова и образа» (См.: URL: http://magazines. russ.ru/nlo/2012/113/z54.html). В том же году Самарский университет выпустил сборник статей «Герменевтика сообщества» по материалам одноимённой конференции, проведённой годом ранее (См.: Герменевтика сообщества. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2011). Совпадение по времени только этих научных мероприятий является достаточным аргументом в пользу востребованности проблематики сообщества в современном российском интеллектуальном контексте. Что касается общемирового контекста, то неплохое представление об актуальности и междисциплинарном характере данной проблематики может дать четырёхтомная «Энциклопедия сообщества», выпущенная в 2003 г. издательством Sage Publications: Karen Christensen and David Levinson (eds.) The encyclopedia of community: From the village to the virtual world. Vol. 1–4. Thousand Oaks, CА: Sage Publications, 2003. 6 Сообщество в теории сегодня такая междисциплинарная теория сообщества, которая, не редуцируя различий этих контекстов, была бы в состоянии обнаружить их избирательное сродство, — вот один из главных вопросов, который волновал организаторов конференции «Опыты сообщества», проведённой институтом «Русская антропологическая школа» в 2011 г. Замысел предлагаемой статьи состоял в том, чтобы уточнить контуры этой возможной теории в направлении двух тем, которые являются сквозными для большинства известных нам исследований, посвящённых проблематике сообщества. Первая тема — «сообщество и общество» — первоначально сформировалась внутри классической социологической теории на рубеже XIX–XX века. Свой вклад в развитие этой темы внесли также исследования по культурной (символической) антропологии второй половины XX века. Некоторые философские теории, разработанные ближе к концу прошлого века, помогают уточнить смысловые границы, в которых происходило развитие этой темы. Вторая тема — «сообщество и индивидуальность» — не имеет столь богатой истории, как предыдущая. Она начала формироваться только cо второй половины XX века в контексте, главным образом, коммунитаристской политической теории. Тем не менее, на сегодняшний день коммунитаристский подход определяет лицо очень многих исследований сообщества. Анализ различных исследовательских подходов в пределах каждой из этих тем, должен, по нашему замыслу, продемонстрировать две разнонаправленные, но, при этом, дополняющие друг друга логики концептуализации сообщества. Но прежде чем перейти к их рассмотрению, стоит остановиться на высказываниях, принадлежащих двум влиятельным теоретикам современности. Автором первого из них является Реймонд Уильямс. В своей известной книге «Ключевые слова», завершая раздел, посвящённый истории употребления и современным значениям слова community, он пишет: “Сообщество” может быть вполне подходящим словом, чтобы описывать с его помощью существующие виды отношений, а также вполне подходящим словом, чтобы описывать альтернативные виды отношений. Но, возможно, важнее всего то, что в отличии от других социальных терминов (“государство”, “нация”, “общество”и т.д.), его, по-видимому, никогда не употребляют без одобрения (it seems never to be used unfavourably), и ему никогда не противопоставляют никакой другой позитивный или различающий термин2 . 2 Raymond Williams. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Revised Edition. New 7 А. Олейников Другое высказывание — из книги Зигмунда Баумана «Сообщество: в поисках безопасности в небезопасном мире». Отмечая возросшую на рубеже XX–XXI веков потребность в сообществе, Бауман объясняет её стремлением найти убежище от неопределённости и опасностей современного мира — того мира, который освободил людей от прежних сословных, конфессиональных и прочих традиционных ориентиров (равно как и накладываемых ими ограничений) и предоставил им возможность самим, на свой страх и риск, выбирать приемлемый образ жизни. В такой ситуации Бауман предостерегает против попыток принимать желаемое за действительное. Поиски «своего» сообщества, реального или сфабрикованного, грозят проявлением самых худших черт социальной исключительности, они чреваты расизмом и фашизмом: За привилегию быть в сообществе, — пишет он, — приходится платить. И эта цена безобидна и даже незаметна, пока сообщество остается мечтой. Но за неё приходится платить свободой, которая может называться по-разному: «автономия», «право на самоутверждение» или «право на то, чтобы быть собой»3 . На наш взгляд, эти высказывания, удачно дополняя друг друга, выражают главный парадокс, неустранимо присутствующий в современной мысли о сообществе. Возможно, в словаре гуманитарных и социальных наук нет более позитивно окрашенного термина4 . Однако его использование при описании конкретного социального порядка, которому, тем самым, придаётся позитивное значение, может вызывать недоумение или даже скандал. Иначе говоря, «сообщество» — понятие кризисное, понятие, которое может сеять раздор. Его употребление неразрывно связано с критикой модерной культуры и цивилизации. Но безотносительно York: Oxford University Press, 1983. P. 76. Уильямс здесь невольно вторит Фердинанду Тённису, писавшему, что «выражение “плохое сообщество” (schlechte Gemeinschaft) противоречит значению слова [“сообщество”]». См.: Ferdinand Tönnies. Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig: Fues’s Verlag (R. Reisland), 1887. S. 4. 3 Zygmunt Bauman. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity Press, 2001. P. 4. 4 По словам одного современного исследователя, «благодаря идеям постструктурализма предмет сообщества стал “раздробленным, расколотым и рыхлым”, но сам идеал сообщества при этом несильно пострадал». См.: Jackie McMillan. ‘Putting the Cult Back into Community’ // S. Herbrechter, M. Higgins (eds.). Returning (To) Communities: Theory, Culture and Political Practice of the Communal. New York and Amsterdam: Rodopi, 2006. P. 241–254, at P. 243. 8 Сообщество в теории к вопросу, насколько справедлива или состоятельна может быть такая критика, нам важно отметить следующее. То, что обозначается сегодня термином «сообщество» в интересующих нас гуманитарных и социологических контекстах, как правило, не укоренено в эмпирической действительности наших дней. По отношению к актуальному настоящему сообщество часто мыслится под знаком утраты или нехватки. Его либо «уже (почти) нет», либо время его «ещё не пришло». Мысль о нём нередко окрашена в цвета ностальгии или утопии5 . И такое положение дел, разумеется, затрудняет квалификацию признаков сообщества в качестве объективного социального явления. На «пустоту» или неопределённость значения этого понятия сетуют уже давно6 . Тем не менее, оно отнюдь не выходит из употребления. Более того, в последнее время нередко приходится слышать о «возвращении сообщества»7 . В этих условиях попытка проанализировать тематический горизонт, в пределах которого располагается сегодня мысль о сообществе, представляется нам весьма уместной. Сообщество и общество Эти понятия часто мыслятся как противоположные, обозначающие полярные типы социальной связи: непосредственную, эмоциональную, морально фундированную связь — в случае сообщества (community, Gemeinschaft), и опосредованную государственными институтами, рациональную, прагматическую связь — в случае общества (society, Gesellschaft). Заостряя эту противоположность и иронизируя над бесконечно привлекательным образом сообщества, который получается при таком сопоставлении, Беннетт Бергер пишет: Сообщество — это традиция; общество — изменение. Сообщество — чувство; общество — рациональность. Сообщество — женщина; общество — мужчина. Сообщество — тёплое, влажное и сокровенное; 5 «Сегодня “сообщество” — это ещё одно имя для потерянного рая, в который мы так хотим вернуться. Поэтому мы лихорадочно ищем пути, которые могут привести нас туда». См.: Zygmunt Bauman. Op. cit., P. 3. 6 Как писал Эрик Хобсбаум, «этот термин никогда не использовался столь неразборчиво и бессодержательно, как в те десятилетия, когда сообщества, в социологическом смысле слова, стало трудно отыскать в реальности». См.: Eric Hobsbawm Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991. London: Michael Joseph, 1994. P. 428. 7 См.: S. Herbrechter, M. Higgins (eds.). Returning (To) Communities: Theory, Culture and Political Practice of the Communal. New York and Amsterdam: Rodopi, 2006. 9 А. Олейников общество — холодное, сухое и формальное. Сообщество — это любовь; общество — это бизнес8 . Однако при внимательном рассмотрении истории существования этой противоположности нетрудно убедиться в том, что она никогда не выдерживалась с той остротой, которую ей приписывает Бергер. Более того, гораздо справедливее говорить о том, что сообщество скорее соответствует самой идее общества, чем представляет его антитезу. Как известно, оппозиция Gemeinschaft и Gesellschaft впервые была сформулирована Фердинандом Тённисом в одноимённой работе в 1887 г9 . Словом Gemeinschaft Тённис обозначал устойчивые и долговременные формы коллективной жизни, которые не учреждаются намеренно, а формируются исторически и ориентированы на достижение общих целей, общее благо всех, кто участвует в этой жизни. Частные интересы здесь подчинены общим интересам. Речь шла о традиционных формах коллективной жизни, и, в первую очередь, о сельской общине. Базовой моделью Gemeinschaft выступает семья. Сельская община — это своего рода большая семья, где все друг другу родственники, разделяют общие ценности, исповедуют одинаковую мораль и т.п. Жизнь внутри такой общины настолько упорядочена, что не требует никакого внешнего контроля со стороны государства. Gesellschaft — это прямо противоположная социальная структура. Это не квазиестественное, а целиком искусственное образование. Его предназначение не в том, чтобы преследовать общие интересы, но гармонизировать частные или эгоистические интересы тех, кто вступает в такового рода «ассоциации». Gesellschaft отсылает уже не к традиционному общинному укладу, но относится преимущественно к городской жизни эпохи модерна, когда развиваются капиталистические отношения, происходит разделение труда, идут процессы индустриализации, возникает бюрократический государственный аппарат и т.д. Свои исследования Тённис называл «чистой социологией». Модели Gemeinschaft и Gesellschaft являются здесь скорее идеальными типами, которым нельзя в современной жизни найти прямого аналога. В действительной жизни мы имеем дело со смешанными формами совместного бытия, имеющими одновременно признаки Gemeinschaft и Gesellschaft. 8 Bennet M. Berger. ‘Disenchanting the Concept of Community’ // Society 25 (1988): 324– 327, at P. 324. 9 См. Ferdinand Tönnies. Op. cit. Рус. пер.: Фердинанд Тённис. Общность и общество: основные понятия чистой социологии. / Пер. с нем. Д.В. Скляднева. СПб: «Владимир Даль», 2002. 10 Сообщество в теории Тем не менее, как бы не подчёркивал Тённис нормативный или формальный характер этой оппозиции, он сам давал повод воспринимать Gemeinschaft и Gesellschaft не только как идеальные типы, но как сменяющие друг друга формы исторической жизни. И более того, эта оппозиция оказалась этически и ценностно окрашенной, поскольку симпатии Тённиса лежали, безусловно, на стороне Gemeinschaft, т.е. на стороне той формы совместного бытия, которая постепенно уходила в прошлое. Тённисовская оппозиция Gemeinschaft и Gesellschaft была переосмыслена Эмилем Дюркгеймом в работе «О разделении общественного труда» (1893)10 , где она трансформируется в отношение двух типов социальной солидарности — «механической» (архаичной), сохраняющейся в условиях Gemeinschaft, и «органической» (т.е. эволюционно более сложной), характеризующей жизнь в городских агломерациях по типу Gesellschaft. И хотя Дюркгейм отнюдь не считал, что эти два типа солидарности совершенно исключают друг друга, его так же, как и Тённиса, беспокоили крайности современного индивидуализма, грозящие «аномией» — социальным беспорядком, вызванным полной утратой способности к сотрудничеству ради общего блага. Как справедливо отмечает Роберт Нисбет, в работах классиков ранней социологической мысли области социального и коммунального оказываются едва ли не тождественными: Социология больше, чем какая-либо другая научная дисциплина в [двадцатом] веке, оказывала предпочтение понятию социального. Однако здесь важно подчеркнуть, что почти всегда референтом социального было коммунальное. Communitas, а не societas с его безличными коннотациями, является этимологическим источником употребления слова «социальный» в социологических исследованиях личностных свойств (personality), родства, экономии и общественного устройства (polity)11 . Насколько оправданным в таком случае выглядит само противопоставление общества и сообщества? На наш взгляд, в социологическом контексте понятие «сообщество» выражает идею сверхпрагматичности (или сверхинструментальности) тех мотивов, которые стоят за конкретными видами взаимодействия в 10 Эмиль Дюркгейм. О разделении общественного труда / Пер. с франц. А. Гофмана. М.: «Канон+», 1996. 11 Robert Nisbet. The Sociological Tradition. London: Heinemann, 1967. P. 56. 11 А. Олейников конкретных коллективах. Мыслить сообщество (отличая его от общества) необходимо в той мере, в какой мы соглашаемся допустить, что в этих взаимодействиях присутствует что-то ещё, помимо стяжания всегда понятной личной выгоды. Пользуясь языком Канта, сообщество можно было бы считать трансцендентальным условием представлений об обществе как о целом. Однако сложность состоит в том, что в социальных теориях условие таких представлений часто неотделимо от их содержания. Очень долгое время не было вообще никакой необходимости различать сообщество и общество. Вплоть до рубежа XIX–XX веков эти понятия вполне могли использоваться как синонимы12 . Возможность для их различения появляется только тогда, когда становится очевидным кризис современного общества. Согласно Чарльзу Райту Миллсу, переживание дисфункции социума является одной из принципиальных черт «социологического воображения»13 . Условием мыслимости сообщества как человеческой солидарности par excellence оказывается, таким образом, событие определённого исторического кризиса14 . Идея сообщества является ответом на него. Репертуар уже выработанных концепций сообщества настолько обширен и разнообразен, что их чрезвычайно труд12 См. в этой связи замечательную работу Джерарда Деланти (Gerard Delanty. Community: 2nd edition (Key Ideas). London: Routledge, 2010), где в частности он пишет: «Для мысли раннего модерна понятия “сообщество”и “общество” были фактически взаимозаменяемыми: сообщество обозначало социальную область “жизненного мира”, мир повседневной жизни <. . . > Эта взаимозаменяемость сообщества и общества может быть видна в идее гражданского общества. До конца XIX века, по утверждению Дюркгейма, не было ясного определения социального как реальности sui generis. Под обществом понимались гражданские узы, которые могли отсылать к экономическим отношениям в противоположность политическим. Гражданское общество могло быть также выражено в терминах общности (common bond), или сообщества (community). Сообщество, таким образом, не обозначало просто традицию, но социальные связи, подобные тем, что образуются внутри общества с рыночными отношениями или благодаря буржуазной культуре» (P. 2). Эта книга более, чем какая-либо другая работа по проблематике сообщества, близка замыслу настоящей статьи. К сожалению, её автор узнал о существовании работы Деланти уже в процессе работы над этим текстом. 13 Charles Wright Mills. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press, 1959. P. 7–12. 14 Речь, конечно, идёт не об отдельном кризисе, случившемся в историческое время, но о таком, который вызывает к жизни историческое сознание модерна как таковое. На наш взгляд, наилучшим образом эта тема раскрыта у Франка Анкерсмита. См.: Франклин Рудольф Анкерсмит. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. И.В. Борисовой, Е.Э. Ляминой, М.С. Неклюдовой, А.А. Олейникова, Н.Н. Сосны под науч. ред. А.А. Олейникова. М.: «Европа», 2007. 12 Сообщество в теории но привести к какому-то общему знаменателю. Но если придерживаться идеи кризиса как непременного условия мысли о сообществе, то динамику этой мысли можно представить в виде движения от социологических («социетальных», структурно-функциональных) к культурноантропологическим (интерпретативным) моделям сообщества. Преимущество антропологической перспективы объясняется тем, что она лучше соответствует потенциальной природе кризиса (поскольку кризис — это явление, определяемое не столько актуальными, сколько своими потенциальными сторонами15 ): т.е. позволяет относиться к нему не как ко временной дисфункции, а как к постоянному фактору человеческой жизни. Приведём некоторые примеры в подтверждение этой интуиции. Традиция исследований небольших сельских посёлков и городских сообществ, положенная Чикагской школой социологии, была во многом инспирирована дюркгеймовской концепцией «органической» солидарности, которая если не снимала, то, по меньшей мере, «приглушала» оппозицию Gemeinschaft и Gesellschaft, сформулированную Тённисом. Однако эта концепция была воспринята с сильным смещением исследовательского внимания к доиндустриальным типам социального взаимодействия. В работах американских социологов «сообщество» выступало синонимом устойчивых форм совместного бытия, которые могли ещё както сопротивляться разрушительным силам рыночной экономики. Традиция таких community studies продолжалась более или менее благополучно вплоть до 1970-х гг. С этого времени она начала подвергаться жёсткой критике, которая сама превратилась в академический мейнстрим16 . За что они критиковались? В основном, за две вещи. Во-первых, за то что они не давали никаких ясных научных результатов. Они не описывали динамику социальных изменений, которые происходили во всё более конфликтогенном модернизирующемся обществе. И, во-вторых, они подменяли реальный объект своего описания тем, каким он должен быть. Иначе говоря, в те сообщества, которые становились предметом исследования, сами исследователи инвестировали свою веру, социальные идеалы, этические убеждения и т.д. Они описывали их как целостные орга15 Кризис потенциален, потому что его масштабы, в конечном счёте, определяются нашей способностью судить о нём. Собственно «кризис» первоначально и есть этот акт суждения. См. на эту тему нашу статью Андрей Олейников. Капризы суждения // Новое литературное обозрение. 2012. № 113. С. 319–324. Об истории понятия «кризис» см. также классическую статью Райнхарта Козеллека: Reinhart Koselleck. ‘Crisis’ // Journal of the History of Ideas 67 (2006). P. 357–400. 16 См.: Graham Day. Community and Everyday Life. London: Routledge, 2006. P. 26–56. 13 А. Олейников низмы, которые упорно продолжают сохраняться, несмотря на очевидно враждебные им внешние социальные процессы. Результатом этой критики стало всё более усиливающееся сомнение в том, что сообщества вообще ещё существуют в современной жизни, что они доступны средствам объективного научного описания. Поэтому зазвучали предложения вообще отказаться от употребления понятия сообщества в социальных науках17 . Гораздо более успешной и эффективной выглядит история использования этого понятия в культурной антропологии. Прорывной в этой области стала вышедшая в 1969 г. работа Виктора Тёрнера «Ритуальный процесс: структура и антиструктура»18 . Проблема описания социальных кризисов и трансформаций некогда устойчивых форм взаимоотношений, поставившая под сомнение методологию community studies, оказалась вполне разрешимой для исследователя ритуалов перехода, поскольку само их назначение виделось ему в том, чтобы справляться с периодически возникающей конфликтной ситуацией внутри социума. Под «сообществом» Тёрнер понимает нечто совершенно иное, нежели до сих пор видели в нём социологи, — не устойчивое и упорядоченное общежитие, а лиминальное состояние исключения из «нормального» порядка жизни. С целью подчеркнуть это различие он вводит специальный термин — коммунитас, давая понять, что речь теперь идёт не о «дюркгеймовской “солидарности”, сила которой зависит от противопоставленности внутригруппового внегрупповому»: По существу, коммунитас — это отношения между конкретными, историческими, идиосинкразическими личностями. Эти личности не разделяются по ролям и статусам, а взаимодействуют друг с другом скорее на манер буберовских “Я и Ты”. Вместе с этим прямым, непосредственным и всеобщим взаимодействием человеческих личностей складывается модель общества как гомогенной, неструктурной коммунитас, границы которой в идеале совпадают с границами рода человеческого19 . Важно также отметить, что в отличие от «структуры» (упорядочен17 См.: Margaret Stacey. ‘The Myth of Community Studies’ // C. Bell and H. Newby (eds.). The sociology of community: A selection of readings. London: Frank Cass, 1974. P. 13–26. 18 В существующем русском переводе его фамилия транскрибируется как «Тэрнер». См.: Виктор Тэрнер. Ритуальный процесс: структура и антиструктура // Виктор Тэрнер. Символ и ритуал / Сост. В.А. Бейлис. М.: «Наука», 1983. С. 104–264. 19 Виктор Тэрнер. Цит. соч. С. 201–202. 14 Сообщество в теории ного, иерархизированного общества) коммунитас представляет собой не столько реальное, сколько потенциальное единство, которое «распространяется до пределов всего человечества»20 : Дело в том, что коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с целостностями других людей. Структура, напротив, обладает познавательными качествами; как показал Леви-Стросс, это, по сути, ряд классификаций, модель для размышлений о культуре и природе и для упорядочивания общественной жизни человека. У коммунитас есть также аспект потенциальности; она часто находится в сослагательном наклонении (курсив мой — А.О.). Отношения между целостными существами порождают символы, метафоры и сравнения; продуктами таких отношений скорее являются искусство и религия, чем правовые и политические структуры21 . Работа Тёрнера сыграла ключевую роль в переориентации научного интереса от изучения сообществ в качестве устойчивых социальных образований к исследованию индивидуального опыта переживания общности. Сообщество всё больше мыслится существующим в особого рода воображаемой или символической реальности. Такие известные работы, как «Воображаемые сообщества» (1983) Бенедикта Андерсона22 и «Символическое конструирование сообщества» (1985) Энтони Коэна23 могут послужить наиболее яркими примерами этой тенденции. Сегодня можно говорить о прогрессирующей виртуализации явлений сообщества. Этим термином всё чаще маркируются спонтанные, недолговечные, но при этом эмоционально насыщенные виды отношений и взаимодействий. Они могут возникать в разных областях, начиная от протестного политического и художественного активизма, (нео)религиозных поисков в духе Нью Эйдж и заканчивая фанатскими объединениями потребителей масскульта. Идеальной средой их существования является интернет. Однако как не велико значение современных коммуникационных технологий, наиболее показательный пример такого рода взаимосвязи представляют банальные «отношения» между случайными попутчиками в общественном транспорте: 20 Там же. С. 184. же. С. 198. 22 Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 23 Anthony Cohen. The Symbolic Construction of Community. London: Tavistock, 1985. 21 Там 15 А. Олейников Люди, совершающие путешествие в одном купе, просто оказываются случайным, произвольным образом одни рядом с другими. Между ними нет никаких отношений. Но они равным образом составляют совокупность в качестве пассажиров данного поезда, пребывающих в одном пространстве и в одно время. Они находятся в промежутке между отъединённостыо «толпы» и связностью «группы», будучи ежесекундно близки к превращению в одну или в другую. Подобная приостановленность и составляет «со-бытие» в качестве отношения без отношения, т.е. одновременной открытости как отношению, так и отсутствию такового. Эта открытость строится на одновременной неотвратимости отмены отношения и вступления его в силу, зависящей от малейшего случая <. . . >24 . Философия Жан-Люка Нанси, которому принадлежит этот пример, представляет собой наиболее последовательную и бескомпромиссную попытку десубстанциализации сообщества: оно не только лишено здесь всякого подобия Gemeinschaft, оно также утрачивает смысл исключительной, творческой, ритуально-лиминальной ситуации, который придавал ему Тёрнер. Сообщество, согласно Нанси, — это опыт конечности, который раскрывается как опыт смерти другого (или скорее многих других, поскольку сообщество всегда множественно). В основе такого подхода лежит оригинальное истолкование хайдеггеровского «Бытия и времени»: через совмещение двух модусов экзистенции, собственного модуса «бытия к смерти» (Sein zum Tode) и несобственного — «бытия-с» (Mitsein), смерть перестаёт быть только моей личной возможностью и превращается в то, что я могу разделять с другими людьми. Причем «разделять» парадоксальным образом: не имея с ними ничего общего и не образуя при этом никакой общности. Наша разделённость смертью остаётся тем единственным, что нас по-настоящему связывает. Здесь мы не ставим перед собой задачу сколько-нибудь подробно проанализировать специфику того взгляда на сообщество, который предлагается в работах Нанси. Этот взгляд сформировался в особом французсконемецком интеллектуальном контексте XX века, который мы вынуждены 24 Жан-Люк Нанси. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: «Наука», 1991. С. 91–102. См. также его главную работу: Jean-Luc Nancy. La Communauté désœuvrée. Paris: Christian Bourgois, 1986. Рус. пер.: Жан-Люк Нанси. Непроизводимое сообщество: Новое издание, пересмотренное и дополненное / Пер. с франц. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: «Водолей», 2009. 16 Сообщество в теории оставить здесь без рассмотрения25 . Достаточно будет сказать, что теория «непроизводящего сообщества» создавалась в перспективе критики метафизики субъекта: те, кого объединяет опыт смерти, предстают уже не в качестве индивидов со своим собственным «я», а в качестве коммуницирующих между собой и никогда не тождественных себе самим сингулярностей. Вместе с тем, такой взгляд на совместное бытие должен избавлять от соблазна отождествления его с какими-либо коллективистскими проектами, поскольку XX век засвидетельствовал их неизбежное тоталитарное перерождение. И в этом смысле предостережения Нанси оказываются вполне сродни тревожным размышлениям Баумана, о которых было сказано в экспозиции этой статьи. Но важнее другое. В выстраиваемой Нанси «онтологии совместности» отношения сообщества и общества достигают пределов своей возможной тематизации. Сообщество развоплощается настолько, что перестаёт быть сущим и иллюстрируется скорее негативными примерами разобщённости, нежели тесной сплочённости. С точки зрения истории описываемой здесь тематики, это означает, что поиск начал сверхпрагматической социальной солидарности не принёс результата. Различие между сообществом и обществом не выдерживает эмпирической проверки в условиях постсовременности. Это не запрещает нам именовать любые явления социальной жизни (любые союзы, группы, объедения и т.п.) «сообществами», или «коммунами», подчеркивая тем самым их антисистемный, спонтанный или автономный характер. Но это обстоятельство не наделяет их преимуществами в сравнении с другими социальными явлениями, в которых более заметными оказываются признаки организации, инерции или гетерономии. Этот вывод вряд ли понравится тем исследователям, которые занимаются сегодня изучением т.н. «альтернативных», «идейных» (intentional) или «устойчивых» (sustainable) сообществ, потому что в своей работе все они, так или иначе, исходят из тематической оппозиции, заданной в своё время Тённисом. Однако наша задача состояла в том, чтобы указать на логические границы, в которых эта оппозиция сохраняет свою смысловую продуктивность. Кроме того, вполне может оказаться, что специфика этих сообществ найдет лучшее объяснение в рамках другой темы, в частности, той, к рассмотрению которой мы теперь переходим. Коммунитаристские политические теории разворачиваются вне пределов тённисовской оппозиции. Они не предусматривают взгляд на со25 См. в этой связи: Елена Петровская. Сообщество: идея без истории // Елена Петровская. Безымянные сообщества. М.: ООО «Фланстер», 2012. С. 13–30. 17 А. Олейников общество как на кризисное явление, но рассматривают его в качестве condition humaine — необходимого условия для проявления человеком своих лучших индивидуальных качеств. Сообщество и индвидуальность Говоря о коммунитаристских теориях, мы имеем в виду не только работы североамериканских авторов, появившиеся в ходе известного спора коммунитаристов и либералов в 1980–1990-е годы26 . Начало коммунитаристского подхода к теме сообщества по сути было положено Ханной Арендт в работе The Human Condition / Vita activa (1958/1960)27 . Замысел её состоял в том, чтобы в ряду различных видов человеческой деятельности выделить тот, который не сводился бы ни к производству продуктов, необходимых для поддержания биологического существования («труд»/labour), ни к изготовлению вещей, помогающих человеку преодолеть зависимость от природы и делающих его жизнь более комфортной («создание»/work), но разворачивался бы прямо среди людей без посредничества материалов и вещей, а также имел бы в качестве необходимого своего условия факт их множественности. Такую деятельность Арендт называет «действием»/action: Все виды человеческой деятельности обусловлены тем обстоятельством, что люди живут совместно, однако лишь действие непредставимо вне человеческого общества <. . . > Только действие, поступок — исключительная привилегия человека <. . . > И лишь действие не может в качестве деятельности вообще двинуться с места без постоянного присутствия мира современников28 . Под действием Арендт понимает свободное политическое высказывание, которое произносится в публичном пространстве, состоящем из 26 Литература по этой теме огромна. Классической обзорной работой считается книга: Stephen Mulhall and Adam Swift. Liberals and Communitarians. Oxford: Blackwell, 1992. См. также Тимофей Дмитриев. Коммунитаризм // Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова при участии Т.А. Дмитриева. Институт философии. М.: «Культурная ревоолюция», 2009. С. 17–20. 27 Hannah Arendt. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. Рус. пер. В.В. Бибихина сделан с учётом немецкого издания: Hannah Arendt. Vita activa oder von tätigen Leben. Stuttgart: Kohlhammer, 1960. Далее везде цитаты по изд.: Ханна Арендт. Vita activa, или о деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина. СПб: «Алетейя», 2000. 28 Ханна Арендт. Цит. соч. С. 32–33. 18 Сообщество в теории множества равноправных граждан. Античный полис, по мысли Арендт, являлся идеальной моделью такого пространства: Полис, а стало быть само публичное пространство, было местом сильнейшего и ожесточённейшего спора, в котором каждый должен был убедительно отличить себя от всех других, выдающимся деянием, словом и достижением доказав, что он именно живёт как один из «лучших». Другими словами, открытое, публичное пространство было отведено именно для непосредственного, для индивидуальности; это было единственное место, где каждый должен был уметь показать, чем он выбивается из посредственности, чем он на деле в своей незаменимости является. Ради этого шанса достичь необычайного и видеть подобные достижения, из любви к политическому самостоянию граждане полиса более или менее с охотой брали на себя свою часть судопроизводства, защиты, управления государством — груз и тяготу не социальной рутины, а государственных дел29 . Публичная политическая жизнь, таким образом, представляла собой состязание в гражданской доблести (ἀρετή, virtus). Быть лучшим среди равных — вот к чему, в первую очередь, стремился член древней гражданской общины. По мнению Арендт, политическая жизнь в античности выгодно отличалась от всех позднейших форм политической жизни тем, что была свободна от решения социальных проблем. Граждане полиса могли упражняться в «действии» именно потому, что были свободны от необходимости заниматься «трудом» и «созиданием». Со временем, когда люди, занятые в этих сферах, начинают добиваться равных политических прав, политика, в её арендтовском понимании, приходит к концу. Победа низших социальных слоев означает коллапс публичной сферы и экспансию противоположной ей области частных, приватных интересов, борьба которых составляет отныне единственное содержание уже не столько политической, сколько собственно социальной жизни. Оставляя в стороне упрёки в чрезмерно упрощённом и исторически некорректном взгляде на устройство античного полиса, которые не перестают, пусть даже и справедливо, звучать в адрес Арендт, остановимся здесь только на том в её теории, что характеризует интересующий нас коммунитаристский подход. Сообщество берётся здесь не как сплочённый коллектив единомышленников, но как публичное пространство, где 29 Там же. С. 55. 19 А. Олейников поощряется разномыслие. Это, конечно, не означает, что любое экстравагантное мнение встречается здесь с неизбежным одобрением. Чтобы добиться признания в кругу равных по своему статусу, но не одинаково мыслящих людей, нужно проявить выдающиеся способности, называемые «доблестями», или «добродетелями». И уже одна возможность распознания их в качестве таковых говорит о том, что честолюбец в поисках признания должен отправляться от известных образцов доблести, чтобы их превзойти и, тем самым, приумножить. Жизнь в пространстве сообщества, в этом смысле, может быть уподоблена спортивной командной игре, например, футболу, где от действий каждого отдельного игрока зависит успех всей команды. Аласдер Макинтайр рассуждает в похожем ключе, когда в своей книге «После добродетели» (1981)30 вводит понятие «практика». В отличие от Арендт, он не стремится различать виды человеческой деятельности по степени их большей или меньшей публичности. Практика, в его понимании, является публичной деятельностью, но она может включать в себя и те занятия, которые Арендт относит к областям «труда» и «созидания». Её решающее сходство с «действием» состоит в том, что она представляет «арену для проявления добродетелей»31 . Специфика практики раскрывается через её противопоставление, с одной стороны, голым техническим навыкам, с другой стороны, социальным институтам. Иллюстрируя первую противоположность, Макинтайр пишет: «Крестики-нолики» не являются в этом смысле примером практики, как и пинание мяча, но такой практикой является игра в футбол, а также шахматы. Кладка кирпича — это не практика, а архитектура — это практика. Посадка овощей — это не практика, а фермерство — это практика32 . Отличие же практик от институтов демонстрируется с помощью таких примеров: Шахматы, физика и медицина являются практиками; шахматные клубы, лаборатории, университеты и госпиталя — это институты33 . 30 Alasdair MacIntyre. After Virtue. Notre Dame // University of Notre Dame Press, 1981. Цитаты из этого издания даются с нашими исправлениями по рус. пер.: Аласдер Макинтайр. После добродетели: Исследования теории морали / Пер. с англ. В.В. Целищева. М.: «Академический проект»; Екатеринбург: «Деловая книга», 2000. 31 Аласдер Макинтайр. Цит. соч. С. 255. 32 Там же. С. 255–256 33 Там же. С. 264. 20 Сообщество в теории Главная задача Макинтайра в этой работе состояла в том, чтобы обосновать возможность осмысленного употребления языка морали. Сегодня этот язык представляет набор оценочных суждений, которые выносятся произвольно и содержат апелляцию к совершенно различным по своему происхождению и нередко конфликтующим между собой представлениям о благой и добропорядочной жизни. Они так же необязательны и малоосмысленны, как полинезийская система «табу», упразднённая в 1819 г. королём Камеамеой Вторым. Чтобы моральная аргументация имела силу фактических суждений, её необходимо расположить в контексте практик, поощряющих достижение определённых благ, неразрывно связанных с идеей выдающихся человеческих качеств, которые приобретаются и демонстрируются в ходе занятия этими практиками. В этом собственно и заключается концепция добродетели. Макинтайр предлагает считать добродетелью безупречное исполнение той роли, которую человек принял на себя, будучи вовлечённым в соответствующую практику. Практика — это такая совместная деятельность во имя общего блага, которая предполагает возможность бесконечного совершенствования востребованных ею индивидуальных способностей. Более того, можно говорить о том, что без стремления к совершенствованию этих способностей — необходимых для того, чтобы стать выдающимся футболистом, фермером или врачом (если пользоваться теми же примерами Макинтайра) — занятие практикой теряет свой смысл. Проблема, обращающая на себя внимание при такой спецификации практики, заключается в том, что последняя представляет собой деятельность, смысл которой внятен, главным образом, тем, кто непосредственно в неё вовлечён. Именно потому, что она организована по своим правилам, в соответствии с внутренними стандартами совершенства, практика может быть осмыслена только средствами собственного самоописания. Но насколько преимущества её «внутренних благ» открыты для тех, кто не испытал на себе всю силу их притягательности и ещё не вовлёкся в практику целиком? Отвечая на этот вопрос, Макинтайр прибегает к исторической аргументации. И поскольку эта аргументация составляет важную особенность коммунитаристской мысли в целом, на ней стоит остановиться отдельно. Макинтайр, как и другие коммунитаристы, весьма критичен в отношении современной моральной культуры. Эта культура покровительствует такой индивидуальности, которая избегает идентификации с какой бы то ни было социальной ролью и сторонится участия в том, что Макинтайр называет «практикой», и потому не может иметь твёрдых 21 А. Олейников моральных убеждений. Она процветает в условиях господства бюрократических институтов, которые ориентируют человека на приобретение т.н. «внешних благ» (денег, власти и статуса). От гарантированных практикой «внутренних благ» эти последние отличаются тем, что они являются собственностью индивида и находятся в его обладании. Больше того, обычно они таковы, что чем больше кто-либо ими обладает, тем меньше их достается для других людей <. . . > Внешние блага, следовательно, обычно являются объектами конкурирующего спроса, где должны быть выигравшие и проигравшие. Внутренние блага являются результатом конкуренции за превосходство, но для них характерно то, что их достижение есть благо для всего сообщества, которое участвует в практике34 . Внутренние блага практик и внешние блага институтов находятся в сложном взаимоотношении. С одной стороны, они не исключают друг друга в той мере, в какой институты поддерживают существование практик, ибо «ни одна практика не может выжить в течение длительного времени, если она не поддержана институтами»35 . С другой стороны, практики постоянно испытывают на себе коррумпирующее давление институтов: Поэтому нам следует ожидать, что, если бы в конкретном обществе преследование внешних благ стало доминантным, концепции добродетели был бы нанесён значительный урон с последующим почти полным исчезновением её, хотя при этом и будет в изобилии видимость добродетели36 . Макинтайр, несомненно, говорит здесь о современном обществе. Именно в условиях современного общества происходит своего рода короткое замыкание между институтами и необходимыми для приобретения внешних благ т.н. «техническими навыками», результаты которого оказываются губительными для практик, культивирующих добродетели. Однако можно спросить, почему это случается именно сегодня? Почему именно сегодня идея самосовершенствования в избранной практике теряет свою былую привлекательность? Ответ Макинтайра звучит несколь34 Там же. С. 259. же. С. 264. 36 Там же. С. 266. 35 Там 22 Сообщество в теории ко тавтологично — потому что произошёл разрыв с исторической традицией. Речь идёт о традиции в двояком смысле: во-первых, об интеллектуальной традиции, восходящей к этическим трактатам Аристотеля, — она была окончательно отброшена ещё просветителями в виду её телеологичности; и, во-вторых, о традиции в качестве опыта переживания человеком своей вовлечённости в жизнь одного или сразу нескольких сообществ, перед которыми он чувствовал свою ответственность. Макинтайр не считает себя консерватором и откровенно критикует либеральный консерватизм (особенно в его классической версии у Эдмунда Бёрка), и поэтому разрыв с традицией во втором значении не превращается у него в ностальгию по «старому порядку». Более того, этот разрыв характеризуется им как постоянная черта индивидуального опыта, начиная, по меньшей мере, с классической античности. Трагедии Софокла, по его мнению, являются сценой конфликта конкурирующих или даже порой несовместимых между собой концепций добродетели (добродетели родственного долга и гражданской справедливости, как в случае Антигоны из одноимённой трагедии, или добродетели дружбы и правдивости, как в случае Неоптолема из «Филоктета»), существующих внутри одной и той же гражданской общины. Уже в ту пору человек был достаточно свободен, чтобы поставить под сомнение силу моральных конвенций, которые он принимал, вовлекаясь в ту или иную социальную практику. Однако важнейшее отличие «софокловского» я от современного заключается в том, что переживаемый им трагический конфликт не разрушал объективный моральный порядок, который был задан множеством сосуществующих практик. Этот конфликт был столкновением внутренних благ, как минимум, двух разных практик, в то время как современный человек страдает скорее от разногласий между внутренними благами практик и внешним благами институтов. Степень индивидуальной свободы, которую он получал благодаря разрыву с традицией, несоизмеримо выше той, что располагал человек досовременных обществ. Но эта свобода оборачивается для него моральной пустотой, неспособностью видеть цель и слагать историю своей жизни. В этом состоит, пожалуй, главный упрёк, который Макинтайр предъявляет сторонникам либерального индивидуализма: они не дружат с историей. Отстаиваемый ими принцип неограниченной индивидуальной свободы морально безответственен и исторически бессодержателен. И он может быть оправдан только в той мере, в какой мы согласимся считать, что стремление заслужить признание в избранной практике (в том смысле, в котором придавал этому 23 А. Олейников термину Макинтайр) перестало входить в число мотивов, определяющих жизненную стратегию наших современников. Подчеркнем ещё раз — исторический аргумент играет решающую роль в коммунитаристкой критике либерализма. Он определяет достаточную степень вовлечённости индивида в жизнь сообщества — достаточную для того, чтобы он смог раскрыть свои лучшие качества, или добродетели. Поспешим тут же заметить, что эта вовлечённость не только не исключает, но непосредственно предполагает способность индивида критически воспринимать образ жизни сообщества и самостоятельно выбирать средства, пригодные для достижения общего блага. Вслед за Аристотелем, называвшим эту способность «рассудительностью» (φρόνησις), Макинтайр считает её главнейшей добродетелью, без которой не могут проявиться другие лучшие качества человека. Рассудительность помогает избегать крайностей и принимать взвешенные решения. В широком историческом смысле рассудительность — это именно та способность, которой может быть наделён только человек практики. Ею не обладали люди доисторических обществ, чьё я совершенно совпадало с социальной ролью, унаследованной ими от предков. Ею, тем более, не обладают современные индивидуалисты, о которых было уже достаточно сказано. Важное преимущество Макинтайра в сравнении с другими коммунитаристами (в частности, Чарльзом Тейлором37 и Майклом Сэнделом38 ) состоит в том, что в своей теории сообщества он не опирается на известную оппозицию «позитивной» и «негативной» свободы, которая была сформулирована в своё время Исайей Берлином39 . Спор коммунитаристов и либералов был во многом спором о том, какую из этих свобод следует считать подлинной: позитивную свободу самореализации, требующую участия в коллективной жизни, или негативную свободу отсутствия какого бы то ни было постороннего вмешательства, могущего повлиять на самостоятельный выбор индивидом предпочтительного образа жизни. При этом спорящие стороны сходились в том, что позитивная свобода 37 Charles Taylor. ‘What’s Wrong with Negative Liberty Essays’ // Essays in Honour of Isaiah Berlin / Alan Ryan (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 175–193. 38 Во введении к сборнику «Либерализм и его критики», вышедшему под его редакцией, Майкл Сэндел называет «Два понятия свободы» Исайи Берлина «самой влиятельной из написанных в послевоенное время работой по политической теории». См.: Liberalism and its Critics / Michael J. Sandel (ed.). New York: New York University Press, 1984. P. 7. 39 Isaiah Berlin ‘Two Concepts of Liberty’ // I. Berlin. Four Essays on Liberty. London: Oxford University Press, 1969. 24 Сообщество в теории исторически предшествует формированию представлений о негативной свободе: последние получают своё эксплицитное оформление только к середине XVII века в теории общественного договора Томаса Гоббса, которого нередко считают родоначальником философии либерализма. Однако за последние годы, во многом благодаря изучению республиканской традиции политической мысли, начатому «Кембриджской школой»40 интеллектуальной истории, идея негативной свободы была историзирована и перестала ассоциироваться исключительно с контрактарной теорией государства. В ряде своих работ41 Квентин Скиннер показал, что республиканской мысли (традиция которой, по его мнению, была положена древнеримскими авторами, Саллюстием, Цицероном, Титом Ливием, а затем продолжена Макиавелли и английскими республиканцами в XVII веке) была знакома другая идея негативной свободы: не юридически гарантируемой свободы индивида от чьего-либо вмешательства в приватную сферу (non-interference), но свободы от зависимости со стороны других людей (non-dependence). Эта зависимость сказывается, например, тогда, когда благополучие гражданина, формально гарантированное законом, в действительности зависит от готовности государственных чиновников ему способствовать. Скиннер полагает, что республиканская свобода (он называет её также «неоримской») является более последовательной, нежели позднейшая либеральная, поскольку она предполагает более активное вовлечение индивида в общественную жизнь. Подлинная негативная свобода может быть осуществима только при республиканском политическом строе. Исследования Скиннера важны для нас здесь потому, что они размывают границы между историей и современностью настолько, что доводят спор коммунитаристов и либералов до логиче40 К этой школе относят, главным образом, двух историков — Джона Поукока и Квентина Скиннера. Поукок придерживается коммунитаристских взглядов на существо республиканской свободы. Его концепцию этой свободы часто называют «неоафинской». Главной его работой считается книга «Момент Макиавелли», написанная под влиянием Ханны Арендт. См.: John G.A. Pocock. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975. Концепция республиканской свободы Квентина Скиннера («неоримская») значительно ближе идее либеральной свободы. Некоторые современные либеральные философы называют политическую теорию Скиннера «инструментальным республиканизмом». См. в частности: Alan Patten. ‘The Republican Critique of Liberalism’ // British Journal of Political Science 26 (1996). P. 25–44. 41 Quentin Skinner. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Idem. ‘A Third Concept of Liberty’ // Proceedings of the British Academy 117 (2002). P. 237– 268. 25 А. Олейников ского завершения. Дискуссия о преимуществах позитивной и негативной свободы теряет свою остроту, поскольку в историческом прошлом мы не находим такой концепции общего блага, которая требовала бы от граждан жертвовать своей личной свободой42 . И, наоборот, в условиях современности неприкосновенность частной сферы сохраняется только при сопутствующей общегражданской политической активности. Дискуссия коммунитаристов и либералов показала, что у них гораздо больше общего, чем они были готовы поначалу допустить43 . Понятия сообщества и индивидуальности доказали свою полную взаимообусловленность внутри определённого рода политической и моральной теории. Однако, несмотря на то, что в этой теории активно используется исторический аргумент, в своей основе она остается глубоко нормативистской. Под сообществом здесь, главным образом, имеется в виду свободное объединение граждан, самовыражение которых происходит в границах определенного «чувства общности» (sensus communis). Бесконечные индивидуальные различия в способах этого самовыражения могут только умножать и обогащать содержанием это чувство. В идеале такое сообщество выглядит в высшей степени инклюзивным, толерантным ко всем мыслимым различиям, которые обнаруживают его участники в стремлении к славе и признанию. На деле же оно, скорее всего, будет весьма рестриктивным и закрытым для тех, кто, по тем или иным причинам, оказался не на высоте требуемых стандартов «добродетели» или позволил себе усомниться в их обязательности для себя. Впрочем, как уже было сказано выше, коммунитаристский подход к проблематике сообщества не предполагает его критическую оценку в терминах социальной организации. Недостатки в устройстве конкретных исторических или со42 В дискуссии между адептами позитивной и негативной свободы воспроизводятся аргументы, которые восходят, в конечном счёте, к известной работе Бенжамена Констана «О свободе древних в её сравнении со свободой у современных людей» (1819). Благодаря недавним исследованиям антиковеда Курта Раафлауба правовая культура древних афинян представляется гораздо более развитой, чем она казалась классику европейской либеральной мысли. См.: Kurt Raaflaub. The Discovery of Freedom in Ancient Greece. Chicago: University of Chicago Press, 2004. Kurt A. Raaflaub and Robert W. Wallace. People’s Power and Egalitarian Trends in Archaic Greece // Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober and Robert W. Wallace (eds.). Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 22–48 43 Подчеркивая отсутствие у них непроходимых противоречий с либералами Джерард Деланти называет А. Макинтайра, Ч. Тейлора и М. Сэндела «либеральными коммунитаристами». См.: Gerard Delanty. Op. cit. P. 58. 26 Сообщество в теории временных сообществ не могут дискредитировать идею сообщества в качестве принципа индивидуации44 . Заключение В этой статье была предпринята попытка систематизации различных теоретических подходов к проблематике сообщества согласно двум темам. К первой теме были отнесены исследования, в которых сообщество рассматривается в качестве особого рода социальной организации или социального явления. История развития этого теоретического направления, на наш взгляд, свидетельствует о смещении исследовательского интереса от локальных и долговременных сообществ к опыту переживания общности, имеющей по преимуществу виртуальный характер. Вторую тему составили работы, в которых понятие сообщества выступает синонимом коллективных практик, создающих условия для проявления лучших индивидуальных качеств. Разновекторность этих теоретических направлений, которую мы пытались продемонстрировать в ходе их анализа, объясняется тем, что в рамках первой темы проблематика сообщества с самого начала специфицируется из внешней ему перспективы общества, которое переживает кризис. В то время как вторая тема располагает к обратному ходу: сообщество, кризисное уже потому, что состоит из множества людей, которым вменяется собственная способность суждения45 , должно порождать приемлемую для поддержания его истори44 Здесь мы намеренно использовали понятие, отсылающее к теории индивидуации Жильбера Симондона, которая, по-видимому, становится всё более актуальной в современном контексте. В изложении Паоло Вирно эта теория имеет явные коммунитарные обертоны: «Вопреки принятому мнению, [Симондон] утверждает, что коллектив, коллективный опыт, жизнь группы не являются сферой, в которой растворяются отличительные черты отдельного индивидуума, но, наоборот, становятся почвой для новой, более радикальной индивидуации. Участвуя в коллективной жизни, субъект, далекий от отказа от своих наиболее характерных черт, получает возможность хотя бы частично индивидуализировать доиндивидуальную реальность, которую он всегда несёт в самом себе. Симондон считает, что в коллективе мы пытаемся заострить и расширить собственную единичность, сингулярность. Только в коллективе, а не в изолированном субъекте восприятие, язык, производительные силы могут суммироваться в качестве индивидуализированного опыта». См.: Паоло Вирно. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. С. 94–95. 45 Об этом очень хорошо, ссылаясь на исходное греческое значение слова «кризис», пишет Козеллек: «Κρίσις (кризис) более всего необходим сообществу, он олицетворяет то, что одновременно является справедливым и целительным. Поэтому только тот, кто участвовал [в сообществе] в качестве судьи, мог быть гражданином. Для греков «кризис» был 27 А. Олейников ческой идентичности критическую оценку. Однако, всё вышесказанное не говорит о несовместимости этих двух перспектив в рамках конкретных исследований. Можно назвать целый ряд известных социологических работ, в которых проблематика сообщества рассматривается с коммунитаристских позиций: работы Амитая Этциони46 , Роберта Патнэма47 , Роберта Белла48 , Кристофера Лэша49 и Филипа Селзника50 . Мы подробно не останавливаемся на них, поскольку наша задача состояла в том, чтобы подчеркнуть различие двух логик концептуализации сообщества. Рассмотрение случаев их пересечения или совмещения потребовало от нас большей внимательности к конкретным историко-культурным контекстам соответствующих исследований, чем мы можем здесь это позволить. Предложенная нами тематизация теоретических направлений в изучении проблематики сообщества является далеко не исчерпывающей. Вне рамок нашего рассмотрения осталась тема, которую можно было бы обозначить как «свобода суждения и границы сообщества». Её разработка предполагает обращение к проблематике способности суждения, которая оказалась в центре внимания многих значительных философов современности, среди которых особое место занимают Ханс-Георг Гадамер51 , Ханна Арендт52 и Жан-Франсуа Лиотар53 . Другой важной темой, которой мы не успели коснуться в этой статье, хотя она тесно сопряжена со центральным понятием, включавшим в себя возможность гармонизации справедливости и политического порядка с помощью судебных решений». См.: Reinhart Koselleck. Op. cit. P. 359. 46 Amitai Etzioni. The Spirit of Community. London: Fontana Press, 1995. 47 Robert Putnam. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. Idem. Bowling Alone. New York: Simon & Schuster, 1999. 48 Robert Bellah, Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler and Sreven M. Tipton. Habits of the Heart: Individualism and Commitment // American Life (2nd ed.). Berkeley: University of California Press, 1996. First published 1986. 49 Christopher Lasch. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. New York: Norton, 1995. 50 Philip Selznick. The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community. Berkeley: University of California Press, 1992. 51 Ханс-Георг Гадамер. Истина и метод / Пер. с нем. М.А. Журинской. М.: «Прогресс», 1988. С. 50–85. 52 Ханна Арендт. Лекции о политической философии Канта / Пер. с англ. А. Глухова. СПб.: «Наука», 2012. Ханна Арендт. Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Издательство Института Гайдара, 2013. 53 Jean-François Lyotard. ‘Sensus communis’ // Andrew Benjamin (ed.). Judging Lyotard. London: Routledge, 1992. P. 1–25. 28 Сообщество в теории спонтанным и виртуальным характером многих современных сообществ, могла бы стать тема «сообщество и режимы коммуникации», достаточно широкая, чтобы включить в себя теорию коммуникативного действия, разработанную Юргеном Хабермасом54 , а также работы ведущих теоретиков медиасферы Говарда Рейнгольда55 и Мануэля Кастельса56 . Намеченные способы тематизации проблематики сообщества внушают нам надежду на то, что междисциплинарная теория сообщества, контуры которой мы пытаемся здесь очертить, может стать перспективным направлением в развитии современного гуманитарного и социального знания. Литература Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Герменевтика сообщества. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2011. Анкерсмит, Франклин Рудольф. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. И.В. Борисовой, Е.Э. Ляминой, М.С. Неклюдовой, А.А. Олейникова, Н.Н. Сосны под науч. ред. А.А. Олейникова. М.: «Европа», 2007. Арендт, Ханна. Vita activa, или о деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина. СПб: «Алетейя», 2000. Арендт, Ханна. Лекции о политической философии Канта / Пер. с англ. А. Глухова. СПб.: «Наука», 2012. Арендт, Ханна. Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Издательство Института Гайдара, 2013. Вирно, Паоло. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни / Пер. с ит. А. Петровой под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. 54 Jürgen Habermas. The Theory of Communicative Action. Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. London: Heinemann, 1984. Idem. The Theory of Communicative Action. Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Cambridge: Polity Press, 1987. Idem. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press, 1989. 55 Howard Rheingold. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA: Addison Wesley, 1993. 56 Manuel Castells. The Information Age. Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996. Idem. The Information Age. Vol. 2: The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. Idem. The Information Age. Vol. 3: End of Millennium. Oxford: Blackwell, 1998. Idem. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business,and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001. 29 А. Олейников Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод / Пер. с нем. М.А. Журинской. М.: «Прогресс», 1988. С. 50–85. Дмитриев, Тимофей. Коммунитаризм // Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под ред. О. Хеффе, В.С. Малахова, В.П. Филатова при участии Т.А. Дмитриева. Институт философии. М.: «Культурная ревоолюция», 2009. С. 17–20. Дюркгейм, Эмиль. О разделении общественного труда / Пер. с франц. А. Гофмана. М.: «Канон+», 1996. Макинтайр, Аласдер. После добродетели: Исследования теории морали / Пер. с англ. В.В. Целищева. М.: «Академический проект»; Екатеринбург: «Деловая книга», 2000. Нанси, Жан-Люк. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: «Наука», 1991, С. 91–102. Нанси, Жан-Люк. Непроизводимое сообщество: Новое издание, пересмотренное и дополненное / Пер. с франц. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: «Водолей», 2009. Олейников, Андрей. Капризы суждения // Новое литературное обозрение. 2012. № 113. С. 319–324. Петровская, Елена. Сообщество: идея без истории // Елена Петровская. Безымянные сообщества. М.: ООО «Фланстер», 2012. С. 13–30. Тённис, Фердинанд. Общность и общество: основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Скляднева. СПб: «Владимир Даль», 2002. Тэрнер, Виктор. Ритуальный процесс: структура и антиструктура // Виктор Тэрнер. Символ и ритуал / Сост. В.А. Бейлис. М.: «Наука», 1983. Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. Arendt, Hannah. Vita activa oder von tätigen Leben. Stuttgart: Kohlhammer, 1960. Bauman, Zygmunt. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity Press, 2001. Bellah, Robert; Madsen, Richard; Sullivan, William M.; Swidler, Ann; Tipton, Sreven M.. Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life (2nd ed.). Berkeley: University of California Press, 1996. First published 1986. Berger, Bennet M.. “Disenchanting the Concept of Community” // Society 25 (1988). P. 324–327. Berlin, Isaiah. “Two Concepts of Liberty” // Isaiah Berlin. Four Essays on Liberty. London: Oxford University Press, 1969. Castells, Manuel. The Information Age, Vol. 1: The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996. Castells, Manuel. The Information Age, Vol. 2: The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. 30 Сообщество в теории Castells, Manuel. The Information Age, Vol. 3: End of Millennium. Oxford: Blackwell, 1998. Castells, Manuel. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press, 2001. Christensen, Karen; Levinson, David (eds.) The Encyclopedia of Community: From The Village to The Virtual World, Vol. 1–4. Thousand Oaks, CА: Sage Publications, 2003. Cohen, Anthony. The Symbolic Construction of Community. London: Tavistock, 1985. Day, Graham. Community and Everyday Life. London: Routledge, 2006. Delanty, Gerard. Community: 2nd edition (Key Ideas). London: Routledge, 2010. Etzioni, Amitai. The Spirit of Community. London: Fontana Press, 1995. Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action. Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. London: Heinemann, 1984. Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason. Cambridge: Polity Press, 1987. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press, 1989. Herbrechter S., Higgins M. (eds.) Returning (To) Communities: Theory, Culture and Political Practice of the Communal. New York and Amsterdam: Rodopi, 2006. Hobsbawm, Eric. Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991. London: Michael Joseph, 1994. Koselleck, Reinhart. “Crisis” // Journal of the History of Ideas 67 (2006). P. 357–400. Lasch, Christopher. The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. New York: Norton, 1995. Lyotard, Jean-François, “Sensus communis” // Andrew Benjamin (ed.) Judging Lyotard. London: Routledge, 1992. P. 1–25. Mulhall, Stephen; Swift, Adam. Liberals and Communitarians. Oxford: Blackwell, 1992. McMillan, Jackie. “Putting the Cult Back into Community” // S. Herbrechter, M. Higgins (eds.). Returning (To) Communities: Theory, Culture and Political Practice of the Communal. New York and Amsterdam: Rodopi, 2006, P. 241–254. Mills, Charles Wright. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press, 1959. Nancy, Jean-Luc. La Communauté désœuvrée. Paris: Christian Bourgois, 1986. Nisbet, Robert. The Sociological Tradition. London: Heinemann, 1967. MacIntyre, Alasdair. After Virtue. Notre Dame // University of Notre Dame Press, 1981. Pocock, John G.A.. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975. 31 А. Олейников Patten, Alan. “The Republican Critique of Liberalism” // British Journal of Political Science 26 (1996), P. 25–44. Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. Putnam, Robert. Bowling Alone. New York: Simon & Schuster, 1999. Raaflaub, Kurt. The Discovery of Freedom in Ancient Greece. Chicago: University of Chicago Press, 2004. Raaflaub, Kurt A. and Wallace, Robert W.. People’s Power and Egalitarian Trends in Archaic Greece // Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober and Robert W. Wallace (eds.) Origins of Democracy in Ancient Greece. Berkeley: University of California Press, 2007. P. 22–48. Rheingold, Howard. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, MA: Addison Wesley, 1993. Liberalism and its Critics / Ed. by Michael J. Sandel. New York: New York University Press, 1984. Selznick, Philip. The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community. Berkeley: University of California Press, 1992. Skinner, Quentin. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Skinner, Quentin. “A Third Concept of Liberty” // Proceedings of the British Academy 117 (2002). P. 237–268. Stacey, Margaret. “The Myth of Community Studies” // C. Bell and H. Newby (eds.) The sociology of community: A selection of readings. London: Frank Cass, 1974. P. 13–26. Taylor, Charles. “What’s Wrong with Negative Liberty Essays” // Essays in Honour of Isaiah Berlin / Ed. Alan Ryan. Oxford: Oxford University Press, 1979. P. 175–193. Tönnies, Ferdinand. Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen. Leipzig: Fues’s Verlag (R. Reisland), 1887. Williams, Raymond, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Revised Edition. New York: Oxford University Press, 1983. Т. Вайзер Единое и единичное в исследованиях сообщества* Статья посвящена анализу двух философских традиций понимания сообщества, которые сложились в европейской культуре от античности до поздней современности. Одна описывает сообщество в категориях целостности, единства, общего, тогда как вторая мыслит его через идею соразделённости и сингулярности. Автор прослеживает последовательный переход от одной модели к другой и показывает, как сообщество ХХ в. создаёт условия для конституирования самости, единичности человеческого бытия. Ключевые слова: сообщество, целое, единство, единичность, сингулярность. Проблема сообщества в философии ХХ в. стала точкой преткновения, которая разделила домодерное и современное понимания общностного опыта. С 20-х гг. ХХ века в исследованиях сообщества чётко выделяются две линии — работы, исследующие сообщество через понятие общего, единого, и работы, исследующие сообщество через понятие единичного, сингулярного и значимого различия между ними. В связи с этим я хочу выделить основные особенности первого и второго понимания сообщества (1), показать, в чём их существенное различие (2) и выявить * Работа поддержана НИР РАНХиГС No. 125 «Современные теоретико-методологические основания исследования сообществ: развитие коммунитарной исследовательской программы». 33 Т. Вайзер то значение единичности, которое было сформировано идеей сообщества в ХХ веке (3). В данной статье меня будут особенно интересовать те сложные и противоречивые коллизии, которые претерпевает понятие единичности, отдельности, сингулярности и различия в разных определениях общностного опыта. Если мы посмотрим на историю возникновения и оформления идеи социальной общности в европейской философии, мы увидим, что от сообщества-семьи до сообщества-государства сообщество мыслилось через парадигму единого целого. Это образование, объединяющее людей и поддерживающее их существование в виде единства. Целями и поводами для объединения служили в основном общие интересы, родственные связи, необходимость защищать свои права и имущества, взаимная выгода социального контракта. Традиция мыслить сообщество через единство и целостность имеет долгую историю от греческой античности до американских community studies наших дней. Так, Аристотель в «Политике» последовательно рассматривает в качестве сообщества семью, селение и государство (политическое сообщество). При этом последнее (государство) «. . . существует по природе и по природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему целому»1 . Для Аристотеля характерно противопоставление «единого целого» и «части», причём отношения между вторым и первым строятся по принципу подчинения (домашние животные и рабы подчинены человеку, женщина — мужчине, дети — отцу, отдельный человек — государству). Часть не имеет самоценного значения и обретает его только в перспективе причастности единому целому, каковым является сообщество. В «Государстве» Платона сообщество-государство возникает как следствие наших потребностей в объединении, когда отдельный человек обнаруживает себя неспособным удовлетворить свои нужды: Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства2 . При этом для Платона важно, чтобы каждый отдельный человек в государстве занимался своим, только ему подобающим делом и тогда 1 Аристотель. 2 Платон. С. 111. 34 Политика. — М.: АСТ, 2002. С. 25. Государство // Платон. Государство. Законы. Политик. М.: «Мысль», 1998. Единое и единичное. . . сообщество-государство станет единым целым, а не разрозненным и нецелесообразным множеством. Примечательно, что для античности социальная онтология мыслилась ещё таким образом, что отдельный человек никак не мог быть приравнен по значимости к государству или хорошо структурированному обществу. Человек даже не имел, собственно, статуса человека вне способности быть причастным к общему целому, или, иначе, вне способности быть zoon politikon: . . . Тот, кто не способен вступить в общение, — пишет Аристотель, — или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чём, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством3 . В «Левиафане» Гоббса люди или семьи собираются в сообщества с целью обеспечить себе гарантии безопасности, но эта цель оказывается посильной только государству. Сами по себе отдельные люди в их совокупной множественности не могут жить без принудительной власти, поскольку им свойственно соперничество и зависть, а благо и выгода каждого отдельного человека не обязательно совпадает с общественным благом (как то, например, у животных). Сообщество-государство (сommonwealth), поэтому, нуждается в искусственном соглашении4 и гарантирующем это соглашение суверене. Оно является, словами Гоббса, реальным единством, воплощённым в одном лице: «множество людей, объединённое таким образом в одном лице, называется государством, по-латыни — civitas», — пишет Гоббс5 . При этом, civitas в переводе с латинского означает одновременно и государство, и гражданское общество и просто сообщество. Идея единства (со)общества доводится у Гоббса до абсолюта и множество членов сообщества-государства практически приравниваются к одному лицу, выраженному в правителе. Примечательно, что в концепциях сообществ ХХ века, о которых речь — ниже, такой трансфер собственной личностной воли в личность иерархически 3 Аристотель. Цит. соч. С. 25. того, считать ли сообщество онтологически естественным, как у Аристотеля, или вторично искусственным, как у Гоббса, Руссо и т.д. — тема отдельного исследования. Однако, как мы увидим, идея сообщества ХХ в. предполагала, что его искусственность конституируется именно неповторимой единичностью, сингулярностью каждого отдельного человека, в отличие от естественного общества, где мы — неразличимое множество. 5 Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения в 2-х тт. М.: ИФ РАН «Мысль», 1991. Т. 2. С. 133. 4 Проблема 35 Т. Вайзер вышестоящей фигуры невозможен и даже противен самой идее общностного, заведомо горизонтального опыта. Во «Втором трактате о правлении» Дж. Локк приводит несколько видов сообществ: брачное сообщество, сообщество между родителями и детьми, сообщество между хозяевами и слугами. Им противопоставляется гражданское или политическое сообщество, в которое люди объединяются во имя безопасности, справедливого правосудия и общего блага: Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества, — это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества. <. . . > Когда какое-либо число людей таким образом согласилось создать сообщество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый политический организм, в котором большинство имеет право действовать и решать за остальных6 . Сообщество понимается здесь как «единый организм», который должен двигаться «в едином направлении». Примечательно, что у Локка идея единства сообщества уже явно держится принципом преобладающего большинства («действие большинства считается действием целого»), что отнюдь не будет свойственно сообществам второй половины ХХ в., которые открыто противопоставят себя этому принципу в пользу частного, отдельного, особенного, отличного. В «Общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо говорит о гражданской общине как о политическом организме или коллективном Целом, в котором «каждый член превращается в нераздельную часть целого»7 . У Руссо, однако же, в идее гражданского сообщества как единого целого присутствует интересный внутренний логический ход, который по-новому выявляет идею целостности: . . . Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, — пишет он, — то он будет к этому принуждён всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным8 . 6 Локк Дж. Второй трактат о правлении // Локк Дж. Два трактата о правлении. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. С. 281. 7 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Сочинения. М.: Наука, 1969. С. 161. 8 Там же. С. 164. 36 Единое и единичное. . . Причащаясь общественному договору, человек теряет свою естественную свободу вседозволенности и приобретает взамен свободу гражданскую: Чтобы не ошибиться в определении этого возмещения, надо точно различать естественную свободу, границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу гражданскую, которая ограничена общей волей. . . 9 Таким образом, в идее единого целого появляется идея одновременно свободного и несвободного отдельного человека и при том, что сообщество подчиняет человека общей воле, оно придаёт ему некое качество самости, до того ему неведомое: моральное достоинство (или «моральную свободу, которая одна делает человека действительным хозяином самому себе»10 ). Как мы видим, до определённого момента в истории коммунитарной мысли, сообщество ассоциируется с государством и предполагает подчинение части (отдельного человека) целому. Целое закономерно довлеет над отдельным бытием и определяет его. Отдельный человек всегда чемто жертвует ради причастности единому целому, которое его защищает, поддерживает и является своеобразным «оправданием» его частному бытию. У Руссо эта логика нарушается, вернее, внутренне усложняется: отдельный человек равно подчинён целому и в качестве свободного субъекта является порождением этой целостности. Начиная с немецкого социолога Ф. Тённиса и далее (за исключением, как мы увидим позже, Б. Андерсона) происходит диссоциация понятий сообщества и государства и сообщества и общества, хотя понимание сообщества как единого целого ещё встречается у некоторых авторов на протяжении ХХ в. Диссоциация (в частности, у Тённиса) происходит именно потому, что сообщество теперь определяется не только принципом объединения людей во имя той или иной цели, но и некоторой особой атмосферой, необходимой для существования сообщества — внутренней (в каком то смысле, не обязательной, но жизненной важной) симпатией. В книге «Общность и общество» Тённис исследует общности как духовные объединения, где люди связаны сущностными связями. Общность — это связь естественного характера, свойственная например, племени, семье, соседству, общине, кругу друзей, в которых единство основывается на аффективной симпатии друг к другу или на естественном 9 Там 10 Там же. же. С. 165. 37 Т. Вайзер положении взаимности. Сообщество здесь противопоставлено обществу, в котором действуют более механические связи и отношения, основанные на принципе выгоды: «Общность есть устойчивая и подлинная совместная жизнь, общество же — лишь преходящая и иллюзорная»11 . Однако общность у Тённиса всё ещё по традиции понимается как единство, единое целое по оппозиции к разрозненным отдельным людям. На принципе единства основано и сообщество американского философа Ч. Пирса, который разрабатывал теорию сообщества учёных, вовлечённых в бесконечный поиск истины. Однако очередной виток усложнения взаимоотношений между всеобщим и отдельным происходит у единомышленника Пирса по линии теории прагматизма, американского социолога Дж. Г. Мида. Мид говорит о том, что человек никогда не развивается в пустоте, но всегда в окружении коллектива или социальной группы, которые оказывают на него влияние. Сообщество, окружающее нас, проецирует на нас свои типовые реакции и нормативные ожидания, тем самым формируя нас как социальное существо (me). Сообщество, осуществляющее внешний контроль, интериоризирутся нами и начинает функционировать как внутренний контроль я над самим собой. Однако у человека есть его отдельное внутреннее я (I), которое может тем или иным образом реагировать на предлагаемые сообществом установки. Таким образом, Мид сталкивает две фазы нашей индивидуальности: социальное, сообщностное я и внутреннее я, которые могут совпадать или не совпадать, находиться в отношениях гармонии, дискомфорта или даже антагонистического противоречия. Хотя Мид часто употребляет понятие «сообщество», фокус его внимания переносится на индивида, который, будучи производным сообщества, всё-таки имеет некий внутренний зазор и этот зазор конститутивен для его развития12 . В книге «Воображаемые сообщества» английский социолог Б. Андерсон возвращает нас к привычной ассоциации между сообществом и государством. Он рассматривает национальные государства как объединённые верованиями и обычаями группы людей, которые — за невозможностью личных контактов каждого с каждым — солидаризируются посредством воображения. С развитием печатного капитализма нации всё более оформляются в своей символической значимости общности: «Нация — 11 Тённис Ф. Общество и сообщество. М.: Фонд «Университет», Владимир Даль, 2002. С. 12. 12 См.: Mead G.H. Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1967. 38 Единое и единичное. . . это воображённое политическое сообщество», — пишет он13 . Отдельный человек может стать членом подобного воображаемого сообщества, если ему доступен общий для сообщества (национальный) язык. Андерсон — один из последних крупных авторов, исследующих сообщество как единое целое. Однако задолго до 1980-х гг., в которые работал Андерсон, в понимании сообщества происходит радикальный переломный момент во французской экзистенциальной философии. В 1940-е гг. эротический писатель и философ Ж. Батай начал разрабатывать идею несуществующего или негативного сообщества, «сообщества тех, кто не имеет ничего общего». Как писал его последователь Ж.-Л. Нанси, судьбу современного сообщества Батай почувствовал и воплотил наиболее остро. И действительно, предложенный Батаем способ мыслить сообщество через идею границы и значимой сингулярности (единичности), был подхвачен и развит его соотечественниками (Ж-Л. Нанси, М. Бланшо, П. Клоссовски) и оказал значительное влияние на европейскую коммунитарную мысль. В этой концепции сообщество противопоставляется обществу, в котором люди разъединены, а человеческие связи утрачены, что было особенно актуально в годы Второй мировой войны, когда Батай работал над этой темой. С другой стороны, истинное сообщество представляет альтернативу христианским и тоталитарным сообществам, где люди слиты в единое целое и потому неспособны к истинной коммуникации, требующей обостренного чувства границ. Единичный человек у Батая — это человек закрытый, отъединённый от мира, но который, тем не менее, нуждается в бесконечной открытости, бескорыстной трате, в даре своего существа другому, в экстазе во внеположенный ему внешний мир. В этом смысле, именно сообщество создаёт условия для того, чтобы человек не замыкался на себе самом, а имел возможность открыться на внешнее, стать чистым даром себя другому. Сообщество Батая, таким образом, уже радикально отходит от идеи единства и единого целого, в пользу идеи значимой сингулярности, различия, которое сообществом обусловливается. В искусе желания, — пишет Батай, — это ничто Внешнего ответствует нашей жажде сообщаться <. . . > В коммуникации, в любви желание имеет небытие своим объектом <. . . > Вершина морального сознания и есть момент, когда брошены кости, когда существо за13 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле, 2001. С. 30. 39 Т. Вайзер мирает по ту сторону себя самого, на границе небытия <. . . > Целостность бытия возможна не иначе, как по ту сторону смысла14 . Из этой цитаты видно, что человек уже не является неполноценным, если он не причащается порядку социального, но полнота его обретается в самоопустошении себя в сообществе друг друга, от которого нам остаются только наши границы. Продолжив эту концепцию, французский философ Ж.-Л. Нанси исследовал сообщество «соразделённой совместности» по оппозиции к фашистскому сообществу, построенному на принципе герметизма, слияния, подчинения диктату Единого Целого. Тоталитарное сообщество — это воплощённый опыт причастия единому гомогенному авторитарному телу; опыт, который исключает единичность человеческого существа, стирает его тело (знак различия) и вместе с тем значимость его отдельности. Таким образом, тоталитарное сообщество по сути отрицает сам принцип сообщества. Напротив, говорит Нанси, нужно осознать, что мы конечны, отдельны, смертны и превыше всего ценить не единое всеобщее, а именно отдельность и конечность человека. В модели идеального сообщества Нанси конечные существа со-разделяют пространство между-нами, они обращены друг к другу своими границами и через границы, на границах существуют как сообщество: Конечность со-появляется, так сказать, пред-ставляется (внешнему): такова сущность сообщества. <. . . > Коммуникация состоит прежде всего в этом со-разделении-между и в этом со-появлении конечности [пред-стоянии друг другу сингулярных существ — Т.В.] <. . . > Порядок со-появления, пред-стояния — первичен по отношению к [социальной] связи. Он не устанавливается и не появляется между уже данными субъектами (объектами). Он состоит в появлении между как такового: тебя и меня (между-нами) — формулы, в которой и имеет смысл не соположенности (juxtaposition), а представленности (exposition)15 . Нанси довёл до логического предела идею того, что принцип объединения в единое целое, имеющий столь долгую европейскую традицию, не является ключевым для сообщества современности и даже противоречит ему. 14 Bataille G. 15 Nancy J.-L. 40 Sur Nietzsche, in: Œuvres complètes, VI. Paris: Gallimard, 1973. P. 47, 44, 20. Communauté désœuvrée. Paris: Christian Bourgois, 2004. P. 72–74. Единое и единичное. . . На примере сообществ Батая и Нанси мы видим, что сообщество не имеет локальности или «внешних» границ, которые бы определяли круг входящих в сообщество людей — каждый человек в принципе может стать (почувствовать, представить, вообразить себя) членом такого безграничного сообщества. Также уходит значимый для философии Нового времени принцип главенствующего большинства. Поскольку нет множественности или коллективности как таковой, то и нельзя в ней выделить большинство и меньшинство, тем более предпочесть одно другому. Это сообщество, в котором нет целого, нет центра, нет иерархий, нет внешних границ и топографии. На первое место выходит сам человек, переживающий свою особость, отдельность, конечность и свои границы с другими людьми (хотя в этом переживании границ он раскрывается как безграничное существо). В книге «Грядущее сообщество» итальянский философ Дж. Агамбен продолжил французскую традицию и исследовал сообщество через понятие сингулярности, которое он называл «любое», «неважно какое», «такое-какое-есть». Сингулярность в данном случае означает отдельного человека, освобождённого до диктата идентичностей. Любое или единичное бытие у Агамбена становится основой сообщества, которое по сути не существует: нет ни общего места, ни общего образа, ни единства. Однако такое сообщество возвращает нам крайне ценное качество, которое мы вне сообщества не обретём: возможность быть сингулярностью. Я как уникальная единичность обретаю себя в (несуществующем) сообществе таких же, как я единичностей. Как и у Батая и Нанси, движущей силой или основной экзистенциальной характеристикой сингулярности является потребность экстаза, выход за пределы границ своего замкнутого я. В концепции Агамбена сообщество противопоставляется государству, для которого единичность (отдельного человека) вне идентичности не имеет значения16 . Интересно, что и Э. Левинас противопоставлял истинное сообщество (под которым понимал общечеловеческое братство), с одной стороны, безличному il y a17 , а с другой стороны, также государству. В сообществе Левинаса единичности сосуществуют как обращённое друг на друга лицо. Идея значимой единичности, лица противостоит у него идее множественности, пустой собирательной коллективности. Именно идея лица, 16 См.: 17 В Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. переводе с фр. — безличное есть, имеется. 41 Т. Вайзер отдельности позволяет сопротивляться тотализации и тождественности, свойственной сообществам тоталитарного типа18 . Авторству немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса принадлежит крайне сложный дискурс о современном сообществе. Поскольку его сообщество — коспополитично, интернационально, всеохватно, оно тоже не имеет внешних границ: каждый, любой человек, способный к рациональной коммуникации может стать его соучастником. Однако «внутри» этого безграничного сообщества признание достоинства личности и её границ имеет ключевое значение. [Желаемая] общность, — пишет Хабермас, — не есть коллектив, который заставлял бы своих облачённых в униформу членов отстаивать ту или иную их разновидность. Вовлечение другого означает здесь не включение в ряды своих и отграничение от других. Это означает, скорее, что границы общности оказываются открыты для всех — в том числе и для тех, кто чужд друг другу и хочет таковым оставаться19 . В этой цитате важно, что слово «объединение» Хабермас заменяет словом «включение». Сообщество строится не по принципу единства коллектива, а по принципу взаимного признания друг друга, не зависимо от общих целей или интересов или даже вопреки их несовпадению. Примечательно, что и современное демократическое государство Хабермас пытается освободить от понятия единства: . . . Понимание демократии <. . . > уже не может основываться на конкретном понятии «народа», которое подсовывает нам гомогенность там, где можно обнаружить только гетерогенное20 . Таким образом, Хабермас преодолевает все те понятия, которые являлись определяющими для долгой западной (логоцентрической) традиции понимания сообщества: единство, целостность, коллектив, множественность, общая воля и т.д. Стоит отметить, однако, что сегодня американская критика Хабермаса строится во многом на оспаривании принципа единства, которому, 18 См.: Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М., СПб.: Университетская книга, 2000. 19 Хабермас Ю. Вовлечение другого: очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001. С. 48. 20 Там же. С. 276. 42 Единое и единичное. . . как кажется критикам, Хабермас уделяет слишком большое внимание в ущерб идее различия. Так, такие современные критики, как Т. МакКарти и И.М. Йонг говорят о том, что различия, присущие отдельным социальным группам или субъектам переговорных практик, должны иметь сегодня куда большее значение и рассматриваться не как препятствие к нахождению консенсуса, а как ресурс для взаимного обогащения и более глубокого понимания наших позиций. Для подчёркивания этого различия вводится понятие значимый диссенсус (в противовес консенсусу у Хабермаса), указывающее на то, что отнюдь не принцип согласия должен определять сегодня идею и практику политического сообщества21 . Наконец, я хочу чуть подробнее остановиться на, к сожалению, непереведённом и пока малоизвестном у нас итальянском философе Р. Эспозито, который продолжил франко-итальянскую коммунитарную традицию. В книге «Иммунизация, сообщество, биополитика» он вводит понятие «иммунизация» и предлагает использовать это понятие как интерпретативную оптику для анализа современных политических систем и тоталитарных сообществ. На биомедицинском языке иммунизация — это форма защиты от инфекции, а на юридическом — охранное свидетельство, позволяющее уклониться от общего закона, стать неприкосновенным. В обоих случаях, иммунизированный человек как бы приобретает особый статус, позволяющий ему избежать риска, связанного с чужеродным телом, каковым является всякий (инородный нам) другой. С самого начала эпохи модерности иммунизация стала проникать во все области нашей жизни — не только медицинской, но и социальной, юридической, этической. Риск заражения стал определять настороженное отношение ко всякому контакту. Апофеоза эта идея достигла в нацистском проекте, который во многом опирался на т.н. прикладную биологию, т.е. науку, определяющую, кто достоин жизни, а кто и как будет предан смерти. Именно в этом контексте в идее иммунизации можно обнаружить некую двойственность: суть иммунизации состоит в том, чтобы закрыть границы с внешним, но это и значит закрыть в себе возможность дальнейшего развития, уничтожить в себе живое, низвести его до чисто биологического уровня: высшие люди не должны быть зараже21 Подробнее см.: McCarthy Т. Legitimacy and Diversity // Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges / Ed. by M. Rosenfeld and A. Arato. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 115–153. Young I.M. Difference as a Resource for Democratic Communication // Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics / Ed. by J. Bohman and W. Rehg. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997. P. 383–407. 43 Т. Вайзер ны низшими22 . В этом смысле, по Эспозито, защита жизни превращается в её отрицание, защита нации обращается её авто-геноцидом. В современном обществе, считает Эспозито, мы встречаем этот эффект, в частности, в состояниях одержимости у исламских экстремистов, которые претендуют на полную религиозную, этническую, культурную чистоту, очищенность от инфекции западной секуляризации. Но опасение быть инфицированным мы находим также и у Запада, озабоченного тем, чтобы нейтрализовать вирусы всей остальной планеты. Так, в основании монотеистической парадигмы лежит иммунитарная логика: политический монотеизм, абсолютизирующий логику Единого, — это и есть переизбыток имуннозащиты, который оборачивается против организма его потенциальным уничтожением, вместе с внешним врагом уничтожается и наше собственное внутреннее. Но если иммунизация прерывает всякую связь с внешним и уводит нас в наше внутреннее, то сообщество, напротив, обращает нас на наше внешнее, вовне-нас. Если иммунная система закрывает организм на себе самом, то сообщество напротив, открывает нас на неаутентичное, несобственное. Сообщество — это открытая и множественная структура, практикующая различия, оно даёт нам возможность высвободить множественность бесконечных сингулярностей. Поэтому политическая и философская задача нашего времени по Эспозито — высвободить пространство сингулярностей, несводимых одни к другим, — так, чтобы наша свобода совпала с этой несводимостью. Как мы видим, здесь уже вообще речь не идёт о сообществе как единстве. Сообщество — это множественность, но не та множественность, о которой говорили авторы Нового времени — она выстраивается не по оппозиции к единичности отдельного человека, а по оппозиции к замкнутости человека на себе. Синонимом к этой множественности будет не единство или объединение, а открытость вовне, друг на друга. В этом смысле, Эспозито возвращает нам единичность, которая, будучи открытой на внешнее, конституирует множественность, само это сообщество, и наоборот, сообщество является сегодня той смысловой зоной, в которой единичное бытие человека раскрывается, проявляется как таковое: Индивиды как таковые не существуют вне их бытия-в-общем-с22 Эспозито приводит слова Гитлера: «Мы не восстановим здоровье нации иначе, как изгнав еврейский вирус». См. Esposito M. Communauté, immunité, biopolitique. Paris: Les prairies ordinaires, 2010. P. 183. 44 Единое и единичное. . . другими-мире (être-dans-un-monde-commun-aux-autres). Мы можем определить единичное существо только исходя из общего23 . В заключении хочу отметить, что обе традиции, с которых я начала своё рассуждение, продолжают сегодня существовать и определять собой идею общностного опыта: согласно первой традиции, сообщество исторически складывается в процессе объединения, когда по мере необходимости или духовной симпатии люди объединяются в сообщества и находят опору своему существованию в принципе единства, единого целого. Отдельный человек мыслится в этой традиции как невовлечённый в общественные связи человек и, в каком-то смысле, противопоставляется людям, объединённым в единое целое в силу духовного или материального интереса или общих ценностей. Во второй традиции, происходит внутреннее усложнение самих этих понятий: единичного и всеобщего, общностного — усложнение, при котором оба понятия предстают в особо значимой для них двойственности. Общностное, с одной стороны, становится синонимом к коллективному, массовому, которое имеет негативную окраску: коллектив — это либо безличное «мы», когда мы неразличимо сливаемся с другими, либо тотализующий механизм подавления и устранения единичного. И напротив, сообщество может пониматься как то, что единичному, отдельному придает ценность, то, что создаёт условия возможности нашей совместности как совместности разных, отдельных людей. В этом втором случае, сообщество противопоставляется безличному коллективу, прагматически настроенному на прибыль или выгоду, властному государству или попросту абстрактной дурной множественности. То же самое удвоение мы наблюдаем и в понятии единичного. Это, с одной стороны, замкнутый на себе, герметичный, изолированный субъект, а с другой стороны, единичность является даром, который мы можем подарить другому ради совместности с ним, соразделённости с ним общего пространства. Важно, что эти разные возможности единичного, сингулярного выявляются не иначе, как в соотнесении его с проблематикой общего, общностного. И подробное обращение к наиболее поздней по времени концепции Эспозито понадобилось мне, чтобы показать, что в очередной раз в истории философской мысли проблема сообщества решается через проблему отдельности, единичности и наоборот. Так, в ХХ в. меняется сама социальная онтология сообщества: сообщество оказывается тем измерением социальности, которое даёт единич23 Ibid. P. 47–48. 45 Т. Вайзер ному человеку свободу, отграниченное место его собственного выбора себя. Другие теперь не только оправдывают, оберегают или составляют мое я — они делают его проявленным в его отличии. Разумеется, как и сообщество, стремящееся к абсолютно гармоничному единству, сообщество значимых отдельностей — утопия. Мы можем только до бесконечности стремиться обрести себя в таком сообществе, максимально высвободить свое я и при этом не деформировать, но упрочить отношения с другими членами сообщества, вернуть или (впервые по-настоящему пережить) утраченные связи. Сделать само это высвобождение субъективности залогом единства общностного опыта — задача почти невозможная. Однако именно такое утопическое сообщество является сегодня опорой для демократии, которая строится (в идеале — должна строиться) на принципе отдельности, сингулярности, значимого различия. Оно высвобождает необходимую для демократического устройства идею права отдельного субъекта на свободу, на отдельность, на значимую инаковость. В этом смысле, утопично и необычайно притягательно само наше будущее. Литература Агамбен Дж. Грядущее сообщество. М.: Три квадрата, 2008. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Кучково поле, 2001. Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2002. Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения в 2-х тт.. М.: ИФ РАН «Мысль», 1991, Т. 2. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. М., СПб.: Университетская книга, 2000. Локк Дж. Второй трактат о правлении // Локк Дж. Два трактата о правлении. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. С. 216–386. Магун А. Единство и одиночество: Курс политической философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Платон. Государство // Платон. Государство. Законы. Политик. М.: «Мысль», 1998. С. 63–353. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Сочинения. М.: Наука, 1969. С. 151–257. Тённис Ф. Общество и сообщество. М.: Фонд «Университет», Владимир Даль, 2002. 46 Единое и единичное. . . Хабермас Ю. Вовлечение другого: очерки политической теории. СПб.: Наука, 2001. Bataille G. Sur Nietzsche // Œuvres compl‘etes. V. Paris: Gallimard, 1973. P. 7–182. Esposito M. Communaut’e, immunit’e, biopolitique. Paris: Les prairies ordinaires, 2010. McCarthy Т. Legitimacy and diversity // Habermas on Law and Democracy: Critical Exchanges / Ed. by M. Rosenfeld and A. Arato. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 115–153. Mead G.H. Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. Chicago, Ill.: University of Chicago Press, 1967. Nancy J.-L. Communaut’e d’esœuvr’ee. Paris: Christian Bourgois, 2004. Young I.M. Difference as a Resource for Democratic Communication // Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics / Ed. by J. Bohman and W. Rehg. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997. P. 383–407. П. Сафронов План демобилизации: сообщество по ту сторону метафизики и политики* Статья посвящена философскому анализу сообщества, избегающему как метафизической, так и политической ангажированности. Философия сообщества рассматривается как особая стратегия демобилизованного сопротивления, превосходящая различие движения и неподвижности. Ключевые слова: сообщество, демобилизация, уход, кибернезис. Хотим ли мы соединить сообщество с обществом, или же навсегда разорвать саму возможность такого соединения, мы заранее связываем сообщество с формами получения, представления и воспроизводства социального опыта. Участие в сообществе может подключать нас к сетям продуктивного интеллектуального обмена и содействовать прокладыванию определенной траектории личного (не)успеха1 . Участие в сообще* Работа поддержана НИР РАНХиГС No. 125 «Современные теоретико-методологические основания исследования сообществ: развитие коммунитарной исследовательской программы». Автор также выражает искреннюю благодарность Виктору Вахштайну, Дарье Димке, Татьяне Вайзер и Андрею Олейникову, участвовавшим в организованной Русской антропологической школой и Московским философским колледжем конференции «Опыты сообщества» (Москва, РГГУ, 31 мая–1 июня 2011 г.), за их плодотворные суждения, способствовавшие кристаллизации изложенных в данном тексте идей. 1 См.: Collins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000. 48 План демобилизации. . . стве может, с другой стороны, включать нас только посредством исключения и отверженности2 . Отмеченные возможности имеют своим условием один общий момент: оба варианта предполагают, что сообщества создаются в некотором движении от одного к другому. При всех различиях между социологией интеллектуальных сообществ в духе Коллинза и философией сообщества в духе Агамбена, легко увидеть, что и та, и другая настаивают на подвижном, динамическом характере сообщества. Сообщество таким образом фактически отождествляется с возникающими в его движении эффектами, хотя бы эти последние и носили чисто разрушительный характер. Растворение сообщества в (его) эффектах имеет два следствия. Политическое следствие заключается в том, что существование сообщества связывается с «непредусмотренным» преобразованием устоявшегося социального порядка, открывающим перспективы новых стратегий субъективации3 . Метафизическое следствие заключается в том, что сообщество тем самым лишено сущности и помещено в горизонт негативной онтологии4 . Политика и метафизика задают ориентиры господствующих в настоящей момент философских тематизаций сообщества. Любая философия сообщества оказывается тогда всего лишь группировкой серий политических и метафизических понятий, вступающих по временам в более или менее причудливые союзы с медициной5 или даже православной интеллектуальной традицией6 . Сравнительная легкость такого рода упражнений свидетельствует, на мой взгляд, о том, что все они осуществляются на основе определенной уже принятой очевидности, делающей само собой понятным каждый разговор о сообществе и побуждающей трактовать этот термин на основе имплицитной «благосклонности»7 . Источником благосклонности является, видимо, отмеченная выше кинетическая 2 См.: Агамбен Дж. Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с ит. под ред. Д. Новикова. М.: Европа, 2011. 3 См.: Рансьер Ж. На краю политического / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. 4 См.: Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество / Пер. с франц. Ж. Горбылёвой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2009. 5 См.: Esposito R. Communauté, Immunité, Biopolitique. Repenser les termes de la politique / Traduit de l’italien par B. Chamayou. P.: Les prairies ordinaires, 2010. 6 Штёкль К. Сообщество после субъекта. Православная интеллектульная традиция и философский дискурс политического модерна // Вопросы философии, 2007, № 8. С. 34–46. 7 Williams R. On Community // Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Revised Edition. N.Y.: Oxford University Press, 1983. P. 76. Указанием на этот текст я обязан Андрею Олейникову. 49 П. Сафронов энергия сообщества, его мобилизационный потенциал, непременно соединенный с теми или иными эффектами. В сообществе как будто всегда нечто результативно с(о)вершается: действие или бездействие. Сообщество является таким «предметом», в отношении которого никогда нет никаких вопросов, всегда есть только более или менее развернутое множество ответов на вопрос о том, что такое сообщество. Если воспользоваться языком уголовного права, то можно описать это в терминах деяний сообщества8 . Теория права подсказывает и следующий ход рассуждения: связь деяний сообщества с последствиями, которые наступают в результате9 . Таким образом, сообществу вменяются определенные последствия. Вернемся теперь к философии сообщества. Я утверждаю, что в её нынешнем виде она целиком строится на предположении, что существующими или существовавшими являются только сообщества, имеющие или имевшие последствия, а никакие другие сообщества не существуют и не могли существовать. Сообщество свидетельствует о себе в движении, вызывающем последствия. В свою очередь, последствия сообщества становятся следами его присутствия, доступными для герменевтического присвоения, критики или реактуализации. Следы сообщества постепенно складываются в бесконечно продленную череду эффектов, образующих затем традицию. Итак, каждая мобилизация сообщества оказывается в конечном итоге мобилизацией традиции, которая сковывает и запечатывает то самое движение, которым она инициирована и которое она была бы должна передавать дальше10 . Сказанное не означает, однако, призыва к полному отказу от философии сообщества. Речь идёт только об её освобождении от скрытых метафизических или политических обязательств, связанных с отстаиванием той или ной совокупности тезисов per se. Движение сообществ должно в таком случае рассматриваться как специфическая форма сопротивления движению как таковому, поскольку оно запускает не проблематичный и не проблематизируемый далее алгоритм самообоснования. Сообщество возвращает себе свой собственный вопрос, и в этом смысле оно всегда уже не существует в своем 8 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. С. 124. 9 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. С. 169. 10 Эффект внутренней ограниченности мобилизационной риторики разрушения хорошо показан Борисом Гройсом на материале русского авангарда. См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Он же. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. 50 План демобилизации. . . существовании, сближая возникновение определенной ценности и её рутинизацию. Задача заключается в том, чтобы освободить сообщество от господства логики мобилизации и начать мыслить его в логике демобилизации, располагающейся по ту сторону каких-либо политических и/или метафизических решений в пользу предпочтительности движения. Обездвиженность сообщества не следует, однако, понимать в смысле полной остановки или отсутствия деятельности. Речь идёт о том, чтобы специфически отнестись к сообществу, увидев его уже происходящим здесь и сейчас и в этом существовании не создающем никаких «дальнейших» последствий. Само существование сообщества как состояние должно стать отправной точкой. Мы уже расположены в состоянии сообщества и мы постоянно маскируем это состояние ради с(о)вершения каких-то «процессов», соблазняющих очевидным наличием «движения», хотя бы оно и не имело понятной цели. Необходимо оставить сообщество без последствий. Это означает, что сообщество не должно рассматриваться в качестве приносящего определенный результат или обеспечивающего определенный вклад. От аффективной экономики сообщества следует перейти к педагогике сообщества. Практическая реализация такого требования начинается с преодоления без-различия к тому состоянию, в котором пребывает человек или группа людей, погруженные в частные обстоятельства собственного существования. Источником различающей воли будет служить как раз контрастное противопоставление жизненной динамики на уровне целого и реального отсутствия (про)движения в состоянии отдельного человека. Идея демобилизации предполагает постановку под вопрос той выдаваемой за самоочевидную предпосылки, что деяние как таковое имеет социальную ценность. Иными словами, развиваемая здесь логика демобилизации атакует представление, согласно которому действия могут и/или должны сопрягаться с другими действиями, либо с бездействием внутри заданного жизненного мира, заданной системы координат. Сопротивление действию распределенной силы без-различия потребует размыкания границы своего внутреннего ради чужого внешнего. Необходимо оставить деяния без последствий и удалиться11 , с тем чтобы из-дали выявить и установить позицию для различающей деятельности. Именно акт ухода, учреждающий план демобилизации, позволяет радикально приостановить определенное состояние во всей совокупности 11 Развиваемые здесь соображения первоначально возникли в ходе бесед с Ириной Юрьевой, которой автор выражает глубокую признательность. 51 П. Сафронов связанных с ним деяний. Уход становится таким парадоксальным действием, которое в процессе совершения как бы стирает свои последствия и благодаря этому избегает превращения в деяние. Понятно, что в таком случае, мы не можем рассматривать как пример ухода, скажем, политическую демонстрацию или забастовку, поскольку они осуществляются с явным намерением вызвать определенные последствия. Тем не менее, я полагаю, что можно наметить вполне согласующиеся с развернутым выше представлением о демобилизации стратегии ухода. Каждому преподавателю университета хорошо знакомы случаи, когда студенты порознь или совместно покидают лекцию или семинар на какое-то время. А что если сам преподаватель неожиданно встанет и выйдет из аудитории? Каким образом будут действовать студенты? Возможно, они продолжат занятие, даже не заметив отсутствия преподавателя. А может быть, они погрузятся в состояние глубокой растерянности. Мне важно лишь подчеркнуть, что такое действие не имеет однозначно считываемых в логике университетского «поля» последствий. И последующие действия, и последующее бездействие студентов здесь одинаково проблематичны, поскольку влекут за собой демобилизацию учебы как состояния, выстроенного на многократно отточенных тактиках взаимодействия между «наставником» и «учениками». Образовательная система оказывается легко проницаема в своей сердцевине, в структуре организации учебного процесса. Одновременно факт произвольного ухода преподавателя с занятия открывает для студентов возможность переоценки своего состояния и обнаружения заложенного в этом состоянии потенциала к возникновению сообщества. Какую позицию могут занять в этом случае студенты? Они, конечно, могут разойтись или обратиться с жалобой к администрации. Но среди прочих вариантов у них есть возможность оставить уход преподавателя без последствий и самостоятельно продолжить занятие как ни в чем не бывало. Поступив таким образом, они создадут сообщество, которое сможет наполнять пустую форму занятия собственным содержанием. Вполне допустимо, что содержанием деятельности возникшего сообщества уже не будет, скажем, получение знаний, поскольку не от кого будет их «получать». Приобретенный студентами опыт самоорганизации позволит им демобилизовать университетскую образовательную систему, изнутри осуществив внешние по отношению к ней действия. Они тогда выступят в роли своего рода вируса12 , заражающего окружаю12 Эта метафора была предложена Натальей Полтавцевой на обсуждении доклада автора по философии сообщества в семинаре Русской антропологической школы весной 2011 г. 52 План демобилизации. . . щую среду и нарушающего её «нормальное» функционирование. Ситуация ухода позволяет студентам исполнить своё студенческое состояние при отключенных обычных эффектах в виде регистрации посещаемости, выступления с докладами, вопросов преподавателю13 . Не является ли описанная ситуация утопией? Такое было бы возможно, если бы мы претендовали на тотальность действия плана демобилизации вне зависимости от контекста. Речь, однако, идёт только о конкретных состояниях, о некоторых случаях. В плане демобилизации каждое решение оказывается лишь попыткой к удержанию самой возможности этого решения, а вовсе не сообщества вообще. Следовательно, сообщество существует в решимости, просто удерживающей себя в течение какого-то времени. Действие, учреждающее сообщество, оказывается успешно, постольку, поскольку оно в самом себе не уверено, поскольку оно совершается неустойчиво, и поскольку оно вообще не доводится до конца. Каждый принимающий форму практического рецепта ответ создаёт неловкость, неудобство с сообшеством, и колоссальная величина этого накопившегося неудобства — это, наверно, и есть то, что не позволяет просто так от всего этого отказаться, потому что опять-таки неудобно. Решительная нерешительность демобилизации противостоит той модели действия-деяния, которая работает в терминах уверенности/уклонения и знания/незнания о том, что именно нужно делать. Демобилизующее действие происходит вслепую, наобум. Вместе с тем нельзя сказать, что такого рода действия напрочь лишены какого-либо участия сознания. Скорее, имеет место деятельность, которая носит промежуточный, мерцающий характер как по отношению к чистой сознательности, так и по отношению к чистой несознательности. Ошибка распространённых сейчас форм философии сообщества заключается в том, что они, основываясь на описанной выше динамической онтологии, всегда стремились быть максимальными. Философия сообщества до сих пор не была готова отказаться от предельных задач, абсолютизируя возможности коммуникации и/или трансгрессии. При этом как политический коммунитаризм, так и метафизика сообщества оказывались захвачены в плен менеджериальной логикой (вос)создания сообщества как «проекта»14 , актуализирующего соответствующий «потен13 Ср: Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб.: Издательство европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. 14 См.: Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с франц. под общей ред. С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 142–169 53 П. Сафронов циал» в качестве общественной силы или онтологической инстанции. Критерием этой (само)актуализации становится множественная вовлеченность участников сообщества в осуществление возможно большего числа независимых «проектов»-общностей. При этом сообщества как бы сгущаются на пересечении мультиплицирующихся траекторий движения. оказывается эффектом сцепления траекторий различных проектов. Основным последствием такого сгущения в пределе становиться встраивание результатов деятельности сообщества в социальную практику. Необходимо понять, что каждая социальная практика уже является сообществом. При том только условии, что она трактуется минимально, то есть без сопряжения с целью, которой по видимости должна служить. Говоря иначе, мы можем взглянуть на некоторую социальную практику как имеющую единственную цель: поддержание самой себя. Такое поддержание отнюдь не является тривиальной задачей, поскольку требует постоянной работы различения, позволяющей идентифицировать критериальные условия дальнейшего развития определенной практики. Продукты различения носят эмблематический характер, то есть они показывают/обозначают только сами себя. Таким образом различающая деятельность носит минимальный характер. Самоподдерживающаяся практика заранее профанирована, ибо она не создаёт никаких ценностей, который обеспечивали бы её легитимацию. Я называю такую форму практики атеистической церковью15 , имея в виду, что она создается людьми, которые принципиально отказываются мыслить свое существование в рамках сообщества в терминах веры и, более того, исходит из того, что вера в сообщество является лучшим способом его уничтожения. Чтобы каким-то образом поддерживать, хотя и не надеясь на успех, такого рода атеистическую церковь, которой является сообщество, возникает особый режим таинственности, предполагающей не открытие чего-то для того, кто посвящается в тайну, а, наоборот, закрытие чего-то для того, кто в тайну посвящается. Примечательно то обстоятельство, что вообще само слово «откровение», которое важно для христианского понимания церкви, тесно связано с идеей тайны как открытия, про-явления чего-то. Особенно отчетливо это звучит в немецком Offenbarung. Эта открываемость тайны является 15 Здесь я отталкиваюсь от проводившегося Лютером — разумеется, на теистических основаниях — сопоставления между христианской церковью и городской общиной. См.: Лютер М. Поучение о досточтимом Таинстве Святого Истинного Тела Христова // St. Peterund-Paul Gemeindeblatt. № 35 (August 2010). С. 4–7. 54 План демобилизации. . . существенной для церкви религиозной. Напротив, для сообщества как церкви атеистической, является существенной закрываемость и закрытость тайны. Демобилизованное сообщество представляет собой церковь без откровения. Каждый, кто вступает в сообщество, что-то закрывает, у-даляется, уходит от тайны. Он не узнает что-то, а, наоборот, что-то забывает. Он не приобретает что-то, а наоборот, нечто утрачивает. Закрывающаяся тайна, о которой я говорил, заключена в том, что сообщество устроено тривиально. Все совершенно обычно, совершенно обыденно. В этом смысле практиковать сообщество и говорить о сообществе, памятуя о том, что такой разговор является одним из способов практикования сообщества, означает, в первую очередь, демонстрировать нарочитую банальность. Сообщество источает сопротивление любым попыткам добавить к тому, что уже происходит, что-то еще. Оно связано с постоянным выявлением необходимым и достаточных условий своего существования. Не больше и не меньше. Каждое условие носит возобновляемый характер и формулируется в зависимости от того контекста, в котором об этом условии ставится вопрос. Постоянная диалектика введения в оборот/выведения из оборота характеризует любой данный набор условий в отдельности. Cвязь мышления и сообщества, равно как и сообщества и мышления, не является ни в какой степени очевидной и могущей быть представленной в виде списка, более или менее развернутого, тезисов, на основании которого можно было бы потом сформулировать систему, с большим или меньшим успехом называемую речью о сообществе. Меньше всего можно рассчитывать на то, что существует какая-либо систематическая теория сообщества. Но это именно потому, что сообщество в состоянии подать голос само по себе, без посредников. Такой голос, однако, не оглашает какого-либо определенного членораздельного требования, всего лишь оставляя нас полностью оглушенными и растерянными. Сообществу противополагается та форма, которая, с одной стороны, выступает в его тени, а с другой стороны, выступает в вечной борьбе с сообществом. Я называю эту форму словом «коллектив», отчасти, чтобы подчеркнуть «нефилософский» характер своей терминологии, а отчасти потому, что семантика этого слова хорошо понятна из контекста отечественной истории16 . Так вот, если зафиксировать противоположение сообщества и коллектива, относя, например, к коллективу такое образование, как политическая партия, группа единомышленников, равно и 16 См: Хархордин О.В. Обличать и лицемерить. СПб., М: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2002. 55 П. Сафронов исследовательская группа, то обнаружится, что по сравнению с сообществом всякий коллектив примечательным образом индивидуализирован и определен. Если сообщество всегда существует в атмосфере некоторого колебания, сомнения, в том числе и относительно самой возможности своего существования, то коллектив воплощается в более или менее отчетливых формах взаимного признания. Если сообщество существует там и тогда, когда само оно себя не признает и, может быть, даже само себя отталкивает, то коллектив, напротив, настойчиво требует признания своего существования и в этом признании устанавливается. И по мере такого признания и наличия процедур, которые его обеспечивают, определяет свое существование в со-разделенном множестве настаивающего на про-житости опыта. Процедуры признания, действующие в коллективе, могут при этом различаться. Они могут быть формальными или неформальными. Они могут быть оформлены институционально или не иметь такого оформления. Однако в любом случае, сам факт их наличия оказывается тем обстоятельством, которое превращает каждый коллектив, постольку, поскольку он существует, в множество людей, которые существуют по отношению к коллективу с некоторым избытком. У них есть что-то, что они могут принести в коллектив, и коллектив может это признать или не признать, устанавливая в жесте признания/непризнания ценность принесенного. Участники коллектива могут при(в)нести это и в другой коллектив. В любом случае, у них есть что-то, что превосходит, с одной стороны, нужды и потребности этого коллектива, а с другой стороны, то, что постоянно соразмеряется в своем масштабе с коллективом. Иначе говоря, каждый член коллектива — это одновременно и всегда нечто большее, чем просто член данного коллектива, и это большее одновременно и вменяется ему и из него извлекается, маня коллектив соблазном своей опасности. Соответственно, если некто утверждает, что он является только лишь членом определенного коллектива и ничего больше, он совершает чрезвычайно опасную, подрывную для существования данного коллектива работу, обнаруживая стремление заглушить столь важное для коллектива чувств о опасности. Если кто-то полностью сводит свое бытие, допустим, к партийной работе, он совершает нечто, что можно было бы назвать разрушением самой возможности партии как коллектива. Постольку, поскольку в этом отношении такой последовательный коллективист отказывается экономить свое существование и претендует на то, чтобы коллектив в его лице, равно как и в лице всех тех, кто последу56 План демобилизации. . . ет его примеру, начал бы систематически замещать свою частичность и несовершенность тотальностью и совершенностью. То есть такой человек коррумпирует дальнейшую возможность мобилизации коллектива в целом своей сверхмобилизацией. Звук голоса сообщества звучит первоначально в одиночестве, прорезающем слои онтологических шумов. Разделить одиночество этого голоса — значит совершить посильную попытку со-ответствовать, то есть подать свой голос и прозвучать насколько хватит сил, чтобы внести в охватывающее одиночество голоса сообщества новый оттенок. Тем самым происходит перераспределение значения сообщества в некоторой шкале интенсивностей, аккумулирующей некоммутативное многоголосие между и/или поверх языка и молчания, которое, следовательно, всегда остается недо-сказанным. Может ли значение перераспределять интерес, при этом ничего не присваивая и не у-таивая? То есть, может ли какой-то объект или действие вызывать интерес, который тут же переходил бы в переоценивание, не останавливаясь на разглядывании, раздумывании и тому подобном незаинтересованном эстетическом созерцании «чистого» смысла? Для этого нужно мыслить сообщество в перспективе логики множественных (микро)флуктуаций блуждающей референции. Особая ценность совпадения с мгновенным — вот что здесь является наиболее важным. Мгновение самостоятельно и захватывающе из себя самого постольку, поскольку оно неотменимым и неповторимым образом сочетает в себе возможность и действительность, свойственные (только) случайному. Конфигурация позиционно соотнесённых мгновений представляет собой отображение случившегося сообщества, которое (пре)бывает в позитивно негативном смысле недостигания собственной невозможности. Представим себе, как в сообщество превращается наше отдельно взятое тело. Кибернезис — это название способа отстранения от тела, который сам по себе является эффектом «симбиоза» состояний органической и механической субстанции. Тем самым тело в своей навязчивой и утомительной данности ставится под вопрос. Вопрос примерно такой: что я могу сделать со своим телом, чтобы нейтрализовать его? Данность тела должна быть в свою очередь подвергнута преобразованию в совокупность данных о теле. Собственно говоря, это уже и происходит в современной медицинской практике, где тело превращается в некий шифр самого себя. Иначе говоря, кибернезис обозначает совокупность попыток сопротивления наивной логике присвоения тела, некритически отождествляющей возможность и факт обладания. Действительно, ведь 57 П. Сафронов тело легче всего назвать моим. Не кроется ли за лёгкостью, с которой тело становится условием «меня», его условность? Условность тем более тягостную, что к ней крепится весьма массивный дисциплинарный каркас. Повсюду тело сторожит спокойствие и стабильность повседневности, выдавая мне в распоряжения только «доступное», «физические возможное», «переносимое» Человек в буквальном смысле сохраняет себя, заботясь о теле, которое в свою очередь настойчиво предъявляет пределы своих возможностей. Ведь это именно тело не даёт мне выйти из себя и превращает каждый такой «выход» в чистую карикатуру. Метафорически можно было бы назвать кибернезис вторым рождением тела. Рождением в смысле вы-ведения на свет, «выплёскивания» в мир-тел-без-телесности. Этот новый старый мир образует новое пространство актуализации, пространство (само)понимания тела. Лишаясь телесности, тело впервые понимает себя в мире как мирское. Раньше оно было закрыто для мира своей телесностью. Именно мир создает дистанцию/переплетение между действительностью тела и его оставленными позади телесными возможностями. «Бытие» тела не длящаяся линия, а динамическая структура. Мир при-даёт телу сложность. Тело «может» совершать нечто. Что же становится полем его свершений? Оно само. Обращаясь к «себе», тело усматривает мир. Но это происходит только в том случае, если выхваченный мир не называется сразу «моим», вообще чьим-то. Ничейность мира открывается в пред-(о)ставленности тела технико-технологическому воздействию. Термин «воздействие» здесь впрочем уже неуместен, поскольку предполагает апелляцию к концепции органического тела, создающего и воспроизводящего границу внешнего и внутреннего. Скорее нужно говорить о гибридизации, переплетении органического и механического, создающем новое кибертело. Гибридизации, которую, разумеется, не следует понимать как просто смешение разнородного. Здесь уже не действуют прежние родо-видовые классификации. Кибертело существует в какой-то своей, странной и завораживающей логике. Функционирование кибертела может одновременно происходить на нескольких/многих платформах-носителях, тем самым полностью расщепляя единый узел пространственно-временной локализации. Кибернезис даёт телу возможность параллельного существования в нескольких средах и притом существования в значительной мере автономного. Тело избыточно по отношению к каждой отдельной реализации и поэтому вы-бывает из неё. Тело де-субстанциализируется, рас-средо-тачивается, утрачивая монотонное материальное постоянство. Пространство и время тела, прежде всегда сосредоточенные в од58 План демобилизации. . . ной «точке», отныне рассеиваются. Становится доступной возможность коллекционировать, собирать «собственное» тело. И такая коллекция как раз и будет образовывать некоторую темпоральную или топологическую «структуру». Протяжённость как доминанта телесной организации уступает своё место распределённости тела. «Обладать» кибертелом — значит рассеивать, распылять его в пространстве и времени, везде оставляя частицы «своего» присутствия. Эти частицы могут начинать самостоятельную жизнь, мутируя и порождая новые кибертела. Кибертело вообще радикально случайно. Для него возможность случать-ся, происходить гораздо важнее «простого» респектабельного постоянного пре-бывания. Такое тело состоит не из органов и сочленений, а из событий, образованных ансамблями частиц, выстраивающихся вокруг определённой силовой линии, задающей «ось» симметрии. Тела всегда много, и благодаря этому оно всегда одно. Тело состоит из единства переходов/смычек между случаями расставания с какой-либо случайной телесной оболочкой. Именно случайность сообществ в наибольшей степени беспокоит мысль, которая находит здесь свой предел. Каждый разговор о сообществе ведется от конца к началу, нарушая всякое пред-ставление о последовательности изложения. Сообщество сбывается во время случайной потери своего одиночества в мире. Или говоря короче: сообщество — это утрата бесконечности одиночества. Что-то утрачено и вот ты даже не пытаешься это восстановить, а просто принимаешь это и дальше уже живешь так, как если бы ничего не терял. Сообщество располагается в разрыве между бессобытийностью и событием, между уже и ещё. Впрочем, такое «состояние» (воспользуюсь этим словом, чтобы не придумывать другого) очень продолжительно. Достаточно для того, чтобы философия сообщества потерпела мгновенную неудачу. Видимо, именно в терпении к неудаче и заключается её достоинство — надо сказать, исторически оправданное достоинство. Мгновение не предполагает позиции отчуждения в смысле целенаправленного накопления «прибавочных» реакций, результатов, (по)следствий. После мгновения ничего особенного не происходит и мгновению не задашь вопрос: и что? Когда спрашивают и что, хотят чего-то продолжительного, устойчивого, надёжного. Требование продолжения — это требование возможности отложить реакцию или распределить её так, чтобы все было устроено гармоничным, всецело удовлетворительным образом. Без продолжения — нельзя отложить. Чем плоха связь значения и интереса? Тем, что значение искусственно гальванизируется, искус59 П. Сафронов ственно продолжается до тех пор, пока оно вызывает интерес. Значение мумифицирует интерес. Если мы хотим всё-таки помыслить живой интерес сообщества, мы должны прекратить делать на него метафизическую или политическую ставку, устранив малейшую вероятность окончательного решения вопроса о значении. Литература Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь / Пер. с ит. под ред. Д.В. Новикова. М.: Европа, 2011. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с франц. под общ.ред С. Фокина. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Гройс Б. Стиль Сталин // Он же. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. Лютер М. Поучение о досточтимом Таинстве Святого Истинного Тела Христова // St. Peter und Paul Gemeindeblatt. № 35 (August 2010). С. 4–7. Нанси Ж-Л. Непроизводимое сообщество / Пер. с франц. Ж. Горбылёвой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2009. Рансьер Ж. На краю политического. / Пер. с франц. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб: Питер, 2005. Хархордин О.В. Обличать и лицемерить. СПб., М.: Изд. ЕУСПб, Летний сад, 2002. Чухров К. Быть и исполнять: проект театра в философской критике искусства. СПб: Изд. ЕУСПб, 2011. Штёкль К. Сообщество после субъекта. Православная интеллектуальная традиция и философский дискурс политического модерна // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 34-46. Collins R. The Sociology of Philosophies. A Global Theory of Intellectual Change. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2000. Esposito R. Communauté, Immunité, Biopolitique. Repenser les termes de la politique / Traduit de l’italien par B. Chamayou. P.: Les prairies ordinaires, 2010. Williams R. On Community // Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Revised Edition. N.Y.: Oxford University Press, 1983. В. Кузнецов Искусство со-общаться Кризис традиционных (со)обществ, связан, по-видимому, с тем, что они строились на основе того или иного вида зависимости или принуждения («Мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться»). Свободные сообщества, образующиеся путём самоорганизации, требуют парадоксального сочетания заинтересованности в совместной деятельности с отсутствием прямого, утилитарного интереса. Поэтому требуется наличие некоторого центра кристаллизации, своеобразной точки сборки. Именно такие тенденции можно наблюдать на примере организации студенческого дискуссионного клуба «Перспективы», действующего на философском факультете МГУ с 1994 года. Ключевые слова: сообщества, самоорганизация, коммуникация, интерес, совместная деятельность, студенческий дискуссионный клуб. — А ты хоть знаешь, что такое социум? — спросил Затворник. — Это и есть приспособление для перелезания через Стену Мира. Виктор Пелевин1 1 Пелевин В. Затворник и Шестипалый // Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: ТЕРРА, 1996. С. 171. 61 В. Кузнецов Работа происходит в группах. Михаил Папуш2 Постановка проблемы и экспозиция ситуации «Мы существуем со-обща, со-вместно с другими. Что значит “со” в обоих этих случаях?» — так Нанси3 заостряет проблему и тут же поясняет: Это не только и не столько вопрос о неком смыслообразовании, но вопрос о месте, пространстве-времени, а также о модусе, режиме сигнификации вообще, если смысл по определению коммуницируется и вызывает на ответную коммуникацию. По этой же причине дешифровка не может быть просто философской, а может иметь место лишь в конце философии, а также в конце любой логики, грамматики и литературы как таковых. . . “С”, “со” или “со-обща”, очевидно, не значит ни “одни с другими”, ни “одни вместо других”. Оно подразумевает наличие внешнего. . . Но это последнее не означает просто “находиться рядом”, “быть рядоположенным”. Логика этого “со” — со-бытия, Mit-Sein, которое, по Хайдеггеру, является во времени коррелятом Dasein, — представляет собой уникальную логику, логику внутренне-внешнего. Такова, вероятно, логика сингулярности вообще. . . Такова логика предела. . . 4 . И поскольку философия разворачивается не бестелесными абстрактными сферическими субъектами, а определёнными эмпирическими людьми или коллективами, причём не в вакууме, а в том или ином вполне конкретном социокультурном контексте, постольку приходится все эти обстоятельства по-возможности учитывать, если мы хотим успешно и результативно организовывать соответствующий процесс. Итак, перед ними стоит задача, являющаяся одновременно и нераздельно “философской” и “общественной”, мыслительной и политической, если этими словами можно пользоваться в существующем виде, задача обращения необратимого “в”. Обращать — значит 2 Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. С. 17. 3 Нанси Ж.-Л. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггер и современность. М.: Наука, 1991. С. 96. 4 Там же. С. 96. 62 Искусство со-общаться не прибегать к представлению, без того, чтобы оно, в свою очередь, могло стать топосом и целью обращения, без того, чтобы “философия” в нём, апеллируя к “сообществу”, подвергала себя риску, и наоборот. Это сразу же вызывает в памяти образ “философского общества”, некоего Телемского аббатства или кружка романтиков. . . Но дело и не в том, чтобы “все стали философами”, на что, если судить по некоторым текстам, надеялся Маркс, а равно речь не идёт о том, чтобы создать “правление” философов, как того хотел Платон. Или же дело в том и другом одновременно, даже если одно противостоит другому: тогда это мышление на пределе, где никто не знает, что, собственно, такое есть “философия”. Такая философия имеет своей целью не придать смысл, и даже не поставить вопрос о нем как вопрос о бытии. . . Целью является (она не противоположна, но она определенно другая) обратиться к разделению этого “со” в слове со-вместность, которая и делает смысл неприсваиваемым5 . По поводу в определённой степени аналогичных размышлений Бодрийяра Кралечкин отмечает: мысль “бытия вместе” не пытается отделить социальную форму от несоциальных, не пытается обозначить дополнительный пункт в некоторой содержательной (или феноменологической) онтологии. В пределе “бытие вместе” задает любой способ бытия как такового, то есть “бытие вместе” не является какой-то частной формой, оформлением чего-то другого. Более того, оно вообще не является формой или, по крайней мере, оно ускользает от всех форм (такое ускользание и задаёт всю проблему символического обмена). Если попытаться реконструировать эту странную теоретическую посылку, то окажется, что “бытие вместе” выступает не в качестве модуса бытия (неотличимого от модуса сущего), а в качестве бытия как такового, которое только и может задать смысл того, что значит для сущего “быть”6 . Проблема отчасти была намечена еще социологами, почувствовавшими необходимость уточнять и разделять различные аспекты социального. Так, Тённис предложил противопоставлять общность (Gemeinschaft), 5 Там же. С. 100. Две или три вещи, которые я знаю о симулякрах // Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический Проект, 2007. С. 318. 6 Кралечкин Д. 63 В. Кузнецов образующуюся органически, и общество (Gesellschaft), создающееся механически7 . А Парсонс8 посчитал необходимым выделить социетальное в качестве системообразующей совокупности ценностно-нормативных образцов, задающих комплекс всё менее персонифицированных социальных ролей в современном всё более дифференцированном обществе. И Бурдье приходит к выводу, что «именно посредством свойств и их распределения социальный мир приходит, в самой своей объективности, к статусу символической системы, которая организуется по типу системы феноменов в соответствии с логикой различения отдельных расхождений, а также заключающейся и в значимых различениях»9 . Иными словами, для сообщества принципиально важны средства и способы удерживать себя в некоем единстве, поддерживая при этом те или иные возможности для внутренних различий. Эта двойная задача и решается со-общением, коммуникацией. «Общество использует коммуникацию, и всё, что бы ни приводило коммуникацию в действие, — есть общество. Общество конституирует элементарные единства (коммуникации), из которых состоит; и что бы ни было конституировано таким образом, становится обществом, становится моментом самого процесса конституирования»10 . Понимаемая в широком смысле коммуникация охватывает все формы, виды и способы взаимодействия организма со всем окружающим, выступая таким посредником/сообщением, которое в идеале должно быть настолько прозрачным, чтобы его можно было бы совершенно не замечать. Любой акт восприятия с самого начала определяется коммуникативной интенцией11 . Но каждый коммуникативный жест должен быть выполнен, воплощен в некотором воспринимаемом действии (причем — в зависимости от ситуации — такого рода жестом вполне могут выступать и молчание, и бездействие). Знаменитый тезис Маклюэна «the medium is the message»12 , снимающий классическую бинарную оппозицию между «что» и «как» в коммуникации, фиксирует как раз важность перфор7 Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. 9 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. С. 25. 10 Луман Н. Социальные системы. СПб.: Наука, 2007. С. 531. 11 Bohm D. Science as Perception-communication // Structure of scientific Theories. Urbana, 1977. 12 McLuhan M. Understanding Media. New York: McGraw Hill, 1964. Примечательно, что в русском издании этот тезис ничтоже сумняшеся пытаются переводить, тем самым по инер8 Парсонс Т. 64 Искусство со-общаться мативной фактичности, которая выступает как расширение телесности. Ибо телесность, конечно, не сводится к физиологии, а должна пониматься, скорее, как некая воплощённость, реализованность — благодаря соответствующим социокультурным механизмам. Поэтому для профессиональных философских сообществ так важна рефлексия — в том числе и высокоуровневая, многопорядковая — по поводу собственных оснований и принципов организации. Научная работа имеет целью установление адекватного знания и о пространстве объективных связей между различными позициями, определяющими поле, и о необходимых связях, установленных через опосредование габитуса тех, кто занимает позиции в данном поле; так сказать, о связях между этими позициями и соответствующим видением позиции, т.е. между точками, занятыми в данном пространстве, и точками зрения на это же пространство, участвующими в действительности и в становлении этого пространства13 . Социологи уже начали движение в этом направлении14 . Если считать, что рефлексией нулевого порядка или ранга15 обладает нерефлексивная предметная деятельность, то осознание и осмысление этой деятельности будет уже рефлексией первого порядка, а осознание и осмысление этого осознания и осмысления — второго и т.д. Примечательно, что для схватывания самой рефлексии любого фиксированного уровня необходима рефлексия более высокого порядка, причем рефлексия любого уровня остаётся для самой себя по понятным причинам невидимой — образуется своего рода лестница, находясь на которой, мы можем видеть только более низкие ступеньки, но не можем видеть ту, на которой стоим. Ясно, что сама по себе рефлексивная возгонка, уходящая в пределе в дурную бесконечность, никаких позитивных результатов принести не может. Однако, без учёта многоярусных рефлексивных эффектов и возможности подключения дополнительных слоёв рефлексии мы рискуем сами себя концептуально стреножить, зашорить и, тем самым, заведомо неправомерно ограничить. Поэтому задача заключается ции привычных шагов идя против него или не замечая потерь. См.: Маклюэн М. Понимание медиа. М.–Жуковский: Канон–Пресс-Ц; Кучково поле, 2003. 13 Бурдье П. Цит. соч. С. 32. 14 Ср: Качанов Ю.Л. Автономия и структуры социологического дискурса. М.: Университетская книга, 2010. 15 Ср.: Лефевр В. Рефлексия. М.: «Когито-центр», 2003. С. 14. 65 В. Кузнецов в том, чтобы последовательно и критично надстраивать рефлексивные этажи, по возможности внимательно отслеживая возникающие эффекты. Переход от классической философии к философии неклассической16 и ознаменовался как раз введением ещё одного специального рефлексивного этажа, обеспечивающего тематизацию и проблематизацию тех практически неосознаваемых предпосылок, установок и допущений, которые лежат в основании соответствующих концепций и задают в первую очередь осознание мыслителем самого себя. Точнее, вскрывают роль предполагаемого понимания сознания в тех выводах, которые иначе можно было бы счесть беспредпосылочными и/или абсолютными. Ведь для классики нет каких-то иерархий в рефлексии — там это просто не нужно постольку, поскольку сознание полагается непрерывным, доступным саморефлексии в любой своей точке и прозрачным для самого себя. В неклассической ситуации дело обстоит совершенно иначе — нейтральная по видимости среда, универсальное казалось бы средство само обретает массу и плотность, становится принципиально значимым и универсально важным сообщением. Поскольку неклассика уже понимает, что беспредпосылочного (по)знания не бывает, постольку именно анализ его предпосылок и становится ключом к его осмыслению. Практики организации профессиональных философских сообществ предположительно должны учитывать все достижения собственной дисциплины. Студенческий дискуссионный клуб Кризис традиционных (со)обществ, связан, по-видимому, с тем, что они строились на основе того или иного вида зависимости или принуждения («Мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться»). Свободные сообщества, образующиеся путем самоорганизации, требуют парадоксального сочетания заинтересованности в совместной деятельности с отсутствием прямого, утилитарного интереса. Поэтому требуется наличие некоторого центра кристаллизации, своеобразной точки сборки. Именно такие тенденции можно наблюдать на примере организации студенческого дискуссионного клуба «Перспективы», действующего на философском факультете МГУ с 1994 года. Люди могут собираться в группы по разным принципам, на основе 16 Подробнее см.: Кузнецов В.Ю. Сдвиг от классики к неклассике и наращивание порядков рефлексии в философии // Вестник Московского университета. Серия 7 Философия. 2008. № 1. 66 Искусство со-общаться различных идентификаций и с разными целями. Социумы, предполагающие вынужденное (непроизвольное) участие, хотя и позволяют достичь некоторых насущных результатов, связанных, как правило, с необходимостью выживания, тем не менее практически совершенно исключают (не предполагают) возможности для свободного творчества. Спонтанно возникающие группы деятелей искусства, с другой стороны, образуются обычно единомышленниками для достижения какой-то определённой задачи и легко распадаются. Возникает вопрос, какая форма объединения может быть нужна тем, кто хочет заниматься философией? Очевидно, существование профессионального сообщества осмысленно тогда, когда позволяет своим участникам делать то, чего они не могли бы делать по отдельности. А это обстоятельство ставит следующий вопрос — зачем вообще мыслителю могут понадобиться Другие? Если занять радикально жёсткую позицию, предполагающую, что мышление — исключительно индивидуальный и автономный процесс, тогда, конечно, окажется, что присутствие Других не только может, но и должно ограничиться в лучшем случае разве что текстами (не считая ещё, возможно, общего социокультурного контекста образа жизни). . . Если же допустить возможность влияния на процесс мышления со стороны Других, тогда тут открываются целые спектры различных вариантов. Чтобы не увязнуть в мелких подробностях описания бесчисленных возможностей, уместно будет рассмотреть пару предельно противоположных случаев на конкретных примерах, которые были реализованы сравнительно недавно. Одну сторону представляет сообщество семинара «Вторая смена» (ныне, насколько мне известно, уже распавшееся), которое составляли люди, интересующиеся философией как хобби. Они очень серьёзно относились к себе и к своим занятиям, а потому на каждом заседании воспроизводили все самые худшие черты академических обычаев и прежде всего монотонно зачитываемые по бумажке доклады о том, что докладчик где-то вычитал, — скучные настолько, что мухи дохли на лету, но участники стойко держались. . . Другой полюс образует группа «Анонсенс», создававшаяся под лозунгом «Надо же что-то делать!» и долго державшаяся на том напряжении, которое обязательно возникает при встрече Славы с Сашей («ругачка») и которое стимулировало их если не думать, то по крайней мере громко и яростно спорить. Номинально предназначенный воплощать коммунитарную философию («мысль воз- 67 В. Кузнецов никает только в коллективе»), «Анонсенс» превратился в мыслеколхоз, обезличивающий участников в анонимных текстах17 . Если нам не хватает качественного профессионального общения, которое могло бы вдохновить на новые мысли и тексты, и если оно по каким-либо причинам не складывается само собой, то надо его организовать. Дело идёт о создании потенциально открытой для всех заинтересованных площадки, где может происходить свободное и живое обсуждение разнообразных вопросов, разнородных тем, интригующих сюжетов и где могли бы разворачиваться дискуссии, не превращающиеся в спор ради спора, ради самоутверждения или ради победы любой ценой, но позволяющие сопоставить и оценить аргументы различных концепций, стратегий и дискурсов. Понятно, что современный аналог утопической идеальной агоры не может возникнуть автоматически. Вместе с тем мы понимали, что жёстко предзаданная организационная структура тут может только помешать. Поэтому для создания студенческого клуба было принято решение поддерживать чётко выстроенную рамку ситуации (заказанная аудитория, фиксированное время), внутри которой возможны различные манёвры. При этом прежде всего пришлось столкнуться с действием стереотипов, распространённых в современных образовательных практиках. Собираются студенты и по привычке смотрят на преподавателя, мол, сейчас он нам скажет, что и как делать; а преподаватель сидит где-нибудь в уголке и молчит. Приходится объяснять, что на занятиях по расписанию и даже на факультативах структуру действий задаёт преподаватель, но клуб — дело другое, так что здесь инициатива должна исходить от самих студентов. . . Не всё, конечно, сразу же получалось. Иногда дискуссия завязывалась, иногда — нет; иногда приходило много народу, а иногда — мало. . . В процессе разворачивания деятельности клуба возникали даже автономные студенческие группы («палеонтологи», «внатурфилософы», «реалисты», «деревенщики» и др.). Постепенно, однако, удалось запустить самоподдерживающийся процесс самоорганизации, участники прочувствовали клуб как своё собственное дело, создали сообщества в интернете — в Живом Журнале (http://philos-club.livejournal.com), Вконтакте (http:// vk.com/club5866270), Фейсбуке (http://www.facebook.com/ groups/philos.club), стали предлагать разные форматы мероприятий. . . 17 См.: Д+В−“А=НОНСЕНС=” // Социум. 1992. № 7. 68 Искусство со-общаться Если исходить из того, что мысль, хотя и совершается, случается индивидуально, то есть приходит первоначально в голову кому-то одному, тем не менее может воспроизводится другими, и наоборот, другие могут поучаствовать в создании условий, в которых повышается вероятность появления новой мысли, — в таком случае клуб оказывается (по крайней мере — потенциально) именно такой средой, в которой общими усилиями формируется творческая атмосфера, индуцирующая новые идеи. При этом важно, чтобы тут могли развиваться и разворачиваться самые различные концептуальные подходы, не подавляя друг друга и не сводясь к какому-либо общему знаменателю. Так, чтобы каждый из участников мог внести что-то своё и вынести что-то для себя. Таким образом, у нас практикуется чаще всего несколько режимов работы. Общее обсуждение какого-либо сюжета (это может быть книга, фильм, спектакль. . . ) или дискуссия вокруг некоторой проблемы, приглашение для беседы какого-нибудь интересного мыслителя или специалиста, мастера в своем роде искусства, организация диспута (как правило, представителей двух позиций), работа в режиме лаборатории или мастерской — сборка или разборка некоторого текста или доклада и т.д. Последнее время наметилась тенденция к активизации выездных мероприятий — выбираемся в театр или кино, в мастерскую художника или психолога, на выставку или в музей и т.п. Кому и зачем всё это нужно? Конечно, для формального отправления образовательных процедур или для привычно автоматического выполнения академических традиций ничего подобного делать просто не нужно. Однако, это может быть важным для тех преподавателей, которые не мнят себя по должности носителями истины в последней инстанции, не считают зазорным учиться (в том числе и у своих учеников), видят свою задачу прежде всего в фасилитации творческого процесса. Равно как и для тех студентов, которые не просто пришли за дипломом, а намереваются стать хорошими специалистами, заинтересованными в разворачивании новых концепций и способными на продуктивное мышление. Ибо клуб предоставляет прежде всего возможности для взаимного индуцирования участников. 69 В. Кузнецов Литература Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. Качанов Ю.Л. Автономия и структуры социологического дискурса. М.: Университетская книга, 2010. Кралечкин Д. Две или три вещи, которые я знаю о симулякрах // Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Академический Проект, 2007. Кузнецов В.Ю. Сдвиг от классики к неклассике и наращивание порядков рефлексии в философии // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2008. № 1. С. 3–18. Д+В−“А=НОНСЕНС=” // Социум. 1992. № 7. Лефевр В. Рефлексия. М.: «Когито-центр», 2003. С. 14. Луман Н. Социальные системы. СПб.: Наука, 2007. Нанси Ж.-Л. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггер и современность. М.: Наука, 1991. С. 91–102. Маклюэн М. Понимание медиа. М.-Жуковский: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2003. Папуш М. Психотехника экзистенциального выбора. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002. Пелевин В. Затворник и Шестипалый // Пелевин В. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: ТЕРРА, 1996. Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002. Bohm D. Science as Perception-communication // Structure of scientific Theories. Urbana, 1977. McLuhan M. Understanding Media. New York: McGraw Hill, 1964. Е. Савицкий «Наша общая пустота»: как мыслить полые сообщества?* В статье рассматриваются возможности теоретического описания сообществ, которые не могут быть представлены ни как «позитивные», объединённые вокруг некой продуктивной программы, ни как «негативные», исходящие из неприятия чего-либо или из краха своего проекта. Основное внимание уделяется самоописаниям интеллектуальных сообществ 1980–2000-х годов, при этом в первой части статьи речь идёт о «негативных» сообществах, а во второй им противопоставляются попытки представить специфический опыт пустоты, основания сообщества вокруг пустоты и удержания этой пустоты, отказа от её преодоления. Ставится также вопрос о практической и политической применимости понятия «полых сообществ». Ключевые слова: сообщества, новый историзм, постколониальные исследования, Гумбрехт, Кристева, Диди-Юберман, Бадью, Слотердайк. I Выражение «полые сообщества» я придумал недавно и возникло оно из необходимости описать особый род сообществ, которые нельзя опре* Статья подготовлена при поддержке Программы стратегического развития РГГУ. 71 Е. Савицкий делить как «позитивные» или как «негативные». Что имеется в виду? Позитивным сообществом я называю такое, о котором можно сказать, что оно объединяется вокруг какой-то общей позитивной программы: нам что-то интересно, мы хотим что-то вместе делать. Например, это некая научная школа. Но это может быть и что угодно другое: сообщества писателей-романтиков, революционеров-коммунистов или собирателейнумизматов, движимые открытостью новому и постоянной незавершённостью своих проектов. О таких сообществах проще всего говорить, и в рамках интеллектуальной истории мы, как правило, только такие сообщества и находим: можно сказать, что есть общенаучное требование видеть вещи именно таким образом. Что «считается», так это удавшиеся, состоявшиеся проекты, способные предъявить некий позитивный результат. Этим «позитивным» сообществам можно противопоставить сообщества «негативные», которые, наоборот, отличаются тем, что не имеют позитивной программы или же она для них второстепенна. Это сообщества, которые ставят перед собой задачу не столько произвести нечто новое, сколько, скажем, выместить накопившуюся злобу. Это может быть «ненавидящая речь», которая, однако, способна организовать вокруг себя политическое сообщество и требовать прав на гражданское признание1 . Это может быть и жуткое молчание угнетённых2 , порождающее бредовые страхи и террористические реакции3 . Но прежде всего меня интересовало то, как подобные негативные сообщества могут быть представлены в интеллектуальной истории. Точнее, изначальной для меня была проблема несоответствия между ориентацией стандартных описаний научных школ на их «позитивные» качества и наиболее характерными чертами тех новых исследовательских направлений (тех сообществ исследователей), которые возникали в 1980–1990-е годы. Так, несколько лет назад мне поручили читать курс о «новом историзме». И это подразумевало, что я буду рассказывать студентам о некоей теоретической программе «нового историзма», о новых методах, новых исследовательских вопросах, чтобы можно было перенять этот позитивный опыт и использовать его в своей работе. Примерно в этом духе «новый историзм» и обсуждался в «Новом литературном обозрении» и на разных круглых 1 Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. N.Y.: Routledge, 1997. 200 p. Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. C. Nelson, L. Grossberg. Chicago: Univ. of Illinois Press, 1987. P. 271–316. 3 Taussig M. Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991. 538 p. 2 Spivak G. 72 «Наша общая пустота». . . столах в 1999–2001 гг.: он оценивался на предмет того, что он привносит в качестве новой методологии4 . Но когда я открыл изданный в 2000 году С. Гринблаттом и К. Галлахер том «Практикуя новый историзм»5 , то уже первые строки введения звучали вызовом моему намерению представить позитивные достижения этой исследовательской группы. С. Гринблатт и К. Галлахер с самого начала описывают своё удивление, когда они впервые увидели в филологическом ежегоднике объявление о вакансии на должность преподавателя «нового историзма». Это было удивительно, говорят они, поскольку преподавать можно какой-то предмет, что-то, что обладает какой-то связностью, чего в «новом историзме» не было. И было странно, что может найтись человек, который действительно будет читать курс по «новому историзму», и непонятно, что он будет при этом читать. Конечно, говорят Гринблатт и Галлахер, мы как никто другие знали об истории и принципах «нового историзма», но главное, что мы о нём знали — это что он не поддаётся какой-либо систематизации. Мы никогда не формулировали набора теоретических положений или чёткой программы; не то, что для других, мы даже для себя не составляли никакого перечня вопросов, который следует задавать всякому литературному тексту, чтобы получить его новоистористское прочтение. Соответственно, мы никогда не были в состоянии сказать кому-то с укором: «нет, ты не настоящий новый историст», или наоборот: «да, вот это подлинно новоистористская работа». Вопрос о подлинном «новом историзме» совершенно невозможен, он никогда не был школой, в которую можно записаться или из которой можно быть исключённой. Термин «новый историзм», говорят Гринблатт и Галлахер, нередко прилагался к целому ряду критических подходов, которые крайне далеки от наших собственных, и которые часто имеют между собой мало общего. Поэтому, даже говоря о «практиковании нового историзма», мы можем говорить только за себя — заявляют Гринблатт и Галлахер. И они говорят, что, в самом общем плане, то, что руководило ими — это неприятие американской «новой критики»6 . Эти рассуждения Гринблатта и Галлахер примечательны в двух отношениях. Во-первых, они всячески отрицают какой бы то ни было характер подлинности, внутренней аутентичности своего проекта, возмож4 См., например: Козлов С. На rendez-vous c новым историзмом // Новое литературное обозрение. № 42. 2000. С. 5–12. 5 Greenblatt S., Gallagher C. Introduction // Greenblatt S., Gallagher C. Practicing New Historicism. L., Chicago: Univ.of Chicago Press, 2000. P. 1–19. 6 Ibid. P. 1–2. 73 Е. Савицкий ность реконструировать его «настоящее содержание». И вслед за этим первым утверждением говорится, что «новый историзм» (уже по отношению к самому этому наименованию оба автора ведут себя очень дистанцированно) возникает изначально из неприятия старого, и это неприятие, сугубая негативность, важнее, чем наличие чётко сформулированной теоретической программы. Эта сугубая негативность в определении собственной работы ещё более отчётливо проявляется в рассуждениях другого автора, прочём, во многом близкого «новым истористам». В 2005 году Ганс Ульрих Гумбрехт опубликовал в «Новом литературном обозрении» статью «От эдиповой герменевтики — к философии присутствия»7 , где он рассказывает о том, как сложилась группа исследователей, которые, в противовес герменевтике Ганса Роберта Яусса с её постулированием дистанции по отношению к изучаемой реальности, её языковой опосредованностью, необходимостью работы интерпретации, стали обращать внимание на различные эффекты «присутствия» и «неязыкового» в культуре. Я тут не буду касаться сути концепции и степени её убедительности, меня снова интересует лишь то, как описывается возникновение этого сообщества, которое стало регулярно проводить в Дубровнике свои встречи, издавать программного характера сборники, всячески оспаривать интеллектуальную гегемонию Констанцской школы в немецком литературоведении. Гумбрехт начинает рассказ с истории своего личного конфликта с Яуссом, его академическим учителем, из-за сделанного Гумбрехтом доклада, в котором он, желая показать потенциал герменевтики для демократизации литературоведения, исследовал на примерах разных читательских реакций новые возможности прочтения современной немецкой поэзии. Задним числом Гумбрехт описывает этот свой доклад как не вполне осознаваемый им тогда бунт против авторитета учителя, его авторитетного прочтения текстов. Гумбрехт выстраивает при этом то, что он называет своей интеллектуальной генеалогией, в которой он сам был учеником Яусса, Яусс был учеником Гадамера, Гадамер был учеником Хайдеггера, а Хайдеггер был учеником Эдмунда Гуссерля. Используя фрейдистскую метафорику и теорию Харольда Блума о страхе влияния и о борьбе писателей со своими предшественниками как важном факторе творчества, Гумбрехт пишет, что как более слабый потомок в пятом поколении, я не мог не попы7 Гумбрехт Г.У. От эдиповой герменевтики — к философии присутствия // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 63–85. 74 «Наша общая пустота». . . таться причинить боль своему академическому “отцу”, который, в свою очередь, сделал всё, что мог, и всё, что предлагали ему исторические обстоятельства, чтобы побольнее ранить кое-кого из собственных академических предков8 . Яусс высказался о докладе Гумбрехта резко критически. Гумбрехт пишет, что его доклад обернулся для него «настоящей катастрофой, унижением и поражением». Это здесь важные слова, потому что именно из этого страха, унижения, ощущения катастрофы и рождается его интеллектуальный проект. К этим словам Губрехт добавляет и другие: После этого вечера в начале лета (кажется, 1972 года), когда я был публично подвергнут позору (с тех пор этот случай навязчиво ассоциируется у меня со знаменитой исторической сценой, когда капитана Дрейфуса лишили всех его военных наград, — из чего, к моему смущению, следует, что я до сих пор жду реабилитации!), после этого катастрофического для меня вечера отношения с некогда обожаемым и даже любимым “Doktorvater” так никогда и не стали прежними — вплоть до того, что с тех пор нежно-буколический, предгорный пейзаж Констанца неизменно вспоминается как фон личного горя и депрессии. Но моя немедленная агрессия и энергия мести обернулись не против Яусса, а против слов “диалектика” и “герменевтика” — как я теперь знаю, навсегда. Вот уже более тридцати лет я делаю всё, что в моих интеллектуальных силах, чтобы доказать: эти слова так же “пусты”, какой казалась осуждающему взгляду Яусса моя концептуализация литературного текста9 . Таким образом, к спектру чувств, в результате которых разрушается принадлежность к одному сообществу и будет возникать принадлежность к другому, добавляются ещё и «позор», «депрессия», «горе», «немедленная агрессия» и «энергия мести». Получив некоторое время спустя профессуру в Бохуме, Гумбрехт высказывается уже прямо против Яусса и его теории. И следующим поступком было уже создание альтернативной исследовательской группы. Целью [. . . ] было выступить против междисциплинарных коллоквиумов и изданий под общим названием “Poetik und Hermeneutik” 8 Там 9 Там же. С. 68. же. C. 70. 75 Е. Савицкий [. . . ], которые Яусс вдохновлял и возглавлял с середины 1960-х, — каким бы выдающимся я ни считал их интеллектуальное качество. Несмотря на редкие приглашения на мероприятия “Поэтики и герменевтики”, я не был удостоен столь желанной чести стать постоянным участником этой “исследовательской группы” (таков был её официальный подзаголовок, или родовое имя). Поэтому единственным местом, где я мог получить хоть какую-то компенсацию, стал учреждённый и организуемый мною на протяжении 1980-х годов альтернативный цикл коллоквиумов для тех гуманитариев моего поколения (преимущественно немцев), которые по-прежнему ощущали призвание вести себя как “молодые рассерженные ученые”, — и для некоторых светил постарше, не удостоенных подчеркнуто снисходительного внимания истеблишмента “Poetik und Hermeneutik”10 . Так возник проект коллоквиумов в Дубровнике, и публикации материалов этого коллоквиума скоро стали задавать интеллектуальную моду вместо «Поэтики и герменевтики». История Гумбрехта на этом не заканчивается, но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, что и здесь основание сообщества описывается как работа по существу негативная. Гумбрехт всячески подчёркивает, что у него не было изначально никакого позитивного проекта, и также впоследствии он долгое время не мог определить характер своих исследований никак иначе, кроме как словом «анти-герменевтика». Такая сугубая негативность мне показалась интересной, поскольку это именно то, что, как уже говорилось, в истории науки обычно или вовсе не считается, или же считается как нечто второстепенное. Между тем, исследуемые мною авторы, наоборот, подчёркивали, что важна именно негативность как таковая: вначале есть не вполне рефлексируемое недовольство тем, что есть, а уже потом, гораздо позднее, это недовольство может находить себе поддержку в каких-то позитивных теоретических обоснованиях. Тут можно взять и примеры более далёкие от «нового историзма», например из области современных постколониальных исследований, где также возникает тема неудачи, провала, саморазрушения исследовательской группы как наиболее интересного опыта. Например, Йоханнес Фабиан11 писал об исследованиях тропической Африки в конце XIX–начале 10 Там же. С. 71. Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa. Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 2000. 11 Fabian J. 76 «Наша общая пустота». . . XX вв., и ему был важен не столько позитивный прогресс знания, сколько то сопротивление, которое этому европейскому знанию оказывалось и вело в итоге к его провалу и разрушению. Книга Фабиана начинается с удивления фантастичностью многих сообщаемых путешественниками того времени сведений, но именно такое неправильное, искажённое, «разрушенное» знание позволяет иначе увидеть саму исследовательскую работу. Вместо рационального и контролирующего себя субъекта, каковыми стремились выглядеть исследователи Африки, мы видим людей, страдающих от тропической лихорадки, одержимых паническими страхами, зависящих от случайных источников информации и вынужденных полагаться на слухи, пытающихся справиться с превосходящими их силы логистическими проблемами, и, в конце концов, ищущих спасения в алкоголе, — всё это делает военно-научные сообщества экспедиций «desœuvrés» не только в смысле их непроизводительности или нефункциональности, но и в более точном смысле «разрушенности», «краха произведения». Фабиан считает возможным и необходимым писать именно такую историю географии и социальной антропологии12 . Также и у Энн Стоулер13 колониальные архивы рассматриваются не только в том плане, в каком они документируют налаженное функционирование европейской администрации и её уверенность в себе — Соулер вслед за Деррида возражает Леви-Строссу, считавшего письмо инструментом контроля и властвования. Для Стоулер архивы содержат в себе также и свидетельства подспудной работы по разрушению этой европейской самоуверенности. Рапорты чиновников то и дело основываются на домыслах, перепроверить которые оказывается невозможно; администрация выстраивает собственные «иерархии достоверности», не имеющие прямого отношения к реально происходящему; опять же, имеют значение страхи, которыми одержимы европейцы, и которые они про12 Конечно, во многом это ответ на упрёки, высказанные в адрес антропологов и географов в книге «Ориентализм» Э. Саида, где показывалось, каким образом вроде бы политически нейтральные европейские исследовательские практики не просто «захватывают» свои объекты, как об этом писал Хайдеггер, абстрактно критикуя «уродство субъективизма», а, оказавшись в колониальной реальности, самым непосредственным образом служат подчинению того, с чем они имеют дело. В логике Саида, чем эффективнее исследовательские методы, тем они хуже, потому что это означает лишь их большую способность подчинять себе «объекты исследования». Соответственно, более важным опытом оказываются ситуации, когда такое подчинение не удаётся, когда встреча с неизвестным имеет результатом не позитивное знание, а разрушение моих исследовательских инструментов. 13 Stoler A.L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton, Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. 314 p. 77 Е. Савицкий ецируют на местное население. Всё это ведёт к тому, что архив неизбежно производит собственный негативный избыток, и усилия чиновников (но также, на самом деле, и современных исследователей) оказываются направлены на то, чтобы как-то с ним справиться. И в американской медиевистике 1990–2000-х годов становится вдруг актуальной тема страхов, ужаса, гнева, злобы — как в осмыслении прошлого, так и собственной интеллектуальной традиции14 . Подобные темы обсуждаются и среди немецких интеллектуалов — примером могут быть специальные номера издаваемого Карлом-Хайнцем Борером журнала «Меркурий» в 2000-х годах15 . Таким образом, множество различных, но во многом схожих интеллектуальных направлений последних тридцати лет проблематизируют негативные основания и принципы функционирования учёных сообществ, и это указывает на необходимость иначе осмысливать современную интеллектуальную историю, нежели чем через позитивные понятия школ, методов, расширений «территорий историка» и т.п. II До самого последнего времени понятие «негативных сообществ» казалось мне довольно хорошо работающим, пока я не стал обращать внимание на явные лаканианские аллюзии у тех же новых истористов16 , и 14 Cм., например: Спигел Г., Фридман П. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. C. 125–166. Biddick K. The Shock of Medievalism. Durham: Duke Univ. Press, 1998. 328 p. Enders J. The Medieval Theater of Cruelty: Rhetoric, Memory, Violence. L., Ithaca: Cornell Univ. Press, 1999. 268 p. 15 Cм, например: Gebauer G. Das Ressentiment Denkt: Rousseau, Nietzsche, Heidegger // Merkur. № 9/10. Sonderheft: Ressentiment! Zur Kritik der Kultur. 2004. S. 762–773. Schmidt T. Dialektik der Aufklärung: Zu einer Grundschrift des kulturkritischen Ressentiments // Ibid. S. 745–753. Münkler H. Heroische und Postheroische Gesellschaften // Merkur. № 8/9. Sonderheft: Kein Wille zur Macht. Dekadenz. 2007. S. 742. Bohrer K.H. Kein Wille zur Macht // Ibid. S. 659–667. См. также: Idem. Ästhetische Negativität: Zum Problem des literarischen und philosophischen Nihilismus. München: Carl Hanser Verlag, 2002. 424 S. В своей последней книге Борер рассуждает очень близко к Гумбрехту, подчёркивая важность агонального характера мышления, которое строится на подозрении в отношении более ранних идей: Idem. Selbstdenker und Systemdenker. Über agonales Denken. — München: Carl Hanser Verlag, 2012. 221 S. 16 В отличие от влияния Фуко, влияние Лакана, а также связанных с ним людей, в особенности М. де Серто, на современную практику историко-культурных исследований изучено довольно плохо, и это часто ведёт к непониманию важных новаций в интеллектуальной истории последних тридцати лет. 78 «Наша общая пустота». . . особенно на разные словосочетания, связанные с пустотой. Создание пустоты можно описать как негативность, но всё-таки это не то же самое. И когда сами новые истористы говорят о себе, что нас ничего не объединяло, никакой общей программы, никаких общих принципов, и ни о ком нельзя сказать, что он был «подлинным новым истористом», — это утверждение собственной неподлинности, неидентичности своего проекта, действительно можно трактовать как негативность, но в то же время это можно видеть и иначе, как гораздо более специфическую работу именно с пустотой. Примером тут может быть известная книга С. Гринблатта «Формировании Я в эпоху Ренессанса»17 , где, на первый взгляд, воспроизводится старая, сформулированная ещё Я. Буркхадтом, концепция «открытия индивида» в эпоху Возрождения. Многими этот текст так и был прочитан — в частности, перевод небольшого отрывка из него был опубликован в «Новом литературном обозрении» как свидетельство «антропологического поворота» в современных гуманитарных исследованиях18 . Но именно отсылки к Лакану у Гринблатта делают такое прочтение его книги сомнительным. Гринблатт не воспевает ренессансную индивидуальность, а вовсе наоборот. Способность человека Нового времени к импровизации, к принятию точки зрения другого, обретение им большей внутренней мобильности оказывается для Гринблатта связанным с работой опустошения, появлением полого индивида, наиболее завершённым воплощением которого оказывается шекспировский Яго. Именно эта внутренняя пустота позволяет новоевропейскому индивиду манипулировать другими, присваивать себе их (недостаточно мобильные) верования и обращать себе на пользу. Истории Яго предшествует история испанцев, которые принимают индейские верования, чтобы наиболее эффективно отправить этих людей на рудники. В своей книге Гринблатт выстраивает своеобразную генеалогию этого полого человека в XVI веке, и потому первые главы не менее важны, чем переведённая на русский язык последняя. В особенности я хотел бы обратить внимание на то, как Гринблатт в первой главе рассматривает «Послов» Гольбейна. Речь идёт об известной картине из лондон17 Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare. L., Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. P. 19–24. 18 См.: Гринблатт С. См. также посвящённые «новому историзму» комментарии А. Эткинда, указывающего на «возврат» этого направления к «культурным универсалиям», одной из важнейших среди которых является человек: Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. № 47. 2001. С. 7–40. 79 Е. Савицкий ской Национальной галереи, на которой изображены два французских посланника при английском дворе, стоящих по обе стороны от стола, на котором помещены различные книги и инструменты, символизирующие знание, внизу картины помещено серое анамофическое изображение черепа, которое видно не сразу. Картина в определённом смысле предельно натуралистичная, но в то же время, как показывает Гринблатт, разрушающая всякие попытки однозначно что-то в ней увидеть, заставляющая зрителя переходить с места на место, оставлять своё обычное положение перед картиной. Изначально это рассмотрение картины Гольбейна представлялось мне именно примером «негативной» исследовательской логики, логики выстраивания непродуктивного сообщества между зрителем (при всей условности этого понятия в то время) и образом. Но это последовательное разрушение попыток увидеть что бы то ни было, однако, есть лишь процедура, конечным итогом которой оказывается удержание пустоты, картины как зияния. Гринблатт, обращаясь к этой картине (а к ней ещё до него не раз возвращался на своих семинарах Лакан), сначала рассматривает то, что сразу видно на ней: фигуры послов и предметы на столе, и только потом обращается к анаморфическому черепу. Этот череп, отмечает Гринблатт, выглядит более беспокоящим, чем обычные в то время изображения смерти — надгробия с изображением двух тел, одного в расцвете сил и со всеми атрибутами земного существования, и другого — разрушающегося, съедаемого червями. Таки надгробия, говорит Гринблатт, хотя и нагоняют страх, но, в общем, делают соотношение живого и мёртвого ясным, они уверяют зрителя, что эти отношения — вполне чёткие, простые и однозначные. Показывая тело полным сил и разрушающимся, эти надгробия указывают на отношения между ложным бренным миром и тем, что подлинно и единственно реально. Однако в «Послах» именно такое ясное и непосредственное видение оказывается невозможно: смерть отображается здесь не в своём разрушающем плоть могуществе, или, как это было известно из средневековой литературы, в своей способности наводить страх и причинять невыносимые страдания, а в её сверхъестественной недоступности и отсутствии. То, что невидимо или воспринимается лишь как тусклое пятно, воздействует гораздо более беспокояще, нежели то, что мы можем увидеть прямо и полностью, и в особенности тогда, когда ограничения видения оказываются структурными, следствием в гораздо большей степени естественных способностей восприятия, нежели застенчивости наблюдателя. 80 «Наша общая пустота». . . Как показывает Гринблатт, на картине Гольбейна анаморфический череп бросает тень на элегантный пол, и таким образом демонстрирует собственную субстанциальность, но эта тень падает в ином направлении, чем тень от послов или от объектов на столе. Присутствие смерти, таким образом, одновременно и утверждается, и отрицается; она может стать видимой для нас, если мы займём соответствующую позицию, смотря на картину с угла, но она очевидно недоступна фигурам в картине. Точнее, одеяние одного из послов, Динтевиля, украшено серебряной брошью в форме мёртвой головы, но зритель, отмечает Гринблатт, в гораздо большей мере чувствует несоотносимость между этим украшением и черепом на полу, нежели их соответствие друг другу. И эта несоотносимость подтверждается тем, что мы должны исказить и, в сущности, стереть фигуры на картине, чтобы увидеть череп. Чтобы увидеть его, зритель должен отказаться от «нормального» порядка видения, он вынужден оставить своё центральное положение, покинуть своё место, занять маргинальную позицию, подобно тому, как сам череп пребывает в не-месте по отношению к другим изображённым Гольбейном предметам. Картина принуждает мысленно менять перспективу, передвигаться из одной точки в другую и обратно. Но покинуть своё место, самому оказаться в не-месте означает изменить в картине всё, стереть всё прочее, кроме черепа, привнести в картину смерть и сделать невозможным возврат к её нормальному видению. В тот самый момент, когда мы перемещаемся от центра к периферии, жизнь стирается смертью, репрезентация становится произведением искусства. Изображённые на картине Жан де Дантевиль и Жорж де Сельв, кажущиеся столь живыми и настоящими, оказываются лишь пигментами на холсте, иллюзионистским трюком: как будто стоящие перед нами, они не существуют где-либо, и потому существуют «в утопии». С другой стороны, Гринблатт изначально описывает череп как инаковый и нечеловеческий («inhuman», в определённом смысле, — и не–, и в–человеческий), но уже такое описание, как замечает Гринблатт далее, иронически оказывается его искажением, ведь это в действительности единственный предмет на этой картине, наполненной книгами и научными инструментами, который оказывается одновременно абсолютно естественным, природным, в том смысле, что он не есть творение художника, и в то же время это абсолютно человеческий объект. Кроме черепа, принадлежащими человеку на картине кажутся ещё и лица и руки Дантевиля и Сельва, но то положение, та поза, которую придал им Гольбейн, делают их наиболее художественно проработанными объектами на картине. Че81 Е. Савицкий реп оказывается единственным подлинно-человеческим, свободным от придания некой искусственной формы, изображением на картине. Но в то же время, анаморфическое изображение черепа, эмблема того, что остаётся от внешнего и притворного, что сопротивляется ему, является и одним из наиболее художественно сложных элементов картины, потребовавшим от художника особого умения. Кроме того, мёртвая голова оказывается одним из украшений в одежде Дантевиля, наряду со знаком ордена св. Михаила. Как говорит Гринблатт, эффект этого парадокса — сопротивление всякой ясной локализации реальности в картине, которое ставит под вопрос само понятие локализуемой реальности, на которую мы обычно полагаемся в нашем картографировании мира. Эффект в том, что оказываются подвергнуты сомнению те знаковые системы, которыми мы столь уверенно пользуемся. Таким образом, Гольбейн, по словам Гринблатта, смешивает радикальное вопрошание о статусе мира с радикальным вопрошанием о статусе искусства19 . Известно, что смешать вопрошание о статусе мира с вопрошанием о статусе искусства стремился и сам «новый историзм», как реакция на разделение одного и другого в «новой критике». Хотя Гринблатт и исследует тут характерный для раннего Нового времени тип репрезентации, в действительности тут речь идёт и о самом «Новом историзме». Именно текст Гринблатта, а не сама картина, заставляет нас на самом деле переходить с места на место (если мы, читая его, отнесёмся к делу серьёзно, поставим перед собой репродукцию картины и попытаемся увидеть её каждым из описанных способов), именно текст Гринблатта «заражает» нас остранением, не позволяя вернуться к изначальной кажущейся ясности изображения. Снова эта ясность разрушается, теряет устойчивость. Снова и снова в тексте Гринблатта мы сталкиваемся с «невидимой смертью», и она будет ещё возвращаться в других его книгах, от обнаружения смерти в собственном голосе в начале «Шекспировских взаимодействий»20 до специального исследования проблем общения с мёртвыми в ренессансной Англии после упразднения протестантами Чистилища в «Гамлете в чистилище»21 . О подобном введении прошлого в качестве дифференции, различия по отношению к настоящему, подобно черепу на картине Гольбейна, пи19 Ibid. 20 Greenblatt S. Shakespearean Negotiations. Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 1988. 205 p. 21 Idem. Hamlet in Purgatory. Princeton, Oxford: Princeton Univ. Press, 2001. 322 p. 82 «Наша общая пустота». . . сал еще Мишель де Серто, который в начале 1980-х как раз был в Калифорнии (где и возник «Новый историзм»). Уже Серто, в своих более ранних работах22 , противопоставлял опыт истории, организованный вокруг отсутствия прошлого, вокруг пустоты, и опыт памяти, организованный вокруг его живого пристутствия, возвращения, возобновления. Из этого противопоставления затем исходит и Пьер Нора, когда формулирует свой коллективный проект «Мест памяти», но он при этом пытается, по его словам, «удержать тепло» мемориальной традиции, и даже если мы уже едва можем вспомнить, чем она была, то у нас хотя бы сохраняется ощущение разрыва, той пустоты, которая возникла с исчезновением этого опыта. По Нора историография, апеллируя к этому мемориальному опыту, выстраивается вокруг пустоты23 . Гринблатт и другие новые истористы, в отличие от Нора, прямо обращаются к той пустоте, что составляет основу исторического опыта, но пытаются думать о прошлом так, чтобы эта пустота не запрятывалась как непристойный секрет историописания, а продумывалась бы и служила бы таким, пусть странным, основанием исторического сообщества. Рассмотрение Гринблаттом «Послов» примечательно, таким образом, тем, что мы не можем сказать, что тут определённо что-то «есть», а там — «нет». Мы не можем наверняка локализировать ни присутствие твёрдой реальности (фигуры послов, инструменты знания), ни её отрицание и отсутствие (череп, смерть, иной мир). Важно при этом, что в эту игру переворачивания включена не только «позитивность», но и «негативность». Гринблатт с самого начала отчётливо противопоставляет логику «Послов» тем надгробиям, где и живое, и разлагающееся тела получают своё место, и позволяют нам на этом успокоиться. Разговор о смерти и могилах, конечно, тянет за собой множество других примеров. Например, полемику Жоржа Диди-Юбермана и Юлии Кристевой в конце 1980-х годов. Кристева в своей книге «Чёрное солнце»24 также рассматривает картину Гольбейна, на этот раз «Мертвого Христа», и настаивает на важности именно негативного опыта (депрессии, меланхолии), на мужестве видеть ничто. Как пишет Кристева, «мы 22 Cм., в особенности: Сerteau M. de. L’écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975. 528 p. об этом: Савицкий Е.Е. Память в историографии 1980–2000-х годов: между конструированием и руинированием // Историческая память, власть и дисциплинарная история. Материалы международной научной конференции, Пятигорск 23–25 апреля 2010 г. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2010. С. 83–86. 24 Кристева Ю. Чёрное солнце. Депрессия и меланхолия. М.: Когито-Центр, 2010. С. 117– 150. 23 См. 83 Е. Савицкий легко представляем себе человека Возрождения — в том облике, который был запечатлен для нас Рабле: величественным, немного, возможно, странным, как Панург, но искренне устремлённым к счастью и мудрости божественной бутылки. Гольбейн предлагает нам другое видение — видение человека, подчинённого смерти, человека, заключающего смерть в свои объятия, принимающего её в самое своё существо и объединяющегося с ней не как с предельной сущностью своей собственной десакрализованной реальности, которая оказывается основанием нового достоинства. Именно потому, что человек глядит в лицо собственной смерти, и, быть может, принимает риск душевной болезни, риск психической смерти, — он достигает нового измерения. Не обязательно измерения атеизма, но наверняка измерения стойкости, лишившейся иллюзий, трезвой и достойной. Как картина Гольбейна»25 . Таким образом, пустота (это слово не раз использует Кристева) служит здесь основанием иного сообщества, нежели те, о которых мы обычно думаем в связи с Рабле и пр., но это не только опыт прошлого, это и особое достоинство нашего собственного депрессивного опыта, когда ничего больше нет, когда всему конец. Тут важно, что это не какое-то инструментальное опустошение, «расчистка пространства для нового», для Кристевой важно иметь мужество остаться в этом опустошённом сообществе. Видение Гольбейна Кристева описывает как отстранённо-циническое, тавтологичное и минималистское — оно не уводит нас в потустороннюю игру значений, как разные итальянские варианты этого же образа. Жорж Диди-Юберман в книге «То, что мы видим, то, что смотрит на нас»26 не говорит о Гольбейне, но обращается к тому, что же такое минимализм, и разговору о минимализме предшествуют две главы размышлений о смерти и могилах. В частности, Диди-Юберман говорит о том, что он называет двумя типами уклонения от пустоты, то есть, от того визуального опыта утраты, который для него служит началом всякого видения (новорождённый ребенок, переживший утрату матери, и заново разыгрывающий её смерть в игре «fort-da»). Одним типом уклонения от пустоты оказывается «человек тавтологии», перед лицом могилы утверждающий, что видит только то, что он видит, эту могильную плиту, и ничего больше. Как другой тип уклонения Диди-Юберман описывает человека веры, для которого есть высший смысл, и пусть могила пуста, но её обитатель есть, пусть и не здесь, в ином мире. Я не буду здесь вос25 Там же. С. 129 («Смерть против Возрождения»). То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. С. 16– 26 Диди-Юберман Ж. 26. 84 «Наша общая пустота». . . производить всю аргументацию Диди-Юбермана, для меня здесь важно отметить лишь то, что у него снова возникает это противопоставление «позитивного» и «негативного» опыта, но и тот и другой упускают измерение пустоты, оказываются неспособны к удержанию основанного на этой пустоте сообщества. Предлагаемая Кристевой форма сообщества в итоге оказывается лишь одной из форм такого уклонения. Так же, как и Гринблатт всё время говорил о необходимости оставления своего места, о работе опустошения, так же и Диди-Юберман настаивает здесь на пороговом характере опыта пустоты, своеобразном движении явления-исчезновения. Видимо, это можно сравнить с тем, как у Фуко в начале «Слов и вещей», в его рассмотрении картины, на этот раз — «Менин» Веласкеса, рука художника находится между картиной и палитрой, в прерванном движении, она появляется-исчезает (и в этом смысле представляет собой элементарный опыт временности, смерти, опять же описанной Фрейдом игры «fort-da») и мы как зрители, или не зрители, включены в эту неопределённость27 . Вопрос, который уже там ставит Фуко, — это как удержать такую пустоту, каким образом наше историческое повествование может не сваливаться в разные формы позитивности или негативности. Однако здесь вовсе не обязательно говорить о сообществах мертвецов. Это лишь один из примеров, который, как мне кажется, позволяет увидеть специфичность проблематики полых сообществ. Другого рода примером могли бы быть рассуждения Алена Бадью в «Этике»28 и других его работах, где противопоставляются фашистское и коммунистическое сообщества, и основанием для противопоставления служит то, основываются ли они на полноте или же пустоте события. Если для фашиста изначально существует сообщество «своих», которое может быть противопоставлено «чужим», то коммунистическое сообщество основывается на занятии позиции («prendre part», занять сторону, вступить в партию), которую ничто объективно не предопределяет, как данной реальности революции не существует. Бадью важно таким образом переосмыслить историю Французской революции, а также националсоциалистическую революцию и вообще двадцатый век, но интересно было бы подумать и о том, как в понимании Бадью может выглядеть более близкий нам опыт интеллектуальных сообществ, например, сообществ историков? Как в этом смысле можно создавать нефашистское сообщество с прошлым? Конечно, это не значит, что тут во всём надо 27 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. С. 41. Этика. СПб.: Machina, 2006. 128 c. 28 Бадью А. 85 Е. Савицкий положиться на Бадью. Например, мне не совсем понятно в его рассуждениях, чем же в итоге отличается полнота веры фашиста и коммуниста, в какой мере для верного коммуниста сохраняется изначальная пустота события, стоит ему обрести в нем свою истину? Возможно, более полезными тут могли бы быть рассуждения Петера Слотердайка о «пузырях» как формах дообъектной общности, его попытки представить историю как микросферологию29 . В какой-то мере, это продолжение его же рассуждений в первой части «Критики цинического разума», где речь идёт об атомной бомбе («Медитация о бомбе»30 ), описываемой как высшее и последнее произведение авангардного искусства — Слотердайк прямо цитирует Канта, описывая бомбу в его понятиях незаинтересованности и чистой формы целесообразности. Бомба, таким образом, оказывается основанием новой общности, нового издания «эстетической цивилизации» Шиллера: бомба-Будда у Слотердайка не выступает ни за, и ни против чего-либо. Она безмятежно пребывает в своей шахте, почти как рассматриваемый Кристевой «Мёртвый Христос» Гольбейна в своём гробу, но только широко улыбаясь. Правда, тут снова непонятно, в какой мере эта бомба, преодолевая дуальности, открывая пространство со-бытия, действительно удерживает сообщества пустыми, или же эта путота вытесняется в итоге, как и у Бадью, в основание разных форм полноты и позитивности. Конечно, тут возможна большая работа по разграничению понятий, но вопрос в том, не метит ли сама интенция разговора о со-бытии в обретение полноты, в работу восполнения? Мне кажется, что новоистористские заявления о том, что нас не объединяют никакие общие принципы, что у нашего сообщества нет никакой идентичности, по интонации другие, хотя вроде бы тоже речь идёт о неидентичности, о несубъектности. Почему это разграничение между позитивными, негативными и полыми сообществами может быть важно? Попробую пояснить это самым последним примером, которым послужит небольшой текст Бориса Гройса «Беженец с эстетической точки зрения»31 . Это небольшой его доклад, где есть своеобразная полемика с Хоми Бабой о том, как можно гово29 Cлотердайк П. 30 Слотердайк П. Сферы. Микросферология. Т. 1. Пузыри. СПб.: Наука, 2005. 654 с. Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. С. 161– 166. 31 Groys B. Der Asylant in ästhetischer Sicht // Idem. Logik der Sammlung: Am Ende des Musealen Zeitalters. München: Carl Hanser Verlag, 1997. S. 145–153. К сожалению, этот текст не переведён на русский язык, в отличие от других текстов в этом же сборнике, видимо по причине неважности и неактуальности для нас вопроса об отношении к беженцам и 86 «Наша общая пустота». . . рить о мигрантах. Баба настаивает на «in-betweenness»32 мигранта, который не представляет собой нечто подлинное, а есть скорее эффект мимикрии, маскировки на фоне и против фона («against background»)33 , который вписан в отношения с человеком метрополии (работодателем, колонизатором) и поддерживает с ним эти амбивалентные отношения внутри-вовне34 . Гройс в своём докладе говорит поначалу почти то же самое: наши способности восприятия, основанные на валоризации своего или чужого, хорошего следования норме или интересного уклонения от неё, не достаточны для восприятия фигуры мигранта, он каждый раз оказывается в серой зоне невоспринимаемого, и если воспринимается, то как смутная угроза. Но мигранта, говорит Гройс, также нельзя описать и как диалектику (работу принятия/отрицания, становления пятнистым как фон и/или против фона) или как синтез своего и чужого, поскольку в его образе совмещается плохо припоминаемое из своей культуры и плохо усвоенное из чужой, и в итоге это может быть лишь пародией на диалектику и межкультурный синтез. То есть, Гройс использует почти те же слова, что Баба, кроме «in-betweenness» — попытки вписать мигранта в межкультурность, в нарушающее различия со-бытие и т.п.: «мигрант ещё не перевёл и не заверил все документы, не передал их в ФМС, а его уже просят приготовиться к возвышенной роли homo sacer <. . . >»35 Таким образом, хотя триада «позитивного», «негативного», «пустого» выглядит, конечно, довольно умозрительно, мне кажется, что этими понятиями описывается ряд важных противопоставлений в современных дискуссиях о сообществах. При этом, как представляется, есть не только теоретическая, но и политическая необходимость в продумывании опыта «полых сообществ» как того, что уклоняется как от негативных ограничений, так и от позитивного растворения в целом. мигрантам — как к мигрантам в России, так и к российским интеллектуалам как трудовым мигрантам на Западе. 32 Bhabha H. The Location of Culture. N.Y.: Routledge, 1994. P. 2. 33 Баба тут использует игру слов, которая есть в английском переводе XI тома семинаров Лакана. Ibid. P. 85. 34 Ср. также размышления Г. Спивак о положении неевропейского интеллектуала в западном академическом сообществе в книге: Spivak G. Outside in the Teaching Machine. N.Y.: Routledge, 1993. 350 p. 35 Groys B. Op. cit. S. 153. См. также: Groys B. Einführung in die Anti-Philosophie. München: Carl Hanser Verlag, 2009. 290 S. 87 Е. Савицкий Литература Бадью А. Этика. СПб.: Machina, 2006. Гумбрехт Г.У. От эдиповой герменевтики к философии присутствия // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. С. 63–85. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. Козлов С. На rendez-vous c новым историзмом // Новое литературное обозрение. № 42. 2000. С. 5–12. Кристева Ю. Чёрное солнце. Депрессия и меланхолия. М.: Когито-Центр, 2010. Савицкий Е.Е. Память в историографии 1980–2000-х годов: между конструированием и руинированием // Историческая память, власть и дисциплинарная история. Материалы международной научной конференции, Пятигорск 23–25 апреля 2010 г. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2010. С. 83–86. Cлотердайк П. Сферы. Микросферология. Т. 1. Пузыри. СПб.: Наука, 2005. Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2001. С. 161–166. Спигел Г., Фридман П. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. Вып. 3. C. 125–166. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. Эткинд А. Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. № 47. 2001. С. 7–40. Bhabha H. The Location of Culture. N.Y.: Routledge, 1994. Biddick K. The Shock of Medievalism. Durham: Duke Univ.Press, 1998. Bohrer K.H. Kein Wille zur Macht // Merkur. № 8/9. Sonderheft: Kein Wille zur Macht. Dekadenz. 2007. S. 659–667. Bohrer K.H. Ästhetische Negativität: Zum Problem des literarischen und philosophischen Nihilismus. München: Carl Hanser Verlag, 2002. Bohrer K.H. Selbstdenker und Systemdenker. Über agonales Denken. München: Carl Hanser Verlag, 2012. Butler J. Excitable Speech: A Politics of the Performative. N.Y.: Routledge, 1997. Сerteau M., de. L’écriture de l’histoire. Paris: Gallimard, 1975. Enders J. The Medieval Theater of Cruelty: Rhetoric, Memory, Violence. L., Ithaca: Cornell Univ. Press, 1999. Fabian J. Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa. Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 2000. 88 «Наша общая пустота». . . Gebauer G. Das Ressentiment Denkt: Rousseau, Nietzsche, Heidegger // Merkur. № 9/10. Sonderheft: Ressentiment! Zur Kritik der Kultur. 2004. S. 762–773. Greenblatt S. Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare. L., Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. P. 19–24. Greenblatt S. Shakespearean Negotiations. Berkley, Los Angeles: Univ. of California Press, 1988. Greenblatt S. Hamlet in Purgatory. Princeton, Oxford: Princeton Univ. Press, 2001. Greenblatt S., Gallagher C. Introduction // Greenblatt S., Gallagher C. Practicing New Historicism. L., Chicago: Univ.of Chicago Press, 2000. P. 1–19. Groys B. Der Asylant in ästhetischer Sicht // Idem. Logik der Sammlung: Am Ende des Musealen Zeitalters. München: Carl Hanser Verlag, 1997. S. 145–153. Groys B. Einführung in die Anti-Philosophie. München: Carl Hanser Verlag, 2009. 290 S. Münkler H. Heroische und Postheroische Gesellschaften // Merkur. № 8/9. Sonderheft: Kein Wille zur Macht. Dekadenz. 2007. Schmidt T. Dialektik der Aufklärung: Zu einer Grundschrift des kulturkritischen Ressentiments // Merkur. № 9/10. Sonderheft: Ressentiment! Zur Kritik der Kultur. 2004. S. 745–753. Spivak G. Can the Subaltern Speak? // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. C. Nelson, L. Grossberg. Chicago: Univ. of Illinois Press, 1987. P. 271–316. Spivak G. Outside in the Teaching Machine. N.Y.: Routledge, 1993. Stoler A.L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton, Oxford: Oxford Univ. Press, 2009. Taussig M. Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991. Н. Полтавцева «Невидимые колледжи» / «воображаемые сообщества» В статье предпринята попытка рассмотреть два пути работы современной науки и философии с актуализованным в 60–70-е годы ХХ века понятием «сообщество». Оно рассматривается автором как область маргинального социокультурного пространства, где скапливаются человеческие сингулярности, обладающего набором определённых характеристик. В зависимости от того, с каких позиций оно анализируется и какие коды при этом используются, это понятие становится источником для интересных предположений о его новых возможностях — как на путях исследования микро- и макропроцессов, так и на путях деконструкции метафор и поиска «следов». Ключевые слова: «невидимые колледжи», «воображаемые сообщества», наукознание, постструктурализм, социокультурное пространство, «скопления», метафоры деконструкции, «следы». 90 «Невидимые колледжи». . . Статья о «невидимых колледжах» и «воображаемых сообществах» призвана рассмотреть отдельные моменты того, как происходит движение от науковедческого определения понятия сообщества к постструктуралистскому и как при этом возникает своеобразная комплементарная диффузия, основанная на том, что запрос современности, на наш взгляд, связан с необходимостью комплементарного, т.е. взаимодополнительного, инструментального взаимодействия этих категорий. Гипотеза данной статьи состоит в следующем: к уменьшению культурной неопределённости (т.е. к исследованию новых проблемных областей) в шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века социальные и гуманитарные науки шли двумя путями — путём классической науки и постклассическим образом. Это время характеризовалось также ревизией таких принципов Модерна, как тотальное единство мира (холизм), центризм, каузальность и др., что привело к появлению концепта воображаемая (конструируемая) реальность и разграничению понятий воображаемого и символического, трактуемых уже с позиций складывающейся новой парадигмы. Наукознание занялось при этом проблемой невидимых колледжей1 а постструктуралисты — проблемой воображаемых сообществ. Но в сущности описывалась — и в этом состоит авторская позиция — одна и та же мало изученная область «скоплений» человеческих сингулярностей — произвольно меняющееся и институционально неопределённое маргинальное социокультурное пространство2 , очередной промежуток между исследованным и неисследованным. Причём в первом случае его пытались описать в терминах «нормальной науки», вполне адекватно новой волне сциентизма3 , а во втором — в метафорах, ещё не отвердевших в термины, науки и философии постклассической. 1 См. Крейн [Crane 1972], Прайс [Price 1963], Петров М.К. [Петров 1992]. о разграничении понятий социального и культурного пространства и теоретическом объединении позиций в модели социокультурного пространства: «социокультурное пространство формируется через воспроизводимые формы антропологически и/или общественно значимых, т.е. стереотипных ситуаций, характеризующихся двумя уровнями — взаимодействия и коммуникации. На каждом из них такие ситуации определяются целым рядом теоретических концептов, выражающих их структурно-функциональную специфику» [Орлова 2012: 537]. 3 См. определение «невидимого колледжа», данное исключительно с позиций «нормальной науки», как протоморфа новой научной дисциплины или нового научного направления: Мирский Э.: «Невидимый колледж, не институционализированная группа исследователей, согласованно работающая над общей проблематикой. Термин, введённый в науковедение Д. Берналом, был развёрнут Д. Прайсом в гипотезу о “невидимых колледжах” как комму2 Ср. 91 Н. Полтавцева никационных объединениях, имеющих определённую, достаточно устойчивую структуру, функции и объём. Гипотеза о “невидимом колледже” была в 60–70-е гг. подвергнута тщательному эмпирическому исследованию (С. Кроуфорд, Д. Крэйн, Н. Маллинз, Б. Гриффит и др.) с неожиданно серьёзными результатами. В ходе исследований не только подтвердилось наличие групп с совершенно определёнными и достаточно устойчивыми параметрами, но и выяснились структурные, динамические закономерности развития таких групп как общей формы становления новых исследовательских направлений и специальностей. При этом отчетливо выделяются четыре фазы, через которые проходит научная специальность в своём становлении. Нормальная фаза. Это период относительно разрозненной работы будущих участников и их небольших групп (часто группы аспирантов во главе с руководителем) над близкой по содержанию проблематикой. Общение идёт, в основном, через формальные каналы, причём его участники ещё не считают себя связанными друг с другом внутри какого-нибудь объединения. Эта фаза в истории специальности конструируется ретроспективно только в тех случаях, когда новая специальность сформировалась. Нормальная фаза часто завершается опубликованием “манифеста”, в котором содержатся в общих чертах программа разработки проблематики и оценки её перспективности. Фаза формирования и развития сети характеризуется интеллектуальными и организационными сдвигами, приводящими к объединению исследователей в единой системе коммуникаций. Как правило, новый подход к исследованию проблематики, сформулированный лидером одной из исследовательских групп, вызывает взрыв энтузиазма у научной молодёжи и приводит под знамёна лидера определённое число сторонников, но в то же время этот подход ещё не получает признания в дисциплинарном сообществе в целом. Участники формируют сеть устойчивых коммуникаций. Фаза интенсивного развития программы нового направления за счёт действий сплочённой группы, которую образуют наиболее активные участники сети коммуникаций. Эта группа формулирует и отбирает для остронаправленной разработки небольшое число наиболее важных проблем (в идеальном случае одну проблему), в то время как остальные участники сети получают оперативную информацию о каждом достижении новой группировки, ориентируются на неё в планировании своих исследований и обеспечивают тем самым разработку проблематики по всему фронту. Фаза институционализации новой специальности. Научные результаты, полученные сплочённой группой, обеспечивают новому подходу признание сообщества, возникают новые направления исследований, базирующиеся на программе сплочённой группы. При этом, однако, сплочённая группа распадается, её бывшие члены возглавляют самостоятельные группировки, каждая из которых разрабатывает по собственной программе группу специальных проблем. Специальность получает формальные средства организации (журналы, библиографические рубрики, кафедры, учебные курсы, секции в профессиональных ассоциациях и т.п.), и отношения внутри неё снова переходят в нормальную фазу. В каждой фазе развития “невидимого колледжа” самосознание участников формирующейся специальности претерпевает изменения следующим образом: романтический период 92 «Невидимые колледжи». . . Пожалуй, идя по пути метафорических определений, пространство это можно «схватить» при помощи метафоры «электрического поля», развив её и дальше. Так, «незримый колледж», детище наукознания, тогда может быть описан следующим образом: наэлектризованные чем или кем-либо — личностью, проблемой, идеей — учёные собираются в «невидимые колледжи» по переписке, по личным неофициальным контактам во время официальных научных мероприятий, по публикациям в научных журналах, иногда объединённые вначале тематически волей редакции в одном номере, а затем уже по своей воле — слежением за решением актуализированной проблемы в мировом научном пространстве, и т.п. Частично в этом присутствуют черты того, что называют «сообществом» как в общесоциологическом, так и в специфически постструктуралистском смысле. Однако в первом случае всё же выделяются и акцентируются черты классической «малой группы» — сообщества, хотя и не институализированной официально, такие как а) коммунальность, б) квазисемейственность, в) территориальность (замещённая позднее на социокультурную территориальность) [Crane 1972, Price 1963, Chubin 1983]. Во втором же предметом внимания оказывается cама размытость границ, неинституциональность объединения, некоторая внутренняя при всём том «принадлежность» друг другу членов сообщества, не похожая ни на коллективную, ни на классическую групповую идентичность (На это обратил в своё время внимание М.К. Петров) [Петров 1992]. Сюда же относятся мобильность переброски авангарда и подтягивания арьергарда к «болевым точкам» проблемного поля, мгновенная концентрация вокруг них и такое же мгновенное распадение, ощущение возможности обладания общим «коллективным воображаемым» — представлениями о чертах и качествах искомого в идеализированном общетипическом виде, видением целей и задач сообщества исключительно в связи с будущим символическим обладанием «совокупным символическим продуктом» и т.п. [Андерсон 2001, Бланшо 1998] При этом с подобных позиций можно описать и феномен «воображаемых колледжей». Примером этого могут послужить проработки понятия «воображае(по времени совпадающий с нормальной фазой развития специальности); догматический (по времени совпадающий с фазой коммуникационной сети и сплочённой группы); академический (фаза специальности). В настоящее время специальному исследованию подвергается уже не гипотеза о “невидимом колледже”, а конкретные данные о становлении научных специальностей и коммуникационных структур» [Мирский 2010]. 93 Н. Полтавцева мое сообщество» в уже ставших классическими работах Андерсона и Бланшо. Причём если ранее мы старались «перекодировать» описание сциентистского «воображаемого колледжа» с позиций постструктуралистских, у Андерсона и Бланшо мы попробуем увидеть в их описаниях «воображаемых сообществ» черты сообщества, выделяемые социологами и науковедами — «классиками». Проработка понятия «сообщество» у Бланшо и Андерсона. Так, Андерсон, работая с концептом «нация», сделал его примером понятия «сообщество» в постструктуралистском смысле этого слова, описав его как «воображаемое сообщество» при помощи метафор перепись, карта, музей, отождествлённых автором с институтами власти и одновременно являющихся средствами структурирования воображения и особым стилем представления позднеколониальным государством своих владений. Главным в этом процессе Андерсон считает тотализующую классификационную разметку и сериализацию [Баньковская 2001]. Баньковская резюмирует, что Андерсон дал детальное описание грамматики процесса выстраивания исторического националистического нарратива как процесса «воображения нации» на примере развития переписи, картографии, музея). При этом, как мы считаем, следует непременно обратить внимание на преображённые, но все ещё узнаваемые признаки классического сообщества: за тотализующей классификационной разметкой и серизацией стоят их социологические предшественники — типологизация и стратификация. В процессе исследования сам национальный язык, его исторический нарратив становится для Андерсона тем социокультурным пространством, в котором создаётся «совокупный символический продукт» «воображаемого сообщества». В качестве своих предшественников, оказавших то или иное влияние на его работу, он справедливо называет Э. Ауэрбаха [Ауэрбах 2000], В. Беньямина [Беньямин 2002], В. Тернера [Тернер 1983]. Как считает сам Андерсон, он обращается к нации как концепту, ставшему поиском нового способа осмысленно связать воедино братство, власть и время, причём на ускорение этих поисков, по его мнению, повлиял так называемый «печатный капитализм», или феномен «галактики Гуттенберга», отразивший в себе развитие печати-как-товара4 и влия4 Следует отметить, что как продолжение подобных размышлений «по аналогии» у нас возникает естественное сравнение современного сетевого социокультурного пространства (в котором также происходит открытие для быстро растущего числа людей возможности 94 «Невидимые колледжи». . . ние протестантизма, способствовавшего спонтанному развитию национальных языков. Отсюда проистекает данное Андерсоном следующее определение нации: «. . . это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как нечто неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное» [Андерсон 2001], а его истоками объявляются религиозное сообщество и династическое государство (т.е. выделенные нами такие черты сообщества, как коммунальность, квазисемейственность (солидарность) и территориальность, также присутствуют). Для Андерсона нация и национализм — это аналитические категории, появление которых связано с изменениями в способах восприятия мира. Как пишет Баньковская, нация в такой трактовке выступает как новый, характерный для современного общества способ связывать воедино, в целостном восприятии язык, пространство, время, человеческую солидарность [Баньковская 2001]. т.е., переводя разговор в интересующую нас плоскость, можно сказать, что старое качество коммунальности здесь соединяется со спецификой работы механизмов социокультурного пространства. Являясь своеобразным «скрытым ответом» на известную книгу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Воображаемые сообщества» Андерсона дают некую неокоммунистически-постструктуралистскую версию работы с преображёнными старыми понятиями. Еще один пример подобного подхода предстаёт перед нами в книге М. Бланшо «Неописуемое сообщество». Построенная как вольный диалог с текстами Ж. Батая и М. Дюра, она, тем не менее, в эксплицитной форме также имеет дело с такими понятиями, как коммунальность (вводя понятие «неполноценный» как определение члена негативного сообщества для осуществления механизма восполнения через вхождение — и нахождение! — в сообщество5 ; квазисемейственность (рассматривая сквозь метафоры «смерть Другого» и «сближение с умирающим» осознать самих себя и связать себя с другими людьми принципиально новыми способами) с влиянием интернет-пост-неоимпериализма (термин автора статьи — Н.П.). 5 «Опороченные или не оправдавшие надежд концепции перестают существовать, тогда как понятия, “неприемлемые” без их вольного или невольного самоотказа (что неравнозначно простому отрицанию), не позволяют нам отринуть их, или не признать. Хотим мы этого или не хотим, мы обращаемся к ним именно по причине их несостоятельности» [Бланшо 1998]. 95 Н. Полтавцева некую идеальную форму солидарности)6 ; территориальность (где зажатым между двумя метафорическими полюсами — народом и миром любовников — находится идеальное социокультурное пространство мая 1968-го)7 . От постструктуралистской деконструкции Бланшо переходит к апологии деструкции старых форм, призывая к разрушению «апатичного общества», к «бесконечности забвения», к «сообществу тех, кто лишён сообщества». Именно здесь, по его мнению, мы «. . . касаемся предельной формы общностного опыта, после которого нам будет нечего сказать, потому что он должен познаваться в полном незнании самого себя» [Бланшо 1998]. И Бланшо, и Андерсон дают нам прекрасный пример того, как «самоотказ» старых понятий приводит к появлению нового культурного кода, работающего всё в той же мало изученной области «скоплений» человеческих сингулярностей — произвольно меняющемся и институционально неопределённом маргинальном социокультурном пространстве, открытом благодаря этим своим качествам для нетривиальных «ходов» разума. Бланшо, например, пишет: «. . . Неописуемое сообщество: значит ли это, что оно избегает говорить о себе, признаваться в собственном существовании, или же оно таково, что никакие признания неспособны раскрыть его суть, ибо всякий раз, когда оно заявляет о своем существовании, нам кажется, что мы уловили только то, что оно существует лишь в силу какого-то недоразумения. Значит, ему лучше хранить молчание? 6 «Сообщество не является редуцированной формой общества, равным образом, оно не стремится к общностному слиянию. . . В противоположность любой социальной ячейке, оно чурается производства и не ставит перед собою никаких производственных целей. Чему же оно служит? Да ничему, разве что оказанию помощи другому даже в миг его смерти, чтобы этот другой не отошел в одиночку, а почувствовал поддержку и в то же время сам оказал ее другому» [Бланшо 1998]. 7 «Май 68-го доказал, что без всякого умысла, безо всякого заговора, в обстановке случайной и счастливой встречи, этакого праздника, расшатывающего принятые или чаемые социальные формы, может самоутвердиться (по ту сторону обиходных видов утверждения) взрывное сообщество, позволяющее каждому, невзирая на класс, пол, возраст и культуру, завязать дружеские отношения с первым встречным как с давно любимым существом, именно потому что он является знакомым незнакомцем. “Безо всякого умысла”: вот тревожная и одновременно счастливая примета неподражаемой общественной формации, неуловимой, не призванной к выживанию, к обустройству даже с помощью бесчисленных “комитетов”, которые симулировали видимость порядкабеспорядка, расплывчатых умозрительных построений. Во всём этом — одна из главных примет истинного сообщества: когда оно распадается, его участники испытывают впечатление, будто оно никогда и не существовало, даже если на самом деле это было вовсе не так» [Бланшо 1998]. 96 «Невидимые колледжи». . . Нет, лучше было бы не переоценивая его парадоксальных особенностей, вместе с ним пережить то, что делает его современником прошлого, которое никогда не могло быть пережито. Вспомним чересчур знаменитое и не в меру изжёванное изречение Витгенштейна: “О чём невозможно говорить, о том следует молчать”. Оно означает, что, поскольку произнося его, философ не смог предписать молчание себе самому, то, в конечном счете, нужно говорить хотя бы для того, чтобы помалкивать. Но что именно говорить? Вот один из вопросов, которые эта книжица переадресовывает другим не столько для того, чтобы они на него ответили, сколько для того, чтобы постарались задуматься над ним, а может быть, и чем-то его дополнить. Тогда в нём отыщется, к примеру, какой-то животрепещущий политический смысл, призывающий нас не оставаться равнодушными к современности, которая, открывая перед нами неведомые пространства свободы, возлагает на нас ответственность за новые отношения, такие хрупкие и такие долгожданные, — отношения между тем, что мы называем творчеством, и тем, что мы называем праздностью» [Бланшо 1998]. Недавний российский политический опыт декабря 2011 подтверждает его правоту. Литература Crane, Diana. Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific communities. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1972. Сrane, Diana. Testing the “Invisible College” Hypothesis // Science and the Society. 2011. Sunday, November 20. P. 335–352. [Цитируется по электронной версии. URL: http://www.rvm.gatech.edu/bozeman/rp/read/ 41401.pdf] Price, Derec John de Solla. Big Science, Little Science. New York: Columbia University Press, 1963. Chubin, D.E. Sociology of Science: an annotated bibliography on invisible colleges. 1972–1981. New York: Garland, 1983. Wagner, C. The New Invisible College: science for development. Washington, D.C.: Brooking Institution, 2008. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН–пресс-Ц, Кучково поле, 2001. [Цит. 97 Н. Полтавцева по электронной версии. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Sociolog/anders/index.php] Ауэрбах, Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.-СПб.: Университетская книга, 2000. Баньковская, С.П. Воображаемые сообщества как социологический феномен // Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН–пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Беньямин, В. Происхождение немецкой барочной драмы. М.: Аграф, 2002. Бланшо, М. Неописуемое сообщество. М.: Московский философский фонд, 1998. [Цит. по электронной версии. URL: http://www.gumer.info/ bogoslov_Buks/Philos/blansho/01.php] Бурдье, П. Социология социального пространства. СПб.: Алатейя, 2007. Деррида, Ж. О грамматологии / Пер. и вступит. статья Натальи Автономовой. М.: Ad Marginem, 2000. Манхейм, К. О специфике культурно-социологического познания // Он же. Избранное. Социология культуры. М.-Спб., 2000. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, Хранитель, 2006. Мирский Э.М. «Невидимые колледжи» // Новая философская энциклопедия в 4-х томах. М.: Мысль, 2010. [Цит. по электронной версии. URL: http://iph. ras.ru/elib/2027.html] Налимов В.В. Облик науки. М.: Центр гуманитарных инициатив, Изд-во МБА, 2010. Орлова Э.А. Социология культуры. М.: «Академический проект», 2012. Кун, Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. Петров М.К. Самосознание и научное творчество истории наук и философии. Ростов-на-Дону: Изд. РГУ, 1992. Тернер, В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. А. Ожиганова Современные эзотерические сообщества: проблемы и перспективы изучения Статья посвящена анализу проблем, встающих перед исследователем при изучении такого неопределённого в социологическом и религиоведческом отношении явления, как современные объединения эзотериков, и перспективам его изучения в контексте теории сообществ. Ключевые слова: воображаемые сообщества, эзотерика, «коммунитас». Только онтология сообществ способна возродить на практике возможность человеческих отношений. . . возвратить смысл понятиям братства, симпатии и любви. Мишель Уэльбек. «Элементарные частицы». Многие современные исследования начинаются с признания кризиса базовых концептов. Такие аналитические категории как раса, нация, этнос, социальный класс, вытесняются на периферию дискурсивного поля. Мы больше не верим ни в объективный характер, ни даже в операциональную эффективность этих категорий. Акцент на субъективизме, признание того, что человек не принадлежит некой изначальной общности, а равен своему собственному жизненному опыту, сделали идентичность новым универсальным концептом, к которому всё чаще прибегают 99 А. Ожиганова для описания современного общества. Однако, во-первых, этот сам этот термин является искусственным конструктом, во-вторых, оперируя им, невозможно изучать связи между людьми, которые всё ещё сохраняются в нашем разобщённом, атомистическом мире. По этой причине большой интерес у исследователей современных социальных реалий вызывает «старый новый» концепт сообщества: «понятие сообщество сохраняет своё значение как символ и источник вдохновения»1 , «идеи о сообществах продолжают возникать в новых, часто неожиданных формах», «сообщества продолжают занимать центр социальной теории»2 . Исследователи отмечают высокую степень привлекательности этого понятия. Как правило, само употребление слова сообщество связано с положительными переживаниями: Термин предполагает наличие в социальных отношениях множества привлекательных черт — чувства близости и безопасности, взаимного интереса и поддержки, постоянной лояльности, даже возможности того, что вас станут оценивать во всей полноте вашей личности, учитывая ваш вклад в жизнь группы, а не с ограниченной точки зрения статуса и успешности3 . Большое значение имеет тот факт, что это не искусственный термин — слово взято из повседневной речевой практики. Этот концепт относится к категории вечных понятий: он существует, пока люди в него верят, он не умирает, потому что «играет ключевую роль в том, как люди осмысляют себя, свою персональную и социальную идентичность, и свою субъективность»4 . Размышления о сообществе имеют экзистенциальный характер: «Кажется, нет ничего более важного, чем думать о сообществе; нет ничего более необходимого, настоятельного, предвещающего наступление эпохи, уникальной своей противоречивостью: провалом всех «коммунизмов» и ничтожностью новых «индивидуализмов». Однако, изучение сообществ представляется крайне проблематичным: «нет ничего более ускользающего, ничего настолько отдалённого, подавленного и отложен1 Brint S. Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept // Sociological Theory. Vol. 19. N 1 (Mar. 2001). P. 3. 2 Day G. Community and everyday life. N.Y: Routledge, 2006. P. 246. 3 Brint S. Op. cit. P. 2-3. 4 Day G. Op. cit. P. 157. 100 Современные эзотерические сообщества. . . ного на потом, в далёкую и туманную перспективу»5 . Сложность заключается не в малочисленности философов, размышляющих о сообществах, не в многозначности или непереводимости термина, но в самом предмете изучения. При этом речь идёт не только о невозможности помыслить сообщество, эта сопротивляемость мысли объявляется его наиболее симптоматичной чертой. Примечательно, что в современной литературе о сообществах попытки дать определение этому феномену встречаются не слишком часто. Стивен Бринт в статье «Ревизия Gemeinschaf : критика и реконструкция концепта сообщества» предлагает понимать под сообществом «объединения людей, занимающихся совместной деятельностью, имеющих общие убеждения и связанных друг с другом, прежде всего, эмоциональными отношениями, взаимной лояльностью, общими ценностями и личным интересом (интересом к личности и событиям в жизни друг от друга)»6 . Сформулированное настолько широко, понятие сообщества оказывается практически идентичным тем значениям, которые придаются ему в повседневной речи, но при этом кардинально отличается от «старых» значений, присутствующих в исследованиях традиционных сообществ, где под сообществами подразумеваются так называемые естественные общины. Яркий пример такого ностальгического восприятия сообщества, как чего-то изначального и неизменного, дает Конрад Лоренц. В своей работе «Так называемое зло. К естественной истории агрессии» он описывает социальную действительность далёкого прошлого, когда всё было хорошо: <. . . > Представьте себе, что вы живёте вместе с десятью-пятнадцатью лучшими друзьями, их жёнами и детьми. Эти несколько мужчин неизбежно должны стать побратимами; они друзья в подлинном смысле слова. Каждый не раз спасал другому жизнь, и хотя между ними может иногда возникать, как у мальчишек в школе, какое-то соперничество из-за рангового порядка, из-за девушек и т.д., оно неизбежно отходит далеко на задний план перед постоянной необходимостью вместе защищаться от враждебных соседей <. . . > В таком содружестве каждый из нас уже по естественной склонности соблюдал бы десять заповедей Моисея7 . 5 Esposito R. Communitas. The Origin and Destiny of Community. Stanford, 2010. P. 3. Op. cit. P. 8. 7 Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. С. 287. 6 Brint S. 101 А. Ожиганова Упадок сообществ, согласно концепции Лоренца, наступает в условиях кризиса общественной жизни — непрерывно растущего производства и потребления, урбанизации, скученности, отчуждения от живой природы, непрерывной спешки и т.д. Всё это, как считает Лоренц, приведёт в недалёком будущем к «исчерпанию отношений между людьми» и «потере человеком его важнейших свойств». В работе Грэма Дэя «Сообщество и повседневность» приведён подробный анализ различных и нередко противоположных точек зрения на положение сообществ в современной социальной действительности. С одной стороны, можно констатировать упадок сообществ: процессы урбанизации и глобализации, рост мобильности разрушают социальные структуры, исчезает само понятие места. Представление о времени также подвергается серьёзной трансформации: возможность установления моментального контакта с любым человеком на отдалённом расстоянии отменяет временные границы, события, прежде разделённые во времени, сейчас могут происходить одновременно. Результатом «растворения» иерархии социальных классов, поколенных и гендерных классификаций становится дестабилизация идентичности. В результате возникает образ сообщества, в котором ничто не фиксировано, ничто не постоянно, — «дезорганизованное общество». Современные сообщества Дэй называет «жидкими» и «текучими»8 . Однако, возможен принципиально иной взгляд на кризис традиционных сообществ. В частности, Энтони Гидденс отмечает, что одновременно с разрушением старых социальных отношений, возникают новые связи между удалёнными местами, наряду с упадком традиционных общин наблюдается стремительный рост новых сообществ9 . Опасения, что процессы глобализации приведут к формированию гомогенного общества, оказываются напрасными, напротив, глобализация может усилить социальную дифференциацию. Происходит переосмысление концепции города: в связи с распространением новых коммуникационных технологий идеи дезурбанизации (например, «электронные коттеджи» Элвина Тоффлера) воспринимаются уже не как утопия, а как реальность завтрашнего дня. Очевидно, что разнообразнейшие сообщества продолжают существовать и играют всё более заметную роль в современной социальной жизни: религиозные общины, спортивные клубы, детские игровые сообщества, сообщества родителей, виртуальные Интернет-сообщества, фэн-клубы и т.п. 8 Day G. 9 Цит. Op. cit. P. 189. по: Day G. Op. cit. P. 133. 102 Современные эзотерические сообщества. . . Современная теория сообществ, обозначив начало нового процесса социальной дифференциации и самоидентификации, предоставляет возможность отойти от финалистского дискурса «конца истории», «упадка социальных институтов», «всемирного разочарования», нашедшего своё отражение в отчаянии Уэльбека: «что-то в атмосфере отдавало окончательным крахом человечества»10 . Солидаризируясь с другими авторами, работающими а рамках этого подхода, Дэй отмечает, что «утверждение сообщества в индустриально-урбанистических условиях — не анахронизм, но обычная черта человеческого самосознания и способ поведения, который всегда был ему свойственен»11 . Аналогичным образом, в рамках этологического подхода нередко делаются утверждения, что в создании сообществ реализуется социальный инстинкт Homo sapiens. В частности, К. Лоренц отмечал, что человеку просто необходимо разделение на враждебные группы — партии, классы, общины — для правильного функционирования физиологии поведения. Человечество всегда структурируется таким образом, чтобы создать раздражающую ситуацию, необходимую для разрядки социальной агрессии. Теория сообществ позволяет нам переосмыслить старые социальные категории: племя, род, общину, семью, этнос, церковь и т.д. Не являются ли они естественными, устойчивыми лишь относительно тех новых форм, которые мы называем «жидкими» и «текучими»? Благодаря известной работе Бенедикта Андерсона неотъемлемой характеристикой любого сообщества стала его «воображаемость»: сообщество существует исключительно в силу того, что входящие в него индивиды обладают способностью его вообразить как объективную реальность. Теперь мы можем говорить об изобретённых сообществах, чтобы подчеркнуть аспект творчества, и о конструируемых, — когда важен аспект власти. С максимальной точностью это выразил П. Бурдье: Власть над группой получает тот, кто может создать эту группу, внушив её членам единое видение своей идентичности и идентичное видение своего единства12 . Предполагается ли при этом, что наряду с воображаемыми существуют всё-таки и некие подлинные сообщества? Андерсон утверждал, 10 Уэльбек М. Элементарные частицы. М.: Иностранка: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004. С. 15. Op. cit. P. 175. 12 Bourdieu P. L’Identité et la représentation. Éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région // Actes de la recherche en sciences socials. 1980. N 35. November. P. 66. Цит. по: Филиппова Е. Французские тетради. Диалоги и переводы. М.: ИЭА РАН, 2008. С. 19. 11 Day G. 103 А. Ожиганова что «все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые»13 . (Оговорка насчёт первобытных деревень — дань вечному мифу о Золотом Веке, а не отражение антропологической реальности. Исследования социальных антропологов убедительно доказали относительность и вариабельность таких понятий, как «родня», «предок», «свой», «чужой» и даже «отец» в так называемых примитивных сообществах). Однако Андерсон отмечает, что критерий ложности и истинности в принципе не является существенным при изучении сообществ, важен «стиль», в котором они воображаются. В своем исследовании он показал, как и при каких обстоятельствах стало возможным помыслить себя нацией, связав воедино братство, время и власть. Сейчас всё очевидней исчерпание этой возможности и всё острее ощущается потребность в открытии принципиально новых способов помыслить самих себя и свои связи с другими людьми. Миру социальному, так же как и природе, свойственен баланс, отмечал Виктор Тёрнер, автор концепта коммунитас, ставшего поистине культовым, настолько часто он упоминается в исследованиях, посвящённых самым разным вопросам современной социальной действительности, и общество представляет собой скорее процесс, чем явление, — диалектический процесс с последовательными фазами структуры и коммунитас. Под коммунитас Тёрнер понимал особую модель общества, реализующуюся, прежде всего, в процессе ритуальной деятельности (временное состояние, «миг во времени и вне его») и противопоставляемую другой модели — структурированной, дифференцированной и иерархической системе политико-правовых и экономических положений14 . Описания современных «жидких» сообществ полностью вписываются в концепцию коммунитас: «их очертания никогда не фиксированы, не устойчивы, но всегда в состоянии становления; например, индивиды постоянно вступают, покидают или перемещаются между ними, делая невозможным очертить их границы»15 . Рост числа работ, посвящённых исследованию подобного рода гибких сообществ, демонстрирует переориентацию исследовательского интереса от структуры к коммунитас. Современные эзотерические сообщества, к рассмотрению которых мы переходим ниже, можно трактовать как пример своего рода перманент13 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон–Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 31. Символ и ритуал. М., 1983. С. 184. 15 Day G. Op. cit. P. 229. 14 Тэрнер В. 104 Современные эзотерические сообщества. . . ной коммунитас, т.е. самостоятельное творческое конструирование (индивидуального и коллективного) бытия в мире, представляющего определённую альтернативу господствующим сегодня формам социальности. Мы называем эти сообщества эзотерическими, прежде всего, на основании того, что их участники обладают ярко выраженным осознанием себя как людей, занимающихся эзотерикой, и позиционируют себя соответствующим образом. Например, они могут утверждать: «У нас, эзотериков, нет болезней, у нас либо чистка, либо карма». В действительности, они обладают основными чертами классического эзотерического мироощущения, заключающегося в признании иллюзорности наблюдаемой действительности, вере в существование другой, подлинной реальности, которую человек может обрести, радикально изменив самого себя. Существует также традиция посвящений, т.е. передачи тайного знания от учителя к ученику. Однако, надо признать, что в целом феномен современного эзотеризма вызывает коллапс религиоведческого понятийного аппарата, создающего таких монстров, как «деструктивный культ» или «тоталитарная секта». Всё это скорее может служить подтверждением главной интуиции эзотериков об ограниченности ума «обычных учёных» и невозможности рационального объяснения мира. Ситуация отнюдь не улучшается, если мы попытаемся дать содержательную характеристику рассматриваемого явления, которая включает восточные религиозные учения и практики, западный оккультизм, неоязычество и неошаманизм, йогу и цигун, рейки и другие целительские системы, психоделические практики, астрологию, «Эру Водолея», медиумизм, контакты с мистическими существами и инопланетянами, бытовую магию, гадания, заговоры, заклинания, кристаллы, маятники и многое другое. Современный эзотеризм может реализовываться в разных организационных формах: это и крупные новые религиозные движения (НРД), и духовные центры (буддийские, индуистские, суфийские и др.), и астрологические школы, и группы оккультного знания, и тренинги духовного развития, и семинары личностного роста. Тем не менее, если пристально взглянуть на участников этого движения, то станет очевидным, что они часто меняют свои духовные ориентиры. Исследователи отмечают «постоянный дрейф из одной группы в 105 А. Ожиганова другую»: «Вчерашний приверженец буддхи-йоги сегодня может примерить на себя Тантру, а завтра переместиться к «рерихианцам»16 . Более того, наблюдается удивительное сходство содержательной части учений самых разных движений. Известный сектовед А.Л. Дворкин, описывая различные НРД (Свидетели Иеговы, Церковь Объединения, Общество сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, движение последователей Порфирия Иванова, Братство Виссариона и др.), отмечает, что их «единство обеспечивается даже не столько общностью взглядов, сколько особым мистическим отношением к жизни, которое питается контактами со сверхъестественным миром»17 . Каждое из этих объединений зачастую представляет собой одновременно общину верующих, утопический проект, виртуальное сообщество и опыт социального экспериментирования. Кроме того, все эти группы имеют основу, позволяющую представить их как единое эзотерическое сообщество. Членов эзотерического сообщества объединяет специфическое самосознание, выражающееся в протесте против современного «социума» и стремлении утвердить некую духовно-практическую альтернативу. Проблемы с определениями и критериями классификации новой религиозности вынуждает исследователей прибегать порой к довольно необычным подходам. Так, О.А. Сморжевская и Р.В. Шиженский в своей монографии, посвящённой современному славянскому язычеству, предлагают называть неоязыческое движение диаспорой. При этом они апеллируют к определению диаспоры, предложенному В.А. Тишковым, известному своими конструктивистскими взглядами: Диаспора, — это культурно отличительная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемой на этой основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине <. . . > Другими словами, диаспора — это стиль жизненного поведения, а не жёсткая демографическая и тем более, этническая реальность18 . 16 Ткачева А.А. Неоиндуизм и неоиндусский мистицизм // Древо индуизма / Отв. ред. И.П. Глушкова. М.: Восточная литература, 1999. С. 485. 17 Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород: Изд. Братства во имя св. князя Александра Невского, 2000. С. 626. 18 Цит. по: Сморжевская О.А., Шиженский Р.В. Современное язычество в религиознокультурной жизни: исторические очерки. Н. Новгород, 2010. С. 31. 106 Современные эзотерические сообщества. . . Авторы признают, что такой важный признак диаспоры как физическое пребывание части населения вне своей страны в случае неоязычества отсутствует. Однако, считают они, разрыв с культурной метрополией вполне может проходить и на уровне идеологии: Тогда под воздействием центробежных процессов, определённая когорта людей, не воспринимающих и отвергающих современную им культурно-историческую среду, выкристаллизовывается из последней в надежде возвратить, восстановить прежний жизненный уклад. Вернуть и соответственно вернуться пусть и в виртуализированную, не существующую в настоящее время, родину19 . В ряде исследований новые религиозные движения трактуются как разновидность rites de passage, а именно как инициации (отмечается, что членами НРД становятся, в основном, молодые люди). Так, Г. Мелтон и Р. Мур считают, что «феномен культов нужно рассматривать в контексте состояний перехода, особенно перехода от подростка к молодому взрослому»20 . Подобные ритуалы они считают совершенно необходимыми в современном обществе, поскольку взросление в нём вызывает множество сложных и трудноразрешимых проблем. В контексте такого подхода группы новой религиозности уже не воспринимаются как опасные Другие, как фактор дестабилизации общества, но рассматриваются как неотъемлемая часть социума, имеющая важные функции. Одна из них, по мнению ряда исследователей, — это выбор модели сексуальной этики. С. Палмер в статье «Сексуальное экспериментирование и женские ритуалы перехода», проанализировав модели женского поведения в восьми крупных НРД, в том числе в Международном обществе Сознания Кришны, Церкви Объединения Муна, движении учеников Ошо, пришла к выводу, что они представляют собой лаборатории сексуального экспериментирования: «Независимо от того, практикуют ли они моногамию, целибат или «свободную любовь», они отвергают свою индивидуальность и стремятся создать коллективную идентичность». Это временный выбор, «отработка» определённой модели поведения, «это вовсе не является пожизненным выбором, отрицанием современного плюрализма, — но лишь древним поиском могущественного 19 Сморжевская О.А., Шиженский Р.В. Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки. Нижний Новгород: Издательство НГПУ, 2010. С. 30–31. 20 Melton G., Moore R. The Cult Experience: Responding to the New Religious Pluralism. N.Y.: Pilgrim Press, 1982. P. 46. 107 А. Ожиганова религиозного и социального крещения, возможного в ритуалах перехода»21 . Сторонники этого подхода признают, что основная проблема современности, — это наличие выбора, и чем шире возможности выбора, тем труднее его осуществить, и общество, как некий единый саморегулирующийся организм, в целях самосохранения создаёт специальные институты, временно и искусственно его ограничивающие. Поскольку формально-социологическая и религиоведческая характеристика современного эзотеризма представляется нам весьма проблематичной, приведём некий опыт «насыщенного описания» — эпизод из жизни московского эзотерического сообщества. В апреле 1994 г. в Москве был организован один из первых так называемых семинаров по суфийским практикам, который проводил учитель из Италии, последователь Раджниша (или Ошо, что означает «растворённый в океане») санньясин Ведея. Занятия проходили в арендованном спортзале каждый день по 6–7 часов в течение недели. Участниками семинара были около тридцати человек из Московского Ошо-центра и шесть членов Суфийского Центра. Тренинг был очень активным и насыщенным разнообразными практиками: двигательными, дыхательными, вербальными, эмоциональными. В основном, это были упражнения, изобретённые Раджнишем, включая динамическую медитацию и «джигареш» — говорение бессмыслицы. Кроме того, много времени было посвящено стилизованному суфийскому громкому зикру, а вершиной практики было знаменитое суфийское вращение, во время которого члены Суфийского Центра надевали специальные колоколообразные юбки с утяжелённым подолом для усиления инерции. Эти шестеро на тот момент формировали костяк группы, в которую входило всего около пятнадцати человек. Руководителем группы был мужчина средних лет, получивший при одном из своих эзотерических посвящений имя Малик. Ученики представляли разные социальные слои, имели разное образование, но все они — сотрудники академических институтов, музыканты, бизнесмены, студенты, дворники и безработные — называли себя «суфиями», что означало практику суфизма вне ислама, и образовывали совершенно неформальную группу, по их собственному выражению, — «круг друзей». История создания Центра соответствует его неформальному характеру. В начале 1980-х гг. несколько молодых людей заинтересовались 21 Palmer S. Women’s “Cocoon Work” // NRM: Sexual Experimentation and Feminine Rites of Passage // Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 32 (1993). N 4. P. 352. 108 Современные эзотерические сообщества. . . религиозно-мистическими направлениями и, прочитав работы Е.Э. Бертельса22 и А.Е. Крымского23 , открыли для себя суфизм. В переводе «Послания о свободе Духа» Инайат Хана, найденном в Ленинской библиотеке, они прочитали, что все религии едины и суфием может стать представитель любой конфессии. Они стали заниматься по книгам суфийской практикой, а когда узнали, что в Париже существует Суфийский орден, возглавляемый сыном И. Хана — пиром (старцем) Вилайт Ханом, написали ему, и завязалась многолетняя переписка. В 1991 г. В. Хан, посетив Москву, благословил их на дальнейшую деятельность, и группа стала официально считаться отделением Суфийского ордена — Суфийским Духовным центром в Москве. Члены группы собирались один или два раза в неделю в съёмных помещениях или на квартире одного из участников, а в теплое время года — на природе, занимались практикой, а затем вместе пили чай и разговаривали на разные темы. Надо сказать, что общих тем для разговора было немного, поскольку за рамками суфийских занятий у всех была совершенно разная жизнь и даже разные эзотерические предпочтения. Одна из участниц активно посещала православную церковь. В последний день семинара, проводимого Ведеей, она воскликнула: «Замечательная выдалась в этом году Страстная неделя! Завтра Пасха — в церковь пойдём». Это заявление вызвало ответные реплики, довольно неприязненно характеризующие атмосферу православного храма: «энергетика там тягостная». Однако большинство считало, что какая бы ни была «энергетика» («дело не том, что она плохая, просто она другая»), а идти на Пасху надо. Одна их участниц группы была этнической мусульманской, она совершала паломничество в Мекку, и в Конью (Турция), центр ордена мевлеви, на праздник танцующих дервишей. Другой член суфийского центра в этот период регулярно посещал группу преданных индийского святого Сатья Саи Бабы, а время от времени — другие неоиндуистские центры, в частности, — Церковь Сознания Кришны. Что касается меня, то я не делала тайны из цели своего пребывания в группе и честно сказала, что собираю материал для диссертации, но 22 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература // Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. М.: Издательство восточной литературы, 1965. 23 Крымский А.Е. Очерк развития суфизма до конца III в. Хиджры. (Из 2-то тома трудов «Восточной Комиссии Императорского Московского Археологического Общества»). СПб., 1895. 109 А. Ожиганова неожиданно получила признание своей деятельности как особого эзотерического пути. Сложным и противоречивым был эзотерический путь у лидеров движения. Так, сам Ведея считал себя, прежде всего, учеником Ошо. Но также он получил посвящение (или «передачу») от вращающихся дервишей в Конье. «Я просто разделяю Путь», — говорил он о себе. Среди мероприятий, в которых принимали участие члены этой группы, была встреча с писателем Радием Фишем, автором биографии суфийского поэта Джалалиддина Руми, выходившей в серии «Жизнь замечательных людей»24 . Фиша также признали «скрытым эзотериком». Ярким событием стали лекции о символизме арабского алфавита, прочитанные в центре «Путь к себе» Фредди Боллагом, авторитетным представителем современного эзотеризма, основавшим в Швейцарии коммуну «в соответствии с идеями Бабаджи». В 1935 г. Боллаг в возрасте 20 лет, уже будучи учеником французского эзотерика Рене Геннона, получил посвящение в североафриканский суфийский орден тиджани, а спустя несколько десятилетий, в 1970-е гг. — посвящение знаменитого индийского гуру Бабаджи. Иудей по происхождению и математик по образованию, Боллаг являлся издателем и пропагандистом идей Геннона, признанным авторитетом в области эзотерической нумерологии, автором книги «Имя Аллаха и число 66»25 . Обладая правом духовной передачи, во время своего пребывания в Москве в 1994 г. Боллаг посвятил в орден тиджани одного молодого человека, ставшего, по всей видимости, первым представителем этого ордена в нашей стране. При этом он особо отметил важность ритуала посвящения для успешной практики: «Вы присоединяетесь к бараке (духовной энергии) как лампочка к электросети. Без этого никакая работа не возможна. Вера не может привести к знанию». По окончании лекций я спросила Боллага, каким он видит будущее религии и как относится к мнению, что в настоящее время происходит «профанация традиции»? Он ответил цитатой из Бабаджи: «Все религии вышли из одного вечного источника и все они в него вернутся». В течение нескольких месяцев на занятия группы приходил суфий из Узбекистана, представитель ордена накшбанди. Поначалу он с явным одобрением отнесся к занятиям и даже предложил отвезти участников группы к своему пиру, «такими, какие вы есть». Вскоре, однако, выяснилось, что необходимо совершать традиционный намаз. Сначала это было 24 Фиш Р. Джалалиддин Руми. М.: Молодая гвардия„ 1972. Имя Аллаха 66. Суфийская нумерология. М.: Беловодье, 2008. 25 Боллаг Ф. 110 Современные эзотерические сообщества. . . воспринято с энтузиазмом, который не омрачил даже тот факт, что женщины во время намаза должны стоять позади мужчин. Но когда обнаружилось, что надо принять ислам, а одиноким женщинам путь к пиру вовсе закрыт, коллективное чтение намаза закончилось. Тем не менее, один из членов группы выполнил все предписания и смог добраться до пира, проживавшего в далеком ауле Узбекистана. Комментируя деятельность Центра, его руководитель говорил: «Мы стремимся реализовать, насколько это нам удаётся, путь синтеза западного и того традиционного суфизма, дух которого жив и по сей день в Средней Азии. Но суфий не обязан быть мусульманином. Условия нашей жизни таковы, что мы не можем, например, совершать пятикратный намаз, где бы ни находились»26 . Этот текст может быть подвергнут интерпретациям разного рода. Мы можем назвать подобные группы деструктивными сектами и культами и изучать их негативное влияние на индивидуальное и коллективное сознание. Мы можем объявить их опытом по экспериментированию с изменёнными состояниями сознания и изучать с помощью нейрофизиологии. Мы можем признать их нетрадиционными религиями и описать элементы, заимствованные из великих и малых религиозных традиций. Мы можем рассмотреть все эти группы как единую эзотерическую субкультуру, и описать её как систему знаков. Но всё это, по выражению Клиффорда Гирца, «разные способы обойти проблему». Залив «жидкие сообщества» в сосуды определённой формы, мы увидим только известные нам формы, а не странную субстанцию, их заполняющую. Такие группы воспринимаются как угроза общественным устоям не из-за своей деятельности, которую сектоведы практически не изучают, а благодаря самому факту своего существования. Как заметил В. Тёрнер: Тем, кто находится в рамках структуры, проявления коммунитас должны казаться опасными <. . . > Ведь это то, что невозможно определить в понятиях традиционных критериев классификации, то, что помещается между классификационными границами27 . Разнообразные психотехники и вызываемые ими состояния сознания, конечно, являются очень важным аспектом эзотерического пути. О психофизиологических эффектах практики: состояниях, энергетике, фазах 26 Ожиганова А.А. 27 Тэрнер В. Суфии в Москве // Москва. Народы и религии. М.: ИЭА РАН, 1997. Цит. соч. С. 181 111 А. Ожиганова духовного роста, — эзотерики могут говорить часами, в сущности, это является одной из основных тем. Исследования показывают, что действительно, у активно практикующих происходят изменения альфа-, бета-, гамма- и др. ритмов головного мозга, а также, что с точки зрения биохимии мозга результаты принятия ЛСД и эффективная медитация практически идентичны. Но эти результаты не поддаются интерпретации в терминах известных социальных или гуманитарных наук, исследователь оказывается в ситуации моделирования эзотерического дискурса, а эзотерики радуются научному подтверждению своих состояний. Современных эзотериков не смущает очевидное смешение различных элементов религиозных традиций, они не считают этот процесс профанацией. Ведь в соответствии с их представлениями, все религии — это проявление одной истины, всё одинаково, только методы различны, это просто разные инструменты и можно использовать любой. Более того, нет единого завершённого учения, есть гипертекст, открытый и бесконечный. Любые идеи, символы, молитвы, ритуальные фразы, магические заклинания, позаимствованные из разных западных и восточных традиций, объединены в нём непротиворечивым образом. В любой момент может быть включен новый элемент, есть только одно единственное исключение — претензия на эксклюзивность. Учение любого современного эзотерического лидера также бесконечно и универсально. Так, труды Раджниша (Ошо), которого индийская пресса назвала «местью Западу за ост-индскую компанию», включают более шестисот книг об индуизме, суфизме, тантризме, дзен-буддизме, йоге, иудаизме, христианстве, и представляют собой не единое учение, а высказывания на все случаи жизни. Раджниш убеждает своих последователей в том, что это совсем неважно, какой религии придерживаться, значение имеет не учение, а практика, и критерий один — эффективность. Таким образом, поиск аналогий между современным эзотеризмом и различными философско-религиозными традициями может привести только к созданию очередного варианта бесконечного эзотерического гипертекста, и ни в коей мере не будет служить приращению научного знания. Хотя, надо отметить, что эзотерики с удовольствием читают такого рода исследования, находя подтверждение своим знаниям, а порой и новую информацию для практического применения. В случае современного эзотерического движения можно, конечно, говорить, что оно представляет единое целое, особую субкультуру со своими организационными центрами, духовными лидерами, печатными изданиями, магазинами, туристическими агентствами. При этом можно от112 Современные эзотерические сообщества. . . метить тот факт, что российская эзотерическая субкультура является частью международной. Большинство групп представляет собой филиалы международных организаций, имеющих аналогичные отделения в странах Европы, Америки, Азии и даже Африки. Руководители этих организаций, духовные лидеры эзотерической субкультуры, постоянно находятся в пути в прямом смысле этого слова, посещая своих учеников, которые тоже постоянно перемещаются от семинара к семинару, от посвящения к посвящению, создавая фактически особый вид эзотерического туризма. В рамках эзотерической субкультуры развиваются разнообразные сетевые сообщества: магазины здоровой пищи, центры подготовки к домашним родам, тренинговые центры, клубы путешественников и т.д. Анализ литературы, посвящённой изучению различных субкультур, показывает, что исследователи зачастую исходят из различного понимания этого термина. Например, его можно трактовать как комплексную религиозную, социальную, политическую и идеологическую систему. Так, славянское неоязычество предлагается соотнести с субкультурой на основании того, что это «разноплановое явление несводимо к религии как таковой», поскольку является также общественным и политическим движением28 . В то же время такой известный исследователь современных субкультур, как Т.Б. Щепанская, определяет её как знаковую и нормативную систему, способную к самовоспроизводству и относительно автономную в рамках более широкой системы культуры. Но в любом случае, при таком подходе теряются люди и теряются сообщества, поскольку исследователь ищет и находит только некие формальные структуры. Для Щепанской разделение этих концептов имеет принципиальный характер: «мы должны отличать субкультуру, как систему знаков и норм, от сообщества, как локального уплотнения межличностных связей»29 . При этом она отмечает, что на основе одной субкультурной традиции может возникать множество разных сообществ. Совершая исследовательский выбор в пользу изучения сообществ, мы оказываемся в чрезвычайно сложной ситуации, ведь совершенно непонятно, какие аналитические инструменты мы можем для этого привлечь. Говоря о коммунитас, Тёрнер отмечал, что она не поддается анализу, и, описывая такие сообщества, исследователь вынужден обращаться к метафорам и аналогиям. Этим коммунитас как раз и отличается от структуры, обладающей познавательными качествами: как показал Клод 28 Танана Н. Молодежное движение славянского неоязычества. URL: http://www. stabedit.ru/coded/stat/48_stat.html 29 Щепанская Т. Система: тексты и традиции культуры. М.: ОГИ, 2004. С. 31. 113 А. Ожиганова Леви-Стросс, структура, — это, по сути, ряд классификаций, модель для размышлений о культуре и природе и для упорядочивания общественной жизни человека. В то время как «коммунитас обладает экзистенциальными качествами, в ней человек всей своей целостностью взаимодействует с целостностями других людей»30 . В поисках направления для исследовательского подхода мы можем обратиться к опыту культурной антропологии, изучающей не только племена, общины, кровнородственные объединения и т.п., но и некоторые «неочевидные» сообщества. Примером такого исследования служит описание сообщества кула, сделанное Брониславом Малиновским в работе «Аргонавты Западной части Тихого океана»: «Сообщество кула состоит из одной или нескольких деревень, жители которых совместно отправляются в большие заморские экспедиции и участвуют в сделках кула как единое целое, сообща совершают магические обряды, имеют общих лидеров и обмениваются драгоценностями в границах одной и той же внешней и внутренней социальной сферы»31 . Малиновский показал, что данное сообщество формируется людьми, связанными «даром», т.е. сложной системой взаимного обмена подарками, и теми смыслами, которые они извлекают из этой практики. Исследование Малиновского, ставшее эталоном этнографического «насыщенного описания», сохраняет научную значимость и в настоящее время (хотя, в основном, опосредованно, через работу Марселя Мосса «Очерк о даре»). Так, например, в известной работе Роберто Эспозито «Коммунитас. Происхождение и предназначение сообщества» раскрывается значение понятия «community» посредством его этимологической связи с «munus» (даром)32 . Итак, изучить эзотерические сообщество, как и любое другое, можно лишь сделав главным предметом своего исследовательского интереса те смыслы, которые современные эзотерики вкладывают в свои практики. Но для этого нам, в первую очередь, необходимо отказаться от пренебрежительного тона, который отличает многих исследователей современного эзотеризма, представляющих его как религиозный китч, как нечто несерьёзное по сравнению с традиционными религиями вследствие неаутентичности и синкретизма. Какой бы непреодолимой ни казалась нам культурная дистанция, отделяющая нас от мира современных эзотериков, 30 Тэрнер В. Цит. соч. С. 198. Избранное: Аргонавты Западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 31 Малиновский Б. 2004. С. 117. 32 Esposito R. Communitas: The Origin and Destiny of Community. Stanford, 2010. 114 Современные эзотерические сообщества. . . всё-таки её надо преодолевать: они те Другие, которых исследователь призван увидеть, понять и описать. Как отмечал Гирц, цель исследования состоит не в том, чтобы дать «ответ на самые сокровенные наши вопросы, но в том, чтобы дать нам доступ к ответам других»33 Ответ на вопрос, в чём суть их практики, который я получила от представителей различных эзотерических сообществ в результате длительных полевых исследований, состоит в следующем: «Мы работаем над собой, чтобы стать другими». Таким образом, надо признать, что эзотерические сообщества возникают вследствие некоего экзистенциального запроса своих создателей. Уэльбек — одновременно и рупор и обличитель неврозов нового века — передал в своих романах тревожную атмосферу ожидания «радикальной метафизической мутации», которая породила современную эзотерику: «странное, незаконнорожденное идеологическое течение, появившееся в конце XX столетия под названием New Age, по сути есть реакция на то реальное страдание, источником которого является психологическая, онтологическая и социальная раздробленность. . . New Age проявил реальную жажду разрыва с XX веком, его имморализмом, его индивидуализмом, его анархистскими, антисоциальными пристрастиями; он свидетельствовал о тревожном понимании, что ни одно общество не может быть жизнеспособным без объединяющей оси какой-либо религии; на деле он являл собой мощный призыв к смене парадигм»34 . Эзотерическая работа над собой предполагает не адаптацию сознания человека к существующим социальным и культурным условиям, но его радикальную трансформацию. Однако контркультурные установки эзотерического сообщества не подразумевают немедленного коренного переустройства окружающего мира. Так, для современных буддистов работа над собой — это постепенная трансформация сознания, которая, в конечном счете, приведет к появлению нового человека — современного Бодхисаттвы, формирующего вокруг себя особую духовную среду и распространяющего в мир бодхичитту — буддийскую «любовьсострадание»35 . Итак, можно утверждать, что современные эзотерические сообщества обладают своей собственной аксиологией, отличной как от исходных ре33 Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 40. Элементарные частицы. М.: Иностранка: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004. С. 404. 35 Ожиганова А.А. «Работа над собой» как реализация духовной практики в необуддийских движениях // Влияние религии на общество и личность / Отв.ред. А.А. Белик. М.: ИЭА РАН, 2007. С. 134. 34 Уэльбек М. 115 А. Ожиганова лигиозных традиций, так и от современного культурного мейнстрима, но в чём она состоит, ещё предстоит изучить. Исследование этих сообществ возможно лишь при помощи единиц анализа, взятых из их собственного эзотерического языка: что они понимают под «работой над собой», какой смысл вкладывают в понятие «пути», какими именно «другими» хотят стать в результате своей практики? Антропология сообществ предоставляет возможность поместить объединения эзотериков в широкой контекст других таких же неструктурированных, динамичных и синкретичных сообществ, увидеть их сходство и отличия, осознать сам факт их существования как универсального явления современности. Большое значение имеет изучение эзотерической идентичности, процесс её формирования и моделирования. Важным инструментом является практика посвящений, когда ученик получает от учителя духовное имя, при наличии посвящения в разных традициях возникает ситуация выбора идентичности. Во многих сообществах существует иерархия посвящений в разные типы практик, что становится ещё одним фактором усиления динамического аспекта идентичности. Примером сложной эзотерической идентичности может служить Авессалом Подводный, один из ведущих российских эзотериков. Его настоящее имя скрывается за инициалами А.К., но «Авессалом Подводный» — нечто гораздо большее, чем творческий псевдоним. Это имя некой эзотерической сущности, или эгрегора, смоделированного самим А.К. в процессе построения астрологической карты на момент эзотерического рождения Авессалома Подводного. Существует также портрет, на котором Авессалом Подводный изображён в виде мифологической птицы, имеющей некоторое сходство с орлом36 . Говоря о монашеском ордене Св. Фрациска как о примере перманентной коммунитас, Тёрнер отмечал, что существовать она могла лишь «на окраинах и щелях социальной структуры». Современные условия предоставляют сообществам множество таких укромных уголков и в физическом, и в социальном, и в метафизическом плане, и эти возможности постоянно расширяются. Несмотря на то, что сообщества современных эзотериков — это объединения индивидов, идея духовного братства, некоего идеального сообщества, продолжает оставаться весьма актуальной. Ещё в середине 1990-х гг. российские эзотерики говорили о создании поселений единомышленников как о чем-то несбыточном: «У нас (в России) 36 Ожиганова А.А. Современная эзотерическая субкультура. Авессалом Подводный // Влияние религии на общество и личность / Отв. ред. А.А. Белик. М.: ИЭА РАН, 2007. С. 241. 116 Современные эзотерические сообщества. . . это невозможно». В качестве важнейших препятствий указывались климат, политические и социальные условия, но всё-таки, главное — «не тот уровень сознания». Видимо, произошла значительная трансформация сознания, поскольку уже в конце 1990-х гг. такие общины стали возникать и в России, в частности в рамках движения «Анастасия / Звенящие кедры». Можно утверждать, две основные идеи — создание совершенного общества и преображение человека — являются универсальными для всех эзотерических сообществ и служат той «структурирующей рамкой», которая лежит в основе воображаемой эзотерической реальности. Тот факт, что попытки практической реализации идеального сообщества единичны и в большинстве случаев недолговечны, несущественен, поскольку сообщества существуют и, соответственно, могут быть поняты лишь в контексте собственной потенциальности. Более того, возможно, любое сообщество — это «воображаемый инструмент для конструирования идеи лучшего общества», это означает, что сообщества всегда находятся в процессе трансформации и их изменение является выражением мечты о лучшей жизни37 . В этой связи нельзя не отметить некий изоморфизм концепта сообщества и описываемого им объекта: получается, что «делание сообществ» и размышление о них не так уж сильно различаются. Литература Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература // Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. М.: Издательство восточной литературы, 1965. Боллаг Ф. Имя Аллаха 66. Суфийская нумерология. М.: Беловодье, 2008. Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. Дворкин А. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород: Изд. Братства во имя св. князя Александра Невского, 2000. 37 Farrar M. The Struggle for “Community” in a British Multi-ethnic Inner City area: Paradise in the Making. N.Y. and Lampeter: Edwin Mellen Press, 2001. P. 343. Цит. по: Day G. Op. cit. P. 246. 117 А. Ожиганова Крымский А.Е. Очерк развития суфизма до конца III в. Хиджры (Из 2-то тома трудов «Восточной Комиссии Императорского Московского Археологического Общества») М., 1895. Лоренц К. Так называемое зло. М.: Культурная революция, 2008. Малиновский Б. Избранное: Аргонавты Западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004. Ожиганова А.А. Суфии в Москве // Москва. Народы и религии. М.: ИЭА РАН, 1997. Ожиганова А.А. «Работа над собой» как реализация духовной практики в необуддийских движениях // Влияние религии на общество и личность / Отв. ред. А.А. Белик. М.: ИЭА РАН, 2007. Ожиганова А.А. Современная эзотерическая субкультура. Авессалом Подводный // Влияние религии на общество и личность / Отв. ред. А.А. Белик. М.: ИЭА РАН, 2007. Сморжевская О.А., Шиженский Р.В. Современное язычество в религиозно-культурной жизни: исторические очерки. Нижний Новгород: Издательство НГПУ, 2010. Танана Н. Молодежное движение славянского неоязычества. URL: http:// www.stabedit.ru/coded/stat/48_stat.html Ткачева А.А. Неоиндуизм и неоиндусский мистицизм // Древо индуизма / Отв. ред. И.П. Глушкова. М.: Восточная литература, 1999. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. Уэльбек М. Элементарные частицы. М.: Иностранка: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2004. Филиппова Е. Французские тетради. Диалоги и переводы. М.: ИЭА РАН, 2008. Фиш Р. Джалалиддин Руми. М.: Молодая гвардия, 1972. Щепанская Т. Система: тексты и традиции культуры. М.: ОГИ, 2004. Bourdieu P. L’Identité et la représentation. Éléments pour une réflexion critique sur l’idée de région // Actes de la recherche en sciences socials. 1980. N 35. November. P. 66. Brint S. Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept // Sociological Theory. Vol. 19. N 1 (Mar. 2001). Day G. Community and everyday life. N.Y: Routledge, 2006. Esposito R. Communitas. The Origin and Destiny of Community. Stanford, 2010. Melton G., Moore R. The Cult Experience: Responding to the New Religious Pluralism. N.Y.: Pilgrim Press, 1982. Farrar M. The Struggle for “Community” in a British Multi-Ethnic Inner City area: Paradise in the Making. N.Y. and Lampeter: Edwin Mellen Press, 2001. Palmer S. Women’s “Cocoon Work” in NRM: Sexual Experimentation and Feminine Rites of Passage // Journal for the Scientific Study of Religion. 1993. Vol. 32. N 4. К. Бандуровский Современное сообщество и национализм: подходы Бернарда Яка к решению противоречий между ними В статье представлена концепция национализма Бернарда Яка, изложенная в книге «Национализм и моральная психология сообщества» (2012). Як полагает, что национализм является не противоположностью современного либерального общества, а, напротив, результатом реализации двух либеральных принципов: понимания народа как источника учреждающего суверенитета и признания права наций на самоопределение. Национализм также обладает рядом позитивных черт, которые не могут отвергнуть даже крайние либералы. Опасность национализма, его «моральная проблематичность», согласно Яку, состоит в том, что интересы, чувство социальной дружбы и понимание справедливости, которые являются различными и несводимыми источниками морали и обычно уравновешивают друг друга, выстраиваются в один ряд против тех, кто мыслится как угроза нации, что приводит к разъеданию моральных ограничений и зачастую к самым ужасающим последствиям. Ключевые слова: нация, национализм, либеральное общество, моральная психология, народ как источник суверенитета, лояльность к нации. Рост национализма, происходящий в ХХ веке и продолжающийся в наши дни, ставит немало проблем перед исследователями, политиками, да и простыми людьми. Каковы причины этого роста? Является ли национализм благом или злом (или сочетает в себе эти качества)? Есть ли 119 К. Бандуровский средства для сдерживания национализма (или его опасных версий)? Что ожидает нас в ближайшем будущем в связи с процессами, происходящими в национальной сфере? Эти вопросы становятся темами жарких дебатов, и среди теоретиков, и в СМИ, и в курилках, если таковые ещё где-либо остались. Существует немало работ современных мыслителей, посвящённых различным аспектам национализма. Упомяну только некоторые из переведённых на русский язык: «Воображаемые сообщества» Бенедикта Андерсона (М., 2001), «Этничность без групп» Роджерса Брубейкера (М., 2012), «Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства» Аллена Бьюкенена (М., 2001), «Нации и национализм» Эрнеста Геллнера (М., 1991), «Национализм. Пять путей к современности» Лии Гринфельд (М., 2008), «Национализм» Крейга Калхуна (М., 2006), «Современная политическая философия: введение» Уилла Кимлики (М., 2010), «Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма» Энтони Смита (М., 2004), «Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности» Самюэля Хантингтона (М., 2008), «Нации и национализм после 1780 г.» Эрика Хобсбаума (СПб., 1998). Эти и другие исследователи сделали немало для осмысления этого явления. Однако есть проблемы, которые до сих пор ставят всех в тупик. Например, является ли национализм неким особенным явлением, противостоящим основным тенденциям развития «цивилизованного» мира, или он как-то связан с ними? Или: как решить парадокс между провозглашаемым нами правом наций на самоопределение (приводящим порой к войнам, терроризму, этническим чисткам) и принципом нерушимости существующих границ? Последняя работа американского политического теоретика Бернарда Яка «Национализм и моральная психология сообщества»1 представляет собой впечатляющую попытку дать принципиально новое понимание того, что такое нация и национализм, на этом основании переосмыслить связанные с ними проблемы и попытаться найти пути для их решения. Разумеется, Як не претендует на окончательное разрешение этих проблем, определяя свою задачу как дескриптивную, а не нормативную или прескриптивную, или, говоря иными словами, он предлагает «проверить наше зрение и сменить очки», а задачу этой книги видит в шлифовке линз для таких очков [Yack 2012: 2. — Далее ссылки на это изда1 Yack, Bernard. Nationalism and the Moral Psychology of Community. — Chicago: University of Chicago Press, 2012. В настоящее время готовится перевод этой книги в Издательстве Института Гайдара. 120 Современное сообщество и национализм. . . ние будут даваться в виде указания на страницу]. Главная задача нашей статьи — представить основные идеи и подходы этой книги, которые с одной стороны представляются очень эвристичными и провокативными для осмысления ситуации в нашей стране в сфере национальной политики, а с другой стороны, вызывают ряд вопросов и возражений. Однако это уже темы для дальнейших дискуссий; наша задача дать стимул и пищу для них. Прежде несколько слов об авторе. Бернард Як является одним из самых известных политических теоретиков нашего времени. Он родился в 1952 году в Канаде, учился в Университете Торонто. Канада, как известно, страна, в которой остро стоит проблема соотношения различных национальных сообществ — франкоговорящего и англоговорящего, помимо того, среди предков Яка были и иммигранты из России, так что проблематика национальных отношений представляет для него не только академический интерес. Затем он переехал в США, получил степень Ph.D. в Гарварде, преподавал в различных университетах, включая Принстон. В настоящее время он является профессором Университета Брандейса (Массачусетс), где он читает различные курсы по политической теории, такие как «Введение в политическую теорию», «Консервативная политическая мысль», «Маркс, Ницше и радикализм ХХ века». Исследования Яка опубликованы в ряде книг: «Страсть к тотальной революции» (1986), «Проблемы политического животного» (1993), «Либерализм без иллюзий» (1996), «Фетишизм современностей» (1997). «Национализм и моральные проблемы сообщества» является итогом многолетней работы над этой темой — первые результаты появились в 1996 году, в статье «Миф гражданской нации» (переведённой на русский язык Артёмом Смирновым, [Як 2006]), которая стала основой первой главы этой книги. Затем последовала серия публикаций, «Народный суверенитет и национализм» (2001), «Не обязательно быть фанатиками, чтобы действовать как они» (2010), «Неотъемлемое право, неотъемлемое зло: случайность, выбор и сообщество в современной политической мысли» (2011), материалы которых также вошли в книгу. Так что книга представляет собой воистину результат многолетних размышлений. Однако сами вопросы, на которые автор отвечает в книге, возникли значительно раньше, из удивления, которое сам Як испытал, приехав из Канады в США в 1980-е годы. Его озадачило то, как сочетаются представления о США как об индивидуалистическом обществе «неангажированных Я» (вроде трансцендентальных субъектов Канта или деонотолгических субъектов Джона Ролза) [См. об этом: Сэндел 1998], и «интенсив121 К. Бандуровский ное и шумное пристрастие» американцев к своей нации. Эта проблема проявляется и в глобальном масштабе — мы живём в мире, в котором происходит небывалый взлёт национализма, причём не только в «третьем мире», но и в странах, считающих себя либеральными, основывающимися на ценностях, которые, казалось бы, исключают национализм и должны привести к его искоренению или хотя бы маргинализации. Однако в существующей литературе Як не нашёл ответы на возникшие у него вопросы. С его точки зрения существует мало серьёзных аналитических трудов, посвящённых нациям и национализму (по крайней мере, по сравнению с трудами, посвящёнными понятиям «свобода», «правосудие» или «государство»). Моральные и политические философы в 1980-х годах, с точки зрения Яка, не замечали «национального слона в комнате» [Х—XI]. Главная проблема, поставленная в книге — почему в нашем обществе, ориентированном на индивидуалистические и либеральные ценности, происходит неожиданное возвышение национализма и что нам с этим делать? Конечно, автор не даёт готового ответа на вторую часть вопроса, решить его едва ли можно в рамках одной книги, да и вообще в рамках книг — это практическая задача, которая стоит перед нами всеми. Однако для того, чтобы решить её, нам нужно провести предварительную работу: понять, что же такое национализм, как он связан с национальным сообществом и с современными миром. С точки зрения Яка, в современной литературе господствует понимание национализма (и национального сообщества) как некой аномалии. Однако такое понимание лишь заводит нас в тупик. Сам Як, напротив, полагает, что национальное сообщество и национализм как его следствие являются важными элементами современного мира, поддерживаемыми рядом постулатов демократического либерального общества — прежде всего концепцией народного суверенитета и признанием права наций на самоопределение. Не случайно «каждая важная веха в распространении либеральной демократии начиная с конца семнадцатого столетия — Славная революция 1688 года, Французская революция 1789 года, революции 1848 года, Гражданская война в Америке, крах европейских империй в конце Первой мировой войны, деколонизация после Второй мировой войны и распад Советской империи в 1989 году — является также вехой в распространении националистических чувств» [5]2 . Поэтому устранить национальное сообщество и риск национализма можно только устранив эти основополагающие по2 Вообще, Як полагает, что нельзя говорить о национализме до Нового времени. Существовали немногие явления, похожие на национализм, в сообществах древних евреев или 122 Современное сообщество и национализм. . . стулаты, на что едва ли решится самый крайний либерал. С другой стороны, Як видит в национальном сообществе определённые преимущества, от которых нам также трудно отказаться. Национализм оказывается неотъемлемой «тёмной стороной демократии» (выражение Майкла Манна [Mann, 2005]), и поэтому наряду с борьбой с наиболее опасными формами национализма, необходимо учиться уживаться с ценными для нас формами. Подлинному пониманию сущности наций и национализма препятствует «миф гражданской нации», попытка слишком простым путём решить парадокс единства либерального демократического общества и национализма. Согласно этому мифу, под «нацией» мы понимаем, фактически, два разных явления. Помимо «этнической нации», которой приписываются все негативные стороны национализма, существует и «гражданская нация», совокупность людей, которых объединяет рациональный выбор в пользу либеральных практик и принципов. Можно сказать, что в гражданской нации именно индивид определяет сообщество, к которому он принадлежит, а в этнической — сообщество определяет индивида. Это прекрасная идея, но Яка смущает в ней, помимо прекраснодушного идеализма и того, что реально она распространяется на узкую прослойку людей, у которых есть возможность избирать себе образ жизни, свободно переезжая и получая возможность работать в Англии, Франции, Канаде, то, что она очень похожа на дихотомии, призванные противопоставить «наше» и «их», и страдает тем самым этноцентризмом, который она якобы отрицает — ведь в качестве образца «сообщества, основанного на рациональном выборе» выступает именно европейское (английское, французское), исторически сложившееся общество. Однако, даже если, например, француз искренне симпатизирует политическому устройству Англии, он не перестаёт от этого быть французом. Приверженность неким принципам является необходимым, но не достаточным условием лояльности национальному сообществу [28]. Другая сторона мифа гражданской нации заключается в том, что она базируется на общем согласии, «ежедневном плебисците» (пользуясь выражением Ренана). Это очень точное определение, однако граждане осуществляют этот плебисцит не на пустом месте, а в культурно обусловленном пространстве, насыщенном унаследованными (и конкурирующими) символами, историями, практиками и институтами. Таким образом, для нации конститутивными являются, во-первых, общее культурное наследие, а вочешских гуситов, однако приверженность к группе у них была усилена верой в божественную миссию их нации, необязательной для современных наций [118–119]. 123 К. Бандуровский вторых, наше субъективное согласие принять нашу приобщённость к национальному сообществу. Мифология гражданской нации базируется на разделении сообщества и общества, Gemeinschaft/Gesellschaft, восходящему к Фихте и Тённису. Культурное наследие отождествляется с эмоциональными связями и почитанием предков, отсылающими к моделям Gemeinschaft и традиционного общества. Субъективное согласие отождествляется с контрактами и инструментальными размышлениями, отсылающими к моделям Gesellschaft и современности. Это разделение социальных образований на два вида и приводит ко множеству недоразумений в попытках осмыслить феномен нации. Як предлагает переосмыслить понятия сообщества (или в некоторой степени вернуться к аристотелевскому понятию koinonia), рассматривая его как общий род, охватывающий все общества, общины, ассоциации и т.д., а не как некий вид малого, сплочённого общества. Сообщество охватывает группу людей, которые разделяют нечто общее: веру, территорию, цели, практики [46], и на этом основании испытывают чувство особой социальной дружбы, лояльности, заботы о благополучии друг друга и при этом осознают это общее как основу таких чувств. Именно эта забота делает сообщество «цементом» любого общества, а не особым продуктом традиционной деревни и семейной жизни [52]. Особо отметим: Як полагает, что сообщество не может базироваться только на чувстве исключённости, на противопоставлении себя другим, в отличие от популярных сейчас воззрений, отсылающих к Карлу Шмитту, что именно противопоставление друг–враг является конститутивным для сообщества, во всяком случае политического; согласно Яку «общие цели и действия часто порождают чувство принадлежности к сообществу независимо от того, конкурируют ли одни сообщества с целями и действиями других. Даже универсальное человеческое сообщество могло бы возникнуть в ответ на некоторую общую для всех цель или опасность, такую как неминуемая угроза земной атмосфере или нехватка питьевой воды» [47]. Сообщество также следует отличать от общины, того, что Ганс Шмаленбах назвал Bund. Сообщество включает осознание как общности, так и различия, сосредотачивается на том, что позволяет преодолеть существующие между ними различия, но не стереть их. Община предполагает интенсивный опыт растворения индивида в коллективе (будь то команды по боулингу или братства солдат в окопах), вдохновляющий на высокую степень самопожертвования и значительно увеличивающий силу группы 124 Современное сообщество и национализм. . . (поэтому демагоги так часто взывают к этому опыту). Но такое состояние, к счастью, не длится долго, поэтому было бы неверно отождествлять общину и сообщество [50]. Именно осознание субъективной воображаемой связи, а не объективные основания, вроде языка, территориальных границ, религиозной веры или политической организации, лежит в основе национального общества, и до тех пор, «пока последующие поколения продолжают воображать себя связанными общим культурным наследием, нации продолжают жить, даже если их представители больше не используют язык, законы или ритуалы своих предшественников» [75]. Такое чувство связи между поколениями придает нации «глубину во времени» (выражение Стивена Гросби), особую остроту чувству социальной дружбы, ощущение нашей причастности к особой траектории на карте времени, значительно превышающей срок нашей жизни, заставляет звучать в нашей душе «мистические аккорды», к которым часто апеллируют демагоги, но и либералы не могут обойтись без обращения к ним. Горизонтальные связи между современниками основываются именно на такой вертикальной связи между поколениями, являющейся стволом национального дерева, несущего на себе многочисленные ветви, которые обрушились бы, если бы обрушился ствол. Но почему именно эта форма сообщества, объединяющего различные поколения, приобрело, начиная с Нового времени, такую политическую важность? Як связывает это с появлением понятия «народ» в концепциях народного суверенитета, как способа легитимизации политической власти. До этого слово «народ» имело долгую историю употребления, обозначая и народные низы, плебс, и «третье сословие», но никогда «народ» не рассматривался как источник политической власти. Народ в таком новом понимании, обозначая всех людей, живущих на территории данного государства, предоставлял равное членство всем индивидам непосредственно, а не через посредничество других групп, давая возможность обычным людям получить статус, в котором ранее им было отказано, что вдохновляло на особое чувство гордости от принадлежности к народу. Однако у этой привлекательной концепции народа есть один недостаток — ему не достаёт воплощённости, зримости. Никто никогда не видел «народ», не понятно, в какой форме он мог бы конкретно выражать себя, не ясно, что связывает народ воедино, кроме административных границ. Кроме того, в случае с народом, мы оказываемся перед парадоксом. Поскольку народ учреждает политические институты, значит он должен был каким-то образом существовать в до-политическом 125 К. Бандуровский состоянии. Но народ определяется как совокупность людей, проживающей на данной территории, управляемой определённым государством, и каким образом он мог бы существовать до этого, не ясно. Наконец, концепция народного суверенитета предполагает косвенное участие народа в управлении, рассматривая народ в качестве учреждающего, но не исполняющего суверена. Но не ясно, почему народ, учредивший данное государство в прошлом, должен иметь преимущество над народом, населяющим его сейчас, почему мёртвые должны иметь преимущество над живыми, как выражался Томас Джефферсон. Поэтому понятие народа начинает сходиться с понятием нации, которая имеет и вполне зримое воплощение, и глубокую самостоятельную историю, и право распоряжаться своими политическими делами. Возникает концепция «национального государства», легитимность которого основана на одобрении представителей национальной группы: «Национальное государство примиряет две формы причастности: причастность к политической организации и причастность к группе или сообществу, но подчиняет первое второму. В национальном государстве мы являемся участниками организации, которой управляет единая иерархически организованная структура политической власти, которая, как мы ожидаем, действует как голос и слуга нашей национальной группы» [111]. Национализм возникает в сообществе, объединённом общим культурным наследием, но именно то, что нация становится воплощением идеи народного суверенитета, становится катализатором для возникновения национальных притязаний и приводит к тому, что национализм занимает столь важное положение в современном мире. Як переворачивает обычное представление о причинно-следственной связи: не мы требуем национального суверенитета, поскольку мы испытываем сильную приверженность к нашей нации, а мы начинаем испытывать эту приверженность, поскольку требуем суверенитета [115]. А поскольку принцип национального суверенитета принуждает столь могущественную политическую организацию как государство служить нации, нация становится таким коллективным субъектом, которым она никогда прежде не была, и идентификация с которой заставляет нас переживать взлёты и падения нации как собственные [127]. Национализм не менее трудно определить, чем нации. Согласно Яку, национализм характеризует то, как он комбинирует убеждённость в справедливости притязаний на национальное самоопределение с чувствами особой заботы и лояльности к представителям своей нации, и хотя оба эти фактора сами по себе достаточно сомнительны или слабы, в соедине126 Современное сообщество и национализм. . . нии они могут превратиться во взрывоопасную смесь: чувство несправедливости возрастает, когда мы осознаём, что она обращена к представителям нашей нации, а чувство заботы — когда мы осознаём, что с представителями нашей нации поступают несправедливо. Поэтому национализм не требует особо сильной приверженности к своей нации, возрастающей до фанатизма, чтобы совершать чудовищные действия, которые выглядят как проявление крайнего фанатизма. При этом национализм не является тотальной идеологией, он диктует, у кого должно быть «последнее слово относительно инструментов власти, но не мелодии, которые можно на них сыграть. Это — одна из причин того, почему национализм объединяется так легко с другими идеологиями, от либерализма и консерватизма, до фашизма и даже социализма» [129]. Однако национализм приобретает разнообразные формы, можно ли сказать, что каждой из них свойственно такое сочетание убеждённости и чувств? Як выделяет целый ряд различных форм национализма, и в каждой из них обнаруживает такое сочетание: (1) сепаратистский, стремящийся отделить нации от больших политических единиц, (2) интегрирующий, стремящийся объединить разделённые нации в единую политическую единицу, (3) национализм в государствах раннего модерна, таких как Соединённое Королевство и Франция, где не было большой потребности менять форму политического образования, (4) «креольский национализм» — национализм сообществ поселенцев, которые отвергают правление метрополии, (5) «официальный национализм», продвигаемый имперскими элитами или их преемниками, стремящимися сохранить свою политическую легитимность, (6) антиколониальный национализм (7) фашистская или нацистская крайняя форма национализма [130]. Конечно, на становление национализма оказывает влияние множество других факторов: «воздействие централизованных государств и соревнования между ними, восхваление народной культуры романтиками, социальное напряжение, созданное модернизацией, потребность индустриального общества в большей культурной однородности, потребность светского общества в бессмертном коллективном субъекте, с которым можно было бы себя отождествлять» [138]. Многие теоретики, описывающие эти факторы, строят на них различные, зачастую взаимоисключающие теории национализма. Подход, предлагаемый Яком, позволяет признавать все эти факторы, поскольку его внимание сосредоточено не на возникновении лояльности к нации (которая может определяться различными факторами), а на политизации лояльности к нации (и, соответ- 127 К. Бандуровский ственно, национализации политики), к которой приводит новое понимание народа как суверена. Предлагаемое Яком понимание нации и национализма является основанием для осознания того, в чём же именно заключается моральная проблема, перед которой ставит нас национализм: в «интенсификации социальной враждебности, происходящей из-за особой конвергенции чувства социальной дружбы и суждения о справедливости. Такая трактовка позволяет намного легче осудить разрушительные эффекты национализма, не осуждая нашу склонность к нациям» [158]. Ведь сами по себе чувство социальной дружбы и суждения о справедливости важны для нас, и представляют собой два разных источника морали, равным образом необходимых для того, чтобы дополнять, контролировать и уравновешивать друг друга. Наше чувство справедливости побуждает нас воздавать людям (в том числе и не принадлежащим к нашей нации) то, что они заслуживают, а наше чувство принадлежности к сообществу побуждает заботиться о благополучии тех людей, к судьбе которых мы, без этого чувства, были бы безразличными или враждебными [169]. Даже конфликт между социальной дружбой и справедливостью имеет важное моральное значение, поскольку защищает нас от ущерба, наносимого чрезмерной уверенностью в нашей способности различать то, чего люди заслуживают, смягчить жесткость необузданного стремления к осуществлению справедливости, выраженную известной латинской пословицей «fiat iustitia, pereat mundus», пренебрежения к тем, кого мы сочли «недостойными» [179–180]. Более того, чувство социальной дружбы может иногда исправить наши стандарты справедливости, поскольку большое количество несправедливости, которую переносят люди, будет очевидным только для тех, кто особенно внимателен к этой группе [181]. Также важность социальной дружбы обуславливается тем, что люди не являются изначально свободными и рациональными существами, родившимися, как Афина из головы Зевса в полном облачении, которые бы могли основать и поддерживать общество, основанное на рациональных принципах. Мы приходим в мир не по своей воле, слабыми и беспомощными, поэтому важно, чтобы мы сразу попадали в общество, соединённое дружескими связями, которое способствовало бы развитию наших способностей (позже Як этим фактом оправдывает и существование гражданства по рождению, которое некоторым либералам представляется феодальным пережитком, мы обязаны дать людям, пришедшим в наш мир, некоторые преференции). Приверженность к национальному сообществу и социальная дружба способствует либералам в достижении их 128 Современное сообщество и национализм. . . целей — расторгая приверженность к явно нелиберальным формам сообщества (патриархальному, феодальному), укрепляя приоритет общества над государством и поощряя чувство заботы друг о друге, поддерживающее конституционные гарантии прав индивида [200–201]. Поэтому Як полагает, что можно найти способы примирения лояльности к нации и приверженности к либеральным принципам, которые многим либералам кажутся взаимоисключающими, поскольку они неверно понимают природу национального сообщества, как требующего верности некоему неизменному культурно-историческому ядру. Однако это исторически сложившееся ядро включает в себя различные, зачастую противоположные элементы, поэтому может существовать множество конкурирующих пониманий того, что представляет собой данное национальное общество и каковы его перспективы. Национальное общество уже имеет встроенный источник культурного плюрализма. Понимание истоков моральной проблемы национализма в особом соотношении наших представлений о справедливости, чувств социальной дружбы и интересов, которые в определённый момент начинают разъедать и ослаблять наши моральные ограничения, а не в трайбализме или фанатичной приверженности нации, позволяет ответить на ряд сложных вопросов. Во-первых, оно помогает объяснить обыденность практики националистического насилия, то, почему простые люди оказываются способными осуществлять, например, этническую чистку. Во-вторых, оно помогает объяснить внезапность вспышек насилия между сообществами, между которыми не существовало веков взаимной ненависти, показывая нам, что интенсивные чувства могут быть произведены из относительно слабых факторов, когда они выстраиваются в одну линию. В-третьих, оно помогает нам увидеть, почему националисты кажутся готовыми вступить в жестокую схватку из-за незначительных причин или культурных различий (различия между народами бывшей Югославии едва ли больше, чем между национальными сообществами, проживающими в Канаде), подобно свифтовским лилипутам, враждующим из-за того, с какой стороны разбивать яйцо. Так представление о том, что другая нация противится нашему суверенитету, заставляет видеть в незначительных спорах проявление заговора [228–229]. Предлагаемое понимание моральной проблемы национализма заставляет Яка критически смотреть на те способы решения этих проблем, которые обычно предлагаются, ведь если диагноз поставлен неверно, то предлагаемые средства едва ли будут эффективны. Як рассматривает несколько распространённых подходов к решению моральной пробле129 К. Бандуровский мы национализма: скептическое отношение к крайней приверженности к своей группе, реализация права на самоопределение и осуществление той или иной версии космополитического устройства общества. Скептицизм по отношению к представлению об исключительности некоторой нации, её превосходству над другими, проповедь толерантности по отношению к различным национальным культурам была бы действенна, если бы в основе моральных проблем национализма лежала слепая ненависть и нетерпимость к другим нациям, доходящая до фанатизма. Однако для того, чтобы совершать чудовищные злодеяния, ассоциирующиеся у нас с крайними формами национализма, вовсе не обязательно быть фанатиком или монстром. Нацистские армии не состоят из одних Гитлеров. Наша враждебность к представителям враждебной нации могла бы смягчиться, если мы осознаем, что с ними нужно поступать справедливо или если мы видим в наших взаимодействиях долгосрочную материальную выгоду. Но если человек одновременно представляется нам тем, кто противоречит нашим интересам, поступает несправедливо и является врагом нашей группы, то мы полностью утрачиваем ресурсы, которые могли бы сдерживать нас от проявления крайних форм жестокости по отношению к ним. Ещё один способ удовлетворить национальные притязания в согласии с либеральными принципами и моральными требованиями — учреждение общего права на национальное самоопределение. Представляется, что можно найти принцип, обосновывающий права наций, подобный принципу утверждающему и вместе с тем ограничивающему права и свободы индивида: «право на национальное самоопределение достигает своего предела, когда оно вторгается в его законное осуществление другими» [223]. Однако реализация этого принципа постоянно наталкивается на многочисленные трудности, а зачастую приводит к войнам, терроризму и этническим чисткам. Можно ли сказать, что сам принцип хорош в теории, но плох на практике? Як полагает, что некий порок содержится в самом принципе. Рассматривая национальное самоопределение как право (а не просто благо), мы начинаем рассматривать тех, кто противостоит нам, как нарушителей наших прав, а не тех, кто просто утверждает соперничающие требования [236]. При этом разработать стандарты для определения того, кто именно имеет право на самоопределение оказывается невозможным: «Когда два национальных сообщества, например израильские евреи и палестинские арабы, выказывают особую приверженность к одной и той же земле, как вы решаете, кто из них имеет право на самоопределение в этом месте? Группа, которая 130 Современное сообщество и национализм. . . обитала там первой? Группа, которая обитала там в последнее время? Которая обитала в течение самого долгого времени? Группа, для которой эта земля является наиболее святой? Наиболее известной? Право на национальное самоопределение не предоставляет нам стандарт, чтобы оценить эти аргументы; оно только увеличивает негодование и непримиримость, с которыми они утверждаются» [242]. Однако при том, что идея права на национальное самоопределение столь глубоко порочна, многие либералы остаются приверженными ей, поскольку она опирается на два права, признаваемых ими частью легитимного политического порядка: право свободного объединения, поддерживающее право нации формировать свою собственную политическую организацию и право народного суверенитета, распространяющее ее власть по всей территории [244]. Но эти права оказываются противоречащими друг другу: право формировать национальное государство является правом объединять людей в соответствии с чувством взаимной связи, а право, предоставленное принципом народного суверенитета, это право населения, проживающего в пределах данного государства, действовать как предельный источник политической власти. Первое отрицает существующее разделение государств и призывает к более легитимному разделению политического мира. Второе принимает существующее разделение и предоставляет населению существующих государств условие для легитимного осуществления политической власти в их пределах. Отстаивая одно из этих прав, мы подрываем другое. Мы не можем дать группам право бросить вызов как разделению сообществ, так и разделению территорий и право исправить и то, и другое — такова, как выражается Як, «антиномия самоопределения сообщества» [247]. Вместе с тем Як, отклоняя право на национальное самоопределение, не считает, что мы обязаны принимать существующие границы между государствами как легитимные или справедливые: «у нас есть веские основания продолжить выносить суждения о справедливости или несправедливости этих разделений. Но эти суждения должны быть в большей или меньшей степени суждениями, которые принимают в расчет множество конкурирующих и непоследовательных факторов, а не суждениями неизбежного выбора, вдохновлённых принципами, которые различают легитимные и нелегитимные способы упорядочить нашу политическую жизнь» [252]. Но, хотя требование нации права на самоопределение противоречиво и неисполнимо, нации заслуживают нашего внимания к своим притязаниям, поскольку обладают рядом ценных моральных качеств. Во131 К. Бандуровский первых, нация может мобилизовать население, создавать коллективную власть, вдохновлять людей на скоординированные действия, являясь, по словам Маргарет Канован, подобием батареи: дешёвым и мобильным источником коллективной энергии для экстраординарных случаев [Canovan 1996: 73–74]. Этим источником энергии пользуются все современные режимы, включая либеральные демократические государства, потому что он требует гораздо меньше насилия, чем другие средства мобилизации и координации коллективных усилий [298]. Поскольку этот источник менее дорогостоящий, чем другие формы политической мобилизации, он является одним из излюбленных оружий слабых против сильных. Вовторых, нация помогает различным группам представлять свои потребности и интересы, которые, в ином случае, потонули бы в потоке различных голосов и требований, не вызывая большого резонанса. Наконец, обращение к национальным приверженностям является средством борьбы с групповыми интересами — фракционализмом, который является одним из самых больших недостатков демократии, усиливая статус простых людей, являющихся такими же членами нации, как и элиты, и на этом основании требующих уважать свои интересы [301]. Также очевидным способом решения моральной проблемы национализма кажется космополитизм, принятие, в метафорическом или буквальном смысле, мирового гражданства. Но космополитизм, по крайней мере в его традиционной форме, взыскивает высокую цену за свои услуги: отчуждение от большой массы людей, которые всё ещё наделяют свои частичные связи большой моральной значимостью. Космополитами могли быть стоики, считая, что они следуют мировому закону, разделяя людей на мудрецов, осознающих этот закон и простой народ. Однако немногие из современных космополитов готовы заплатить столь высокую цену за учреждение космополитического сообщества. «Как плюралисты, они не могут опираться на естественный моральный порядок. Как сторонники равноправия, они не желают отвергать тот образ жизни, который ведёт большинство людей. И как демократы, они намного более обеспокоены организацией эффективных средств народного контроля и представления». Поэтому большинство современных космополитов одобряет намного более скромное, «более включающее» понимание космополитизма, говоря об «укоренённом космополитизме», «космополитическом патриотизме», и даже «космополитическом национализме» [253–254]. Космополитизм мог бы быть верным решением, если бы моральная проблема национализма заключалась в отвержении моральных обязательств вне национальных границ. Однако немногие националисты 132 Современное сообщество и национализм. . . отвергают эти обязательства, вплоть до того, что «готовы были бы направить трамвай в толпу инородцев только для того, чтобы сэкономить своим соотечественникам время ожидания». Неудовлетворительность предлагаемых решений проистекает из того, что моральные проблемы национализма полагаются внешними для либерального сообщества, а национализмом заражены другие, нелиберальные, иррациональные люди. Як полагает, что любое решение проблем национализма должно начинаться с признания того, что «национализм — наша моральная проблема» [232]. Современные либеральные общества также готовы ополчиться на других, когда они чувствуют угрозу их национальному суверенитету или интересам, и примеров тому множество, от интернирования японцев во время Второй мировой войны, до подозрительности к мусульманам в ходе «войны с терроризмом». Никто не может (и не должен) избегать таких ситуаций, когда объединяются интерес, дружба и справедливость, но нужно осознавать опасность такого соединения и научиться вовремя находить нужные противовесы именно этому сочетанию, а не отдельным факторам, поскольку «если ненависть к культурным различиям не проблема, то терпимость к другим не решение. Если именно сочетание веры в несправедливость национальных соперников с чувством лояльности к сообществу производит самых ярых националистов, то более ироническое или плюралистическое представление об источниках национальной специфики вряд ли сделает их менее сильными. И если именно кажущееся совпадение личного интереса с дружбой и справедливостью усиливает их враждебность против представителей соперничающих наций, то акцент на материальных интересах вряд ли принудит их к большему сотрудничеству» [231]. Можно ли вынести из книги Яка какие-либо практические рекомендации относительно того, как нам справиться с разрушительными последствиями национализма? Як указывает только самое общее направление, которое требует дальнейших размышлений и разработки практических действий. Ключевая задача — перестать мыслить о праве наций на самоопределение как об основополагающем праве. Если мы считаем, что нация имеет право на самоопределение, то любое конкурирующее притязание будет рассматриваться как нарушение права. Но с другой стороны, необходимо признавать, что многие нации, в результате сложившихся тем или иных образом исторических событий, действительно подверглись несправедливости и имеют моральное право возмущаться этим. Отрицание такого права вновь приводит к увеличению чувства 133 К. Бандуровский несправедливости и росту национализма. То есть нам нужно научиться делать одновременно два шага, которые нам мешает делать отождествление несправедливости с нарушением права. Работа, которую выполнил Як, кажется несколько абстрактной на фоне тех угрожающих и взывающих к немедленным действиям событий, который происходят сейчас на планете. Тем не менее, без осознания необходимости нового способа мыслить несправедливость в межнациональных отношениях и искать не универсальные, но разнообразные и тонкие подходы к её устранению, невозможно найти выход из создавшейся ситуации, а можно, поскольку не выявлена причина этой ситуации, предлагать лишь средства, оказывающиеся бесполезными, или даже подливающие масло в националистический огонь, который они призваны потушить. Литература Canovan, Margaret. Nationhood and Political Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 1996. Mann, Michael. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Yack, Bernard. Nationalism and the Moral Psychology of Community. Chicago: University of Chicago Press, 2012. Yack, Bernard. The Longing for Total Revolution: Philosophic Sources of Social Discontent from Rousseau to Marx and Nietzsche. Princeton University Press, 1986. Yack, Bernard. The Problems of a Political Animal: Community, Conflict, and Justice in Aristotelian Political Thought. University of California Press, 1993. Yack, Bernard. Liberalism without Illusions: Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar. University of California Press, 1996. Yack, Bernard. The Fetishism of Modernities: Epochal Self-Consciousness in Contemporary Social and Political Thought. University of Notre Dame Press, 1997. Yack, Bernard. Birthright, Birthwrongs: Contingency, Choice and Cosmopolitanism in Recent Political Thought // Political Theory 39, 2011. P. 406–416. Yack, Bernard. You Don’t Have to be a Fanatic to Act Like One // Studi Veneziani LIX, 2010. P. 135–151. Андерсон, Бенедикт. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 134 Современное сообщество и национализм. . . Брубейкер, Роджерс. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. Бьюкенен, Ален. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства. М.: Издательство «Рудомино», 2001. Геллнер, Эрнест. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. Гринфельд, Лия. Национализм. Пять путей к современности. М.: Пер Се, 2008. Калхун, Крейг. Национализм. М.: Территория будущего, 2006. Кимлика, Уилл. Современная политическая философия: введение. М.: Изд. дом Гос. Ун-та — Высшей школы экономики, 2010. Сэндел М.Д. Либерализм и пределы справедливости // Современный либерализм. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция, 1998. С. 191–218. Смит, Энтони. Национализм и модернизм. Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ, 2008. Хобсбаум, Эрик. Нации и национализм после 1780 г . СПб., 1998. Як Б. Миф гражданской нации / Пер. с англ. Артема Смирнова // Прогнозис. 2006. N 2 (6). С. 156–171. И. Польский От «дачников» к «поселенцам»: опыты сообщества в движении «Анастасия» / «Звенящие кедры России» В середине 1990-х годов на постсоветском пространстве возникло и стало быстро развиваться движение последователей книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Не имея единого центра, организации и скоординированного плана действий, тысячи горожан в разных регионах и странах стали переезжать на землю, создавать «родовые поместья», организовывать «экопоселения» и «содружества». Новые сообщества приняли разнообразные юридические, социальные и экономические формы, различными способами наладили отношения с педагогическими и медицинскими институтами, с церковью, с администрацией. Сформировалась сеть городских клубов, фестивалей, праздничных мероприятий, проводимых для передачи опыта (в частности, опыта строительства домов) и создания семей («слёты половинок»). В настоящий момент продолжается развитие и трансформация новообразованных сообществ и поселений, их идентичности, практик и мифологии. Ключевые слова: новые религиозные движения, «Анастасия», «Звенящие кедры России», Владимир Мегре, New Age. Несмотря на то, что движение «Анастасия» / «Звенящие Кедры России», существующее с 1994 года, является крупнейшим новым религиозным движением (НРД) в России и число его участников продолжает 136 От «дачников» к «поселенцам». . . расти, до сих пор не было обзорных научных работ, описывающих историю, мировоззрение и социальные практики этого движения. Принимая во внимание тот факт, что тысячи людей на постсоветском пространстве и за его пределами (в Турции, Германии, США) находят смысл жизни и коренным образом меняют свои привычки в результате знакомства с идеологией этого движения, сложно сказать, почему академическое сообщество до сих пор обходило стороной это и ему подобные социальные движения. Изучая движение «Анастасия» / «Звенящие Кедры России», мы имеем дело не с единичным изолированным и локальным феноменом, а с частью более широких и глобальных социокультурных процессов. Нам представляется продуктивным подойти к исследованию этого движения как к особого рода сообществу, а к поселениям, которые создаются его участниками, — как к новым (быть может, утопическим) попыткам организации территориального сообщества в духе теннисовской идеи Gemeinschaft. Хотя банальный ответ на вопрос о подходе к исследованиям новых религиозных движений мог бы звучать так: «изучать новые религиозные движения должны религиоведы», такой ответ не принимает в расчёт некоторую проблематичность описания новых движений как собственно религиозных: Похоже, многие НРД не являются религиозными в традиционном смысле. Смесь современных технологий, терапии и медицины, экономических предприятий и глобальной организации определённо придают некоторым НРД странный облик. В отличие от движений прошлого, современные НРД склонны сознательно выбирать, объявлять ли себя вообще религиозными, искать ли административное / юридическое подтверждение своего религиозного статуса1 . Так, основатель движения «Звенящие кедры России» Владимир Мегре пишет в одной из своих книг: Бурная реакция людей разного социального положения, популярность книг в России и за рубежом, возможно, и похожа на религиозность. Но, я думаю, дело здесь совсем в другом2 . 1 Swatos I., William H. Encyclopedia of Religion and Society / Ed. by William H. Swatos, Jr. URL: http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm 2 Мегре В. Кто же мы? URL: http://lib.ru/URIKOVA/MEGRE_W/05_kto_zhe_ my.txt 137 И. Польский Мы полагаем, что в некоторых случаях следует изучать и описывать различные типы НРД, используя различные подходы: в частности, подходы к изучению замкнутых авторитарных религиозных групп могут оказаться несостоятельными при переносе их на открытые, децентрализованные и неоднородные движения, и наоборот. Это, казалось бы, справедливое и простое предположение часто совершенно игнорируется некоторыми сектоведами и журналистами, исследующими различные НРД. Так, в приложении к Итоговой декларации Международной конференции «Тоталитарные секты — угроза религиозного экстремизма»3 , как и в выступлениях известнейшего сектоведа Александра Дворкина4 , движение «Анастасия» относится к тоталитарным сектам. В книге А.Л. Дворкина тоталитарные секты определяются как «особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными прикрытиями»5 . Напротив, в работе белорусского сектоведа Владимира Мартиновича, в которой он отделяет секты от сектантских движений, показано, что движение «Анастасия» является именно сектантским движением, то есть, в отличие от собственно секты, не является авторитарным, централизованным и легко управляемым6 — здесь есть явное противоречие с определением А.Л. Дворкина. При этом Мартинович не отказывается от гипотезы, что для создателя движения Владимира Мегре написание книг про Анастасию могло быть в первую успешным коммерческим проектом, но при этом сам В. Мегре не может вполне управлять этим движением, так как оно не является ни централизованным, ни единодушным, ни авторитарным. Подчёркивая принципиальную, хотя часто незамечаемую разницу типов НРД, выделяемых исследователями, заместитель председателя Экспертного совета для прове3 Приложение к Итоговой декларации Международной конференции «Тоталитарные секты — угроза религиозного экстремизма» в Екатеринбурге. URL: http://orthodox. etel.ru/2002/47/11sekty.shtml 4 Стенограмма телепередачи «Пусть говорят: Таинственная Анастасия» с участием А.Л. Дворкина и В. Мегре. Эфир от 10 Ноября 2006; Плешакова С., Грекова О. По ком звонят кедры // Московский Комсомолец. 5.10.2006. 5 Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний Новгород: «Издательство Братства во имя св. князя Александра Невского», 2002. C. 44. 6 Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 1 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 1 (84). С. 75–81. 138 От «дачников» к «поселенцам». . . дения государственной религиоведческой экспертизы доктор философии И.Я. Кантеров пишет: Если рассматривать анастасийцев в контексте типологизации религиозных движений современным религиоведением, то это образование следует отнести к разновидности «нью-эйдж», разумеется, имея в виду синкретический характер концептуальных построений многих групп нью-эйджеров. Подобные движения скорее квалифицируются как «религии аудитории», нежели устойчивые группы единоверцев <. . . > Отличительная особенность движения анастасийцев — отсутствие жёсткой структуры управления. Единственно признаваемый авторитет — Владимир Мегре, однако и он не наделён никакими административными и должностными полномочиями. Движение не занимается миссионерством. Основным каналом пополнения числа последователей являются книги Мегре7 . Вся эта ситуация ясно показывает, что отсутствие дифференциации в подходах к изучению и описанию различных типов новых религиозных движений ведёт к упрощению и неправомерному наделению всей совокупности движений одними и теми же характеристиками, что и происходит в популярных сектоведческих работах, СМИ и в массовом сознании: любое популярное НРД автоматически наделяется характеристикой авторитарности и всеми атрибутами «тоталитарной секты»: В лучшем случае их квалифицируют как псевдорелигии, но чаще всего вероучения возникших групп объявляются маскировкой неких мошеннических целей их основателей и лидеров. Подобные оценки экстраполируются и на рядовых верующих. Такие выводы делаются без изучения внутреннего мира последователей неорелигиозных движений8 . Напротив, наличие дифференциации, разделения движений разных типов избавляет от этой ошибки, позволяя представить более объективное описание рассматриваемого движения. Возникает вопрос, если исследованию подлежит авторитарная неорелигиозная группа, созданная с целью приобретения власти конкретным лидером, подход сектоведения, пусть и не лишённый ангажированности, 7 Кантеров И.Я. 8 Там Утопия в духе «нью-эйдж» // НГ Религии. 02.07.2008. же. 139 И. Польский оказывается, в общем, адекватен своему объекту. Но если исследованию подлежит более сложное движение, столь синкретичное, размытое и децентрализованное как New Age, как следует подойти исследователю к такому объекту? Не думая, что здесь возможен единственно верный ответ, мы предлагаем один из вариантов ответа: плодотворно будет подойти к подобным движениям как к сообществам. Как мы предполагаем, создание сообщества с общей идентичностью, разделяемыми базовыми взглядами, ценностями и смыслами во многих современных НДР оказывается не побочным, а ключевым фактором их становления. Описывая взаимосвязи характерных черт новой религиозности с эпохой постмодерна, А.А. Ожиганова и Ю.В. Филиппов пишут о «преодолении того специфического видения мира как хаоса, лишённого причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, «мира децентрированного», предстающего сознанию лишь в виде иерархически неупорядоченных фрагментов, которое получило определение «постмодернистской чувствительности», — и чуть далее: «Причина успеха новой религиозности очевидна — их лидеры осознают потребность человека в общине, структуре и осмысленности»9 . Движение людей, разделяющих определённую общую идентичность и базовую систему ценностей и идеалов, при этом неодинаковое в своих взглядах, мнениях и путях реализации этих идеалов, имеющее публичное пространство для обсуждения и столкновения разных позиций; людей, связанных, помимо базовой идентичности, общих ценностей, идеалов и мифологии, распределённой сетью коммуникаций, локальных лидеров, разнообразных совместных практик, мы будем называть здесь сообществом, и именно к такому роду движений, следуя описаниям сектоведа Мартиновича и профессора Кантерова, а также собственным наблюдениям, мы относим движение «Анастасия» / «Звенящие кедры России». Напомним, что в социальных науках понятие сообщество активно используется уже в классических работах Фердинанда Тённиса и Эмиля Дюркгейма. Противоположностью и угрозой сообществу у них оказывается индивидуализация и атомизация общества, при которой индивиды начинают преследовать в первую очередь собственные, а не общие интересы. Такой процесс индивидуализации общества происходил во время европейской модернизации XIX–XX вв., и его свидетелями как раз и были Эмиль Дюркгейм и Фердинанд Тённис, предложивший дихото9 Ожиганова А.А., Филиппов Ю.В. Новая религиозность в современной России: учения, формы и практики. М.: ИЭА РАН, 2006. С. 75–76. 140 От «дачников» к «поселенцам». . . мию сообщество (Gemeinschaft) / общество (Gesellschaft)10 . Для Тённиса Gemeinschaft отличается наличием общих целей, путь к которым лежит через совместное координирование действий для достижения общего блага, в то время как Gesellschaft характеризуется взаимодействием индивидов, добивающихся друг от друга определённых благ в соответствии со своими целями. Сообщество у Тённиса оказывается более природным, органическим единством, а общество — более рациональным. При этом Тённис не говорит о реальном существовании этих двух типов единства изолированно друг от друга, но скорее говорит о них как о двух полюсах, двух противоположных качествах, между которыми могут находиться реальные объединения людей, совмещая в себе качества того и другого в различных соотношениях. Однако в качестве примера Gemeinschaft Тённис всё же приводит вполне конкретный тип традиционной деревни, в целом же Gemeinschaft оказывается скорее связанным со старым, традиционным, а Gesellschaft — с новым, современным и городским (хотя и в этих новых городских условиях Gemeinschaft находит себе место в форме профессиональных или религиозных объединений)11 . Общим местом, характеризующим эти подходы, которые мы можем назвать классическими, является отнесение сообщества к прошлому, к естественному и органичному, к народному, традиционному, обусловленному природой, географией, кровью (а также к возможному будущему, где сообщества могут быть воссозданы), но не к актуальному настоящему, в котором сообщество как форма единства оказывается разрушаемой и чуждой рациональной форме общества развивающегося модерна. Таким образом, разговор о сообществе долгое время был связан с чувством утраты, ностальгии по прошлому (или освобождения от него), но в последние годы можно говорить об актуальном возвращении сообщества, о чём пишет в своей книге Грэм Дэй12 . Зигмунд Бауман, один из социологов постмодерна, считает, что, хотя социальные условия XXI века несовместимы с сообществом, множество людей настойчиво ищут последнее, как никогда чувствуя потребность в своей среде, где можно чувствовать себя «как дома»: в безопасности и комфорте среди тех, кто разделяет их вкусы и интересы13 . Мануэль 10 Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. М.: Владимир Даль, 2002; Tonnies F. Community and Association. London: Routledge and Kegan Paul, 1955 (first published 1887). 11 Day G. Community and Everyday Life. London: Routledge, 2006. P. 5. 12 Day G. Op. cit. P. 22. 13 Day G. Op. cit. P. 23. 141 И. Польский Кастельс также говорит о сообществе как о способе сопротивляться давлению современных форм жизни (забегая вперёд, можно сказать, что эта трактовка как никакая другая подходит для описания объекта нашего исследования, то есть движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России»), а также как о важнейшем способе создания собственной идентичности в современном обществе (что также напрямую относится к изучаемому нами движению). Кастельс говорит и о том, что реактивное стремление к сообществу приводит к оборонительным объединениям, характеризующимся исключением других, и о том, что сопротивление процессам индивидуализации и атомизации может привести людей к «созданию чувства принадлежности и, во многих случаях, общей культурной идентичности»14 . Скотт Лэш и Джон Арри полагают, что разница между этими «новыми сообществами» и традиционными состоит в том, что люди не рождаются в них, но оказываются вследствие собственного выбора и поступков, что может приводить как к прямым и агрессивным формам принадлежности, так и к более открытым, инклюзивным типам социальных движений15 . Именно такое понимание «новых сообществ» кажется нам крайне продуктивным для исследования движений New Age, новых религиозных движений и движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России» в частности. Широкое разнообразие подобных движений не позволяет характеризовать эти новые сообщества ни как жёсткие и тоталитарные (к чему склонны некоторые российские сектоведы, используя даже для самых размытых и неиерархических новых религиозных движений понятие «тоталитарная секта»), ни как открытые, гибкие, инклюзивные и т.п. (мы никак не можем утверждать, что все НДР являются таковыми, и, вероятно, для некоторых из них сектоведческое понятие «тоталитарная секта» может оказаться вполне применимым). Не упрощая картину, исследователям подобных новых сообществ следует каждый раз изучать специфику каждого конкретного движения, не довольствуясь предрассудками и общими положениями. Изучаемое нами движение «Анастасия» / «Звенящие кедры России» действительно можно рассматривать как реакцию на современный образ жизни, и в нём присутствуют как оборонительные, негативные элементы, так и позитивные, связанные с альтернативными ценностями и практиками, предлагаемыми движением. Также в нашем исследовании мы используем понятие сообщество в более узком смысле для описания поселений и содружеств «родовых поместий» (создание «родовых поместий» — альтернативная прак14 Castells M. 15 Day G. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. P. 60. Op. cit. P. 23. 142 От «дачников» к «поселенцам». . . тика, имеющая основное, центральное значение для движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России»). Такие сообщества, являясь частью общего движения, оказываются более узкими и тесными объединениями людей, связанных не только общими идеалами и ценностями, но и вполне определённой территорией поселения, на которой они стараются создать альтернативные формы хозяйственной и социальной жизни. Наличие общей территории ещё больше сближает такие сообщества с характеристиками, определяющими обычно традиционный, доиндустриальный тип сообществ. Однако, сравнивая эти новые сообщества с традиционными, можно указать на своего рода обратную перспективу: если традиционные территориальные сообщества берут корни своего единства в прошлом (общность крови, места рождения, памяти), то новые сообщества поселенцев, приехавших часто из разных городов, основаны скорее на будущем (общность мечты, идеала «родового поместья» и проекта поселения, общность предполагаемого будущего, где будут воспитываться и вырастать дети и т.п.), — при этом в представлениях самих поселенцев может присутствовать ориентация на воображаемое прошлое, на «восстановление уклада жизни мудрых предков». Термин сообщество является часто употребимым для описания экологических и альтернативных поселений в зарубежных и российских исследованиях и публикациях16 . Также следует отметить понятие устойчивое сообщество (sustainable community), которое применяется по отношению к сообществам, придерживающимся принципов устойчивого развития («Устойчивое развитие это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворить их собственные потребности» (WCED the Bruntland Commission 1987: 43)17 ). Иван и Антонина Кулясовы приводят примеры устойчивых сообществ в США, говоря о них как о сообществах, созданных «на основе обычных соседств, то есть микрорайонов в крупном городе или района в небольшом городе, на основе небольших посёлков и 16 Кулясов И.П. Идеи экологической этики в практике устойчивых сельских поселений // О-Мега форум: III международный полярный год. СПб.: РГТМУ, 2008. С. 167–170.; Кулясов И.П., Кулясова А.А. Экопоселения — новая форма сельских сообществ в России // Экология и жизнь. 2008. № 10. С. 20–26.; Мирзагитова Л. Экопоселения России. URL: http://www.ecobs.ru/index.files/site/pub.files/2008MiL.doc 17 Тысячнюк М.С. Построение устойчивых сообществ. Практическое руководство для неправительственных организаций / Ред. И. Кулясов, А. Кулясова. СПб.: НИИХ СпбГУ, 2000. 85 с. 143 И. Польский других населённых пунктов»18 , и как о новых экопоселениях, созданных бывшими городскими жителями. На основании этого, скорее культурологического, исследования мы не можем точно сказать, насколько устойчивыми и экологичными являются сообщества поселений и содружеств «родовых поместий» участников движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России» (вероятно, разные сообщества поселенцев приближаются к устойчивому состоянию в неодинаковой степени), но можем отметить, что, хотя цель создания устойчивого сообщества практически не формулируется участниками движения, общая экологическая направленность концепции «родовых поместий», предполагающей натуральное земледелие, ограничение техники, химических средств, бережное отношение к природе и т.п. позволяет говорить о том, что, по крайней мере на уровне идеала, идеи устойчивого развития включены в концепцию «родовых поместий» и состоящих из них поселений. И критики, и исследователи, и участники движения начинают отсчёт его истории с появления в 1996 году первой книги Владимира Мегре «Анастасия» (название серии «Звенящие кедры России» появилось позже, со второй книги). Книга задала общий вектор ценностей и мировоззренческих позиций движения, вокруг неё быстро сформировалось первоначальное сообщество. Белорусский сектовед Мартинович, посвятивший движению подробнейшее исследование, пишет: «В отличие от всей массы иной литературы, издающейся в границах оккультной среды общества, эта работа произвела неизгладимое впечатление на её читателей и достаточно быстро распространилась на территории стран СНГ»19 . Автор книги — бывший фотограф и предприниматель Владимир Мегре (первоначальная фамилия — Пузаков; после свадьбы автор принял звучную фамилию жены20 ) — пишет в первой книге о том, как в 1994 году организовал четырёх-месячную экспедицию по сибирской реке Оби от Новосибирска до Салехарда и обратно, экспедиция называлась «Купеческий караван». В результате последующей встречи с местными жителями Мегре узнаёт о чудодейственных свойствах кедра и встречает сибирскую отшельницу по имени Анастасия. Основным содержанием этой и последующих книг серии являются разговоры Мегре с Анастасией, размышле18 Там же. 19 Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 1 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 1 (84). С. 75–81. 20 Быков Д. Лесное чудо или Чудо лесное // «Огонёк». 2000. № 8; Мельников В. Владимир Пузаков — он же Владимир Мерге // Вечерний Новосибирск. URL: http://www. k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia_puzakov-megre.htm 144 От «дачников» к «поселенцам». . . ния автора, встречи и события, происходящие с автором, а также письма читателей и ответы на них, притчи, открытые письма и обращения. Не углубляясь подробно в содержание книг, отметим, что обнаруживаемые в них религиозно-мистические концепции являются синкретичным гипертекстом, популярным «миксом» множества новых религиозных концепций разных движений и авторов, а в целом соответствуют общим чертам, характеризующим новую религиозность, выделенным в диссертации Людмилы Григорьевой: а) изменение концепции Бога, которое заключается в переходе от позиции тварь-творец, сопряжённой с чувством страха и подчинения, к установкам на партнёрство, сотрудничество, объединение вплоть до слияния; б) изменение концепции человека, проявляющееся в переходе от идеи изначальной греховности, связанной с чувством вины, покаяния, самоуничижения к идее потенциального величия человека, вплоть до утверждения его изначально божественной сути, нуждающейся лишь в осознании и саморазвитии; в) изменение концепции спасения, где на смену абстрактному утешению вероятного загробного воздаяния приходит обращение к практическим прикладным методикам изменения сознания, психического состояния личности, дающим реальное чувство облегчения, успокоения не в потустороннем мире, а здесь и сейчас21 . Большое внимание в книгах В. Мегре уделяется критике современного общества, характеризуемого как разрушительное и негармоничное; несвободное, подверженное манипуляциям и «программируемое»; нездоровое, болезненное и противоестественное; несчастное, бездуховное и безнравственное. Такому социуму, такой жизни противопоставляется позитивный образ счастливой, натуральной, альтернативной жизни и связанные с ним концепции «пространства любви» и «родового поместья». «Пространство Любви» — это представление об особом состоянии среды обитания человека, относящегося с любовью и уважением к земле, на которой он или она живёт, считая землю и всё, что на ней находится, живым и разумным существом, с которым возможен диалог (возможны разговоры с растениями, обмен информацией со средой, общение с животными и т.п.). В качестве примера такого Пространства описывается 21 Григорьева Л.И. Нетрадиционные религии в современной России: социальная природа, тенденции эволюции. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. М., 1994. 145 И. Польский место в сибирском лесу, в котором обитает Анастасия: белки приносят ей орехи и делятся запасами, медведь согревает в зимние ночи, звери ухаживают за человеческим ребёнком и участвуют в воспитании — человек даёт зверям определённое предназначение. Таким же образом и растения растут специально для конкретного человека или семьи, накапливая полезные именно ему/ей/им вещества и целебные свойства. «Родовое поместье» (РП) — участок земли не менее гектара, где человек или семья создаёт свой дом, высаживает сад, лес, воспитывает детей, где стремится создать собственное «пространство любви», входя с растениями, животными и землёй в отношения, описанные выше. Предполагается, что человек развивает РП и тем самым развивается сам, достигая духовного роста, оздоровления и активизации скрытых способностей. Родовое Поместье также обеспечивает человека или семью продуктами питания и предоставляет возможность продавать излишки урожая, травы и т.п. Отдельно стоит отметить связанность концепции РП с понятием рода. Как отмечает А.А. Ожиганова, в движении существует перевёрнутая концепция рода, где главным являются не связи с родителями и прародителями (память о которых часто утеряна), а идея рода, направленного в будущее22 : создатели Родового Поместья становятся своеобразными основателями рода, их потомки смогут жить на этой земле, в Поместье заводится «Родовая книга», куда записываются важные события и мысли, которая сможет донести правду о прошлом и ценный опыт для будущих поколений. Также в книгах Мегре присутствуют концепции альтернативной истории человечества, концепции, описывающие и объясняющие современные мировые процессы, предсказания будущего, но мы не будем здесь их касаться, так как эти концепции являются скорее теоретическими и не находят прямого выражения в практике сообщества. Однако, наряду с этими абстрактными концепциями, в книгах даётся описание вполне конкретных практик, перенимаемых участниками движения со страниц книг и воплощаемых ими в своей жизни. Так, тут описаны основные принципы создания собственного «родового поместья», включая такие детали, как размеры участка (не менее гектара), высаживание живых изгородей (деревья и кустарники вместо забо22 Ожиганова А.А. Нео-шаманы и нео-язычники: перспективы развития // Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем. Материалы Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Республика Бурятия. Тункинский национальный парк. 2–9 августа 2010 г. / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2010 (серия «Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам». Т. 14. Ч. 2. В печати.) 146 От «дачников» к «поселенцам». . . ров и оград), альтернативное земледелие без вспашки земли (в земледелии предлагается использовать также практики общения с растениями, информационного обмена с семенами посредством держания их во рту перед посадкой и т.п.), создание устойчивой экологической системы из растений, животных и человека, существующей без необходимости каждодневного труда и использования химических удобрений, создание водоёма на территории и т.п. Отказ от техники при создании Родового Поместья и жизни в нём не является категоричным. В книгах Мегре устами Анастасии провозглашается, что техника может быть использована ради светлой и доброй цели, и участники движения часто ссылаются на эту мысль, используя в своём быту и для обустройства РП генераторы, мотоблоки, компьютеры и другие технические достижения современной цивилизации. В книгах же описаны поселения, состоящие из таких РП, а также публичных пространств: клуба, школы, общей лесной зоны, указывается оптимальный размер поселения: двести-триста РП. При этом не предполагается собственно общинной жизни: каждая семья достаточно независима от других. В книгах описываются идеальные принципы жизни в РП: представляется, что семья проводит в поместье много времени, вместе создаёт сад, выращивает растения, проектирует и создаёт здоровую и красивую среду обитания, которая становится объединяющей для семейной жизни. Домом семьи представляется не конкретное строение, а всё пространство РП, так что семье не нужен большой и комфортный дом; само пребывание в природном окружении РП представляется комфортным. Ключевые переходы, такие как рождение, венчание, погребение, также предполагается осуществлять в пространстве РП. Роды представляются интимным для семьи процессом, протекающим естественно. Присутствие посторонних людей в РП в этот момент нежелательно, хотя появление акушерки или присутствие врачей поблизости (для оказания помощи при необходимости) вполне возможны, кроме того, родителям следует осознавать собственную готовность к домашним родам. Также в книгах Мегре предлагается практика погребения умерших на пространстве РП, а не на кладбище, чтобы общаться с ними можно было постоянно, а не только по особым праздникам. Практики воспитания детей, предлагаемые книгами, основаны на оппозициях «искусственное — естественное», «техническое — природное»: меньше искусственных вещей, игрушек и технических приспособлений, больше общения с природой, с растениями и животными; меньше разучивания «мёртвых знаний», больше самостоятельного творчества и познания через практику и т.п. Передачу знаний и памяти будущим поколениям предлагается осу147 И. Польский ществлять посредством «родовой книги» — своеобразного дневника рода и «родового поместья». Некоторые ритуальные практики, описанные Мегре, больше связаны с неоязыческими концепциями: ритуал «ведрусского» венчания и другие ритуалы, обряды и практики воспитания детей в семье с участием «волхвов», игры и участие в общих хозяйственных мероприятиях, таких как сенокос, ярмарка и др. Также в книгах Мегре предлагается политическая программа, для продвижения которой предлагается создать «Родную партию». Программа включает: наделение каждого человека или семьи, желающей создать РП, землей не менее одного гектара; создание крупных поселений, состоящих из РП; введение специального закона «О родовых поместьях» (подобный закон впоследствии действительно был принят на локальном уровне в Белгородской области). Практически все эти идеи нашли отражение в практике участников движения (вплоть до создания нескольких вариантов «Родной Партии»). Это стало возможно не столько через учреждение иерархических структур и централизованной организации, сколько благодаря способности сообщества к самоорганизации: участники движения собирались вместе, объединяясь вокруг книг, устанавливали контакты друг с другом с помощью Владимирского Фонда «Анастасия» и сайта Anastasia.ru (сайт появился в 1999 г.), самоорганизовывались для воплощения тех или иных идей и концепций. Так по всей России, СНГ и в некоторых других странах появились читательские клубы, затем на основе этих клубов складывались инициативные группы для создания поселений и содружеств «родовых поместий». Сложно представить сколь-либо точную статистику о количестве поселений и Содружеств Родовых Поместий на сегодняшний день. Как утверждает Кулясов, к 2008 г. в России насчитывалось около сотни поселений23 ; на сайте poselenia.ru (дата обращения: 13 февраля 2011 г.) размещена информация о более чем 120 поселениях24 ; в специальной теме на форуме Anastasia.ru сообщается, что на 3 февраля 2011 года в России существуют 198 поселений, (даны названия и ссылки на сайты поселений)25 ; при этом точно неизвестно, сколько из этих поселений можно отнести к развитым и действующим, а сколько поселений находится в 23 Кулясов И.П. Идеи экологической этики в практике устойчивых сельских поселений // О-Мега форум: III международный полярный год. СПб.: РГТМУ, 2008. С. 167–170. 24 См.: URL: http://poselenia.ru 25 В России уже более 190 поселений, создающих РП. URL: http://forum. anastasia.ru/topic_28154.html 148 От «дачников» к «поселенцам». . . разряде «протопоселений» (по классификации А. Шубина26 ). Одним из главных вопросов, вставших перед создателями поселений, как отмечают их жители, является вопрос о собственности на землю. Ниже мы выделяем три преобладающих подхода в решении этого вопроса в разных поселениях, проиллюстрировав каждый из подходов примером из жизни действующего поселения или «содружества родовых поместий». Первый подход к решению вопроса о земле, который условно можно назвать общинным, заключается в том, что земля становится собственностью юридического лица, а не конкретных физических собственников. По этому пути пошли участники первого поселения, основанного на идее «родовых поместий», — поселения «Ковчег», созданного в 2001 году в Калужской области. Юридическая собственность на землю была оформлена в виде некоммерческого партнёрства. Были приняты общие для всех правила. Решения о принятии или не принятии новых участников, решения по результатам испытательного срока, а также об исключении участников поселения принимались на общих встречах (где решения принимаются большинством в три четверти голосов27 ). Такой подход поддерживает единство и целостность сообщества, но критикуется внутри движения, так как противоречит изначальной идеи «родовых поместий»: в книгах Мегре подчёркивается, что в отличие от Ауровиля в Индии и от многих западных поселений, РП должны находиться в непосредственной собственности людей, передаваясь из поколения в поколение28 . Также критики этого подхода считают, что в таком поселении личность неизбежно ощущает себя под постоянным контролем со стороны сообщества, которое в случае конфликта может исключить человека или семью, лишив «родового поместья» (пусть с возвращением денег за землю и постройки), что ограничивает свободу человека. Второй подход к решению вопроса о земле условно можно назвать лидерским: суть его состоит в том, что ответственный лидер изыскивает средства, оформляет землю и делает всё необходимое для создания нового поселения, а затем продаёт готовые участки новым собственникам, желающим создать РП. Таким путём в 2001 году во Владимирской области было создано поселение «Родное». Такое решение вопроса о земле позволяет новым поселенцам, имея необходимые средства, полу26 Шубин А. Альтернативная община: экзотика или дорога в будущее // Бюллетень Московского ИСАР. L 7. 1998. 27 Мирзагитова Л. Экопоселения России. URL: http://www.ecobs.ru/index. files/site/pub.files/2008MiL.doc 28 Мегре В. Кто же мы? СПб.: Издательство «Диля», 2007. С. 18–20. 149 И. Польский чить землю, не занимаясь подготовительными вопросами. Критики этого подхода внутри движения говорят о том, что такое решение концентрирует землю и связанную с ней власть в одних руках и позволяет лидеру зарабатывать на новых членах сообщества, привнося в его деятельность корыстные мотивы29 . Третий подход к решению вопроса о земле условно можно назвать подходом содружества. Здесь всеми подготовительными вопросами — поиском земли, переговорами с администрацией и т. п. — совместно занимается сообщество людей, желающих создать свои РП. Земля делится, и каждый получает в постоянную собственность свой участок. Таким путём было создано содружество родовых поместий «Благодать» (создано в 2003 г. в Ярославской области). В «Благодати» отсутствует испытательный срок, отсутствуют чёткие правила и механизм принятия общих решений и постановлений, обязательный для всех членов содружества. Поселенцы подчёркивают высокую степень самостоятельности и автономности каждого члена содружества, отсутствие единого лидера, давления и ограничений. Критики этого подхода говорят об отсутствии единства и невозможности принятия общих решений, проектирования и планирования общего развития, о слабой связанности участников содружества между собой, об отсутствии защиты от безответственного поведения и обращения с землёй конкретных участников содружества. Подход к решению вопроса о земле в поселениях часто коррелирует со структурой распределения власти и принятия решений в сообществе. Такие структуры также можно условно разделить на три вида: общинную структуру, где большая часть сообщества принимает решения путём голосования или консенсуса; лидерскую структуру, где голос и мнения одного или нескольких лидеров превалирует над остальными мнениями; и структуру содружества, где каждый участник сообщества сохраняет свою автономность и неподвластен решениям других, а общие решения принимаются только по самым важным вопросам или в крайних случаях. Различия, которые были приведены выше, среди прочих, указывают на то, что отдельные поселения и «содружества родовых поместий» отличаются друг от друга в зависимости от характера и решений сообщества. Жители поместий утверждают, что каждое из созданных поселений отличается друг от друга, и невозможно найти два одинаковых. Хотя разные поселения разделяют основные понятия и ценности движения, 29 О перепродаже земли Анатолием Молчановым см. также: Биткина, С. Бурьян-поле: Вместо пшеницы на сельской земле выросли палатки адептов нового «учения» // Российская газета — Верхняя Волга. 2006. № 4206. 150 От «дачников» к «поселенцам». . . книги В. Мегре не содержат исчерпывающей программы действий, и в каждом конкретном месте люди по-своему трактуют эти ценности, и всё зависит в итоге от конкретного сообщества, конкретных людей, создающих поселение. Это разнообразие слабо согласуется с образами поселений по типу «родовых поместий», представленными в ряде критических статей и сектоведческих работ, не исключая и работы Мартиновича30 . Эти поселения описываются либо как авторитарные, замкнутые и изолированные, построенные по единому плану, с превалирующей над каждой личностью идеологией общины, с множеством запретов, ограничений и принуждений (вплоть до принуждения отказаться от любой техники и возделывать землю голыми руками, не допускать детей в образовательные и медицинские учреждения или принуждения продать квартиру при вхождении в поселение31 ), либо как финансовые афёры и пирамиды32 . Если такие случаи и имеют место, то можно утверждать, что ни один из этих пунктов не характеризует большую часть новых поселений. Напротив, некоторые поселения сталкиваются с чрезмерной размытостью своих границ, с тем, что многие участники продолжают зарабатывать деньги в городах и почти не выращивают продукты и растения в своём «поместье», проводя в нём меньшую часть года, что тормозит развитие поселения и грозит потерей его целостности и общей идентичности. Помимо явного присутствия в книгах В. Мегре пропаганды сыроедения, вегетарианства и естественной жизни без использования техники, автор, тем не менее, допускает использование самых разных технических приспособлений для первоначального обустройства собственного «поместья» (после которого предполагается, что эта техника просто перестанет быть нужной, так как созданная в «пространстве любви» общность растений, животных и людей будет сама воспроизводить себя, приносить плоды, заботясь друг о друге без всякого вмешательства техники). Однако пока никто из поселенцев не достиг этого утопического идеала, столкнувшись со множеством проблем на пути к его осуществлению (и, среди прочего, с собственной неготовностью идти по этому пути). 30 Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 3 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 3 (86). С. 84–86. 31 Калинкина, C. По ком звенят кедры? // Народная Воля. 2009; Педагогические инновации секты. URL: http://www.k-istine.ru/sects/anastasia/anastasia_ pedagogics.htm 32 Плешакова С., Грекова О. По ком звонят кедры: Сказки для взрослых убивают младенцев // Московский Комсомолец. 05.10.2006; Ярков А.П. — Босоногая девица Настя // НГ Религии. 02.07.2008. 151 И. Польский Проанализировав основные концепции и практики движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России», мы приходим к заключению, что его идеология основана на оппозиции техники, науки, городской жизни, искусственности с одной стороны, и природы, внутренней мудрости, натуральной жизни, естественности с другой. Ключевыми практиками оказываются здесь не собственно религиозные, но социальные и хозяйственные практики, направленные на создание альтернативной среды обитания в форме поселений и «родовых поместий», из них состоящих. Идеология движения содержит критику современного общества и пропаганду преимуществ альтернативного образа жизни. Противодействие современному городскому образу жизни происходит не в политическом, а в дисциплинарном ключе (мы имеем в виду известную концепцию дисциплинарного общества Мишеля Фуко), и направлено на освобождение индивида, семьи или сообщества от власти, которую можно назвать периферийной (в частности, власти медицинских, образовательных учреждений, СМИ, систем коммунального обслуживания и др.). Предполагается, что семья, проживающая в «родовом поместье», способна существовать независимо от этих институций и учреждений, обеспечивая себя самостоятельно питанием, практикуя домашние роды, альтернативную медицину, домашнее воспитание внутри поселения. Эта апология автономности располагает к пониманию данного и ему подобных движений как контркультурных, но не в смысле активного противостояния и политического протеста (напротив, участники движения «Анастасия» / «Звенящие кедры России» характеризуются лояльным отношением к центральной власти, к тому же в движении распространено убеждение, что любая активная форма протеста или борьбы лишь усиливает то, против чего направлена, и потому бесполезна), а в смысле критики распространённого урбанистического образа жизни и соответствующих ему дискурсов. Такая контркультурная направленность становится более заметной, если расположить её в контексте идей New Age и экопоселенческих движений в Европе и Америке. Изучение этих связей не стало частью нашего исследования, но оно представляется продуктивным для более общего и теоретического исследования глобального феномена New Age и Новых религиозных движений. Здесь можно лишь отметить, что наше исследование скорее подтверждает предположение, высказываемое А.А. Ожигановой о том, что подобные движения в совокупности продуктивно рассматривать не как религиозные движения в узком смысле слова, но как сложно организованную сеть альтернативных сообществ, объединяемых 152 От «дачников» к «поселенцам». . . специфическим гипертекстом, состоящим из самых разных идей, ценностей и практик религиозного и нерелигиозного характера. Литература Castells M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997. Day G. Community and Everyday Life. London: Routledge, 2006. 289 p. May T. From Communal Difference to Communal Holism // Reconsidering Difference: Nancy, Derrida, Levinas, and Deleuze. University Park, PA.: Pennsylvania State University, 1997. P. 21–75. Mayo M. Communities and Caring: The Moral Economy of Welfare. Basingstoke: Macmillan, 1994. Michael D. Langone. What Is “New Age?” // Cult Observer. 1993. Vol. 10. No. 1. Pahl R. Friendly Society // The Politics of Attachment / S. Kraemer and J. Roberts (eds.). London: Free Association Books, 1996. Parsons T. The Social System. Glencoe, MN: Free Press, 1951. Swatos I., William H. Encyclopedia of religion and society / Ed. by William H. Swatos, Jr. [URL: http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm]. Tönnies F. Community and Association. London: Routledge and Kegan Paul, 1955 (first published 1887). Williams R. The Country and the City. St Albans: Paladin, 1975. Вологодское региональное общественное движение «Родная земля» — Концепция создания экопоселений в России. 2002. URL: http://lj.rossia. org/community/ru_ic/tag/concept2002; http://esco-ecosys. narod.ru/2005_9/art44.htm Григорьева Л.И. Нетрадиционные религии в современной России: социальная природа, тенденции эволюции. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. М., 1994. Грусман Я. Новые религиозные практики горожан // Вестник Санкт-Петербургского Университета. 2007. Вып. 3. С. 260–268. Грусман Я. Ментальность как специфический фактор возникновения новых религиозных движений // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы российской ментальности». СПб, 2005. Кантеров И.Я. Последователи «Нью эйдж» не нашли свое место в Церкви // НГ Религии. 02.07.2003. Кантеров И.Я. Утопия в духе «нью-эйдж» // НГ Религии. 02.07.2008. 153 И. Польский Кулясов И.П., Кулясова А.А. Экопоселения — новая форма сельских сообществ в России // Экология и жизнь. 2008. № 10. С. 20–26. Кулясов И.П. Идеи экологической этики в практике устойчивых сельских поселений // О-Мега форум: III международный полярный год. СПб.: РГТМУ. 2008. С. 167–170. Лункин Р.Н. Тоска по семье и природе: тайна успеха «Звенящих кедров России» // Russian ReviewEdition 33. URL: http://www.keston.org.uk/ _russianreview/edition33/01lunkin-about-anastasia.html Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / Пер. с англ. В.В. Целищева. М.: Акад. Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 1 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 1 (84). С. 75–81. Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 2 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 2 (85). С. 73–77. Мартинович В.А. Движение Анастасии. Часть 3 // Минские Епархиальные Ведомости. 2008. № 3 (86). С. 84–86. Мегре В. Анастасия. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 224 с. Мегре В. Звенящие кедры России. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 224 с. Мегре В. Кто же мы? СПб.: Издательство «Диля», 2007. 240 с. Мегре В. Пространство Любви. СПб.: Издательство «Диля», 2006. 224 с. Мегре В. Сотворение. СПб.: Издательство «Диля», 2006. 224 с. Мегре В. Новая цивилизация. Ч. 1. СПб.: Издательство «Диля», 2006. 224 с. Мегре В. Новая цивилизация. Книга восьмая. Ч. 2. Обряды любви. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 224 с. Мегре В. Родовая книга. СПб.: Издательство «Диля», 2007. 256 с. Мирзагитова Л. Экопоселения России. URL: http://ecobs.ru/index. files/site/pablic.files/2008MiL-Ecoset_Russia.zip Ожиганова А.А. Нео-шаманы и нео-язычники: перспективы развития // Психофизиология и социальная адаптация (нео)шаманов в прошлом и настоящем. Материалы Международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Республика Бурятия. Тункинский национальный парк. 2–9 августа 2010 г. / Отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ИЭА РАН, 2010 (серия «Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам». Т. 14. Ч. 2) (в печати). Ожиганова А.А., Филиппов Ю.В. Новая религиозность в современной России: учения, формы и практики. М.: ИЭА РАН, 2006. Сафронов П. Одна и та же история: о марксизме и/или философии сообщества сегодня // Топос. 2010. № 2 (24). 154 От «дачников» к «поселенцам». . . Тысячнюк М.С. Построение устойчивых сообществ. Практическое руководство для неправительственных организаций / Ред. Кулясов И.П., Кулясова А.А. СПб.: НИИХ СПбГУ. 2000. 85 с. Фуко M. Надзирать и наказывать / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. M.: Ad Marginem, 1999. Шубин А. Альтернативная община: экзотика или дорога в будущее // Бюллетень Московского ИСАР. L 7. 1998. П. Микитенко Сообщество и его условия в Москве 1990-х гг.: к теории акционизма Статья содержит некоторые теоретические положения о политическом искусстве. Опираясь на личный опыт, автор анализирует условия возникновения и существования постсоветского художественного акционизма, а также его уроки для современной художественной и политической деятельности. Она является частью проекта исследования Московского акционизма. Ключевые слова: политическое искусство, сообщество 1990-х, уличная акция. Если мы говорим о политике как соотношении сил, а об искусстве, как особой искусности отношений с собой и другими, включённой в это соотношение сил, то по ту сторону политики и искусства не существует в чистом виде, наверное, ничего. Это позволяет нам выявлять политику и искусство в неразделённом состоянии политического искусства, помимо тех специфических практик, которые именуются «политика» и «искусство», чтобы просто отдать дань распространённому словоупотреблению без особого смысла. Наше внимание будет сосредоточено на практиках московского художественного сообщества 1990-х, в их отличии от «искусства» и «политики» в позднем СССР и сегодня. В 1980-е годы официальная «политика», сведённая к управлению посредством государственного аппарата, осуществлялась в интересах капитализирующейся бюрократии и до момента кризиса не предполагала 156 Сообщество и его условия. . . низового участия граждан. Официальное визуальное искусство, жёстко институциализированное в Союзе Художников и цензурируемое многочисленными партийными комиссиями, ещё призвано было выполнять роль государственной пропаганды или развлечения бюрократии. Неофициальные художники, напротив, пытались служить «чистому искусству», деконструируя советское визуальное пространство, а неофициальная политика грезила «западными ценностями» или возвращением к революционным идеалам 1917. Сегодня на месте советской бюрократии оказалась олигархия, точнее, эта бюрократия приобрела новые черты. Во второй половине 2000-х годов она вновь вышла на политическую авансцену. Однако многие составляющие ситуации как будто переменились. Союз художников больше не обладает заметным влиянием, на его роль претендует теперь система современного искусства, возникшая в андеграунде, но претерпевшая к концу 2000-х годов существенные изменения. Теперь система современного искусства структурирует художественное производство по законам рынка и формирует изобразительность в рамках Спектакля. Часть художников андеграунда, начинает — со свойственными им приёмами, как могут и как им это кажется интересным — выполнять государственный идеологический заказ, ещё даже не получив его от партийных чиновников. Заново формирующаяся среда андеграунда, не считающая необходимым, впрочем, радикально порывать с системой искусства, не идёт дальше того типа политизации искусства, который был осуществлён в начале двадцатого века, исполняя её на современный манер галерейной и музейной агитации. Раздробленные левацкие группки заняты утопическими проектами идеологической борьбы в медиа. 1990-е годы важны для нас тем, что в кратком промежутке между двумя типами общественной организации — советским и российским — стремящимися к учёту, институциализации и профессионализации всех видов деятельности, мы можем заметить политическое искусство, то есть искусство и политику когда они ещё не заключёны в кавычки общественных функций, когда они существуют вне рамок общественных разделений, обусловленных циркуляцией денег, «государственным интересом» или представлениями о политической борьбе. Схождение «искусства» и «политики» в 1990-х потребовало новых практик для своей реализации и может быть понято через эти практики. Нас особенно интересуют впервые появившиеся на улицах постсоветской Москвы уличные акции, не только выражавшие некоторое послание, но и проблематизировавшие общие места публичного поведения. В отличие от политических манифестаций, эти акции каждый раз име157 П. Микитенко ли новую форму, неразрывно связанную со своим посланием. Их форма была предметом отдельных интеллектуальных и организационных усилий. В отличие от театра и перформанса, проводимых в художественно маркированных пространствах, акции происходят «на улице», без сцены. Акция 1990-х провоцировала участие, а акционисты не вставали в полицейскую позу призыва к соблюдению правил. Участники акции различались как те, кто готовился к акции, кто пришёл на неё с оформленным намерением что-то совершить, кто пришёл на неё с неоформленным намерением, или с намерением просто смотреть, а также на тех, кто оказался на ней случайно и тех, кто увидел её по ТВ, прочитал в газете, услышал в пересказе или познакомился с её документацией. Приглашённые на акцию журналисты и участники сообщества создавали специфическую ситуацию акции, задающую возможность дистанции, но не отменяющую и возможность участия, возможность выбора позиции, перемещения между позициями. Акция, таким образом, не имела рамки, её «рамкой» становился город, площадь, здания, парки. . . Свободная от институциализированных атрибутов художественного действия, не являясь ни ритуалом, ни театральным представлением, акция открывала новые возможности действия. Она содержала идею, которой предстояло воплотиться в телах на городских улицах, но в то же время искала способ быть на этих улицах, способ нашего присутствия в городском пространстве. Акция 1990-х предлагала способ реализации скрытого, того, что вытеснено из городской повседневности и вытеснение чего делает наше пребывание в городе скучным, неловким, фальшивым или невыносимым. Поэтому в акции могли присутствовать действительные, не инсценированные агрессия и конфликт, сопутствующие возвращению вытесненного. И наоборот, вытесненное, высвобождалось в акции благодаря такому конфликту. Группы. Прежде чем говорить о конкретных акциях, нужно коснуться вопроса объединения акционистов в группы, в контексте активности которых я предлагаю искать смысл акций. Единичная акция — скажем, когда акционизм является новой, ещё не устоявшейся практикой — не может быть понята сама по себе, она приобретает значение только при погружении в контекст некоторой деятельности. Сегодня общий контекст для понимания акционизма задаёт уже почти двадцатилетняя история его постоянно меняющихся форм. Но именно потому, что эти формы были так многообразны, нам необходим более точный взгляд, позволяющий объединять акции в более определённые последовательности, образовывая, тем самым, необходимые микро-контексты. Так вот, нужный 158 Сообщество и его условия. . . масштаб таких микро-контекстов мы находим на уровне становления, миграции групп в ландшафте их большого внешнего. Группы акционистов 1990-х объединяло ощущение интенсивного наслаждения, которое испытывали активисты от участия в деятельности этих групп. Это наслаждение было связано с изобретением, артикуляцией и утверждением новых отношений в коллективе, отношений к себе и к миру. Такое утверждение, реализация новых отношений друг для друга, которые позволяет осуществлять открытое к эксперименту групповое взаимодействие, выплёскивалось в публичное пространство во время акции, создавая эффект публичного утверждения этих отношений, открывая их для большого сообщества. Можно сказать, что наслаждение, связанное с этими реализацией и утверждением служило ориентиром для «внутренней» и публичной активности групп. И когда наслаждение иссякало, группа распадалась. Но почему реализация новых отношений рождала наслаждение? Мой способ описания группового взаимодействия основан на предположении, что это наслаждение было эффектом группового становления, которому группа позволяла состояться, являясь средой, чувствительной к становлению участников, готовой воспринимать каждого всегда по-новому, не включая в отношения опосредование устойчивых идентичностей, делая возможным такой интенсивный ток желаний. Я смотрю на становление некоторых акционистских групп во взаимодействии с другими группами, классами и институциями. Движения становления, совершаемые из различных социальных положений каждой группы, происходившие в результате слома советского строя, сравнимы с тем, как реки, выходя на поверхность в разных местах земли, пересекают различные, возможно ничем не схожие друг с другом ландшафты, неся свои воды в океан. Так, коллективные движения составляли сообщество 1990-х, вливаясь в него. И на фоне этого большого сообщества перехода, то сконцентрированного во время политических акций и регулярных встреч на площадях и улицах города, то теряющего свои границы, образовывались акционистские группы, испытывающие возможности заполнивших улицы города людских скоплений. Групповое становление могло быть становлением художником, революционером, животным или становлением первобытным, становление «новым русским», становлением европейцем. Может показаться, что в таком описании становлений есть противоречие. Делёз и Гваттари писали, что становятся всегда меньшинством1 , а европеец или художник 1 «Любое становление — это становление-миноритарным, или меньшинством» (Де- 159 П. Микитенко сегодня явно в большинстве, то есть находятся среди легитимных и признанных социальных позиций. Но в 1990-х это было не так. Становиться современным художником значило жить в очень ограниченной среде, радикальном меньшинстве, которое со стороны выглядело как стайка безумцев. А становиться европейцем означало фантазировать о принадлежности к европейской культуре, являющейся результатом движений освобождения. Культуре, которая была маргинализована в культуре советской и о которой не было известно почти ничего. Концепт становления нужен также и для того, чтобы описывать движения желания, особенные взаимодействия между участниками. Становление «новым русским», например, не означает, что это становление имеет целью приобретение пистолета или джипа, чтобы выполнять социальные функции восходящего класса предпринимателей. Когда речь идёт о социальной функции, речь идёт о общественном разделении труда. Когда же речь идёт о становлении, речь идёт о коллективных процессах по ту сторону общества разделения. Когда отношения власти не регулируются государственными институтами, власть тех, кто отдаёт приказ уступает место власти тех, кто подаёт пример — это власть инициативы, власть желания. Так, акционист, участник нескольких групп, писатель, путешественник Александр Бренер постоянно выбирал себе персонажей для становления, разочаровывался в них и выбирал новых. Его становление героем было вызовом индивида, не признававшего институциализированной власти. Предельной в этом смысле является акция 1995 года, когда в боксёрских трусах и перчатках он взобрался на Лобное место и вызывал на бой президента Ельцина. Популистское становление НБП, «с самого начала пользовавшейся поддержкой студентов, молодых профессионалов и части богемной публики в крупнейших российских городах»2 , становление симпатизантов этой эстетизирующей политику партии может быть описано как становление персонажами «героического романа», как литературный захват городского пространства, как становление художником, продолжающееся на территории приёмных высокопоставленных чиновников, в массмедиа, в повседневной жизни. лёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 482). 2 Соколов М. Национал-большевистская партия: идеологическая эволюция и политический стиль // Русский национализм: идеология и настроение / Под ред. А. Верховского. Москва: Сова, 2006. 160 Сообщество и его условия. . . Становление группы Радек также связано с горизонтами философии и «искусства» (в первую очередь изобразительного, музыкального, литературного). Но это становление происходило в большей степени не в создании произведений искусства для показа на выставках, хотя такие практики тоже существовали в группе. Развитие группы было связано с вниманием к внутренним взаимодействиям, к становлению каждого участника. Это становление выплёскивалось в городское пространство в движении «фристуллеров», когда участники группы прогуливались по городу со стульями в руках, чтобы занимать понравившиеся площадки, садиться и устраивать очередное обсуждение. Совместно с акционистом Анатолием Осмоловским и при участии других групп, фристуллеры устроили заседание антидумы, расположившись напротив здания Государственной думы РФ и принимая свои законы. Становление группы «За Анонимное и Бесплатное Искусство» было ироничным становлением «героями-пионерами». При наступлении капитала, после короткого периода открытого городского пространства в начале девяностых, З.А.И.Б.И. отступили на территорию пустующих зон города, заброшенных строительных площадок. Группа исследовала эти территории, устраивала там свои хеппенинги. В ночь на 1 января 1998 года на доме номер 40 по Ленинскому проспекту, на металлическом каркасе советских времен, предназначенном для рекламы фильмов, из метровых жестяных букв были собраны три лозунга: «Человек может всё!», «Никогда не спи, ничего не ешь!», «Играй, не умирай». Схождение искусства и политики происходило через вторжение политизированной европейской культуры двадцатого века в повседневные практики этих групп, через заимствование некоторыми из них организационной структуры политических партий, через экспансию этих групп на территории публичности. Сообщество 1990-х. Во второй половине двадцатого века философия сообщества развивалась в связи с размышлениями о коммунизме, вызванными историческим опытом двадцатого века. Именно в силу того, что ситуация переходного периода (от СССР к России) 1990-х, в ослаблении государства, представляла собой процесс интенсивных неформализованных становлений, развивающихся в разрушении общественных разделений. С разрушением СССР ткань реальности стала более пластична и соразмерна усилиям каждого, и, значит, имела некоторое родство с коммунистическим состоянием. В этот момент и появляются акционистские группы. Употребление термина «сообщество» в связи с этой ситуацией представляется даже более оправ161 П. Микитенко данным сегодня, по истечении двух десятков лет, когда сообщества деградировали под наступлением институтов, а преследования со стороны репрессивных органов вынудили эмигрировать некоторых ключевых участников активистского сообщества. Речь не идёт ни о «художественном сообществе», ни о «сообществе политическом», ни о каком-либо другом профессиональном сообществе. Сообщество 1990-х было просто сообществом. Необходимо различать Сообщество и тусовку. Если тусовщики просто проводят время вместе, реализуя себя вне тусовки, то участники сообщества связывают с его событием смысл своего сосуществования и существования вне сообщества. Поэтому среда сообщества обладает определённым потенциалом сопротивления, но это сопротивление носит скорее «пассивный» характер. «Активным» элементом среды, утверждающим на уровне желания новые отношения между участниками, и новые отношения участников со внешним группы; элементом, ткущим новую реальность, новые формы совместности, рождённые в результате определённого рода слияния, в большей степени является группа. Группа — как показывают это множественные примеры — более интенсивно и артикулировано способна выказывать себя на границе сообщества, обращаясь не только к ближнему, но и дальнему другу, другому. Обращение к дальнему от лица близости, достигнутой в слиянии. Сообщество существует во встречах, рукопожатиях, объятиях, встречах взглядов, иначе оно не обладало бы сопротивлением; и, возможно, даже смыслом, так как согласно Делёзу, движения тел с их действиями и страданиями как сосредоточие образа мысли неразрывно связаны с порождением смысла. Поэтому существуют хоть и разомкнутые и нечёткие, но границы сообщества, очерченные пространством встреч, и не существует никакого «мирового сообщества», от лица которого делают заявления в средствах массовой информации. Но выказывание на границе сообщества, обращённое к его внешнему, от лица осмысленного взаимодействия или достигнутого слияния, обращение к тем, кого никогда не встречал и возможно никогда не встретишь, может иметь смысл3 . Этот смысл появляется в том случае, если созданное этим выказыванием сообщение наделяется смыслом в пространстве встреч участников другого сообщества; или, являясь записью события становится основанием для выдвижения требований при столкновении этого сообщества с об3 Надо сказать, что это было поставлено под сомнение Жаном Бодрийяром в статье «Реквием по масс-медиа», когда он указал на отчуждающую природу масс-медийного сообщения, не требующего ответа, и это замечание касалось даже литературы. 162 Сообщество и его условия. . . ществом и его институциями. Короче: если это высказывание попадает в необходимую для возникновения смысла среду и становится элементом, играющим необходимую для возникновения смысла роль. Посмотрим теперь, как потенциальность сообщества, намеченная в философском размышлении о нём, находит себя, реализуясь по другую сторону социального. Это было бы своеобразным выполнением выдвинутого Нанси условия сообщества: «чтобы мысль рисковала и доверялась сообществу, а сообщество мысли»4 . Взгляд на сообщество в той форме, в которой оно существовало в 1990-х будет доверием сообществу, которое заключается в том, чтобы назвать этим словом вполне определённые взаимодействия людей и посмотреть, что станет с концептом сообщества, когда мы увидим его, разыгранным «в лицах». Условия сообщества 1990-х. Деградация сообщества на протяжении 2000-х и частичное его восстановление в новой форме в конце этого десятилетия, делают более ясными условия его существования в 1990-х, и проливают свет на условия существования сообщества вне зависимости от конкретных обстоятельств того или иного времени. Если для Нанси вопрос коммунизма, это вопрос собственности, как чего-то свойственного субъективности, и являющегося её подлинным выражением («Собственность, это не то, чем я обладаю: это я сам»)5 , то вопрос коммунистической политики заключается в том, чтобы дать состояться тому, что свойственно нам самим, возможностям смысла, рождающегося в нашей совместности6 . И значит, нашим вопросом к сообществу 1990-х мог бы стать вопрос об условиях, которые позволили ему состояться. 4 Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Томск: Водолей, 2009. что для меня является главным: коммунизм выражает что-то большее и чтото другое, чем политика. Коммунизм выражает отношения собственности. Собственность, это не только обладание вещами. Точнее, это нечто вне (или то, что стоит за) юридически установленного права обладания. Это то, что делает любой вид обладания именно что владением субъекта и является подлинным его выражением. Собственность — это не то, чем я обладаю: это я сам». Nancy J. Communism, the Word // URL: http://www.lacan. com/essays/?page_id=126 6 Для Нанси вопрос коммунизма ещё не избавлен от опасности стать идеологией, коммунизм должен потерять свой «изм». И даже этого не достаточно. Вопрос коммунизма, это не вопрос коммуны как необходимой формы, структуры или репрезентации, это вопрос «ко» (как связи) «Что ставит перед политикой следующий вопрос: как думать об обществе, правительстве, законе, не с целью достижения «ко», общего, но лишь с надеждой позволить им состояться, действуя на свой страх и риск, состояться их собственным возможностям порождения смысла — если, что я и хочу здесь предложить, любой смысл с необходимостью является общим или, если и не «здравым смыслом» в общем значении этого слова, 5 «Вот, 163 П. Микитенко Сообщество не создаётся усилием извне. Оно возникает само, усилиями его участников. Но такие усилия могут оказаться бесплодными, если они совершаются на не терпящей сообщество почве, и наоборот, в благоприятных условиях ненужно чрезмерных усилий для возникновения сообщества. Особенного внимания заслуживает период 1989–1991 годов. Это моменты перелома, предшествующие неолиберальным реформам, время наивысшей неопределённости, ещё не омрачённой падением экономического уровня жизни. Итак, сообщество 1990-х возникло при сочетании ряда условий, вот некоторые из них: Труд/досуг. На переломе режимов появилось много свободного времени, особенно, когда ещё не существовало возможности заниматься частным предпринимательством. Режим общих благ. Отсутствие частной собственности на недвижимость. Множество общественных пространств, ДК, «красные уголки», конференц-залы в вузах и школах оказались в свободном распоряжении всех желающих. Существовала возможность занимать пустующие квартиры (движение сквотеров). Это позволило сформироваться местам сообщества, встречи в этих местах являлись его основной формой существования. Надо сказать, что такими местами сообщества были и многочисленные митинги, на которых можно было встретить самых разных людей. В этих местах пересекались участники разных групп, преодолевая тем самым разделения труда и общественных функций. Сеть распространения информации. «Сарафанное радио» было основным источником распространения информации и аффективного заражения. Культурная общность. Эту общность обеспечивало единство советской культуры, позволявшей хорошо понимать друг друга самым разным людям. Объединяющий фактор отрицания. Общим объектом негативного отождествления являлся идеологический и бюрократический контроль, пронизывающий всю ткань общества СССР. Следствия этих условий. Очерченные условия сообщества 1990-х имели свои следствия, здесь мы отметим некоторые из этих них: Формирование групп. Переломный момент 1989–1991 годов вызвал взрыв всевозможных объединений. то в том значении, что любой смысл является производной взаимодействия, разделения с другими или обмена». Там же. 164 Сообщество и его условия. . . Интенсивный обмен. Использование мест сообщества разными людьми для разных целей приводило к неожиданным встречам и интенсивному обмену информацией, участниками между группами. Синтез форм деятельности. Встречи разных людей в местах сообщества приводили к синтезу различных деятельностей, к свободной смене рода деятельности. Писатели могли выступать на митингах, художники занимались политическими акциями. Музыканты становились кинематографистами или изобретали новые виды искусства. Смещение жанровых границ в кинематографе. Слом режима идентичности, равенство опытов, потенциальностей. Когда люди знакомились, представляли себя друг другу, речь не шла о работе или профессии, но о их творческом поиске, их становлении, практиках неформального взаимодействия. В отсутствии экономического критерия социабельности, взаимодействие было построено на презумпции равенства способностей каждого. Взгляд на историю 1990-х через проблематику сообщества позволяет нам различать в тех событиях то, что делает их причастными коммунизму. Исследование акционизма позволяет различить контуры коммунистической политики и искусства, воплощающихся в политическом искусстве, как голосе сообщества. Литература Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. С. 482. Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Томск.: Водолей, 2009. Соколов М. Национал-большевистская партия: идеологическая эволюция и политический стиль // Русский национализм: идеология и настроение / Под ред. А. Верховского. Москва: Сова, 2006. Nancy J. Communism, the Word // http://www.lacan.com/essays/?page_ id=126 2. Научные семинары РАШ А. Якобидзе-Гитман Восстановление старого как способ легитимации нового: социокультурные факторы развития музыки в Италии и Германии на рубеже XVI–XVII вв. В статье рассматривается ключевой для развития западноевропейской музыки период рубежа XVI-XVII веков, когда происходили революционные изменения как в музыкальной практике, так и в теории. Однако все нововведения декларировались как восстановление старинных традиций: в Италии при этом апеллировали к музыкальной практике Античной культуры, а в Германии — к духу средневековой схоластики. Статья посвящена культурологическому объяснению этого феномена. Ключевые слова: Реформация, музыка Ренессанса, музыкальная эстетика, модальность, гармоническая тональность, протестантский хорал, музыкальнориторические фигуры, двойная кодировка, Иоганн Липпиус, Генрих Шютц, Макс Вебер. Если в XV–начале XVI века музыкальным центром Европы были Нидерланды, то уже к началу второй четверти XVI века он безусловно переместился в Италию; туда уезжали работать ведущие фламандские мастера (Жоскен Депре, Адриан Виллаэрт, позже Чиприано де Роре и Ор166 Восстановление старого. . . ландо ди Лассо). Именно в Италии аристократические дворы наиболее интенсивно поддерживали развитие светской музыки, в области которой композиторы могли себе позволить самые смелые эксперименты. Расцвету светской музыки способствовало и интенсивное сотрудничество композиторов с итальянскими гуманистами. Музыкальное Возрождение наступило в Италии на сто лет позже живописного и на двести — литературного, но было по-своему не менее блистательным. Бурное развитие и здесь происходило под лозунгом возрождения Античности, но поскольку от античной музыки сохранилось куда меньше источников, чем от литературы и изобразительного искусства, то и музыкантам XVI в. приходилось с утроенной энергией использовать силу своего воображения, а результат уже совсем не походил на античные образцы (нотная запись немногих сохранившихся из них была расшифрована значительно позже). Музыкальное Возрождение почерпнуло свой первый импульс из тезиса «Государства» Платона, согласно которому «музыка состоит из слова, лада и ритма» («Государство», III 398d); при этом порядок перечисления составных элементов трактовали иерархически: на первом месте — слово, музыка же должна передавать его содержание и как бы быть его «служанкой». К середине XVI века достиг расцвета жанр мадригала — любовной песни на народном языке для многоголосного вокального ансамбля (зачастую c аллегорическим подтекстом), в котором была разработана мощная система выразительных средств для передачи самых разнообразных эмоциональных переживаний и раскрытия сложного внутреннего мира человека позднего Ренессанса. В 1550-е годы итальянскую музыку захлёстывает волна экспериментов, которые иногда называют музыкальным маньеризмом [Lowinsky 1989: 106–153], а иногда — предтечей музыкального модернизма ХХ века, общая черта которых — эмансипация диссонанса и обильное использование хроматизмов. Это явление также «легитимируется» ссылкой на Античность — композитор Никола Вичентино, не знавший греческого языка, в своём трактате «Древняя музыка, приведённая к современной практике» (Рим, 1555) призывал возродить древнегреческую хроматику и энармонику. В 1580х годах музыкальный гуманистический кружок «Флорентийская камерата» провозглашает отказ от многоголосия под предлогом отсутствия упоминаний многоголосного пения античными авторами и разрабатывает технику выразительного одноголосного пения — монодии1 . Следующей целью участники «Камераты» поставили себе возрождение древне1 Идеологом этого движения был Винченцо Галилей (отец Галилео Галилея). Для эсте- 167 А. Якобидзе-Гитман греческой трагедии, о которой они ошибочно думали, что все её части поются под музыку. В результате возник популярнейший музыкальный жанр Нового времени — опера (1600). Монодическое пение дало толчок быстрому расцвету техники «генерал-баса», вскоре вытеснившей господствовавшую прежде технику полифонии «строгого письма» и ставшей одной из основ новой музыкальной культуры барокко. Стремление с помощью музыки вызывать различные аффекты2 привело к свободному чередованию гармонических последовательностей, которые служили лишь одной цели — как можно более интенсивному эмоциональному воздействию на слушателя. В результате всех этих экспериментов в итальянской светской музыке уже к началу XVII века произошло отмирание господствовавшей веками модальной (ладовой) системы музыкального письма с его горизонтально-линеарной структурой и началось интенсивное становление мажоро-минорной системы гармонической тональности с вертикально-аккордовой структурой, которая и поныне доминирует в популярной музыке. Фактически, произошедшие в музыке перемены по своему масштабу были подобны смене языка. И симптоматично, что происходили они под лозунгами не прорыва в «музыку будущего», а возрождения былого величия музыки древней. Стоит отметить, что теоретическая рефлексия происходящих перемен в Италии осуществлялась в области музыкальной эстетики, а не музыкальной теории. Апелляции к древнегреческой музыке носили характер обще-эстетических рекомендаций, а не конкретных музыкальных предписаний. Фактически разрабатываемый под этими лозунгами новый музыкальный «алфавит» не сопровождался созданием соответствующей музыкально-теоретической терминологии, не существовало никаких понятий для обозначения базовых единиц нового музыкального языка: так, композиторы рубежа XVI–XVII веков уже во многом мыслили аккордами, но не знали слова «аккорд», применяли трезвучия и секстаккорды, не зная, как они называются, сочиняли обширные музыкальные фрагменты в мажорных и минорных тональностях, в то время как эти термины (durus и mollis) обозначали совершенно другие явления из старой музытики Галилея центральной была мысль об утрате присущего античности аффекта в современной музыке, целью которой стало (по его мнению) одно удовольствие, поверхностная приятность. Этому посвящён его трактат «Диалог о древней и новой музыке» (Dialogo <. . . > della musica antica et della moderna. Firenze, 1581). 2 Термин «аффект» — довольно позднего происхождения: этим словом Марсилио Фичино перевёл с древнегреческого на латинский платоновский термин «этос» [Ehrmann 1987: 17]. 168 Восстановление старого. . . кальной практики. Собственно, дальше общеэстетического обозначения нового метода композиции как «второй практики» (seconda prattica), введённого Клаудио Монтеверди, дело не пошло. Музыкальная теория продолжала оперировать терминологией эпохи модального контрапункта. В окончательном виде теория аккордовой гармонии сформировалась лишь к концу первой трети XVIII в., когда её изложил Жан-Филипп Рамо в своём знаменитом «Трактате о гармонии» (1722). Между тем первые — и революционные — шаги к её разработке были сделаны в музыкальной теории ещё в начале XVII века, но не в Италии и не во Франции, а совсем в другой части Европы, которая в культурном и политическом отношении переживала время глубокого кризиса, а в сфере музыки вовсе считалась провинцией — протестантской части Германии. На первый взгляд, явление это представляется весьма парадоксальным: вместо расцвета светской художественной культуры там интенсивно нарастала клерикализация, вместо свободомыслия торжествовал религиозный догматизм; гуманистическое движение к началу XVII в. пришло в полный упадок. Тем не менее именно эта, казалось бы, крайне неблагоприятная культурная ситуация и создала предпосылки для прорыва. Религиозные и политические конфликты, разразившиеся в Священной Римской Империи в результате Реформации, в полной мере затронули и немецкую музыку. Между протестантской и католической частями Северной и Средней Германии образовался культурный раскол. С начала XVII в. протестантизм вошёл в «схоластический период» своего развития, наполненный интенсивными догматическими дискуссиями, последствия которых имели влияние и на музыку [Bukofzer 1947: 78–79]. Это, однако, не значит, что протестантская музыка тяготела исключительно к «архаике». Ключевым элементом не только лютеранской литургии, но и всей музыкальной культуры немецкой Реформации стал протестантский хорал, который дал мощный импульс к развитию аккордового мышления — основополагающей черты нового музыкального языка. Это было связано с тем, что община в реформаторской церкви должна была сама «подхватывать» песнопения, в которых с этой целью избегались усложнённые звуковые последовательности, и для лёгкости усвоения широко применялись терции, облегчающие последующую гармонизацию посредством аккордов [Debbeler 2007: 214]. С другой стороны, музыка и музыкальная теория не смогли избежать «схоластического духа». По свидетельству музыковеда Джоэля Лестера, . . . в противоположность модальным хоральным песнопениям в ка- 169 А. Якобидзе-Гитман толических странах, протестантские хоралы не принадлежали к корпусу практиковавшейся веками традиционной церковной музыки, полностью обособленной от актуальной музыкальной практики. Поэтому, если во Франции и Италии в 1610–1614 годах появились музыкально-теоретические работы, в которых система старой церковной музыки чётко обособлялась от музыки современной, подобное явление оказалось в Германии невозможным. . . [Lester 1977: 229]. В этой стране, в одних и тех же музыкально-теоретических трудах начала XVII — середины XVIII века соседствуют взгляды на модальность (церковные лады) и мажоро-минорную тональность, которые обычно принято считать отстоящими друг от друга на столетия [Lester 1977: 209]. Возможно, самый яркий и известный пример переплетения архаических и «модернистских» элементов — знаменитая «Гармония мира» Иоганна Кеплера (1619), где так называемый «третий закон Кеплера» обосновывается с помощью ссылки на пифагорейское учение о «Гармонии сфер» (в музыке!), которое тогда уже долгое время считалось устаревшим [Кеплер 1971: 172–186]. Однако подобный феномен встречается и в специализированных музыкальных трактатах. В 1591 г. евангелический пастор Цириакус Шнеегас (Cyriacus Schneegaß) впервые усмотрел в трезвучии символ троицы [Meier 1992: 56]. Это привело к подлинному прорыву в учении о гармонии. Йоахим Бурмайстер (1566–1629), который считается основоположником учения о музыкальных риторических фигурах, с 1599 по 1606 гг. впервые сформулировал идею секстаккорда, а Отто Зигфрид Харниш (1568–1623) открыл в секстаккорде обращение трезвучия [Harnisch 1608]. Между тем образ мыслей обоих теоретиков остаётся ещё полностью в рамках старинной теории контрапункта, в силу чего они не проводят различий между мажором и минором, равно как и между гармонией и ладом. Эту зависимость впервые показал в своих музыкально-теоретических трактатах 1609–1612 эльзасский теолог Иоганн Липпиус, первый теоретик не только Германии, но и других стран, который рассматривал музыку преимущественно в гармонических понятиях. . . Среди прочих достижений, он признал инверсионные взаимообращения между всеми интервалами; он считал, что музыку следует сочинять не от баса, а от тенора; он придумал термин для трезвучия (trias harmonica); он классифицировал лады по лежащему в их основании мажорному и минорному трезвучию; и наконец, 170 Восстановление старого. . . он заменил учение о контрапункте учением о гармонии, основанном на трезвучии. Однако, эти прогрессивные черты у Липпиуса соседствуют с обстоятельными ссылками на теологические и нумерологические понятия [Lester 1977: 222–223]. Кроме того, упомянутые теоретики остаются «регрессивными» в том смысле, что все приводимые ими музыкальные примеры происходят из традиции ренессансной полифонии; «вторую практику» генерал-баса немецкие теоретики совершенно игнорируют. Если итальянские музыканты легитимировали свои нововведения ссылками на возрождение величия античной музыки, то немецкие теоретики в атмосфере религиозного фундаментализма не могли себе позволить воспевание языческих древностей. Вместо этого они, на первый взгляд, регрессировали в средневековую эстетику с характерным для неё аллегоризированием и божественной символикой, пронизывающей земные явления: конечно, увидеть символ троицы в аккорде кажется, скорее, типичным для средневекового теоретика, однако в Средние века не было аккорда; когда же он появился, то понятийный аппарат светски ориентированных южно-европейских теоретиков оказался не приспособленным для его концептуализирования. Та же, казалось бы, «ретроградная клерикализация» музыкальной культуры послужила фактором дальнейшего развития достижений итальянцев в немецкой среде. Итальянская музыка в начале XVII в. имела огромное влияние в Германии, и в протестантской культуре возникла настоятельная потребность её ассимилировать: сохранив её средства эмоционального воздействия, придать ей «немецко-протестантскую идентичность». Эту задачу наиболее успешно решил Генрих Шютц (1585– 1672), обучавшийся в Италии у главного на рубеже веков представителя Венецианской школы Джованни Габриэли. «Визитную карточку» итальянского мэтра — знаменитый стиль «кончертато», основанный на чередовании разных групп вокальных и инструментальных ансамблей, изначально разработанный как «акустический трюк» с целью создания иллюзии объёмного, кругового музыкального пространства3 (можно сказать, «кончертато» в каком-то смысле — предтеча современной системы Dolby Surround), Шютц адаптировал в качестве средства толкования божественного слова, что в то время считалось основной миссией люте3 Предпосылки этому были созданы особыми акустическими условиями венецианского собора Св. Марка, в котором действительно было очень удобно располагать разные группы музыкантов. 171 А. Якобидзе-Гитман ранской музыки [Bukofzer 1947: 79]. Фактически, Шютц, не выходя за рамки итальянской музыкальной эстетики, в которой интенсивно разрабатывалась звукоизобразительность (музыкальные средства выражения, иллюстрирующие содержание текста), в результате давления клерикальной культуры поднял итальянскую традицию на новый уровень. Именно сверхзадача толкования текста Священного писания музыкальными средствами привела к тому, что в творчестве Шютца достигла расцвета техника музыкальных риторических фигур. Музыкальнориторические фигуры образовали систему конвенций, условных музыкальных знаков, которые фактически оказались предпосылкой создания музыкальной семантики. Теперь в музыке можно было зашифровывать символы и аллегории. После достижений Шютца и его школы Германия из музыкальной провинции превратилась в новый музыкальный центр Европы. Социокультурной же предпосылкой этого прорыва послужило не свободомыслие, как в Италии XVI века, а скорее воинствующий консерватизм и религиозный догматизм. Легитимация нового под лозунгом восстановления старого в равной степени была характерна и для общей социокультурной обстановки начала XVII века. Характерные для Нового времени движущие мотивы «социальных действий» — корысть, эгоизм, прагматизм, рациональный расчёт — для своей социальной легитимации маскируются под верность традициям, дух общинного коллективизма и восстановление старого миропорядка. Как пишет авторитетный историк Рихард Ван Дюльмен о социокультурной ситуации кануна Тридцатилетней войны: . . . без сомнения, рациональное, ориентированное на римское право обоснование государственной власти играло всё более важную роль, однако и традиционное, сакральное обоснование господства, вопреки всей эмансипации от церковно-религиозных и феодальных представлений, в стратегии правителей и администраций продолжало играть большую роль. . . [Dülmen 1982: 344] Религия была сильнейшим легитимирующим базисом универсальных притязаний на господство как католической, так и протестантской стороны, и самым действенным способом мобилизации народа. . . Однако ни одно событие не внесло столь весомый вклад в секуляризацию политики, как проводимая во имя Бога Тридцатилетняя война [Dülmen 1982: 400]. Таким образом, правители европейских государств легитимировали 172 Восстановление старого. . . свои политические мотивы с помощью девиза борьбы за восстановление истинной веры. Эта социокультурная ситуация и создала предпосылки для «двойной кодировки», практиковавшейся многими композиторами, которая допускала возможность двойного прочтения в рамках двух, казалось бы, несовместимых систем. Этому посвящена работа одного из крупнейших исследователей музыкального Ренессанса Эдварда Ловинского «Тайное хроматическое искусство Нидерландского мотета», в которой он на примере музыки показал, «как ментальная установка на двуличность, вызванная столкновением новых революционных идей с подавлением, практиковавшимся традиционной властью, привело к двусмысленности выражения почти во всех сферах человеческой деятельности» [Lowinsky 1989: 5]. Так, хотя Шютц широко использует аккордовую гармонию и квинтовые соотношения в линии баса, что является условием мажоро-минорной тональности, одновременно он умудряется удерживать свои мелодические линии в рамках церковных ладов; по выражению Ю.Н. Холопова, он добивается «равнодействия сил тональных и модальных ладов» [Холопов 1985: 145], его музыку можно в равной степени корректно описывать как в модальных, так и в тональных терминах. Точно так же наряду с «кончертато» Шютц последовательно использовал и старый мотетный стиль [Krause-Graumnitz 1985: 316]. Как свидетельствует ведущий исследователь творчества Шютца Ханс Хайнрих Эггебрехт, «В Германии времён Шютца старинный способ композиции XVI в., ориентированный на мотет, оставался фундаментом всех видов музыки. Здесь имело место не сосуществование старого и нового, а только музыка, обновлённая на старых основаниях (eine auf der alten Grundlage erneuerte Musik)» [Eggebrecht 1957: 63]. Осторожную, но убедительную попытку провести параллель между своеобразием композиторской техники и социокультурным контекстом предпринял Макс Вебер в своём незаконченном трактате о музыке [Вебер 1994]4 . Музыкальная темперация, обусловившая формирование двенадцати мажорных и двенадцати минорных тональностей, способных свободно модулировать друг в друга (вспомним «Хорошо темперированный клавир», состоящий из двух томов 24-х прелюдий и фуг), с точки зрения Вебера является частным воплощением в музыке общекультурного явления, обозначаемого им как «рациональность», которая прояв4 Этот трактат не является последним сочинением Вебера, как ошибочно утверждает комментатор русского перевода, а написан в 1912 году. 173 А. Якобидзе-Гитман ляется в тенденции к универсальной обмениваемости, переводимости и эквивалентности, столь характерной для Западноевропейской культуры Нового времени [Sukale 2002: 314–315]. Однако лады модальной системы, имевшие ритуально-церковное происхождение, в контексте религиозного догматизма немецкой Реформации имели особое сакральное значение: отклонение от них в каком-то смысле означало нарушение вечных законов. Приверженность ладам модальной системы стала не более чем демонстративным идеологическим жестом. По мнению Харольда Пауэрса, духовная музыка позднего Ренессанса «зачастую использовалась для того, чтобы репрезентировать церковный лад для символических и дидактических целей. . . Но сказать, что нечто репрезентирует нечто иное, или что оно совместимо с чем-то иным, не означает сказать, что нечто есть нечто иное» [Powers 1992: 13]. Иными словами, имела место симуляция традиционной модальности. Старая линеарная модальность могла отлично уживаться с новой гармонической тональностью хотя бы потому, что если последняя является эмпирически описываемым феноменом, то первая — прежде всего теоретическим конструктом [Powers 1992: 10–11]5 . По мнению Пауэрса, модальность и гармоническая тональность были феноменами разного порядка, и скорее «комплементарными», чем «субститутивными», и это делает неправомочным утверждение о том, что один из них сменил другой в ходе эволюционного процесса [Powers 1992: 11–12]. Поэтому недаром Эдвард Ловинский даёт общую характеристику эволюции музыкального языка XVI–XVII вв. как «перехода от старого способа художественного творчества к новому в рамках видимого сохранения старого порядка» [Lowinsky 1989: 890]. Таким образом, для развития западноевропейской музыки конца XVI– начала XVII вв. в равной степени сильным двигателем оказалось как свободомыслие итальянского позднего Возрождения, так и воинствующий консерватизм и клерикализм немецкой Реформации. Общей в обеих 5 Пауэрс приводит пример: если полифоническое произведение XVI в. было бы проанализировано тремя разными, но равнообразованными музыкантами своего времени, то все трое могли бы дать совершенно различные ответы на вопрос о том, в каком ладу написано это произведение. В определении же тональности у произведения 1750–1850 годов можно не сомневаться в том, что расхождений во мнениях бы не последовало. «Это говорит о том, что модальность и тональность могут быть различными видами явлений, которые не соотносятся друг с другом посредством простой эволюции, как то «модальная система была вытеснена тональной системой». . . Произведение XVI в. не написано в «ладу», который является частью модальной системы аналогично тому, как произведение XVIII в. обязательно написано в «тональности», являющейся элементом тональной системы. 174 Восстановление старого. . . музыкальных культурах была необходимость легитимации всех нововведений как меры по восстановлению старинных традиций и возрождению былого величия прошлого, будь то языческая Античность или средневековая клерикально-схоластическая культура. Риторическая ловкость и символическое переозначивание были неотъемлемыми компонентами не только жестокой политической жизни, но и тонкого художественного процесса раннего Нового времени. Литература Вебер М. Рациональные и социологические основания музыки // Вебер М. Избранное. Образ общества. Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. С. 469–550. Кеплер B. Гармония мира (фрагменты) // Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков / Ред.-сост. В.П. Шестаков. М., 1971. С. 172–186. Холопов Ю.Н. О гармонии Генриха Шютца // Генрих Шютц. Сб. ст. / Ред-сост. Т.А. Дубравская. Москва, 1985. Bukofzer M. Music in the Baroque Era. New York, 1947. Debbeler J. Harmonie und Perspektive: die Entstehung des neuzeitlichen abendländischen Kunstmusiksystems. München: Epodium Verlag, 2007. Dülmen, Richard van. Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550–1548. Frankfurt am Main, 1982. Eggebrecht H.H. Arten des Generalbasses im frühen und mittleren 17. Jahrhunderts // Archiv für Musikwissenschaft 14 (1957). Ehrmann S. Claudio Monteverdi. Die Grundbegriffe seines musiktheoretischen Denkens. Centaurus-Verlagsgesellschaft, 1987. Heinrich Schütz. Sein Leben im Werk und in den Dokumenten seiner Zeit / Hrsg. H. Krause-Graumnitz. 2 Bde. Leipzig 1985. Bd. 1. Lester J. Major-Minor Concepts and Modal Theory in Germany, 1592–1680 // Journal of the American Musicological Society. Vol. 30. No. 2 (Summer, 1977). Lowinsky E. Music in the Culture of the Renaissance and Other Essays / Ed. B. Blackburn. Chicago: The University of Chicago Press, 1989. Meier B. Auf der Grenze von Modalem und Dur-Moll-tonalem System // Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 16 (1992). Ottonis Sigfridii Harnish. Artis musicae delineatio. Frankfurt, 1608. Sukale M. Max Weber — Leidenschaft und Disziplin: Leben, Werk, Zeitgenossen. Tübingen, 2002. А. Уракова Семинары РАШ в рамках проекта «Антропология дара» В обзоре А. Ураковой «Семинары РАШ в рамках проекта “Антропология дара”» дается краткое описание продолжающихся научных семинаров, посвященных проблематике дара в современной философии и культуре, которые проводились ею совместно с Еленой Заяц и Натальей Халымончик в Русской антропологической школе. В семинарах за 2012 г. с докладами выступали А. Уракова, Н. Халымончик, С. Зенкин, О. Аронсон, Д. Новиков. Ключевые слова: Русская антропологическая школа, современная философия, антропология, Эмерсон, Торо, Деррида, Мосс, экономика обмена. В 2012 году в Русской антропологической школе стартовал проект «Антропология дара», в рамках которого регулярно проводятся научные семинары1 . Эта тема, безусловно, не нова для современной гуманитарной науки, однако её потенциал далеко не исчерпан, о чём свидетельствует, в том числе, выход достаточно большого числа работ — преимущественно междисциплинарных — за последние десять-двадцать лет2 . Особенно интересной представляется связь дара с экономикой об1 Кураторы проекта — Александра Уракова, Елена Заяц, Наталья Халымончик. таких сборников, как: The Logic of the Gift: Towards an Ethics of Generosity / Ed. Alan D. Schrift. Routledge, 1997; God, the Gift, and Postmodernism / Eds. John D. Caputo and Michael J. Scanlon. Indiana University Press, 1999; The Question of the Gift: Essays Across Disciplines / Ed. Mark Osteen. Routledge, 2002. 2 Напр., 176 Семинары РАШ. . . мена: можем ли мы считать дар альтернативой экономическим отношениям или же акт дарения по умолчанию подчиняется экономической логике? Этот вопрос, ставший центральным для дискуссий о даре (линия Марсель Мосс — Жак Деррида), позволяет осмыслить многие историкои социокультурные процессы современной культуры, в том числе и через такие смежные/близкие категории, как трата, роскошь, избыточность, щедрость, гостеприимство и т.д. Тема дара, оставившая заметный след в трудах известных антропологов, социологов и философов двадцатого века (среди которых Марсель Мосс, Клод Леви-Стросс, Жорж Батай, Эмиль Бенвенист, Элен Сиксу, Пьер Бурдье, Жан-Люк Марион и Жак Деррида) открывает обширное поле исследования и для историков идей. Первый цикл семинаров мы старались посвятить, прежде всего, различным концепциям дара в современной интеллектуальной истории. Участникам первого семинара, проводимого Александрой Ураковой, было предложено прочитать и обсудить небольшое эссе Ральфа Уолдо Эмерсона «Дары» (1844). Начать с обсуждения именно этой работы показалось уместным, поскольку она предвосхищает многие идеи, ставшие основополагающими для антропологии дара, в том числе высказанные Марселем Моссом в его «Очерке о даре»: дар непосредственно связан с дарящим («Единственно возможный дар — это часть тебя»); дар вовлекает получателя в долговые отношения и потому потенциально опасен (Эмерсон пишет о насилии, сопровождающем принятие дара независимо от того, желанен он или нет); дар не есть товар (Эмерсон категорически противопоставляет подлинному рукотворному дару купленный подарок: драгоценность может быть оправдана как дар, только когда она подарена ювелиром, а не куплена в ювелирной лавке). Анализируя эссе Эмерсона, Уракова обратила внимание на его внутреннюю противоречивость. Хотя Эмерсон пишет о том, что следует и не следует дарить, в центре эссе — убеждение: дар не только необязателен, но опасен, оскорбителен, наконец, избыточен и невозможен с точки зрения здравого смысла. «Человек не должен получать дары. Как ты смеешь их давать? Мы хотим быть самодостаточными». С выступавшей не согласился Олег Аронсон, указав, что для Эмерсона оправданием дара становится любовь, «которая есть гений и бог даров». Анализ концепций дара в социологии и философии двадцатого века был предложен Сергеем Зенкиным в докладе под названием «Неузнавание дара». Докладчик любезно согласился обсудить с участниками семинара основные тезисы главы «Дар» своей книги «Небожественное сакральное», которая на момент проведения семинара находилась в печа177 А. Уракова ти3 . В докладе были представлены самые различные теории дара: от ставших классическими теорий Мосса, Батая, Деррида до менее известных концепций: например, подробно говорилось о книге французского социолога Мориса Годелье «Загадка дара» (1966) и о книге «Щедрость» (1994) швейцарского теоретика литературы Жана Старобинского. Сквозным мотивом в анализируемых работах стал мотив неузнавания, исторического забвения сакральной природы дара, его архаического прошлого. В этом, по мнению докладчика, дар сближается с сакральным (не случайна родственность дара и такому социокультурному феномену, как жертва). Заметим, что Зенкин обращался не только к философским концепциям, но и к литературным эпизодам дарения, в частности, в книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) Генри Дэвида Торо. В «Уолдене» торгующий корзинами индеец становится притчевым образом самого автора, который «тоже плёл своего рода тонкие корзинки, но не умел устроить так, чтобы хоть кому-то было выгодно их купить». На этом примере докладчик показал, как «неузнаваемый» архаический дар подавляется экономическими отношениями, эквивалентным и взаимовыгодным обменом товарами, наконец, торговым и научным дискурсом в эссе самого Торо. Теме дарения в другой работе Г.Д. Торо, эссе «О гражданском неповиновении» (1849), был посвящён семинар «Дар неповиновения (Перечитывая Торо)», проводимый Олегом Аронсоном4 . По мнению докладчика, автор эссе нигде не пишет собственно о даре, однако подразумевает его, когда говорит о гражданском долге. Торо мыслит долг вне экономики обмена: гражданин получает заботу государства в обмен на уплату налога. Отказ платить налоги и тем самым сотрудничать с государством становится актом неповиновения такой экономике, а долг — условием политического действия, негласным требованием невидимого множества. Мыслью Торо движет логика дара, когда он призывает к неповиновению: в отличие от экономики обмена, в экономике дара или щедрости даруется ущерб и через этот ущерб ищется солидарность. Тему долга/дара в эссе Торо Аронсон анализировал, прежде всего, сквозь призму философской концепции «абсолютного» дара Жака Деррида, который в своих поздних работах предложил рассматривать дар как событие, не включённое в какой бы то ни было обмен, дар в пределе «должен не представать как дар — ни получателю, ни дарителю». 3 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. М.: РГГУ, 2012. этого семинара вошли в статью: Аронсон О.В. Мечты о государстве непокорности (читая Генри Торо сегодня) // Синий диван. 2012. № 17. С. 73–94. 4 Материалы 178 Семинары РАШ. . . Философия дара Жака Деррида стала предметом отдельного семинара «Внеэтические начала этики: прощение, обещания, справедливость, дар (в работах Ж. Деррида)», проведённого Дмитрием Новиковым. Рассматривая дар как часть и итог философской мысли Деррида, Новиков подробно остановился на идее невозможности дара. Невозможность — это условие дара; дар нельзя назвать, потому что в таком случае он перестаёт быть даром. Следовательно, дар можно мыслить только как чистую возможность; он не может быть локализован, стабилизирован, понят внутри какой бы то ни было схемы — и в этом он сближается с такой важной для Деррида темой, как тайна. Та же парадоксальность свойственна и смежным с даром этическим категориям «справедливость» и «прощение». Например, прощение как предельная этическая ситуация не может быть прощением «за что-то»; прощая, мы уже переходим онтологическую границу: «я тебя прощаю, потому что нет вины». Дискуссия, последовавшая за выступлением Новикова, в основном касалась онтологического статуса дара в работах Деррида: является ли абсолютный дар чисто умозрительной конструкцией или же мы можем его мыслить феноменологически — как событие дара, которое остаётся не опознанным ни получателем, ни дарителем? Дару, не опознаваемому как дар, был посвящён единственный «практический» семинар: Наталья Халымончик в докладе «Бесцельные усилия: между тратой и даром» обратилась к практике косплея — театрализованного костюмированного шествия, распространённого среди поклонников японской поп-культуры. Участники шествия — обычно молодые люди от 15 до 22 лет — шьют себе костюмы персонажей аниме; на это они затрачивают немалые ресурсы: деньги, время, труд. Персонаж существует только в момент шествия, т.е. в момент, когда его видят другие. Такое трудоёмкое, затратное и нестатусное хобби Халымончик предложила описать как непроизводительную трату, пользуясь термином Жоржа Батая, а также поставила перед участниками семинара вопрос: можем ли мы считать эту практику даром косплееров самим себе. С докладчицей не совсем согласилась участвовавшая в дискуссии Елена Петровская: по её мнению, мы не можем говорить о практике косплея как о даре, поскольку здесь имеет место перформанс: костюмы выставляются на всеобщее обозрение, а значит, уже включены и вовлечены в отношения обмена. В 2013 году цикл семинаров, посвящённых дару, продолжается; первым стало обсуждение стихотворения в прозе Ш. Бодлера «Фальшивая 179 А. Уракова монета» совместными усилиями философов и филологов, специалистов по французской литературе (ведущий — Дмитрий Новиков). Литература God, the Gift, and Postmodernism / Eds. John D. Caputo and Michael J. Scanlon. Bloomington: Indiana University Press, 1999. The Logic of the Gift: Towards an Ethics of Generosity / Ed. Alan D. Schrift. London: Routledge, 1997. The Question of the Gift: Essays Across Disciplines / Ed. Mark Osteen. London: Routledge, 2002. Аронсон О.В. Мечты о государстве непокорности (читая Генри Торо сегодня) // Синий диван. 2012. № 17. С. 73–94. Зенкин С.Н. Небожественное сакральное. М.: РГГУ, 2012. Е. Федотова Ритуальная смерть как средство легитимации короля в популярной шотландской песне Рассмотрены назначение и способы выражения политической составляющей в тексте популярной шотландской песни Skye Boat Song. Автор приходит к заключению, что структура, образность и лексика песни, одновременно апеллируя к христианской и кельтской традициям, создают второй, ассоциативный план текста. На этом плане шотландский претендент на престол Карл Эдуард Стюарт выглядит (исторически безосновательно) погибшим в битве королем и спасителем своего народа, что делает его (вернее, его литературную параллель) в глазах читателя законным королем, центром объединения и самоутверждения нации. Резонанс с народными чаяниями сделал эту, фактически авторскую, песню своеобразным «стандартом народной шотландской песни». Ключевые слова: шотландский фольклор, Skye Boat Song, Гарольд Бултон, Карл Эдуард Стюарт, якобитское движение, кельтская традиция, ирландские саги, подтекстовый уровень смысла. Шотландский фольклор XVIII–XIX вв. содержит явный политический элемент1 , обусловленный сильнейшим стремлением шотландцев к 1 См. Donaldson W. The Jacobite Song: Political Myth and National Identity. Aberdeen: Aberdeen Univ. Press, 1988. 165 p. 181 Е. Федотова независимости, определенной жизнеспособностью шотландской народной культуры и наличием сил сопротивления в шотландской среде английской культурной гегемонии, которая насаждалась «сверху» после объединения Шотландии с Англией2 . Особую роль в формировании шотландской идентичности и национальной исторической памяти сыграла династия Стюартов, тот период в истории, когда на английском престоле сидели шотландские короли. Соответственно, якобитское движение имело большое влияние на шотландское национальное самосознание и оставило свой след в народном творчестве. Заслуживает внимания форма, в которую облекается иногда политический элемент шотландской песни. Мне удалось оценить и даже просто разглядеть эту форму, по-видимому, только благодаря изучению сходных черт в библейских контекстах3 . Рассмотрев с определенных позиций структуру популярной шотландской песни Skye Boat Song4 , я с удивлением убедилась, что, по сути, в этом тексте при помощи образных и лексических параллелей, апеллирующих к кельтской и христианской традициям, выстроен второй, ассоциативный семантический план. Этот 2 В настоящее время неприятие «кельтской составляющей» сменилось на Британских островах настоящей кельтоманией, что в конечном итоге связано с борьбой кельтских народов за независимость. См. Биркхан Г. Кельты. История и культура. М.: Аграф, 2007. С. 16. 3 См. Федотова Е. Почему царь? Ритуал жертвоприношения царя в ТаНаХе и его трансформация в евангельском мифе // Белова О. (отв. ред.). «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной традиции (сб. статей). М.: ИС РАН / Сэфер, 2012. С. 23–42; она же. Семантический план звуковых и графических соответствий в тексте Быт 49 // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Междунар. ежегодной конференции по иудаике. Т. 1. М.: Сэфер, 2011. С. 24–47. 4 Судьба этой песни являет собой любопытный пример «фольклоризации». Слова были написаны Гарольдом Бултоном (Harold Boulton); впоследствии он присоединил свою композицию к народным песням, собранным А. Мак-Лауд, и издал вместе с ней в сборнике Songs of the North (Eds. H. Boulton, A. McLeod. London, 1884); таким образом, песня была «пущена в народ». Она имела успех: очень быстро появились люди, которые «вспоминали», что слышали эту песню в детстве, на старом гэльском языке. В наши дни она очень популярна и стала своеобразным стандартом «народной шотландской песни» среди музыкантов; она присутствует, в различных вариантах, в нескольких фольклорных сборниках, хотя ее нет в старых собраниях шотландских песен. Вместе с тем, Skye Boat Song характеризуют как «традиционное выражение якобитского духа»; события, о которых в ней рассказано, стали национальной шотландской легендой. (См. URL: en.wikipedia.org/ wiki/The_Skye_Boat_Song). О Бултоне же известно, что этот незаурядный человек был большим знатоком шотландского фольклора и писал свои произведения, основываясь на подлинно народном материале. Неудивительно, что его песня стала «своей» в народе. (См. URL: www.ghgraham.org/text/haroldedwinboulton1859_obit.html). 182 Ритуальная смерть. . . дополнительный план существенно деформирует исторический образ героя песни Карла Эдуарда Стюарта, предлагая ему (исторически безосновательно) судьбу погибшего в битве короля и короля-мессии. Для чего это могло понадобиться авторам песни? Прежде чем пытаться ответить на данный вопрос, следует, вероятно, рассмотреть, к каким ритуальным или психологическим образцам относится гибель царя (короля) в битве и почему этот образец, несомненно, идущий из древности, настолько действен в Новое время, что может быть использован авторами текста для разъяснения некоторых своих положений. Отметим для начала, что, как правило, любая насильственная смерть царя, в том числе — гибель в битве за народ, рассматривается народным сознанием (или народным бессознательным?) как ритуальная, то есть, имеющая отношение к ритуалу жертвоприношения царя. В свою очередь, представления о жертвоприношении царя, в различных его формах, настолько общи для разных культур5 , что вызывают мысль об архетипе. В основе таких представлений, вообще говоря, лежит мифологический образ бога, принесенного в жертву ради создания или восстановления космического порядка6 . Общепринятая царская идеология изображает царя как представителя бога на земле, если не прямо как его земное воплощение. Соответственно, Левинсон7 полагает, что ритуал жертвоприношения царя (или царского сына) может следовать образцу imitatio dei. В некоторых мифах бог и царь смешиваются в одном лице, 5 См., напр., Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. М.: Эксмо, 2006. 960 с.; Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литер. oбозрение, 2000. 400 с.; он же. Козел отпущения. СПб: Изд. Ивана Лимбаха, 2010. 376 с.; Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М.: Вост. литер., 2001. С. 99–114; Levenson J.D. The Death and Resurrection of the Beloved Son. New Haven: Yale Univ. Press, 1993. 258 p.; Janowski B., Wilhelm G. Der Bock, der die Süden hinausträgt // Janowski B., Koch K., Wilhelm G. (Hrsg.). Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament. Freiburg: Freiburg Universitätverlag, 1993. S. 109–159; Milgrom J. Leviticus 1–16 (AB). N.-Y., 1999. P. 1071–1079; Zatelli I. The Origin of the Biblical Scapegoat Ritual: The Evidence of two Eblaite Texts // Vetus Testamentum, 48, 2 (1998). P. 254–263. 6 Сюда можно отнести, например, месопотамский миф «Энума элиш», где мир создается из тела праматери Тиамат, а люди лепятся из глины, замешанной на крови бога Кингу; рассказ Ригведы о сотворении вселенной из тела первочеловека Пуруши или сходный ацтекский миф, пересказанный в работе Жирар Р. Козел отпущения. С. 99–100. Умирание и последующее воскресение бога (напр., египетский Осирис, угаритский Баал и др.) также относится сюда как образец умиротворения Смерти и восстановления затем космического порядка. 7 Levenson J.D. Op. cit. P. 25–33. 183 Е. Федотова как в шумерском мифе о боге-царе-пастухе Думузи, которого убивают в качестве искупительной жертвы за богиню Инанну8 , или в финикийском мифе о царе Кроносе, обожествленном после смерти, видимо, за то, что для спасения своего народа он принес в жертву единственного сына, одев его перед тем в царские одежды9 . Пользуясь анализом А.М. Хокарта10 , легко сделать вывод о закономерности царских жертвоприношений вообще. Прежде всего, Хокарт показал, что административные функции царя вторичны, а первоначально царь, как глава народа и территории (практически любого масштаба), исполнял только ритуальную роль — проводника благ, текущих от духапокровителя к народу. Получение благ и есть основная цель ритуала, а механизм ритуального воздействия на духов, по Хокарту, сводится к серии отождествлений: отождествляются прежде всего народ, ждущий благ, и дух (бог), от которого они исходят. Посредники в этом процессе, отождествляемые одновременно и с народом, и с духом, — это распорядитель (глава) ритуала, культовый объект и жертва, которые таким образом приравниваются друг к другу11 . Отсюда и проистекает царская идеология древности, рассматривающая царя как посредника, ответственного перед богами за состояние народа, а перед народом — за благосклонность богов и общее благоденствие. Будучи изначально отождествляем с жертвой, царь и должен приноситься в жертву при нарушениях мирового и общественного порядка — с целью его (этого порядка) восстановления12 . Со временем в обществе обычно происходит централизация культа и, соответственно, — выделение царя из прежде почти равных ему клановых вождей. На этом этапе царь отождествляется с верховным богом и его символом становится солнце, а также — сакральное животное вер8 См., напр., Синило Г.В. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). Минск: Экономпресс, 1998. С. 62–70. 9 Этот миф пересказан у Евсевия Кесарийского (Приготовление к Евангелию 1.10.40). 10 Hocart A.M. Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society. Chicago: Chicago Univ. Press, 1970. P. 41–249. 11 См. также Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. С. 43; Лич Э. Цит. соч. С. 111. 12 По-видимому, следует отличать теоретическую и мифологическую норму от практического применения нормативного ритуала, которое зависит уже от реальной силы правителя и местных традиций, обусловленных этой реальной силой. Указанное различие между теорией и практикой хорошо показал Ян Бреммер, на древнегреческом материале (см. Bremmer J. Scapegoat Rituals in Ancient Greece // Harvard Studies in Classical Philology 87. 1983. P. 299–320. 184 Ритуальная смерть. . . ховного бога. Хокарт13 показал, что не всякое животное может исполнять эту славную роль, но только такое, чья мощь превосходит силу других зверей (как правило, это бык, лев, леопард, орел, лошадь, кобра или белый слон — в зависимости от региона). Подобные звери символизируют мощь царя и служат духовными помощниками в битве. Вместе с тем, известны ритуалы принесения в жертву таких животных, и главой ритуала выступает царь, то есть, он приносит в жертву животное, отождествляемое с ним самим. В качестве примеров можно привести древнеиндийский ритуал Ашвамедха — жертвоприношение коня14 , а также, возможно, царскую охоту на львов в Древней Месопотамии. В этом обычае подозревают ритуальную подоплеку, поскольку наряду с рельефом во дворце Ашшурбанипала, где изображен царь, собственноручно убивающий льва, существует другое изображение, на котором Ашшурбанипал стоит позади убитого льва и совершает жертвенное возлияние15 . Помимо проведения ритуала, одной из основных ритуальных функций царя в древности считалось ведение войны. Война, ведомая царем, — это всегда сакральное деяние16 , направленное на защиту благосостояния общества от внешних и, равным образом, от внутренних врагов. Даже полицейские функции верховной власти, по Хокарту, мотивируются, на самом деле, не поддержкой закона, а защитой государства от сил зла. До сих пор практически везде церемониальный наряд царя (короля) — это военная форма, а окружающая монарха аристократия — военная каста. Таким образом, царь в древности осуществлял двойную функцию и, соответственно, имел двойственный характер: как гарант мирового порядка, он олицетворял верховного бога, чьим символом было солнце; в качестве защитника от врагов, царь выступал воплощением богагромовика17 , и символами его были молния и орел (и это до сих пор отражается в королевской символике). 13 Hocart A.M. Op. cit. P. 90–91. Топоров В.Н. Статьи для энциклопедии Мифы народов мира. Ашвамедха (ст.) // Топоров В.Н. Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. С. 304. 15 См. Black J., Green A. Gods, Demons, and Symbols in Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary. Austin: Texas Univ. Press, 1992. P. 33. 16 См. Hocart A.M. Op. cit. P. 156–161, 181, 186. О сакральном характере войны говорит и Й. Хёйзинга (см. Хёйзинга Й. Homo ludens // Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004. С. 147–172), хотя ее игровая направленность — предмет особого разговора, и не входит в нашу тему. 17 Бог-громовик всегда имеет военные функции и соответствующих противников. (Ср. Зевс и титаны в Греции, Индра и демоны в Индии, Гор и Сет в Египте, боги и демоны 14 См. 185 Е. Федотова Итак, победа царя над силами зла может осуществляться при помощи как ритуала, так и военных действий; все военные действия царь ведет в качестве ритуальной фигуры. Соответственно, гибель царя (короля) на поле боя также воспринимается как ритуальное действо, равносильное жертвоприношению: царь отдает себя за народ. Надо думать, что в основе ритуала жертвоприношения царя лежит идея о бессмертии, совершенстве царя — вследствие его причастности к миру божественного; только в таком качестве царь может служить гарантом процветания своего народа. Отсюда же возникает мысль о необходимости смерти царя в цветущем возрасте; естественная смерть царя, от старости или болезни, не приветствуется у многих народов18 . В Ветхом Завете наблюдаются как соответствия ритуалу жертвоприношения царя, так и отклонения от него, но в Новом Завете жертвоприношение Иисуса неразрывно связано с его царским достоинством; по сути, триада Царь — Жертва — Мессия (Спаситель) в мистикомифологическом пространстве библейского мира существует в своем тождестве, доказывая свое единство через самое себя19 . Таким образом, опора на традицию, как древнюю, так и новозаветную, дает возможность рассматривать царя (короля), павшего в решающей битве, в качестве жертвы за свой народ и как спасителя народа — подтверждающего самим фактом жертвы подлинность своего царского достоинства. Приведенный выше обзор, хотя и очень краткий, позволяет исследовать структуру шотландской песни под определенным углом зрения. Ниже помещен текст песни20 и его перевод на русский язык (перевод мой — Е.Ф.). SKYE BOAT SONG Refrain: Speed bonnie boat, like a bird on the wing. Onward! the sailors cry; Carry the lad that’s born to be King Over the sea to Skye. в Персии, Тор и великаны в Скандинавии, Балу и Мот в Угарите, наконец, Яхве и его противники в Библии). 18 См. Фрэзер Дж.Дж. Цит. соч. С. 350–374. 19 См. Федотова Е. Почему царь? С. 35–39. 20 Оригинальный текст Г. Бултона, взят из интернет-ресурса (см. сноску 4). 186 Ритуальная смерть. . . Loud the winds howl, loud the waves roar, Thunderclaps rend the air; Baffled, our foes stand on the shore, Follow they will not dare. Though the waves leap, soft shall ye sleep. Ocean’s royal bed. Rocked in the deep, Flora will keep Watch by your weary head. Many’s the lad fought on that day, Well the Claymore could wield. When the night came, silently lay Dead on Culloden’s field. Burned are our homes, exile and death Scatter the loyal men. Yet, ere the sword cool in the sheath, Charlie will come again. БЕГСТВО НА О. СКАЙ Рефрен: Лети, мой корабль, как, взмахнув крылом, уносится чайка вдаль! Неси рожденного быть королем за море — на остров Скай. Рокочут волны под ветра вой и гром, как глашатай бед. Враги обступили берег толпой, но плыть не посмеют вслед. Укачан волной, ты спишь. Под тобой беснуется бездна, бурля; лишь Флора покой охраняет твой. О море, постель короля! Он многих сразил в тот отчаянный день; палаш был верен руке. 187 Е. Федотова А к ночи на Куллоден пала тень, покрыв тела на песке. Наш край разорен; это — чуждая речь, рассеянье верных и кровь. Но в ножнах остыть не успеет меч, как Чарли явится вновь. В приведенном тексте речь идет о Куллоденской битве21 (1746 г., север Шотландии), где войска претендента на престол Карла Эдуарда Стюарта потерпели поражение от 30-тысячной армии английского принца, герцога Кумберлендского. Битва была жестокой; пленных не брали. В результате поражения шотландцы потеряли многие права и свободы. На самом деле, сразу после битвы, видимо, еще можно было продолжать борьбу, но принц Чарльз (которого прозвали «Красавчик Чарли», Bonnie Prince Charlie) решил, что его предали, и бежал на остров Скай (Skye); он плыл туда на небольшом корабле, переодетый в женское платье, под видом служанки знатной дамы Флоры Мак-Дональд22 . Некоторое время неудачливый претендент скрывался на острове, а затем переправился на континент, где вел жизнь совершенно не романтическую и умер в возрасте 68 лет, скорее всего — от пьянства. Трона он не получил, в битве не пал, борьбы за Шотландию не продолжил, но умудрился стать героем шотландского фольклора23 . В чем же причина его, в общем-то незаслуженной, популярности? Можно думать, что самобытность кельтского характера потребовала создания мифического центра нации, гаранта единства и цельности, включающего в себя «символы власти и веры, . . . без которых самоидентификация данной группы людей не может быть полной»24 . М. Питток, исследуя продолжительное влияние династии Стюартов на политическую и культурную жизнь Шотландии, приходит к выводу, что «стю21 См. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Карл_Эдуард_Стюарт. Мак-Дональд, представительница одного из двух сильнейших кланов Шотландии; о. Скай расположен на Гебридах; во времена принца Чарльза он фактически находился в руках клана Мак-Дональдов. 23 О превращении «Красавчика Чарли» в легендарную фигуру, чуть ли не «второго короля Артура», см. Pittock M.G.H. The Invention of Scotland: Stuart Myth and Scottish Identity, 1638 to the Present. London: Routledge, 1991. 198 p. 24 Топоров В.Н. Мифопоэтическое пространство первоначального Рима (римская версия «основного» мифа) // Иванов Вяч.Вс. (отв. ред.) Антропология культуры (сб. ст.) Вып. 4. М.: Ин-т мировой культуры МГУ, 2010. С. 29. 22 Флора 188 Ритуальная смерть. . . артовская мистика», в том числе — «мессианский миф», фактически объединила нацию в борьбе за сохранение своей идентичности25 Большую роль в создании и поддержании «стюартовского мифа» играла народная поэзия. Питток признает26 , что корпус якобитских песен и стихов очень важен с точки зрения идеологического и политического анализа движения; на этот вывод не влияет даже осознание того факта, что большинство ранних песен утрачено, а дошедшие до нас представляют собой, в основном, авторские песни, написанные между 1790-ми и 1820-ми годами, но получившие статус «народных». Однако они написаны как выражение народного духа, и Питток полагает, что настало время отойти от «демифологизации» текстов: мифы — это факты для тех, кто объективирует их в верованиях; тем самым, они становятся частью порядка вещей27 . Все сказанное в полной мере относится к рассматриваемой нами песне Skye Boat Song. Переходя к конкретному анализу, мы заметим дальше, что способ, которым в ней выстраивается миф, весьма интересен, ибо опирается одновременно на кельтскую и библейскую (мессианскую) традиции. Это причудливое сочетание христианского и языческого начал вообще очень характерно для культурной традиции ирландцев и родственных им горных шотландцев. Рассмотрим теперь структуру упомянутой песни в подробностях. Отметим сразу, что буквально в каждой строфе смешение образов, сюжетов и названий порождает соответствующие ассоциации, которые создают подсознательное впечатление подлинно королевского достоинства героя и его гибели в битве; а в первой (рефрене), центральной и последней строфах (то есть, во всех сильных позициях) нарастает также намек на его мессианскую, спасительную роль. Действительно, в первой строфе (рефрене28 ) можно увидеть завуалированный образ похорон короля в погребальной ладье29 . Здесь преж25 Pittock M.G.H. Op. cit. P. 1–7. Poetry and Jacobite Politics in Eighteenth-century Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. P. 133–186. 27 Pittock M.G.H. Op. cit. P. 3–7. 28 Рефрен здесь можно рассматривать как первую строфу, поскольку в английских песнях он часто поется первым (в частности, это относится к данной песне). 29 Такой способ погребения, скорее всего, не был общепринят у кельтов (если судить по археологическим данным, описывающим захоронения в земле), но он, несомненно, существовал, ибо оставил след в художественных произведениях, основанных на кельтской традиции. Сюда можно отнести рассказ о смертельно раненном Тристане, которого в лодке отпускают в море — в поисках скорее смерти, чем выздоровления (см., напр., Бедье Ж. 26 Pittock M.G.H. 189 Е. Федотова де всего особую атмосферу создает само упоминание острова. Согласно представлениям многих народов, в том числе — кельтов, острова вообще представляли собой сакральное пространство; на островах помещался кельтский Другой мир, куда доплыть можно было только в стеклянной ладье. На островах же проводили обряды инициации, смысл которых, как известно, — умирание прежнего существа и рождение его в новом качестве. Предполагалось, что в процессе ритуала посвящаемый попадает в царство мертвых, переживает там испытания и возвращается другим человеком30 . В дополнение к этим общим представлениям, в песне очевидно «играет» название острова; его английское произношение (Скай) неотличимо от слова «небеса», да и написание этих слов довольно близко (‘Skye’ и ‘sky’). На самом деле, этимология названия31 точно не известна и может восходить к каким-то субстратным слоям языка; по сути, все имеющиеся этимологические теории связаны с теми или иными ассоциациями звукового ряда. Однако нужно учесть, что подобные ассоциации и создают предпосылки для так называемых «народных этимологий». Из упомянутых теорий отметим отсылку к кельтскому слову «крылоподобный» (возможный намек на форму острова), а также — к др.-сев. *ský-ey, то есть «Облачный (окутанный туманами) остров». В связи с последней теорией, можно вспомнить, что Остров Блаженных описан в ирландских сагах именно как «туманный», «покрытый росой», «серебристый»; там «мерцает белое облако» и «туманна серебристая поляна»32 . Таким образом, ладья, несущая того, кто «рожден (быть) королем», Роман о Тристане и Изольде. М.: Худ. литер., 1955. С. 21) или описание похорон погибшего в битве Боромира (Толкин Дж.Р.Р. Властелин колец. М.: Астрель, 2011. С. 453–455). Надо отметить, что Толкин, при всех его фантазиях, четко опирался на подлинную традицию; Биркхан пишет, что «мода на Толкина. . . до сих пор остается последним крупным «вторжением» кельтов в современную литературу» (Биркхан Г. Цит. соч. С. 23). 30 Плутарх говорил о сакральности всего островного окружения Британии (цит. по: Широкова Н. Мифы кельтских народов. М.: Астрель, 2004. С. 47–48. По кельтскому поверью, обитатели островов отличались от обычных смертных. См. сагу «Исчезновение Кондлы Прекрасного . . . » // Смирнов А.А. (пер. и коммент.). Ирландские саги. Л.: Academia, 1929. С. 258 или сагу «Битва при Маг Туаред» // Михайлова Т.А. Похищение Быка из Куальнге. М.: Наука, 1985. С. 351, 485 (прим. 1). 31 См. URL: http://www.en.wikipedia.org/wiki/Skye. 32 См. сагу «Плавание Брана, сына Фебала» // Смирнов А.А. (пер. и комм.). Цит. соч. С. 264, 265. Кроме того, как отмечает Т.А. Михайлова, в саговой кельтской традиции достаточно часто встречается устойчивое сочетание dolb-ceó, «волшебный туман», которое указывает на связь тумана с миром Сида. См. Михайлова Т.А. Заговор на долгую жизнь: 190 Ритуальная смерть. . . море, остров под названием «Скай», покрытый облачной завесой, — все эти детали уже создают соответствующие ассоциации. Картина дополняется упоминанием птицы, ибо согласно верованиям многих народов, начиная с глубокой древности, душа умершего человека улетает в небо в виде птицы33 . Поскольку кельты верили в бессмертие души, и в сагах описаны (редкие) случаи возвращения героев из Другого мира, во всяком случае признается связь между двумя мирами, их проникновение друг в друга, то путешествие в Другой мир предполагает некоторую возможность возвращения короля — может быть, в каком-то новом качестве, и это в принципе может служить заставкой мессианской темы34 . Тема гибели продолжается в следующей строфе: завывание ветра и рокот волн, раскаты грома, разрывающие воздух — такие «небесные знаки», по верованиям кельтов, «обычно сопровождали гибель великой души»35 . Далее, «озадаченные враги» (в том же четверостишии) могут повергнуть читателя в недоумение. Если описана историческая ситуация, то почему бы им и не посметь преследовать беглеца? Он спасался на маленьком судне, его окружение состояло из Флоры Мак-Дональд, пары слуг и шести матросов; от такой компании вряд ли можно было ожидать серьезного отпора. Однако, если враги, согласно намеку, видят перед собой погребальную ладью, то сковавший их священный трепет не вызывает удивления. К тому же, кельтский Другой мир (Сид) — это мирная территория, куда нельзя вторгаться агрессору36 . Следующая строфа (которая отсутствует в некоторых версиях, но есть к проблеме образов «дочерей моря» и «волн судьбы» в ирландской мифопоэтической традиции // Михайлова Т.А. (отв. ред.) Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев (Сб. ст.). М.: Индрик, 2005. С. 203. 33 Также, по поверьям кельтов, в образе птицы летали существа Другого мира, жители Сида. (Ср. Михайлова Т.А. Похищение Быка из Куальнге. С. 64–65). 34 А.А. Смирнов вообще уверен, что кельтская Страна Блаженных — это обиталище живых, а не душ умерших. Представление о душах, как он полагает, не относится к исконно кельтским верованиям; оно привнесено из других традиций: христианской, античной, скандинавской. См. Смирнов А.А. Цит. соч. С. 41. 35 Эту легенду пересказывает Плутарх (цит. по книге: Широкова Н. Цит. соч. С. 48–49). 36 В некоторых вариантах текста отсутствует четверостишие, которое я здесь считаю третьим, и тогда к строфе про «озадаченных врагов» примыкает строфа с восхвалением военной доблести героя; это может создать впечатление, что враги боятся его силы и отваги. Однако в подлинном тексте Бултона эти строфы разнесены, чем их связь разорвана. Кроме того, в сильную позицию центра помещена третья строфа, которая выделена по нескольким параметрам (что обсуждается ниже). 191 Е. Федотова в оригинальном варианте Бултона) занимает в тексте песни центральное положение (если за первое четверостишие принять рефрен). Она выделяется наличием внутренней рифмы37 и обращением к главному герою во втором лице, что создает некоторое впечатление плача по умершему королю. О королевском достоинстве «усопшего» (спящего) говорит, в частности, вежливая форма обращения — ye — а также прямая отсылка (ocean’s royal bed). Мистический фон усиливается реминисценцией на евангельский сюжет (Мф 8:23–27 и пар.), где Иисус мирно спит в лодке, несмотря на бушующие вокруг волны, тем самым обращая внешнюю бурю во внутренний мир. Однако этот христианский мотив характерно сочетается с традиционным упоминанием сна как метафоры смерти и с чисто кельтским образом женщины-охранительницы, как бы проводницы героя в Другой мир. Ее появление в тексте, да еще в сильной позиции — центре — никак нельзя счесть случайностью. Действительно, в ирландских сагах, из которых мы во многом черпаем наши сведения о кельтской традиции, женщины занимают выдающееся положение. Даже война у кельтов по большей части находится в ведении женщин; и если обычные женщины сражаются наравне с мужчинами38 , то богини войны (они же — обитательницы Сида) занимаются исключительно любовью и войной39 . Впрочем, они могут и не выходить на поле брани с оружием в руках, поскольку умеют влиять на ход битвы при помощи магии40 . Сверхъестественный мир в ирландской мифологии — это мир по преимуществу женский41 . Королева или богиня из Сида может завлечь в Другой мир даже смертного мужчину, если полюбит его. Поскольку вер37 По свидетельству специалиста, внутренняя рифма очень характерна для валлийской поэзии (см. Мурадова А. Кельты анфас и в профиль. М.: «Ломоносов», 2010. С. 135). Помимо этого, внутренняя рифма, фактически разрывая строку на две части, вносит в произведение элемент элегичности. 38 См., напр., Михайлова Т.А. Похищение Быка из Куальнге. С. 10–11, 48–51, 57, 118. 39 Возможно, к этим занятиям следует добавить ритуалы, повышающие плодородие. 40 Хотя богини войны появляются в сагах под разными именами (Морриган, Бадб, Маха), не исключено, что это просто разные ипостаси одной великой богини. См. Херберт М. Преображение ирландской богини // Михайлова Т.А. (отв. ред.). Мифологема женщинысудьбы у древних кельтов и германцев. С. 50–60. 41 См. Смирнов А.А. Цит. соч. С. 258, 266–267, 270; Михайлова Т.А. Похищение Быка из Куальнге. С. 94–95. 192 Ритуальная смерть. . . нуться из Сида почти невозможно, такая женщина играет роль настоящего «ангела смерти»42 . Судьба мужчины, по сагам, часто находится в руках женщины; мотив «судьбы» в кельтской традиции вообще сохраняет стойкую связь с женским началом. Как пишет Т.А.Михайлова: «Архаический образ женщины-судьбы в мифопоэтической традиции древних кельтов. . . восходит к культу Великой Богини, известному многим народам. В традиционной кельтской. . . культуре эта фигура во многом меняется, обретает приземленные черты и становится чем-то похожей на обычную женщину. Однако при этом мрачно-мистический характер ею не полностью утрачивается, и она — уже как жена, мать, сестра — постоянно готова повернуться к мужчине своей сумрачной стороной и предречь ему поражение в битве и смерть»43 . Характерно также, что «в женских божествах ирландских мифов воплощена одна из основных идей кельтской религиозно-мифологической традиции — идея верховной королевской власти»44 , которая сама по себе связана с древним и очень глубоким символизмом: центра страны и нации. Верховный король правил в Таре — символическом центре Ирландии, окруженном четырьмя провинциями45 , которые, по-видимому, соответствовали четырем сторонам света; Ирландия и называется в сагах «Островом четырех владык». Но верховным королем Ирландии можно было стать лишь с соизволения богинь, воплощавших королевскую власть. В саге о приключениях короля Конна рассказывается о такой богине: она стояла у трона в Другом мире и подавала назначенному королю напиток верховной власти и бессмертия — красное пиво. В других мифах верховную власть воплощают королева Коннахта Медб или королева Лейнстера Медб Летдерг. Последняя поочередно сочеталась браком с девятью королями Ирландии, и «велика была сила Медб над мужами Ирландии, ибо не мог стать королем Тары тот, чьей супругой она не была»46 . Саги показывают нам, 42 Широкова Н. Цит. соч. С. 88, 94. (отв. ред.). Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и герман- 43 Михайлова Т.А. цев. С. 5. 44 Широкова Н. Цит. соч. С. 250. 45 Эти четыре королевства назывались Ульстер (на севере), Лейнстер (на востоке), Мунстер (на юге) и Коннахт (на западе). Центральная область, где располагалась резиденция верховного короля — Тара — именовалась Миде. См. также послесловие С. Шкунаева (в книге: Михайлова Т.А. Похищение быка из Куальнге. С. 382–444), где обсуждается концепт пятичленного деления Ирландии. 46 Цит. по: Широкова Н. Цит. соч. С. 254–256. 193 Е. Федотова что короли в Ирландии сменяют друг друга, но королева никогда не бывает «без мужчины», ибо верховная власть так же вечна, как принцип, который представляет и воплощает богиня-королева. Другими словами, верховная власть — это аллегория земли Ирландии, с которой король должен сочетаться священным браком, и о таких ритуалах также рассказывают саги: «ритуальный брак короля с его королевством утверждал власть вновь избранного короля»47 . В саге «Любовь к Этайн» ирландцы отказываются подчиняться новому королю до тех пор, пока он не выбрал себе королевы: король становится законным только после того, как сочетается браком с богиней Верховной власти, которую в данном случае представляет Этайн — дочь одного короля и супруга другого48 . Это лишний раз подтверждает, что «все кельтские богини вовлечены в символизм верховной власти, и все они восходят к одному великому прообразу — древней Матери-Земле»49 . Возвращаясь к нашему шотландскому тексту, можно сказать, что подложка кельтской традиции в нем создает исключительный ореол для женского образа, который внезапно появляется в третьей строфе. В образе Флоры соединяются мотивы любви, войны, судьбы, гибели, Другого мира, олицетворения королевской власти, и все намеки имеют сходную функцию: укрепить представление о подлинности королевского достоинства принца Чарльза. Особую роль в тексте может играть повторяющийся образ морской волны. Помимо того, что вода в кельтской традиции вообще выступает прообразом первоосновы всего живого, символом околоплодных вод, и одновременно — могилы (сохраняя свою связь с женским началом), в сагах встречается устойчивый фразеологический оборот deoch tonna, «напиток волны»; «семантика его не оставляет сомнений — так обозначается смерть, причем, как правило — смерть насильственная»50 . Сам по себе «напиток» (то есть, отравление) не выступает причиной смерти. «Чаще данное выражение обозначает насильственную смерть в более широком смысле, обычно — смерть в бою. . . »51 . Таким образом, сам фон событий — морская стихия и качание волн, в сочетании с женской фигурой, — 47 Там же. С. 251. Смирнов А.А. Цит. соч. С. 283. 49 Широкова Н. Цит. соч. С. 264. 50 Михайлова Т.А. Заговор на долгую жизнь: к проблеме образов «дочерей моря» и «волн судьбы» в ирландской мифопоэтической традиции // Михайлова Т.А. (отв. ред.). Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. С. 207. 51 Там же. 48 См. 194 Ритуальная смерть. . . может пробудить соответствующие ассоциации, создавая впечатление гибели в битве и одновременно — вынашивания в утробе новой жизни, нового смысла. Тем самым, в сильной позиции центральной строфы на законность королевских претензий Чарльза Стюарта указывает все: завуалированный намек на гибель в Куллоденской битве, прямое упоминание королевских атрибутов, образ женщины-охранительницы, проводницы в Другой мир, знатной особы, вполне способной выступить олицетворением верховной власти и земли Шотландии. Наконец, параллель с Христом52 (спокойный сон в лодке посреди бушующего моря) подкрепляет образ короля-спасителя, роль которого — принести мир и процветание земле Шотландии. Это можно считать конкретизацией мессианской возможности, заданной в первой строфе намеками на Другой мир (Skye — sky): как говорилось, из Другого мира в принципе можно вернуться, хотя сделать это, согласно кельтской мифологии, способен не каждый, но только избранный герой или великий король53 . В следующей строфе прославление воинской доблести героя накладывается на картину всеобщей гибели. О смерти Чарльза, конечно, не упоминается, но ничего не говорится и о его спасении или о судьбе, отличной от судьбы тех, кто после сражения «лежал на Куллоденском поле» (when the night came, silently lay dead on Culloden’s field). Последняя строфа (снова сильная позиция) опять начинается с намека на гибель правителя: если праведный король приносит земле мир и процветание, то его смерть (или удаление) ведут к разорению земли и рассеянию народа. И, наконец, заканчивается песня, можно сказать, ударным образом — вполне прозрачной мессианской параллелью, оценить которую может всякий человек, знакомый с литургическими текстами Англиканской церкви; в ходе пасхальной службы этой Церкви произносится так называемая «Тайна веры» (Mystery of Faith): «Christ has died, Christ 52 Образ спящего в лодке Христа вообще используется в англиканских религиозных текстах; см., напр., гимн (примерно того же периода создания, что и Skye Boat Song, и содержащий очень похожую лексику и образность) в сборнике гимнов Англиканской церкви: Hymns old & new. One Church, One Faith, One Lord. Great Britain: Kevin Mayhew lim., 2004. Hymn 134. 53 Cр. средневековую легенду о короле Артуре, согласно которой он не погиб, но спит где-то в пещере и вернется в трудную годину, чтобы спасти свою землю от врагов. Приоритетность кельтских корней в артуровском цикле в настоящее время не вызывает сомнений. (См. Биркхан Г. Цит. соч. С. 11). 195 Е. Федотова is risen, Christ will come again»54 . Трудно представить, чтобы обсуждаемая концовка шотландской песни сложилась совершенно независимо от данного литургического текста55 . Так «ударной» параллелью завершается развитие мессианской темы, намеченной, как кажется, в первой строфе, и отсвет мессианства довершает утверждение королевских прав шотландского претендента на трон, ибо Иисус сочетает в себе три достоинства: Жертвы, Царя и Мессии. Каждое из них в мистическом пространстве существует в неразрывной связи с двумя другими; это — идеальные соотношения идеального мира, задающего нормы для мира реального, и поэтому тот, кто соединяет в себе жертвенность и мессианство, должен обязательно быть царем — в реальности, определяемой идеалом. Такова логика традиционного и религиозного сознания. В итоге можно увидеть, как народная песня выстраивает на заднем плане образ шотландского короля, никак не соответствующий исторической фигуре Карла Эдуарда Стюарта; это делается при помощи особой структуры, образности и лексики, порождающих специфические ассоциации у людей, которые воспитаны на соединении христианской и кельтской традиции. Читатель (или слушатель) песни может представить себе отважного короля, павшего в битве за освобождение своего народа, тело которого в погребальной ладье, в сопровождении прекрасной посланницы из Другого мира, направляется к Острову Блаженных. Вместе с тем, это король-спаситель, по подобию Христа, и такого короля ждет мессианское возвращение из Другого мира — может быть, мистическое, в образе другого короля? — потому что он призван освободить, защитить и объединить свой народ. Я позволю себе представить здесь русский эквивалент этого «заднего плана» песни, актуализирующий все рассмотренные выше намеки. 54 См. Common Worship Services and Prayers for the Church of England. London: Church House Publ., 2000. P. 202. 55 Картину религиозной жизни Шотландии в XVIII–XIX вв. вообще отличает большая пестрота (см. Brown C.G. The Social History of religion in Scotland since 1730. London: Methuen, 1987. P. 4–5, 61 f). Однако упомянутый литургический текст довольно общ для разных христианских служб; кроме того, словосочетание He will come again по отношению к Христу входит и в общую для основных христианских деноминаций часть Символа веры. 196 Ритуальная смерть. . . НЕБЕСНАЯ ЛАДЬЯ Рефрен: Лети, украшенная ладья, Птицей в дали растай. Неси сраженного короля За море — в Блаженный Край. Рокочут волны под ветра вой И гром, как глашатай бед. Враги обступили берег толпой, Но плыть не посмеют вслед. Укачан волной, ты спишь. Под тобой Беснуется бездна, бурля; Лишь Флора покой охраняет твой. О море, постель короля! Он многих отправил к отцам в тот день; Палаш разил, сколько мог. Когда же на Куллоден пала тень, И сам он средь мертвых лег. Наш край разорен; это — чуждая речь, Рассеянье верных и кровь. Но прежде, чем в ножнах остынет меч, Король наш явится вновь. Читатель может убедиться, как мало в этом варианте перевода пришлось отступить от оригинального текста, чтобы получить иной смысл и иной, неисторический образ Карла Эдуарда Стюарта, который предстает теперь законным королем, центром и надеждой нации. Показательно то, что наибольшему исправлению в такой «актуализации» подвергается рефрен, и в этой связи полезно вообще рассмотреть соотношение рефрена и строф в данной песне; оно заметно отличается от привычного нам. Как правило, в куплетах разворачивается сюжет, а припев лишь повторяет выжимки из основной мысли произведения. В данном случае рефрен не только соперничает с куплетами по содержательности, но можно сказать, что основное действие происходит в ре- 197 Е. Федотова френе, и поэтому функционально он по праву занимает место первого куплета, выступая в то же время лейтмотивом всего произведения. Действительно, все действие песни заключается в движении корабля к спасительному острову Скай; остальные строфы, по сути, дают только картинки, поясняющие причины и обстоятельства этого бегства. Третья, центральная строфа рисует внутренность бегущего по волнам корабля: король, спящий глубоким сном, и охраняющий его «ангел» в образе прекрасной и знатной девушки. Мы видели выше, что концентрация реминисценций, ассоциаций, намеков и отсылок к традициям в центральной строфе предельно велика; эти образы показывают не просто внутреннюю часть корабля, но открывают глубинный смысл происходящего. Картинка третьей строфы, в отличие от прочих, глубоко статична и играет осевую роль; остальные строфы (включая рефрен) структурно и семантически расположены симметрично по отношению к третьей строфе, то есть, центрированы вокруг нее. В самом деле, вторая строфа рисует картинку природной бури и оцепеневших врагов на берегу; соответственно, четвертая — картину боя, бури человеческой, которая оставила по себе застывшие тела павших бойцов вокруг. Первая и пятая строфы также симметричны, но в них есть противоположная динамика: в первом куплете (рефрене) на фоне пустынных морских просторов происходит движение бегства, от Шотландии вовне, и можно сказать, что в описательном плане это движение принадлежит настоящему. В пятой строфе, напротив, на фоне пустыни разоренной земли намечено обратное движение — возвращение Чарльза, и намечено оно на будущее время. Эта схема, подчеркнем еще раз, центрирована на третьей строфе, которая описывает настоящее (с точки зрения сюжета), но странным образом, глагольные формы в ней стоят в будущем времени, как бы перекидывая мостик от настоящего действия первых двух строф, обусловленного прошлым четвертой строфы, — к будущему, то есть, к возвращению короля. Здесь уместно также отметить, что основные глаголы первой строфы (рефрена) стоят в «пожелательном» (повелительном) наклонении, что придает действию оттенок недосовершенности; автор как будто подгоняет движение, которое протекает с недостаточной скоростью, «нехотя». Заметим еще раз, более детально, что «актуализация» второго семантического плана песни требует переделки первой строфы, описывающей настоящее, которое (в искаженном виде) может особым образом определять будущие события, а также — четвертой строфы, где даны прошлые события, задающие базу для настоящего и будущего. Остальные строфы, 198 Ритуальная смерть. . . реалистически описывающие настоящее, в своем оригинальном виде не препятствуют обращению к «заднему плану» смысла. Обратимся теперь к музыкальному оформлению сюжета: замечательно, что рефрен исполняется в мажорной тональности, в то время как строфы поются на минорный лад56 . В музыкальном произведении рефрен задает основную тему, и отличие ладов в данном случае противопоставляет рефрен остальным строфам. Однако по семантике прямого смысла противопоставления нет; и там, и здесь, по сути, описана грустная и не совсем славная реальность: поражение, разорение земли, опасность, бегство. Но если рефрен выступает заставкой мессианской темы, которая в строфах развивается и завершается в последней строфе — провозвестием мессианского возвращения героя, то, видимо, мессианизм, подтвержденный законностью королевского титула, и есть основное содержание и основная мажорная тема рефрена, а значит — и всего произведения в целом. Отметим еще одну любопытную деталь: строфы первая и последняя дополнительно связаны своеобразным приемом; они как бы «прошиты» словами, составляющими вместе прозвище Чарльза: Bonnie (первая строка песни) — Prince (the lad that’s born to be King, третья строка песни) — Charlie (последняя строка песни); это может намекать на связь их семантики, которая на уровне буквального смысла, вообще говоря, противоположна. Наконец, само заглавие песни, Skye Boat Song, очевидным образом, соответствует больше второму уровню смысла, ибо что может быть героического в кораблике, на котором несчастный беглец плавает с одного острова на другой в попытках спрятаться от смертельной опасности? Воспевания достоин скорее корабль, на котором он в славе вернется обратно. Таким образом, хорошо видно, как структура песни «подсвечивает» второй семантический уровень, цели которого вполне прозрачны, а именно: предлагая (хотя бы на заднем плане) принцу Чарльзу Стюарту судьбу павшего в битве короля и короля-мессии, текст народной песни легитимирует и актуализирует «своего короля». Неудачливый претендент на английскую и шотландскую корону, неромантическая личность — преображается (вполне романтическим приемом) в «настоящего», законного короля, подтверждая тем самым права Шотландии на суверенность и 56 На это обстоятельство обратила мое внимание Е. Ватсон; я благодарна ей также за обсуждение рукописи и весьма полезные замечания. 199 Е. Федотова даже — на преобладание над Англией. На английском троне, по справедливости, должен сидеть шотландский король, и так непременно будет в дальнейшем — вот сообщение второго плана текста, который по сию пору считается образцовым выражением шотландского национального самосознания. В конечном итоге, мы должны задать себе вопрос: насколько правомерна предложенная интерпретация? Обычно ли для кельтской традиции обращаться к такой многоплановости текста? Представляется, что на этот вопрос можно с уверенностью ответить утвердительно. Народы кельтского происхождения вообще сохраняют необычную устойчивость предания и верность традиции, а кельтское искусство от древности характеризуется склонностью к двусмысленности и созданию расплывающихся, ускользающих образов, которую Пауль Якобсталь назвал «стилем Чеширского Кота»57 . Блестящим примером успеха такого стиля в век модерна (и постмодерна) выступает творчество ирландского писателя Дж. Джойса (1882– 1941); характер его произведений определяется в основном его ирландским опытом. Творческие приемы Джойса58 включают использование параллельных эпизодов и контрастных литературных стилей, среди которых особое место занимает поток сознания; литературные аллюзии и свободные ассоциации; добавим к этому обращение к внутренней сути вещей и душевному миру героев, а также невероятно многоуровневую и многоязычную игру слов. В целом для текстов Джойса характерна замечательная полифония, когда слово может звучать, как аккорд, с несколькими значениями, а отрывок текста — содержать разные мотивы или мелодии, как контрапункт. Джойс — не единственный англоязычный автор, использующий, в той или иной мере, подобный стиль; в конце концов, народные тексты, на которые он опирается и ссылается, также часто включают многоплановость смысла, основанную на игре слов59 . Все эти «косвенные улики», как кажется, достаточно красноречивы и позволяют заключить с большой вероятностью, что в песне Skye 57 Цит. по: Широкова Н. Цит. соч. С. 25. в частности, исследование: Ватсон Е. Влияние авторской интонации на устное воспроизведение художественного текста. Диссертация на соискание степени канд. филологических наук. М.: МПГУ, 1998. С. 69–100, 126–143. 59 Ср. ирландскую песню Finnegan’s Wake (Поминки по Финнегану), содержание которой позволяет переиначить заглавие в «Пробуждение Финнегана» (URL: http://en. wikipedia.org/wiki/Finnegan’s_wake. 58 См. 200 Ритуальная смерть. . . Boat Song подтекстовым уровнем смысла усилена та самая политическая подоплека, которая и сделала песню чрезвычайно популярной и даже позволила «фольклоризовать» ее, поскольку нашла отклик в сердцах шотландцев, хорошо отражая в то же время народный дух. Литература Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде. М.: Худ. лит., 1955. С. 21. Биркхан Г. Кельты. История и культура. М.: Аграф, 2007. С. 16, 23. Ватсон Е. Влияние авторской интонации на устное воспроизведение художественного текста. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М.: МПГУ, 1998. С. 69–100, 126–143. Жирар Р. Насилие и священное. М.: НЛО, 2000. Жирар Р. Козел отпущения. СПб: Изд. Ивана Лимбаха, 2010. Лич Э. Культура и коммуникация. Логика взаимосвязи символов. М.: Вост. литер., 2001. С. 99–114. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998. С. 43. Михайлова Т.А. Похищение Быка из Куальнге. М.: Наука, 1985. Михайлова Т.А. Заговор на долгую жизнь: к проблеме образов «дочерей моря» и «волн судьбы» в ирландской мифопоэтической традиции // Михайлова Т.А. (отв. ред.). Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и ирландцев. (Сб. ст.). М.: Индрик, 2005. С. 192–210. Мурадова А. Кельты анфас и в профиль. М: «Ломоносов», 2010. С. 135. Синило Г. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). Минск: Экономпресс, 1998. С. 62–70. Смирнов А.А. (Пер. и комм.). Ирландские саги. Л.: Academia, 1929. Толкин Дж.Р.Р. Властелин колец. М.: Астрель, 2011. С. 453–455. Топоров В.Н. Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2010. С. 304. Топоров В.Н. Мифопоэтическое пространство первоначального Рима (римская версия «основного» мифа) // Иванов Вяч.Вс. (отв. ред.). Антропология культуры. (Сб. ст.). Вып. 4. М.: Ин-т мировой культуры, МГУ, 2010. С. 29. Федотова Е.Я. Почему царь? Ритуал жертвоприношения царя в ТаНаХе и его трансформация в евангельском мифе // Белова О.В. (отв. ред.). «Старое» и «новое» в славянской и еврейской культурной традиции. (Сб. ст.). М.: ИС РАН / Сэфер, 2012. С. 23–42. 201 Е. Федотова Федотова Е.Я. Семантический план звуковых и графических соответствий в тексте Быт 49 // Научные труды по иудаике. Материалы XVIII Международной ежегодной конференции по иудаике. Т. 1. М.: Сэфер, 2011. С. 24–47. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. М.: Эксмо, 2006. Херберт М. Преображение ирландской богини // Михайлова Т.А. (отв. ред.). Мифология женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. (Сб. ст.). М.: Индрик, 2005. С. 50–60. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: АСТ, 2004. С. 147–172. Широкова Н. Мифы кельтских народов. М.: Астрель, 2004. Black J., Green A. Gods, Demons, and Symbols in Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary. Austin: Texas Univ. Press, 1992. P. 33. Bremmer J. Scapegoat Rituals in Ancient Greece // Harvard Studies in Classical Philology. 87. 1983. P. 209–320. Brown C.G. The social history of religion in Scotland since 1730. London / N.-Y.: Methuen, 1987. P. 4–5, 61. Common Worship Services and Prayers for the Church of England. London: Church House Publ., 2000. P. 202. Donaldson W. The Jacobite Song: Political Myth and National Identity. Aberdeen: Aberdeen Univ. Press, 1988. Hocart A.M. Kings and Councillors. An Essay in the Comparative Anatomy of Human Society. Chicago / London: Chicago Univ. Press, 1970. P. 41–249. Hymns old & new. One Church, One Faith, One Lord. Great Britain: Kevin Mayhew lim., 2004. Hymn 134. Janowski B., Wilhelm G. Der Bock, der die Süden hinausträgt // Janowski B., Koch K., Wilhelm G. (Hrsg.). Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien und dem Alten Testament. Freiburg: Freiburg Universitätverlag, 1993. S. 109–159. Levenson J.D. The Death and Resurrection of the Beloved Son. New Haven: Yale Univ. Press, 1993. Milgrom J. Leviticus 1–16 (AB). N.-Y., 1999. P. 1071–1079. Pittock M.G.H. The Invention of Scotland: Stuart Myth and Scottish Identity, 1638 to the Present. London: Routledge, 1991. Pittock M.G.H. Poetry and Jacobite Politics in Eighteenth-century Britain and Ireland. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. P. 3–7, 133–186. Zatelli I. The Origin of the Biblical Scapegoat Ritual: The Evidence of two Eblaite Texts // Vetus Testamentum. 48, 2. 1998. P. 254–263. 3. Работы магистрантов РАШ А. Володина Поэтика «общего места» и проблема поэтической субъективности: поэзия И. Холина Статья посвящена анализу поэтики Игоря Сергеевича Холина, одного из членов так называемой «барачной», или «лианозовской школы». Ключевым понятием для анализа является «общее место», означающее здесь не только банальность и клише, но и конкретное узнаваемое «положение вещей», общую ситуацию внепоэтического, в которой находится поэтический субъект. В статье исследуется деиндивидуализированный, фрагментированный характер субъективного высказывания, во многом наследующий поэтической стратегии А.И. Введенского. Ключевые слова: лианозовская школа, И. Холин, Ж. Делёз, А. Введенский, фрагментированный поэтический субъект, «общее место», поэтика бессмыслицы. «Лианозовская школа» — сообщество чётко локализованное, однако сформировавшееся стихийно; сами поэты считали себя скорее дружеской группой, собравшейся в Лианозово вокруг Евгения Кропивницкого 203 А. Володина и его семьи, чем поэтической школой в традиционном смысле этого слова. По свидетельству Всеволода Некрасова, «. . . с поэтами особенная неразбериха. На показах картин бывало, что читались стихи, но «групп» никаких не было. Над «смогистами» посмеивались — не как над поэтами, а именно как над «группой». . . Бывали Сатуновский и Некрасов, приезжавшие смотреть рабинские работы заметно чаще других. Бывали близкие приятели хозяина: Сапгир, Холин. И был, естественно, Е.Л. Кропивницкий: сам поэт, кроме того, что художник. . . А она [«лианозовская школа»] была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное» [Кулаков 1999: 12]. С другой стороны, само поле бытования этого сообщества оказывается весьма широким — находясь в определённой оппозиции к официальной советской культуре, оно при этом осознанно действует в общем контексте советской действительности. Этот контекст общих мест советской жизни обозначен уже в названии поэтической группы (втором, чуть менее распространённом) — «барачная школа». Действительно, стихотворные сюжеты часто разворачиваются в типичных декорациях советской жизни: бараках, коммуналках, ларьках, ресторанах, тротуарах и подворотнях, в однообразных урбанистических пейзажах. Называемые или подразумеваемые пространства, как правило, сопровождаются множеством неприятных коннотаций. Пространство стихотворений маркировано достаточно чётко: *** Адам Токарь-инструментальщик Ева Слесарь-лекальщик Место работы Завод «Пеношлак» Место жительства Общежитье Барак Хуже Ада <. . . > [Холин 1999: 53] В иных случаях место действия не указано, но легко вычислимо — по од- 204 Поэтика «общего места». . . ним и тем же социальным ролям персонажей, по одним и тем же вещам, кочующим из текста в текст. Общее место у «лианозовцев» — не только пространство общей, «коммунальной» жизни, но и общие речевые практики, банальности, клише. Автор конкретного текста часто тоже фигурирует в нём наравне с остальными персонажами, и само тело стихотворения, само высказывание «ускользает» от него, превращается в общее, не полностью подвластное автору. Попытки обнаружения «кого-то живого» можно иными словами определить как поэтическую работу с «общим» и «личным» началом в восприятии и переживании, как поиски того, что лежит в основе высказывания — голос ли автора? Работа с этими внеиндивидуальными переживаниями разворачивается в поэзии Холина на материале «общих мест», «советского» контекста, который является средой для любого высказывания и к которому причастен поэт. Этот контекст невозможно охватить целиком, однако можно попытаться говорить о способах «включения» в этот контекст и восприятия его изнутри. Поэт, существуя в этом контексте (в том числе и на правах персонажа), не способен дистанцироваться от жизненного опыта общего так, чтобы оглядеть его в качестве некоего единства, поэтому поле общего, складывающееся в текстах, никогда не предстаёт тотальным. Поэт говорит о частных, конкретных («точечных и точных» [Айзенберг 1995: 102]) ситуациях, происходящих в пространстве общего. Он часто использует «назывные конструкции, фиксирующие неизменность заданных форм существования» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 397]: «Дамба. Клумба. Облезлая липа. / Дом барачного типа. / Коридор. / 18 квартир / На стене лозунг: / МИРУ МИР!» [Холин 1999: 27]. Иногда это бытовые, компактные с точки зрения сюжетики сценки, как в ранних стихотворениях Холина (циклы «Жители барака» и «Космические»), иногда эти ситуации «вложены» в определённое «общее место», расхожую фразу, которая многократно повторяется: Скромули Чтобы бежать к морю Необходим пропуск Чтобы лежать у моря Необходим пропуск Чтобы убить пламя Необходим пропуск <. . . > 205 А. Володина [Холин 1999: 257]. Принципиальна неполнота такого рода списков, построенных на повторах — они могут продолжаться бесконечно, все элементы списка равноправны, и концовка стихотворения представляется в большой мере произвольной. Конкретные речевые или сюжетные ситуации могут (например, с помощью повторов) разворачиваться в максимально общий, открытый проект. Иногда эта развёртка касается банальных понятий и «общих мест», которые проективно экстраполируются в будущее. Множество примеров находим в цикле «Космические»: *** Неудача Иванов Получил на Луне Дачу Лается На чём свет Куда только смотрит Московский совет Это не ракета А кляча <. . . > [Холин 1999: 72]. Несобственно-прямая речь персонажа с подчёркнуто типичной фамилией «Иванов» заполняет собой весь текст, за ней не стоит собственная речь автора. Здесь ухватывается безличная единица выражения, говорящая об одном и том же способе переживания — переживание погружено в фантастические обстоятельства, однако распознаваемо при восприятии как нечто совершенно знакомое, как «общее место». Проживаемая, переживаемая банальность жалобы на жизнь и апелляции к высшей инстанции, которая должна «смотреть» везде и всюду, одновременно содержит в себе фантастическое измерение, не укоренена во времени и способна «блуждать» из настоящего в будущее, проявляя себя в разных «точечных» ситуациях. Время тоже оказывается общим — личная история и личное будущее всегда в той или иной степени банальны, типичны1 . При этом временное измерение здесь — утопическое; измере1В связи с этим интересно заметить, что мы не так уж часто встречаем в текстах Хо- 206 Поэтика «общего места». . . ние общих ожиданий и перспектив, то невероятное проектное будущее, к которому стремится советская культура. Как замечают Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий, это утопическое измерение она унаследовала от культуры авангарда: социалистическую «“сказку сделать былью” может человек-машина, у которого “стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор”» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 397]. У Холина мы в самом деле часто встречаем образы трансформированной, машинизированной телесности: «Моя невеста / Счётно-электронная / Машина / . . . / Здравствуй / Стальная / Здравствуй / Долгожданная / Здравствуй / Желанная» [Холин 1999: 97]. Так, отдельные элементы текста доступны этой общей возможности переживания, и, несмотря на свою фантастичность, все они заранее знакомы. «Включение» в поле общего неизбежно — оно насильственно вторгается в речевые и бытовые практики. *** На днях у Сокола Дочь Мать укокала Причина скандала Дележ вещей Теперь это стало В порядке вещей [Холин 1999: 197] Действие тавтологической рифмы, соединяющей два аспекта значения слова «вещи» — обозначение перехода к общему, который совершается в том числе и на лексическом уровне («вещи» в словарном значении слова превращаются в часть речевого клише «в порядке вещей»). Событие — сюжетное или речевое — не схватывается в своей уникальности, ускользая в сферу общего. О феномене, близком к такой «общей лина сюжеты, связанные с историей и прошлым, а если и встречаем, то значимость этих исторических фактов и имён функционирует лишь как ещё одна точка общности. Характерен пример из стихотворения «Знайте дети»: «<. . . > Я — Эйнштейн / Вместе с теорией относительности / Я — недостроенный 12-этажный дом / С моей кооперативной квартирой / На третьем этаже / Я Пушкин / С поэмами / И стихами / <. . . >» [Холин 1999: 145]. Это обращение к историческому прошлому является высказыванием о том общем, что знакомо каждому — однако знакомо изнутри, через собственный опыт прочтения и практику воспоминания. 207 А. Володина речи», писал М. Хайдеггер — имеется в виду его понятие «толки», возникающее в рассуждении о природе речи как всегда уже проговоренной и подразумевающей понятность, истолкованность. «Л ю д и не столько понимают сущее, о котором речь, сколько слышат уже лишь проговариваемое как такое. Последнее и понимается, о — ч ё м — лишь приблизительно, невзначай: л ю д и подразумевают то же самое, потому что все вместе понимают сказанное в той же самой усреднённости» [Хайдеггер 2006: 168; курсив авторский — А.В.]. Толки безосновны, «беспочвенны», «вторящи», их референциальные связи с реальностью зыбки, а связь с подлинной бытийностью и вовсе утеряна. Едва ли возможна и индивидуализация такой общей речи, присвоение её субъектом как способа выражения уникального переживания и восприятия. Здесь важно сказать, что специфика «личного» высказывания и выстраивания поэтической субъективности в стихотворениях Холина, эти структуры «общего места», являются сложными конструктами, чьё выстраивание было бы невозможно без выстраивания специфической субъективности и специфического хронотопа. Субъект, возникающий и действующий в этих общих пространствах, едва ли может быть соотнесён с такими традиционными концептами, как «лирический герой», «авторповествователь», «ролевой герой» или «коллективный субъект»; характер этой поэтической субъективности наиболее продуктивно было бы анализировать, обращаясь к концепции субъекта, разрабатывавшейся в различных философских текстах Жилем Делёзом. Традиционная трактовка понятия «лирический герой», представляющая такого героя как целостное единство, целостный образ, так или иначе дистанцированный от автора, в данном случае едва ли окажется полезной. Лирический субъект Холина зачастую трудно локализуем на шкале близости/удалённости биографического автора от героя, даже если мы рассматриваем тексты явно автобиографического характера. Биографические моменты объективируются, оставаясь при этом остро личными — сохраняется прямая, откровенная речь автора, но при этом сама прямота доводится до «плакатности», до языка лозунгов, отчего кажется уже не искренней, а опосредованной. Здесь проблематизируется сама возможность говорить от первого лица и искренне. Также важно заметить, что поэтический субъект Холина со всей очевидностью не предзадан автором как целостное личностное единство (местоимение «я» и речевые конструкции, маркирующие речь субъекта возникают в совершенно различных сюжетных ситуациях и отмечают самые разнообразные конфигурации воспринимающего сознания — это ясно видно в цикле стихо208 Поэтика «общего места». . . творений «Холин», где о «Холине» говорится то в первом, то в третьем лице, то слово «Холин» выступает просто в роли буквосочетания, соседствующего с «заумными» словами; также очень часто стихотворения формально лишены каких-либо маркеров субъективности). Так, природа поэтического субъекта оказывается динамичной — он фактически появляется заново каждый раз, когда произносится «Я», не позволяя читателю создать некий единый образ говорящего. При этом некорректным было бы говорить об «упразднении» лирического героя — поэтический субъект присутствует и ясно манифестирует своё присутствие, однако ускользает от чёткой локализации в мировоззренческом поле. По сходным причинам неподходящим для анализа субъективности в поэзии Холина оказывается понятие «автора-повествователя», рассказывающего истории, описывающего происходящее и тем более выстраивающего некий нарратив. В этом случае автор представал бы в роли постороннего наблюдателя, над-текстовой инстанцией — в то время как поэт-Холин часто выступает персонажем собственных текстов и включает в стихотворение эмоциональные манифестации. Понятия «ролевой герой» и «коллективный субъект» также подразумевают высокую степень отчуждения автора от текста и того «фокуса зрения», который представляет герой (или группа героев) — и, следовательно, чёткую локализацию как героя, так и автора, как правило, косвенно также выражающего свою точку зрения, отличную от точки зрения героя. Однако говорящему субъекту в поэзии Холина свойственны постоянные внутренние колебания, ускользания от явной мировоззренческой или личностной позиции. Субъект, постоянно «врываясь» в поэтический текст то в качестве объекта («Холин / Человек от сохи / Пишет стихи» [Холин 1999: 187]), то прямо высказывающейся личности («Я связан / Всем своим существом / С любым / Несуществующим / Существом» [Холин 1999: 144]), а то «скрываясь» в роли рассказчика-визионера (в «фантастических» стихотворениях), активно действует и всё время смотрит на себя со стороны. Динамический, постоянно рефлексирующий, отражающий сам себя субъект не тождественен сам себе и не может быть описан как единство (не только личностное, но и текстуальное). Причина этого также и в специфике речи субъекта — советской, клишированной речи, за пределы которой говорящий неспособен вырваться. Холинский субъект всегда существует в поле «советского» — в том числе и в речевом поле советского «общего места», узнаваемых «общих фраз», повседневных ситуаций, объединённых общим опытом множества людей. Такой динамический субъект поэтического текста мог бы быть опи209 А. Володина сан с помощью обращения к концепции субъекта у Делёза. В работе «Что такое философия» Делёз и Гваттари пишут о таком субъекте, который «колеблется между другим субъектом и особенным объектом» [Делёз, Гваттари 1998: 29], то есть его функционирование и говорение всегда подразумевает некое внутреннее отчуждение от своей собственной речи — строго говоря, она и не является его собственной, личной речью. Возможность личного высказывания также включена в речь общую, захвачена ею. Эта «захваченность» реализуется разными художественными средствами: через объективацию субъекта («Прежде чем вспыхнуть / Как / Световое табло / Я был / Камнем Фонтенбло» [Холин 1999: 193], «Я моё Я / Несу на ладошке / Баюкаю / Как младенца / Я / Изреку старую истину / Для меня / Нет ничего дороже / Моего Я» [Холин 1999: 139]), через лексическое и семантическое снижение, абсурдность или иронию («Я живу / А мне кажется / Вроде / Меня кто-то / Жуёт» [Холин 1999: 210], «Если хочешь / В день сдвиганья / Упаду / К тебе в проём / Если хочешь / За страданье / Я отдам тебе / Объём» [Холин 1999: 176]), через превращение в клише или подчинение речевой инерции («Люди / Оставьте / Меня / В покое / Я / Благонадёжней / Покойника» [Холин 1999: 139]). Интимное высказывание в «общем» советском месте становится невозможным, оно неизбежно размыкается и открывается в обращении к другому (субъект почти всегда обращается к кому-то, крайне редко мы встречаем манифестацию без обращения; это могут быть «люди», «вы», «ваш мир», гораздо реже — «ты» или, например, «Сапгир»; встречается и скрытое обращение, также подразумевающее максимально широкую воспринимающую аудиторию — например, «Да здравствует. . . », «Заглянем вперёд. . . »). Такая открытость высказывания подразумевает и отсутствие герметичных образных систем и описания внутреннего мира «Я», отсутствие романтического субъективизма и унифицированной точки зрения субъекта. Здесь рождается серьёзное противоречие поэтики Холина — невозможность прямого личностного высказывания не мешает субъекту постоянно и отчаянно пытаться заявить, рассказать о себе, пусть и радикально неподходящим для этого методом — например, через упрямое перечисление «затёртых» и потерявших свою убедительность «поэтичных», «громких слов» и «высоких» понятий: *** Иду навстречу небу Иду навстречу Солнцу 210 Поэтика «общего места». . . Иду навстречу страху Иду навстречу смерти [Холин 1999: 210] Это — лишь один из примеров гиперболизированного романтического дискурса, подчёркнутой трагичности; мы видим, что в рамках поэтического мира Холина, в «общих местах» этот предельно субъективистский, индивидуалистический язык соседствует с другими языковыми средами, обыденными и общими, неспособный стать способом прорыва из этого общего поля в некое иное поле подлинного смысла. Так, субъект, постоянно находящийся в становлении, утверждающий себя, но не предстающий перед читателем целостным личностным единством — таков субъект в поэзии Холина. Почти всегда субъект возникает как «человек в пейзаже» — сюжетном (конкретное пространство или ситуация) или языковом (определённые дискурсивные рамки, заданные языком общего или конкретной ситуацией стихотворения). Лирический субъект не может быть «схвачен» и проанализирован как статический целостный образ, в отрыве от каждой конкретной общей ситуации, в которой он появляется и говорит. В стихотворениях мы не встречаем в полной мере личностного, интимного высказывания, высказывания об уникальном — оно невозможно, так как личное всегда оказывается вовлечённым в «общее место». Субъект, попадая в это поле общего, включается в каркас ощущения или ситуации и может говорить о нём постольку, поскольку оно его «захватывает», оставаясь при этом гораздо более широким, чем индивидуальный опыт человеческого бытия. Так, субъект конструируется, возникая в поле общего: формально сохраняя форму личного высказывания, он тем не менее остаётся в сфере имперсональной, внеиндивидуальной. Замечание Лейдермана и Липовецкого, сделанное ими при исследовании поэтики Олега Григорьева, как нам представляется, верно и для поэтики Холина: подобная стратегия субъективности подрывает «“ценностный центр” авангардного сознания, мифологизирующего свободу “Я” от “другого”» [Лейдерман, Липовецкий 2003: 396]. Возможно, с этим и связаны столь настойчиво повторяющиеся манифестации «Я», высказывания и обращения от первого лица — субъект каждый раз вынужден конструировать, «означать» себя заново как точку на поверхности общего. Он возникает заново каждый раз, когда произносится «Я» — субъект динамичен, он претерпевает и сюжетные, и мировоззренческие, и сущностные трансформации. Воспринимающий взгляд 211 А. Володина и говорящий голос конструируется ситуацией общего, которая и побуждает говорить. Необходимо отметить, что манифестация «Я» зачастую оказывается сопряжена с моментом абсурда, обессмысливания2 — это своего рода сбой, флуктуация в естественной инерции общего языка; возникновение субъекта совпадает с возникновением нонсенса, разрушением внутренней логики языкового поля: <. . . > Если взглянуть На это Сквозь Социальную призму Можно увидеть Человечество Катится К гомосексуализму Бороться нужно С этим Не разговорами На общем собрании А при помощи Заклинания Мон Дон Прошу извиненья Звонит телефон [Холин 1999: 162] Весь этот небольшой текст представляет собой прямую речь, обращение, в котором семантика («не на общем собрании») идёт вразрез с синтаксисом (бюрократическим синтаксисом советских общих собраний), а к концу стихотворения распадается то ли до звукоподражания (звук телефонного звонка), то ли до «заумных» слов упомянутого заклинания. 2 В своих исследованиях Делёз разрабатывает оригинальную концепцию абсурда и нонсенса (в частности, в книге «Логика смысла»), однако подробный анализ проблемы абсурда в делёзовских текстах и других теоретических исследованиях выходит далеко за рамки данной работы. 212 Поэтика «общего места». . . Однако важно, что эта абсурдность создаёт комический эффект, хотя и не подрывает смысловые основания отдельных языковых единиц этого бюрократического языка — дело в том, что эти бюрократические штампы сами по себе несут заряд бессмыслицы. Они абсолютно узнаваемы любым читателем, более или менее опосредованно знакомым с опытом «советского», но это узнавание не способствует пониманию. Значение и референция этих клише весьма размыты («социальная призма», «человечество катится», «нужно бороться»), и эта размытость, в свою очередь, тоже является общим местом — советский дискурс скорее производит собственную фантомную реальность, нежели служит средством описания действительной реальности3 . Эти речевые формы служат не передаче некоего осмысленного сообщения, а скорее в качестве сигнала, знака-индекса, отмечающего ситуацию-ощущение «советского», вовлекающего в него читателя. Так, поэтическая бессмыслица и абсурдность не противоречит характеру советской «общей речи», чьи знаковые единицы и системы также зачастую алогичны. Не приходится говорить о стройной логической структуре общего языка и соответствующей ей стройной логической структуре смысла — так и стихотворения часто построены на приёме сочетания несочетаемого, нарушения причинно-следственных и семантических связей: *** Да здравствует Солнце Да здравствует ветер Да здравствует сучка И сучкины дети Да здравствует Медный пятак Да здравствует просто так [Холин 1999: 209] 3 Здесь следует сослаться, в частности, на исследование Е. Добренко о репрезентационных механизмах в культуре сталинского времени [Добренко 2007]. В данном случае мы считаем правомерным экстраполировать выявленные Добренко закономерности функционирования языка сталинской культуры на «общий» советский язык как собирательный конструкт, т. к. в предмете нашего исследования — поэзии Холина — очевидно обращение к речевым клише, возникшим и существовавшим в том числе и в сталинскую эпоху; сама тенденция к превращению языка в систему «общих мест» сохранялась на протяжении нескольких советских десятилетий. 213 А. Володина Так, мы видим, что поэтический субъект не способен противопоставить обыденной речи речь поэтическую — они находятся в общем дискурсивном поле общего. Говорящий лишь свидетельствует об общей ситуации, в которой он оказался, фиксирует в тексте ход речевой инерции и моменты обнажения нонсенса, бессмыслицы — меняясь вместе с изменением ситуации. В этом смысле субъект может утверждать себя и действовать, но эта возможность действия, зыбкая в силу своей зависимости от условий ситуации — не созидательная творческая активность, преобразующая ткань языка и поле смыслов. Так, «Я» заявляет о себе, оно коммуникативно (вспомним, насколько часты обращения в стихотворениях Холина), но чрезвычайно подвижно и подвержено изменениям. Если попытаться проанализировать характер употребления местоимения «Я» с помощью понятия «шифтер», введённого Р. Якобсоном, то мы заметим, что функции знака-индекса и знака-символа, по Якобсону, совмещённые в шифтере, в данном случае выполняются неравномерно. Разъясняя работу шифтера как грамматической единицы, Якобсон пишет: «с одной стороны, знак «я» не может обозначать свой объект, не будучи соотнесённым с ним по «условно принятому правилу», и в разных языках это же значение закреплено за такими разными последовательностями звучаний, как I, ego, ich и т.п., из чего следует, что «я» — это символ. С другой стороны, знак «я» не может обозначать свой объект, не «находясь с ним в реальной связи»: слово «я», обозначающее говорящего, реально связано с высказыванием и, следовательно, функционирует как индекс» [Якобсон 1972: 97]. «Реальная связь» «Я» и субъекта, который произносит «Я», постоянно оказывается под сомнением — вследствие объективации говорящего субъекта и вариативности «Я», которое может быть или не быть соотнесено с конкретной личностью или образом. Фрагментированную природу поэтического субъекта Холина подчёркивает и то, что субъект не имеет и целостного телесного облика — он, как правило, имеет лишь некие пространственные координаты («Я в дерьме по самые уши» [Холин 1999: 132]; «Я побежал / По этому полю» — и, заметим, далее, в том же тексте — «Я исчез», ещё дальше — «Я попал к вам / По ошибке» [Холин 1999: 235, 237]; «Я видел Холина в гостях» [Холин 1999: 187]). То же и происходит с другими субъектамиперсонажами — они действуют и находятся в «общем месте», но являются скорее не целостными личностями, а своего рода функциями, типами действия: 214 Поэтика «общего места». . . *** Он выпил водки. И в пьяном виде Лез целоваться к соседке Лиде. [Холин 1999: 44] Возвращаясь к Делёзу, концептуальный аппарат которого мы в данном рассуждении используем, заметим, что «прямой дискурс», высказывание от первого лица в поэзии Холина выступает не как свободная манифестация целостной личности, а как способ конституировать этот субъект, расположить его в этом социальном поле общего. «Я» означивает себя и то поле общего, коллективного, в котором оно находится — но это означивание никогда не увенчивается полным успехом, оно постоянно меняется, переозначивается и находится в становлении, меняясь с каждой новой ситуацией. Делёз и Гваттари пишут о проблеме прямого высказывания так: «Прямой дискурс — это отделяемый фрагмент массы, и он рождается из расчленения коллективной сборки; но коллективная сборка всегда подобна шуму, из коего я заимствую собственное имя, она подобна совокупности согласующихся или несогласующихся голосов, из которой я вытягиваю свой голос» [Делёз, Гваттари 2010: 140]. Итак, поэтическое высказывание, обращающееся и к общей топике, и к восприятию этой топики, необходимо связано с проблематизацией той точки зрения, того места, с которого произносится высказывание. Переживание «личного» постоянно скрывается от говорящего — будучи всегда вписанным в контекст общего опыта, он также лишается возможности вырваться за его пределы. Не обнаруживается и языка, на котором можно было бы адекватно высказаться о личном опыте — язык всё больше и больше захватывается общим. Начало текста может быть маркировано как прямое личное высказывание (чаще всего с помощью местоимений: «Я утверждаю. . . », «Надо мною. . . »), однако в следующих строках синтаксические структуры и отдельные слова распадаются, и соответственно смещается субъект речи; уже непонятно, кто говорит и каков референт высказывания: *** Я итал на Ипару Чачара Чачара А вы говорите Что не было 215 А. Володина Светлых Минут [Холин 1999: 168] Разговор об общем здесь уже не ограничивается социальным «общим» советского контекста — возможно говорить об общем более широких, протоперцептивных структур. В связи с вышеприведённым текстом «Я итал на Ипару. . . » нужно отметить, что для «лианозовцев» игра с языком, напоминающим «заумный», часто является равноправной составной частью дискурса общего, и такая работа с отдельными звуковыми единицами не имеет своей целью раскрытие их образного и символического потенциала. Неологизмы, слова-морфемы, звукопись — скорее след речевой инерции, развивающейся из «общих мест» и банальных схем высказывания: «Анкета / Поэта / Рост / 193 сантиметра / Папиросы / Казбек / <. . . > Дом / Храм / Член / Хрен / Тан / Трен / Цык / Вцык / Сик / Сик» [Холин 1999: 159]. Это речевое движение в большинстве случаев сохраняет пусть зыбкую, но всё-таки легко обнаружимую связь со своим источником — с повседневной фразой-клише, с уличной бранью, с «канцелярским» языком и советским тяготением к аббревиатурам и сокращениям: «Дап твою рап / Рап твою дап / Тить твою дить. . . » [Холин 1999: 168], «Я утверждаю / Шумера / Шуршима / В рамках / Режима. . . » [Холин 1999: 171], «. . . Сник / Взят / В кавычки / Чика / Рчка / Рычки» [Холин 1999: 219]. Если же внешняя, формальная связь в самом стихотворении или его фрагменте не сохранена, то она тем не менее просматривается при последовательном чтении цикла, в который входит текст (обилие циклов в поэзии Холина подчёркивает этот инерционный характер речи, как обыденной, так и поэтической; каждый цикл всегда обладает либо сюжетной, либо формальной связностью, стилистическим или речевым мотивом, объединяющим тексты — например, в случае с циклом «Дорога Ворг» этим мотивом является как раз экспериментирование с речевой инерцией, расщепляющей слова и знаки). Отметим это отличие поэтических приёмов «лианозовцев» от «зауми» русского авангарда: если у В. Хлебникова, русских футуристов и поэтов ОБЭРИУ «заумный язык» противопоставляется обыденной речи4 , то звуки и морфемы у Холина не служат символическим способом 4 Здесь стоит отметить, что концепции «заумного языка» у упомянутых поэтов могли существенно различаться — поиски «нового языка» и открытие глубинного «пра-языка», 216 Поэтика «общего места». . . познания проносящихся «перед сумерками нашей души мировых истин» [Хлебников 1986: 634], они представляют собой попытки опытного исследования языковых территорий, улавливания движений языка. Подробнее проанализировав, как преломляется эта традиция «заумного языка» в творчестве Холина, заметим, что в его поэтической генеалогии опыт поэтов ОБЭРИУ играет, безусловно, ключевую роль, наряду с опытом русских футуристов. Если обратиться к документальным свидетельствам современников, то можно с большой вероятностью предположить, что Холину были известны тексты обэриутов. В интервью Массимо Маурицио Оскар Рабин сообщает, что ОБЭРИУ стали известны, пусть и понаслышке, в неофициальной среде в 1960-е годы (он также высказал предположение, что знакомство с ними избранных читателей могло произойти и раньше, в 1930-е годы, и его отголоски могли сохраниться спустя десятилетия)5 . Сам Холин также упоминает о своём знакомстве с поэзией Хлебникова: «. . . Мои учителя / Тредьяковский / Державин / Хлебников» [Холин 1999: 197]. Не берясь утверждать о явных заимствованиях, мы, однако, можем указать на отчётливую преемственность, заметную в первую очередь по многим формальным характеристикам текстов Холина. Среди них — тактика «шокирования» вульгаризмами, просторечиями, элементами обсценной лексики, минималистичность (визуальное и ритмическое дробление текста на мельчайшие элементы, которые во многих случаях умножаются повторами с незначительными изменениями), уже упомянутое обращение к «зауми» и приёмы поэтики абсурда. Сравним отрывок из стихотворения А. Введенского «Больной который стал волной»: <. . . > увы он был большой больной увы он был большой волной он видит здание шумит и в нём собрание трещит являвшиеся целью поэтических опытов Хлебникова, во многом контрастируют с экспериментами А.Е. Крученых и Д. Бурлюка, которые носили в большей степени игровой, провокативный характер и скорее подчинялись задачам поэтической экспрессии. 5 «Может быть, слухи о творчестве ОБЭРИУ ходили по Москве еще в 1930-е годы, но я не могу быть уверен в этом. Ян Сатуновский знал о “Литературном центре конструктивистов” <. . . > Тогда [в 1960-е годы] пользовался огромной популярностью Виктор Голявкин — питерец, который писал под Хармса. Он был просто знаменитостью». [Рабин, Кропивницкая, Маурицио 2004: 284]. Подтверждение этому находим и в [Лейдерман, Липовецкий 2003: 391]. 217 А. Володина и в нём создание на кафедре как бы на паперти стоит и руки тщетные трясёт весьма предметное растёт и все смешливо озираясь лепечут это мира аист он одинок и членист он ог он сена стог он бог <. . . > [Введенский 1993: 87] и стихотворение Холина из цикла «Воинрид»: *** Стоит огромная гора Зияет пропасть Как дыра Мне в путь давно уже пора Пойду куда-нибудь вчера Идёт дорога в ни Куда Иду дорогой в ни Куда Приду дорогой в ни Куда И там останусь навсегда. [Холин 1999: 124] В обоих текстах заметны частые повторы одних и тех же элементов в начале или в конце стихов — анафоры и эпифоры. Замечательна также тождественная рифма, которую часто используют поэты — пример такой рифмовки находим в вышеприведённом тексте Холина и, к примеру, у Введенского в стихотворении «Пять или шесть»: «если я и родился / то я тоже родился / если я и голова / то я тоже голова» [Введенский 1993: 81]. Характерная для поэзии Введенского микрополиметрия свойственна и Холину, хотя и не отражена в данном стихотворении (согласно 218 Поэтика «общего места». . . М.Л. Гаспарову, «микрополиметрией принято называть полиметрию из очень малых разноразмерных звеньев, с очень частыми переменами стиховой формы — на каждом или почти каждом четверостишии. В традиционной полиметрии перемена размера представлялась мотивированной переменою настроения или предмета, в новой — оставалась лишь сигналом начала новой стихотворной фразы» [Гаспаров 1984: 215]). Соответственно разнообразны и типы рифмовки в одном и том же тексте как у Холина: АБАААВГВГВГГ, так и у Введенского: ААББВБГГДДЕЕЕЕ. «Шокирующая» поэтика, конечно, гораздо более резка и очевидна у Холина, однако свойственна и обэриутам. Наконец, отметим тенденцию к деформированию семантических единиц в вышеприведённых текстах — в обоих случаях это происходит путём разрыва слова («членист он ог», «ни куда»), сохраняющего свою устойчивую семантику, однако приобретающего некое внутреннее смещение, незначительное изменение акцентов. Впрочем, роль поэтической работы с языком и разговорной речью для Холина и обэриутов, по всей вероятности, была различной. При сходных художественных приёмах заметны отличия в, скажем так, «расположении на местности»: для Холина поэтическое творчество постоянно сохраняет свою «непоэтическую» природу, осваивает эти внепоэтические территории, зачастую находясь на грани found poetry — прямых заимствований фраз или фрагментов текста из непоэтических источников. Трудно было бы сказать, что язык поэзии противостоит бытовому языку, является средством трансгрессии, высвобождения из тоталитарного языка советской эпохи через его отрицание — едва ли в стихотворениях Холина мы обнаружим такой романтический пафос. Эта поэзия рождена в рамках этого речевого поля и живёт, сохраняя с ним связь — в отличие от «зауми», «сдвигающей» ткань языка в поисках языка будущего, в расширении смысла. С этим связаны и серьёзные различия в образных системах Введенского и Холина: «поэтическая критика языка» обэриутов, проникновение в механизмы конструирования языка нацелены на вскрытие этих конструкций, на «чудесное» приближение к миру; мир как истинное поле смыслов, независимая реальность, выступает как ценность, трансцендентная языку. Стремление поэта прикоснуться к этой чистой бытийности отражается на построении системы образов: чудесное, божественное, ценное, нечто предельно контрастное по отношению к сфере обыденного постоянно встречается на страницах Введенского: 219 А. Володина <. . . > замолчи невежда! Мы море море дорогое понять не можем ничего прими нас милое второе и водяное божество как звери бегаем во мраке откинув шпаги мысли фраки в руке дымится банка света взгляни могущее на это на голове стучит венец приходит нам — пришёл конец [Введенский 1993: 121–122] Здесь уместно привести цитату из исследований В. Подороги о поэзии и философии ОБЭРИУ, где он писал о том, что «языковое наследие обэриутов представляется грандиозным опытом по неиспользованию языка» [Подорога 2011: 495]. В самом деле, здесь бытовой язык становится скорее отправной точкой, от которой отталкивается поэзия, а не тем «общим местом», в котором она обитает. Поэтому в поэзии обэриутов (а также поэтов-футуристов, использовавших ресурсы языка сходным образом) гораздо более ярко выражена игровая, комбинаторная интенция, намеренно «неправильное» использование языка. Рискнём предположить, что анализировать поэтические приёмы Холина с точки зрения правильного или неправильного использования языка вряд ли возможно — советский «обобществлённый» язык сам по себе обладает зачатками парадоксального, бессмысленного; его имена, появившиеся также в результате комбинаторных экспериментов, часто лишены своих денотатов или отсылают к фантазмам, иллюзиям, утопическим элементам. Холин исследует тот «атомный» уровень языка советского, где явным становится исчезновение жёсткой структуры правил и смысловых схем. Поэтическое движение по этим территориям общего не носит характер борьбы с той или иной знаковой системой, языком или идеологией, прорыва к глубинному, подлинному бытию и смыслу — это скорее ответ на деструктурирование этой языковой территории, инициированное самим языком советского общего, попытка уловить этот импульс. Возможность покинуть, остановить течение этого общего языка не становится задачей поэтического текста, коль скоро языковые общие пространства представляются единственной реальностью, в которой существует и говорит 220 Поэтика «общего места». . . субъект; гипотеза Введенского о том, что «кругом возможно Бог» невероятна в ситуации «общего места», из которой нет выхода — потому что в неё нет входа для исследующего, активного поэтического субъекта, способного оглянуться вокруг в поисках ценности и подлинности. В этом смысле, вероятно, поэзия Холина и шире всей «лианозовской школы» (в особенности это можно отнести к стихотворениям Яна Сатуновского, много писавшего об опыте Великой Отечественной Войны), — это, с известными оговорками, «стихи после Освенцима» (вспомним известный текст Т. Адорно). Опыт советской жизни — опыт безусловно травматический; травматический на уровне истории, обыденного, «общего» сознания, языка, субъекта. Тоталитарное и тотальное советское внесло глубочайшие антропологические изменения в подчинённое ему пространство мысли и речи — находясь в этом пространстве, уже едва ли возможно встать на нейтральную позицию абстрагирования и обратиться к нейтральному же метаязыку описания ситуации «общего советского» — в этом случае она перестанет быть общей и станет чужой. Отсюда невозможность говорить об общем как о целостности, не отменяющая многократные попытки Холина прибегнуть к «тотализующей» оптике — самым ярким примером здесь будет, безусловно, его объёмная поэма «Умер Земной Шар» и множество других, более компактных текстов, построенных на перечислениях объектов, персонажей, лексических единиц; зачастую эти перечисления не имеют логического (или даже хотя бы формально обозначенного) конца, который и невозможен при описании необозримой тотальности той реальности, в которой действует говорящий субъект. Невозможность выйти из общей ситуации становится причиной иронического отношения к трансцендентным величинам и метафизическим категориям — божеству, истине, культурным и моральным ценностям (и «шокирующей» поэтики Холина: «Главбух Иванов / Сидит / Как Бог Саваоф» [Холин 1999: 215]). Бессилие этой общей культурной ситуации к самоописанию и самосознанию стимулирует поэтическое исследование самого общего языка, которое всё-таки позволило бы найти для субъекта возможность говорить — говорить об общем и о личном, о «Я». Возвращаясь к формальным аспектам поэтики Введенского и Холина, заметим, что композиция текстов двух поэтов различным образом управляется языковыми особенностями и приёмами. Эксперименты Введенского с бессмыслицей часто принимают форму постепенного семантического сгущения, постепенной трансформации и дробления ритмических и метрических элементов. Подобный фрагмент мы уже приводили в ка- 221 А. Володина честве примера выше; в поэзии Введенского можно найти много случаев подобного дробления языковых и семантических единиц: <. . . > сосна шелестит кудрями ика ика гиль гиль гиль гиль солями шевелит морями БАНКА ТУЛЬ ТУЛЬ ТУЛЬ [Введенский 1993: 115] Сходный приём использует и Холин: текст, начинающийся с некоей вполне прозаической ситуации («Гражданин Ром / Пришёл / В ГАЗПРОМ»), постепенно распадается, превращаясь в семантически бессвязное письмо («Пёс квак / Человек пик / Рак / Шмяк» [Холин 1999: 156]). Однако он не менее часто обращается и к «обратному» приёму развития текста: начинаясь с бессмыслицы, крайней фрагментированности или «зауми», стихотворение заканчивается привычной естественной фразой или стройной метафорой («Ох / Ля / Чох / Бля / . . . Папе / В гестапо / Дали / Пилюлю / Пулю / От / Головной / Боли» [Холин 1999: 222]). Во многих случаях движение от бессмыслицы к семантической конвенциональности производит впечатление хаотического; начинаясь с лексической сниженности, заканчивается высокой лексикой (употреблённой в более или менее явном ироническом ключе) и наоборот. Небольшой цикл «Поп или конкрет стихи» весь состоит из таких хаотических скачков смысла/бессмыслицы, а также экспериментов над формой: от «прореженной» пушкинской цитаты «Я помню чудное мгновенье», лишённой нескольких слогов, до примера found poetry (или соответствующей стилизации), заимствующего текст объявления о приёме на работу. Так, в поэзии Холина пустоты, случаи бессмыслицы, повторы, всевозможные лексико-семантические «сбои» и фрагментации спонтанно возникают в самой языковой стихии, и эта спонтанность многократно подчёркнута на формальном уровне построения текстов. Язык поэзии, таким образом, — язык общий, высказывающийся об общем; высказывание о конкретном едва ли может перейти в модальность высказывания о личном. Находясь в лишённом смысловой и языковой иерархии контексте общего, оно теряет свою уникальность — вместе с уникальностью голоса автора, ставшего собственным персонажем. Субъект конституируется в социальном поле общего, однако ситуация стихотворения, в которой он появляется, не репрезентирует тотальность «всеобщего» как некую 222 Поэтика «общего места». . . целостность, эта ситуация всегда гетерогенна — и субъективное, и объективное ускользает от персонажа или от автора, который сам всегда (и неизбежно) включён в ситуацию. Его высказывание — это высказывание вопреки, высказывание, опережающее самое себя: вопреки невозможности сказать, он всё-таки говорит. Исследования оригинальных стратегий выстраивания поэтической субъективности в советской неподцензурной поэзии представляются важной частью исследования художественной работы с языком «советского» и с опытом переживания «советского»; сама природа этого опыта и языка становится причиной трансформаций субъекта поэтического высказывания, субъекта подвижного и динамического. Данная статья представляется одним из шагов к конструированию концептуальной сетки, с помощью которой возможно было бы уловить его специфику в динамике и развитии. Литература Айзенберг М. Точка сопротивления // Арион. 1995. № 2. С. 101–107. Введенский А.И. Полное собрание произведений в 2 т. Т. 1. Произведения 1926– 1937. М.: Гилея, 1993. 285 с. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М.: Наука, 1984. 319 с. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998. 288 с. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007. Кулаков В. Лианозово. История одной поэтической группы // Кулаков В. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 11–34. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы в 2 т. Т. 1. 1953–1968. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 413 с. Подорога В.А. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Том 2. Часть I. Идея произведения. Experimentum crucis в литературе XX века. А. Белый, А. Платонов, группа Обэриу. М.: Культурная революция, 2011. 608 с. 223 А. Володина Рабин О., Кропивницкая В., Маурицио М. «Никакой подпольной живописи у нас не было. . . » // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 284–286. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. 451 с. Хлебников В. «О стихах» // Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 633–635. Холин И.С. Избранное. Стихи и поэмы. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 320 с. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М.: Наука, 1972. С. 95–113. 4. Переводы и публикации А. Перри Экономическая, политическая и культурная роль русских (православных) миссионеров в Китае в 1689–1917 гг.* В статье американского исследователя русского происхождения Альберта Перри (Парецкого), опубликованной в 1940 г., рассматривается работа Русской духовной миссии в Китае (РДМК) на общем историческом фоне политического и экономического развития России, даётся нелицеприятная оценка деятельности РДМК, и главной причиной её относительного неуспеха называется характерная для России подчинённость государству церкви и религии (будь то православие или же пришедший ему на смену коммунизм). Впервые публикуемый перевод статьи сопровождён предисловием и комментариями автора публикации. Ключевые слова: Русская духовная миссия в Китае (РДМК), русско-китайские от* Перевод, предисловие и примечания О. Гринцевича. 225 А. Перри ношения, теория «торгового капитала», межрелигиозный диалог, историография, история. Предисловие переводчика Читателю предлагается перевод статьи профессора, специалиста по русской истории, основателя и какое-то время председателя Департамента русской истории Колгейтского университета Альберта Перри Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689–1917; Their Cultural, Political, and Economic Role. Родившись в Ростове-на-Дону, он застал Революцию, затем (в 1921 г.) эмигрировал в США, где сначала работал журналистом и даже сценаристом немых голливудских фильмов. С начала 1930-х Альберт Перри начал изучать историю в Чикагском университете, получил степень бакалавра, а затем и доктора наук (1935–1938 гг.). Прославился публикацией нескольких десятков книг, посвящённых разной тематике — от истории татуировок до истории реактивных самолетов и ракет, русского терроризма. Скончался в начале 1990-х в возрасте 92-х лет. В данной статье А. Перри обращается к истории Русской духовной миссии в Китае (РДМК) и, как в других своих трудах, посвящённых данной тематике1 , на первый взгляд старательно разбирая разные свидетельства, приходит к выводу, что члены Миссии проявили себя исключительно в роли торговых агентов и дипломатов (вернее, разведчиков и шпионов), да и то не очень успешно. На духовном же, культурном и научном поприще, по его мнению, они не достигли никаких результатов вообще. . . Следует заметить, что Перри не был одинок в таком подходе к истории и наследию РДМК. И в этом отношении он, на самом деле, лишь повторяет распространённую в 1920–1930-х гг. в СССР теорию «торгового капитала», в которой миссионерам отводилась роль «агентов капитала» и шпионажа в колониальной политике Российской империи. В те годы особенно ярко эту позицию отстаивали М. Барановский2 и некто Г.Л. И хотя Перри и делает вид, что изо всех сил спорит с представителями теории «торгового капитала» (или, как он их называет, «советскими авторами»), он, по существу, тоже только воспроизводит обвинения, направленные ими в адрес РДМК (в основном он опирается на Г.Л. и активно его цитирует). Такой подход, несмотря на весь разброс мнений, существовавших касательно наследия РДМК, вызвал неоднозначную реакцию и в научной, и в эмигрантской среде. Поэтому данная статья, как и другие работы Перри, посвящённые истории Миссии, не остались без критического внимания. Так, на1 См., например: [Parry 1938]. 1930]. 2 [Барановский 226 Экономическая, политическая и культурная роль. . . пример, В.П. Петров, занимавшийся историей русского эмигрантского движения на Востоке и историей Русской духовной миссии в Китае в частности, в своих трудах прямо критиковал Перри, обвиняя последнего, фактически, в подтасовке фактов [Петров 1956: 57, 91]. Тем не менее, в России даже сейчас, когда, не в пример советскому периоду, обо всех аспектах истории РДМК стало возможным говорить открыто, и несмотря на то, что стали появляться первые по-настоящему историографические работы по истории РДМК (например, С.В. Шубиной, обратившей внимание и на советских представителей «теории капитала», и на работы А. Перри), труды Перри по истории Миссии (и особенно данная статья), продолжают пользоваться популярностью, не подвергаясь при этом критическому осмыслению. В этом отношении перевод работы Альберта Перри «Экономическая, политическая и культурная роль русских (православных) миссионеров в Китае в 1689–1917 гг.» является важным шагом на пути критического осмысления, как наследия данного автора, так и некоторых источников, на которые он опирался. Кроме того, перевод продолжает серию публикаций, начатых с 6-го номера «Трудов РАШ»3 , посвящённых истории РДМК и межрелигиозным, межкультурным контактам, проходившим при участии её членов. Перевод выполнен Гринцевичем О.А. по тексту из архива JSTOR [Parry 1940]. Священники в роли дипломатов Обычные российские студенты, приписанные ради изучения китайского и маньчжурского языков к школе при Русской духовной миссии в Китае, временами выступали в роли царских осведомителей или дипломатов. Возникает вопрос: можно ли предположить, что миссионеры выполняли данные функции беспричинно? В действительности надо иметь в виду, что в отличие от протестантских проповедников русские священники получали плату от своего правительства. Следовательно, оно ожидало от них большего, чем простого служения делу спасения китайских душ или написания литературных очерков и научных монографий. Советские историки прямо обвиняют православных миссионеров в том, что те служили царскими шпионами в Китае. Защитники миссионеров занимают столь же противоречивую позицию, сколь грубым и огульным является мнение их противников. Так, заявление мисс Бредон, что русские священники в Пекине «не вмешивались в государственные 3 См. [Гринцевич 2009]. 227 А. Перри дела», не соответствует её же утверждению, что они часто «выполняли дипломатическую работу во благо обоих государств» [Bredon 1931: 523– 524]. Официальный историограф Миссии признавал эту работу обычной деятельностью миссионеров. Он заявлял, что несмотря на то, что РДМК занимала скромные позиции в китайской столице, она служила не только церкви, но и отечеству в целом, а «начальники миссии выполняли по временам дипломатические поручения» [Адоратский 1887 (июль): 311]. Миссия, по сути, представляла собой Российскую империю, а само присутствие духовенства, заявляет он, — «постоянно напоминало китайскому првительства о существовании дружественного и могущественного соседа» [Адоратский 1887 (февраль): 262]. Ещё в 1916 г. глава этого органа, отметив, что с 1712 по 1860 гг. православные миссионеры «выступали в роли официальных представителей русских властей, или. . . если выражаться более корректно, — выступали посредниками в переговорах между Россией и Китаем» [Innocent 1916: 678–679], откровенно подтвердил политическую сущность последнего. Таким образом, позиция американского историка, написавшего, что до 1860 г. «русские в течение многих лет поддерживали и дипломатическое4 , и церковное учреждение в Пекине» [Dennett 1922: 255], представляет собой не искажение фактов, а правильную историческую интерпретацию. Участие миссионеров в межгосударственных русско-китайских отношениях более отчётливо и полно прослеживается на протяжении приблизительно ста лет — с середины XVIII до сер. XIX вв. Первый серьёзный прецедент имел место, когда русские в 1870-х гг. заявили о своём праве на свободное передвижение по Амуру. Тогда священники во главе с арх. Амвросием Юматовым, руководимые обычными должностными лицами, приняли участие в переговорах по данному вопросу. Отец Амвросий пытался своей дипломатической работой помочь в споре российской стороне: «для российской славы и радости» и ради снятия напряжённости он потчевал китайских представителей угощеньем, а «нужнейших особ для всяких случаев» одаривал российскими товарами. Стоило это больших затрат и, по словам Адоратского, «это был первый опыт служения начальника православной миссии интересам русской дипломатии» [Адоратский 1887 (август): 426; Архангелов 1899: 23–24]. Такой образ действий по умиротворению китайских чиновников объясняет сложившееся положение, в котором, если цитировать западных друзей Миссии, «не было слышно ни слова упрёка в адрес русских миссионеров в том, что 4 Выделение 228 слова «дипломатическое» сделано цитируемым автором. — Прим. пер. Экономическая, политическая и культурная роль. . . последние строили козни» [Parker 1905: 241]. В действительности, священники, ублажая желудки и загребущие руки китайских чиновников, с которыми вели дела, всего лишь воспроизводили обычную практику умащать мёдом уста бога домашнего очага на китайский новый год, когда тот должен был отправляться с докладом на Небеса5 . Тем не менее, усилия отца Амвросия оказались настолько неумелыми, что в конечном счёте обернулись против его же соотечественников. Русские посчитали причиной неудачи решение Юматова в последний момент обратиться за помощью к католическим миссионерам, «которые по своему обыкновению оказались лицемерами» [Коростовец 1893: 63]. Однако православные священники утешили себя мыслью о том, что в результате их участия в споре «самая постановка и ведение их [ряда вопросов] ясно показали пользу пребывания в Пекине православной миссии и определили на будущее время пункты ея деятельности в этом направлении» [Адоратский 1887 (август): 425–426]. Китайцы же предприняли меры по предупреждению предполагаемой в будущем деятельности священников в дипломатическом ключе. Мисс Бредон утверждает, что «в течение нескольких лет в 1760-х гг., в связи с временным отчуждением, возникшим в русско-китайских отношениях, священники оказались заключёнными на территории Миссии» [Адоратский 1887 (август): 523]. Она пытается приуменьшить значение этих событий, характеризуя их «лишь как небольшую рябь. . . на гладкой поверхности отношений, существовавших между священниками и китайцами» [Адоратский 1887 (август): 523]. Хотя другим западным автором это заключение было описано более яркими красками: «китайцы захватили русских священнослужителей, проживавших в Пекине, и удерживали их в качестве заложников» [Martin 1847: 393]. Причиной конфликта стал отказ российского правительства осенью 1759 г. вернуть нескольких китайских перебежчиков на родину. Территория Миссии оказалась блокированной, были поставлены часовые, а прибитый к воротам текст содержал суровый наказ, запрещавший гражданам Поднебесной под страхом смерти даже пытаться войти внутрь [Адоратский 1887 (февраль): 257 n.; Адоратский 1887 (август): 448]. Китайские власти решили, что у них есть все основания считать российских священников враждебными или полувраждебными элементами (никак не друзьями, как они представлены у мисс Бредон), которых можно строго 5 А именно, с отчётом о поведении членов семьи за истекший год. Считалось, что таким образом можно задобрить или подкупить бога домашнего очага, дабы он представил жизнь семьи в хорошем свете. — Прим. пер. 229 А. Перри наказывать в случае возникновения напряжённости между Поднебесной империей и царским режимом. Обратите внимание, что арест длился не день или два, и не несколько месяцев, а (возможно, с некоторой натяжкой) несколько лет. Китайцы усмотрели связь между царским правительством и царскими священниками. Две названные силы, на их взгляд, действовали заодно, что дало повод обосновать арест священнослужителей, обратившись к освящённой веками китайской традиции, согласно которой за проступки отдельных членов отвечает вся группа. Русские священники почувствовали справедливость такого отношения и, по крайней мере на некоторое время, решили утихомириться. Поэтому члены 6-й Миссии, возглавленной отцом Николаем (Цветом), прибывшие в Пекин в начале осени 1771 г., были отобраны с величайшим тщанием. Им были даны указания вести себя осмотрительно, дабы, по словам официального историографа, избежать разногласий с китайцами, как те, что имели место на протяжении 1760-х гг. [Адоратский 1887 (сентябрь): 36]. Но спустя десять лет всякая осмотрительность была забыта. Прибывший в Пекин в мае 1782 г. глава 7-й Миссии арх. Иоаким Шишковский получил из Петербурга чёткие инструкции, выданные Коллегией иностранных дел и предписывающие архимандриту «приобретать полезные для отечества сведения» [Адоратский 1887 (октябрь): 212]. Китайцы тоже, в свою очередь, шпионили за миссионерами. В октябре 1798 г. арх. Софроний Грибовский жаловался в Петербург, что для этой низкой цели Пекин использовал прислугу миссионеров из числа китайцев [Адоратский 1887 (ноябрь): 309]. Царские дипломаты начинали всё больше и больше контролировать священнослужителей в китайской столице. В 1814 и 1815 гг. губернатор Иркутска Н.И. Трескин предложил смелый ход: назначить главой Миссии обычного чиновника. В Санкт-Петербурге, однако, ощущали, что это было бы слишком смелым шагом. Китайские власти разгадали бы этот ход и, несомненно, депортировали бы всех членов Миссии. В итоге было решено назначить бывшего мирянина, недавно рукоположенного в священники, который предположительно должен был оказаться более сговорчивым с представителями МИДа и сибирскими чиновниками. Следствием этого стало, что в 1820–1821 гг. Миссия получила в качестве нового архимандрита отца Петра Каменского, который с 1793 по 1808 гг. был обычным студентом в составе Пекинской Миссии, а с 1808 по 1819 служил переводчиком в Министерстве иностранных дел в Петербурге [Вагин 1872: 218–220; Можаровский 1886: 406]. 230 Экономическая, политическая и культурная роль. . . Теперь и малые, и большие вопросы, возникающие в жизни и работе православных священников, стали предметом озабоченности российского внешнеполитического ведомства. В 1820 г. Тимковский, являвшийся официальным представителем царя, заметил, что в двух русских церквях при Миссии некоторые иконы были «очень посредственно написаны китайскими художниками, которые неподобающим образом облачили их [святых] в свои национальные одежды»; он отрапортовал об этом в Петербург, и «министр иностранных дел дал приказание написать несколько новых икон, которые были направлены в Пекин в 1824 г.» [Timkowski 1827: 333]. Предписания заниматься шпионажем и подкупом давались православным священникам снова и снова. В апреле 1840 г. арх. Поликарп официально, хотя и тайно, был проинформирован своими властями, что от него самого и его подчинённых ожидают, что они завоюют доверие у тех лиц в китайском правительстве, которые, так или иначе, могут влиять на политический курс Цветочной страны6 . Таким же образом в мае 1849 г. призвали развивать отношения с пекинскими чиновниками и арх. Палладия. От него требовалось пользоваться любой возможностью для получения сведений, от которых могло бы зависеть состояние и развитие межгосударственных русско-китайских отношений, и немедленно передавать такие данные царскому двору. Официальный историограф Миссии свидетельствует, что эти указания исполнялись священниками должным образом и «не без ведома самих китайских властей». Однако тут же он добавляет несуразное замечание, будто «в глазах китайцев миссия наша не имела политического характера» [Адоратский 1887 (февраль): 257–258]. Это смягчающее обстоятельство почти полностью утрачивает значение в свете того факта, что о. Поликарпу было приказано Министерством запечатывать свои письма не официальной печатью Миссии, а личной, чтобы китайцы не принимали их за государственные бумаги, к содержанию которых испытывали любопытство [Коростовец 1893: 74]. Конец 1850-х гг. представлял собой решающий период в формировании российских интересов на Дальнем Востоке. Священники в Пекине были призваны сделать всё возможное для осуществления этих планов. Таким образом, под самый конец своей деятельности в качестве неофициальных царских дипломатов они выполнили самую важную и впечат6 «The Flowery Land (Kingdom)». Перри использует одно из довольно популярных и распространённых названий (наряду с такими самоназваниями, как «Срединное государство» или «Поднебесная империя»), дававшихся Китаю, по-китайски . — Прим. пер. ï 231 А. Перри ляющую работу — помогли своему правительству присвоить земли Приморья. Эти земли стали платой России за то, что она оказалась единственным другом Китая в сложившейся ситуации. Министерство иностранных дел отправило архимандриту в Пекин указ, датированный 21 февраля 1857 г.: «Представьте трибуналу [департаменту внешних сношений Китая], что в годину бедствий Китая западные державы, пользуясь его тяжелым положением, являются не только с угрозами, но с войною, которая уже разразилась в Кантоне. Одна Россия обращается к нему с посольством дружественным и даже готова оказать помощь, как нравственную, так отчасти и материальную, в оружии и артиллерийских снарядах состоящую и для внутренних врагов предназначаемую» [Попов 1927: 191]. Арх. Палладий должен был убедить Пекин принять посольство графа Путятина. Также он должен был информировать Санкт-Петербург о продвижении «внутренних врагов» — тайпинов. И прежде всего он должен был подготовить почву для принятия Китаем российских территориальных притязаний по Амуру. За границей должны были возникнуть сомнения относительно истинных функций православных священнослужителей в Пекине. Об этом 24 февраля 1857 написал в своём черновике царский посол в Вашингтоне барон Стекль7 , обозначивший таким образом официальную позицию русского Министерства иностранных дел: «Что же касается нашей духовной миссии в Пекине, — она совершенно лишена всякого политического характера» [Попов 1927: 190]. И тем не менее, практически в то же время тайные инструкции — пригрозить китайскому правительству «пагубными последствиями» в случае отказа в приёме Путятина8 — были направлены отцу Палладию [Попов 1927: 190]. Сам вопрос об эвакуации русских священников из метрополии на север, подальше от тайпинов, был решён не священниками, и не Священным Синодом, а в недрах внешнеполитического ведомства 7 Барон Эдуард Андреевич Стекль (1804–1892) — русский дипломат, с 1850 г. поверенный российского посольства в Вашингтоне, с 1854 г. постоянный представитель, известный переговорами с правительством США, проводившимися по поручению Александра II и завершившимися продажей Аляски. — Прим. пер. 8 Следует заметить, что графу Е.В. Путятину, которому в 1857 г. было поручено возглавить дипломатическую миссию в Китай с целью заключения торгового договора и получения разрешения на свободный въезд граждан Российской империи в Поднебесную, удалось попасть в неё не сразу. Совершив две неудачные попытки пересечь границу Китая, ему удалось проехать в Пекин только в составе международного посольства вместе с представителями Англии и Франции. — Прим. пер. 232 Экономическая, политическая и культурная роль. . . Санкт-Петербурга. Последнее издало приказ, сильно напоминающий тот, что будет отдан аккредитованным дипломатическим представителям по поводу исполнения их служебных обязанностей: «Не иначе оставлять Пекин, как когда уже будут истощены ею все средства к отвращению опасности и когда гибель, при дальнейшем пребывании, будет для всех явною» [Попов 1927: 184]9 . Насколько хорошо миссионерами исполнялась программа, разработанная в Министерстве иностранных дел, можно увидеть в типичном докладе арх. Палладия, написанном в июне 1857 г. Как одно из многих регулярных посланий, последнее было адресовано царскому внешнеполитическому представительству. В нём священнослужитель не только подробно рассказал о последних успехах тайпинов, но также одобрял и поощрял своих соотечественников оказывать давление на приморские провинции, предполагая, что основные проблемы Пекина заставят его уступить российской агрессии на севере: «Мне кажется, что здешнее правительство, внутренно сознавая невозможность удержать за собой спорную линию Амура, будет считать новую пограничную черту фактом, который, по духу китайской дипломатии, остаётся искусно избавить от огласки, прикрыв его благовидным молчанием с той и другой стороны, пока он, по праву давности, не сделается естественным и неоспоримым» [Попов 1927: 195]. В ином контексте уже было отмечено, что весной 1858 г. в качестве дипломатического посредника для графа Путятина отец Палладий совершил поездку из Пекина в Тяньцзинь и на море [Палладий: 201–206]. И примерно в то же время Перовский, посланник Министерства иностранных дел, был отправлен в Пекин для урегулирования вопросов сухопутной торговли с Китаем и прикомандирован к Русской духовной миссии [Попов 1927: 197]10 . В 1860 г., пользуясь поддержкой священников, генерал Игнатьев, выступая в качестве царского политического служащего, «умело вёл игру, сидя на двух стульях сразу», в результате чего его страна приобрела Владивосток — будущий порт и прилегающие внутренние районы: «он поде9 Можно, конечно, сказать, что это не обязательно указывает на политическую подноготную. Священники считались русскими подданными, и в этом качестве о них должно было заботиться Министерство иностранных дел. Тем не менее, очевидно, что Министерство относилось к ним не столько как к простым гражданам, сколько как к агентам, которые должны были остаться в Пекине до последнего. Обычных же подданных, как правило, эвакуировали при первой же возможности. — Прим. автора. 10 Видимо, имеется в виду В.Н. Перовский. — Прим. пер. 233 А. Перри лился с английскими и французскими послами полезной информацией, предоставленной Русской миссией; в Пекине же убедил китайцев, что его вмешательство спасло Империю от иностранной оккупации» [Brinkley: 1902: 50]11 . Именно в стенах Православной миссии генерал консультировал униженных маньчжурских государственных деятелей. Здесь и были взысканы «честные русские комиссионные» в виде приморских провинций. И именно архимандрит Гурий Карпов хлопотал в окружении генерала, выступая его неофициальным, но весьма полезным помощником. Откровенными и гордыми словами руководитель Миссии отец Гурий заявляет, что он «активно участвовал в знаменитом Пекинском соглашении 1860 г., по которому Россия получила Амурский край» [Innocent 1916: 681; Коростовец 1893: 78]. Вопреки тому, что говорят сентиментальные защитники миссионеров, святые отцы действительно вмешивались в дипломатические дела Китая, и не далеко не на пользу Китаю. Действительно, «присутствие в Пекине российской духовной миссии» подготовило «возможность открытия потом и светской» [Адоратский 1887 (февраль): 262]. Когда в 1861 г. первая постоянная дипломатическая русская миссия прибыла, наконец, в Пекин, тот факт, что дипломаты заняли Нань-гуань или Южное подворье, имел и практический, и символический смысл. Архимандрит со священниками полностью переехали в Бэй-гуань (Северное Подворье) — место, где впервые осели и построили свою церковь жители Албазина [Bredon 1931: 40; Коростовец 1893: 60 n.]12 . С этих пор они и стали теми людьми, которыми исключительно и должны были быть с самого начала — духовенством, пастырями 11 Автор добавляет: «Этот рассказ основывается на заявлении анонимного дипломата, получившего информацию от китайского чиновника во время дружественного обмена воспоминаниями за послеобеденным чаем. Это может быть правдой, поскольку не вступает в противоречие с тем, что говорят соотечественники о характере Игнатьева. Но так как по сути и первый проект Пекинского договора, представленный британскими и французскими посланниками, чётко предусматривал вывод иностранных войск в обмен на выплату контрибуций, трудно понять, как Игнатьеву подвернулась такая возможность, которой он, как говорят, воспользовался так умно». Конечно же, она ему представилась из-за паники, царившей у китайцев. — Прим. автора. 12 Албазинцы являлись заключёнными и перебежчиками, прибывшими в Пекин в 1685 г. Они и их потомки послужили поводом для присутствия Русской духовной миссии в Пекине. — Прим автора. 234 Экономическая, политическая и культурная роль. . . своих подопечных, богословами, занимающимися вопросами духа, а не политическими дрязгами. Священники в роли торговых агентов и разведчиков Но более важной работой, по мнению советских историков, чем осуществлявшаяся русскими священниками в Китае культурная и политическая деятельность, были выполняемые ими по распоряжению русского царя торговые поручения. Не будем торопиться принимать эту интерпретацию — следует помнить, что для марксистов экономический фактор в истории является основным. Всё вращается вокруг денег. Культурные, политические и все прочие феномены человеческого бытия рассматриваются марксистами как следствие и отражение стремления человека к своей экономической безопасности. Для московского историка они являются простыми листьями на дереве Капитала. Советский автор, касающийся вопроса Пекинской Миссии, отмечает, что купцы прошлых лет во всём мире предшествовали банкирам современности. Это, говорит он, особенно справедливо в отношении капиталистического проникновения в колониальные и полуколониальные страны. И, по его словам, именно этот ранний торговый капитал первым сделал церковь орудием капиталистов, жадных нажиться в этих экзотических странах. В итоге он приходит к тому, что называет православную Миссию в Пекине «коммерческой агентурой русского торгового капитала», предшественницей тех западных миссий, которые сегодня служат агентами и проводниками «интересов финансовго капитала интересов, являясь одним из орудий в борьбе с национально-освободительным движением колониальных рабочих и крестьян» [Г.Л.13 1932: 162]14 . Русские же священники, со своей стороны, утверждали, что деятельность их организации в Пекине всегда ограничивалась религиозной сферой и что она «никогда не увлекалась меркантильными целями» [Адоратский 1887 (февраль): 259]. Если иной раз они и выступали в качестве посредников в торговых сношениях между Россией и Китаем, духовен13 Г.Л. — псевдоним одного из советских авторов, стоявших в 1930-е гг. у истоков «теории», согласно которой все члены Миссии считались агентами, занимавшимися торговопромышленным шпионажем, ради которого последняя и была якобы учреждена. Настоящее имя этого «советского автора» до сих пор не установлено. — Прим. пер. 14 Советские авторы были первыми, стремившимися подчеркнуть деятельность миссионеров в качестве торговых агентов, но не первыми, кто об этом заговорил; см., например: Alexandre Ular. Un Empire Russo-Chinois. Paris, 1903. Chap. IX. — Прим. автора. 235 А. Перри ство ощущало, что работа эта заслуживает только похвалы, потому что даже в коммерческой сфере Миссия была движима чистым альтруизмом, «и в этом направлении ей удалось бескорыстно выполнить выдающуюся роль» [Адоратский 1887 (февраль): 260]. И действительно, в более старых записях обнаруживается, что с самого начала присутствия русской церкви в Пекине она на самом деле была связана с российско-китайской торговлей. Похоже, однако, что в ранние годы она была абсолютно свободна от внешнего давления. В 1695 г. русские купцы сообщили в Нерчинск, что, в соответствии с указом царя, они недавно были в Китае по торговым делам, и что в это время они неоднократно посещали новую освящённую церковь. Они описали церковь и устройство албазински поселений вокруг неё, но не привели никаких доказательств того, что единственный местный священник, отец Максим, оказывал им какую-либо помощь. Они везли в Китай сибирские меха, бархат, атлас, дамасский фарфор и товары из хлопка. Спиридон Лангусов был самым крупным торговцем, ездившим с таким караваном в Пекин и обратно. Ему и его людям китайские купцы в 1698 году дали понять, что караваны приходят слишком часто, а это приводит к снижению цен, и что лучше было бы как для русских, так и для китайцев, если бы караваны приходили только раз в год, а то и в два [Бантыш-Каменский 1882: 74]15 . Похоже, что торговцы двух империй понимали друг друга без церковного посредничества. Местная церковь, хотя и упоминаемая в сообщениях купцов, служила просто местом поклонения для ходивших с караванами русских [Бакланова 1928: 37–39]. Но даже если церковь и предстоятель не принимали непосредственного участия в коммерческих операциях, то прихожане не могли оставаться в стороне. Всякий раз, как прибывал очередной русский караван, албазинцам было чем заняться. С каждым караваном шло несколько сотен торговцев и их челяди, и «албазинцы вступали в живой обмен мыслями со своими соотечественнниками, руководили ими при знакомстве с китайскими купцами и при обоюдной мене товаров, водили по городу. . . 15 Бантыш-Каменский называет 1698 г., временем первой официально санкционированной сибирскими властями поездки Лангусова в Китай. Но это не означает, что то была его первая караванная поездка в Пекин. На с. 74–75 Бантыш-Каменский называет ещё следующие даты отправки русских караванов в Китай: 1698, 1699, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1711. Точные данные на 1698 г. отсутствуют. Коростовец утверждает, что первый частный торговый караван, принадлежавший русским купцам, был отправлен в Китай в 1668, а двумя годами позже первые китайские торговцы прибыли в Нерчинск. См. [Коростовец 1893: 57]. — Прим. автора. 236 Экономическая, политическая и культурная роль. . . наконец, вместе пировали и угощались с ними произведениями китайской флоры и фауны» [Адоратский 1887 (март): 343]. И несомненно, что разрешение на прибытие в Пекин первой Русской духовной миссии, выданное в 1712 г. императором Канси, было получено благодаря усилиям московского купца Григория Осколкова [Адоратский 1887 (апрель): 460– 469]. Были ли усилия Осколкова мотивированы религиозными причинами? Или он полагал, что священники смогут способствовать торговле? Ничто не говорит в пользу последнего предположения. А раз так, то едва ли обоснован смелый вывод историка-марксиста, будто отправка «Русской “духовной” миссии. . . явно прикрывала экономические интересы» [Покровский 1934: 12]16 . На самом деле, это было время, когда русско-китайская торговля начала испытывать трудности. Всё чаще раздавались жалобы, касавшиеся поведения российских торговцев в Пекине. Дорвавшись до столичных соблазнов, купцы и их челядь не знали меры: пьянствовали, затевали ссоры друг с другом и с китайцами, дрались и чинили насилие. Правительства обеих стран выражали недовольство таким положением дел [Адоратский 1887 (апрель): 479–480]. Конечно, каждой из сторон факты рисовались в особом свете и подсказывали разные решения. Маньчжурокитайское правительство желало свести к минимуму слишком тесное общение между его подданными и Северными варварами, а российские власти подумывали о замене частных торговцев государственной монополией. Лучшему пониманию роли священников в китайско-русской торговле восемнадцатого столетия может способствовать несколько замечаний, касающихся ведения торговли и ограничений, принятых правительствами двух стран. Пекин ввёл ряд ограничений на ввоз российских товаров, отдавая предпочтение ввозу европейских товаров, прибывавших через Кантон [Адоратский 1887 (апрель): 479]17 . Правительство же Петра и его преемников сделало ценную торговлю мехами государственной монополией: отправляющиеся в Пекин караваны теперь принадлежали исключительно царю. Монополизация самых прибыльных отраслей торговли была характерной чертой политики первых Романовых. Самодержец был главным купцом в своём государстве, и это «указывает на низкую ступень экономического развития страны и на близость её общественных отноше16 Эта конкретная статья была написана в 1913 г. — Прим. автора. датировка не может быть установлена, но складывается впечатление, что эти ограничения появились в первой четверти XVIII в. — Прим. автора. 17 Точная 237 А. Перри ний к общественным отношениям восточных деспотий» [Плеханов 1914: 257]18 . Китайцам же, как восточным людям, казалось вполне естественным, что царь сосредоточивает в своих руках всю русскую торговлю с Пекином. Они были вполне готовы сотрудничать с монополистом. Начиная с 1698 г. все торговые караваны, шедшие из Сибири в Китай, находились в ведении царских чиновников, но частным купцам было позволено их сопровождать [Бантыш-Каменский 1882: 519]. После 1712 г., чтобы поддерживать цены на меха, караваны оправлялись уже реже, чем прежде. Четвертая статья Кяхтинского договора (1727) разрешала отправку караванов, каждый числом не более 200 человек, раз в три года [Адоратский 1887 (май): 104 n.]. Три указа, вышедшие в течение следующего десятилетия и препятствовавшие работе частных русских предпринимателей в Китае, передали всю торговлю с Пекином в руки царских слуг. Действия последних, однако, были неэффективны и не способствовали развитию торговли. В то же время китайские чиновники вскоре стали чинить произвол и в отношении царских караванов, периодически запрещая их проход. Последний государственный караван был направлен в Пекин в 1755 году. Семь лет спустя Екатерина Великая издала указ, прекращавший отправки таких караванов. Вероятно, этим предполагалось убить двух зайцев: избежать осложнений с китайским правительством и укрепить русское торговое поселение в Кяхте, ставшее главным центром торговли с Китаем [Скальковский 1901: 547]. Монополии Романовых был положен конец, и русские купцы теоретически получили возможность свободной тоговли с Китаем. Они могли вести её по собственному усмотрению, как через Кяхту, так и снаряжая собственные караваны — при условии, конечно, соблюдения китайских законов и регулярной выплаты пошлины царю [Бантыш-Каменский 1882: 310]. Русские купцы из Иркутска и Кяхты, однако, жаловались на нехватку капитала, что являлось результатом непомерных поборов со стороны царских чиновников, и не стремились снаряжать новые караваны [Бантыш-Каменский 1882: 314]. Таково было состояние российскокитайской торговли бо́льшую часть восемнадцатого века. Впоследствии именно в этой связи подвергались критике русские православные священники в Пекине — как торговые агенты царя. На самом деле, на этот период не найдено никаких свидетельств в пользу того, что священнослужители участвовали в каких-либо коммерческих предприятиях в интересах Романовых. Конечно, это не отвергает в принципе возможности 18 Плеханов добавляет: «В древнем Египте первым купцом тоже являлся глава государства». — Прим. автора. 238 Экономическая, политическая и культурная роль. . . участия священников в торговых операциях. Такая возможность существовала и была слишком заманчивой и даже уникальной, чтобы сбрасываться со счетов: из-за постоянных торговых ограничений, вводимых как Пекином, так и Петербургом, караванов явно недоставало, и миссионеры часто оставались практически единственный каналом для свободного товарооборота между двумя странами. В 1727 году митрополит Тобольский при назначении нового архимандрита в Пекин предписывал «смотреть того, чтобы не набрал с собою, для своего обогащения, из купецких людей, от чего бы обители святой напрасного разорения не было» [Адоратский 1887 (май): 107]. Очевидно, такая практика была известна. Подобного рода ухищрения не исчерпываются этой конкретной формой. Купцов как таковых могли и не провозить контрабандой под видом домашней прислуги, но товары, доставляемые в Китай якобы для личного пользования священников, на самом деле предназначались для продажи. В 1763 году китайцы пожаловались, что курьер миссии лейтенант Иван Кропотов привёз с собой некоторое количество товаров на продажу под видом провизии и различных вещей для Миссии. На сей раз жители Поднебесной пригрозили выслать миссионеров, если такие злоупотребления не прекратятся [Адоратский 1887 (май): 453; Бантыш-Каменский 1882: 315–316]. В ряде случаев, тем не менее, продажа товаров духовенством была вполне законной. Время от времени российские власти слали в Пекин меха в качестве заработной платы для миссионеров, а последние получали от китайских властей специальное разрешение на продажу этого товара местным купцам [Бантыш-Каменский 1882: 314–315; Адоратский 1887 (август): 451–452; 1887 (сентябрь): 32, 39 и 40; 1887 (ноябрь): 303]. Священники также доказывали наличие у них предпринимательской жилки тем, что скупали земли, принадлежавшие солдатам, в основном албазинцам, причисленным к «знаменным» войскам. Но это было нарушением китайского законодательства и грозило как покупателю, так и продавцу уголовным преследованием, с конфискацией и земли, и денег, фигурировавших в сделке. В 1770 г. при попытке взыскать ренту с китайских арендаторов миссионеры столкнулись с серьёзными трудностями, исходившими от пекинских властей. Чиновники императора обвинили русских монахов в том, что Миссия хочет субсидироваться деньгами и товарами как от русского, так и от китайского правительства. Чиновники пригрозили конфискацией земель, но ограничились предупреждением и в конечном счёте оставили миссионерам их 239 А. Перри собственность [Адоратский 1887 (март): 337; 1887 (май): 115–116; 1887 (сентябрь), 498–499]. Подобное не делало чести русским миссионерам, при этом они не стеснялись обвинять в корыстолюбии католических священников: «иезуиты. . . ездили в качестве катайских торгашей по ярмаркам и продавали вывозимые в большом количестве из Европы чётки, образки и другие вещи. . . проповедуя Христа, иезуиты показали вопиющую корыстность своих меркантильных и других целей: имели множество заводов, фабрик, лавок» [Адоратский 1887 (апрель): 498–499]. Православные священники уверяли, что иезуиты отправляют всё неправедно нажитое в Рим папе. Занимая деньги у католических отцов, русские обвиняли последних в ростовщичестве. Правда или нет, но это обвинение служило иным русским удобным предлогом, чтобы не возвращать долги иезуитам. Так, в 1740 г. некто Лебратовский занял у епископа Поликарпа, пекинского иезуита, сумму, на русские деньги равную приблизительно 1 400 рублям, но не удосужился ни погасить долга, ни хотя бы предупредить католических священников о своём предстоящем отъезде в Россию [Адоратский 1887 (июль): 336; Бантыш-Каменский 1882: 253–254]. Русские миссионеры тоже иногда выступали в роли заимодавцев, но получали ли с этого прибыль — наверняка не известно. С учётом тогдашних нравов, однако, уместно предположить, что и православное священники, как и их католические собратья, не отказывались от процентов по таким кредитам. В любом случае они не расположены были отпускать должникам своим. В 1795 году арх. Софроний Грибовский одолжил 2 200 рублей китайцам, которые позже бежали, не вернув долга, и священник обратился к пекинским властям с требованием сполна возместить свои убытки [Адоратский 1887 (ноябрь): 303–304]. Итак, можно полагать, что в XVIII столетии священнослужители использовали свою деловую хватку исключительно в личных целях. Однако в последующем столетии она использовалась уже скорее во благо государства российского, чем ради их собственной наживы. Правила торговли между двумя странами изменились, и священники теперь действительно работали на царя, хотя работа эта велась не столь активно и не была настолько прибыльной, как это хотелось бы представить коммунистическим критикам Миссии. Снова необходимо отклониться от темы. Чтобы понять, какую роль выпадало играть священнику в китайско-русской торговле в XIX веке, нужно представить общую картину изменений в торговых отношениях между двумя империями. 240 Экономическая, политическая и культурная роль. . . Изменения происходили медленно. Во второй половине XVIII века торговля пушниной возвращалась в частные руки, вероятно потому, что теряла удельный вес, и царь уже не старался отстаивать свою монополию. Теперь он в основном получал средства от таможенных пошлин и золотодобычи. Какие-то колебания в русской государственной политике, конечно, имели место. Но как бы то ни было, вопреки или, может, благодаря им, пограничный город Кяхта продолжал расти. Всё известней и богаче становился этот город, с его ревущими верблюдами, проклинающими своих погонщиков, с нескончаемыми рядами чайных тюков, с улыбчивыми, хотя и не слишком честными менялами, с его флегматичными купцами, с шумными, свирепыми и преуспевающими таможенниками. В далёкой европейской России начали распространяться обычаи чаепития; деньги хлынули и в кошельки китайских производителей чая и купцов, сибирских посредников, и в государственную казну России. От 20 до 38 процентов доходов русских таможенных сборов давала граница с Китаем. Золото, серебро, шёлк, пряности — всё это тоже шло из Китая, в обмен на русские меха и ряд других товаров [Скальковский 1901: 548]. Какие же ещё товары могли в ту пору предложить русские Китаю? Импорт чая рос стремительно, и для поддержания торгового баланса иркутским и московским купцам приходилось подыскивать что-то ещё помимо пушнины. Возможно, вывозить в Китай русский текстиль? Не следует, однако, забывать, что в начале XIX века сухопутная торговля с Россией (как и заморская с Западом через Кантон) регламентировалась китайцами необыкновенно строго. Смешанная купеческая комиссия в Кяхте ежегодно утверждала ценовой список по каждому из пунктов русского экспорта. Лишь эти и никакие иные товары разрешалось обменивать на китайский чай. Деньги как средство обмена были под запретом. Заседала комиссия от одного до двух месяцев. Китайцы были неприступны, непонятны, непредсказуемы. Они практически диктовали условия, у русских не было ни единого козыря для отстаивания своих интересов или мало-мальского смягчения китайского произвола. Продать недавно произведённый на московских фабриках товар было труднейшей задачей, а тем более — склонить жителей Поднебесной к выгодным для продавца ценам [Г.Л. 1932: 163]. С годами в Китае не рос спрос на промышленные товары из России, в то время как торговые агенты царя предлагали всё более расширенный ассортимент. Мощным толчком к развитию российской промышленности послужила наполеоновская Континентальная блокада. Доступ к вывозимой из Англии текстильной продукции был перекрыт, и московитам 241 А. Перри пришлось самим наращивать ткацкое производство. По счастью, капиталом и природными ресурсами они располагали. К 1820 г. в России было 3 000 заводов с 170 000 рабочими; спустя десять лет число рабочих выросло до 240 000, плюс 4 000 управляющих. Первый сахарный завод был открыт в 1802 г.; к 1845 г. их было уже 206; ещё через три года — 340. В начале XIX столетия ежегодно производилось восемь миллионов пудов чугуна, а к 1850 г. выпуск этой продукции был удвоен19 . Текстильными и другими фабриками в больших количествах потреблялся хлопок. К 1850 г. в России было открыто 492 фабрики, выпускавших тонкое сукно [Рожков 190?: 141]. Первая торгово-промышленная выставка, состоявшаяся в Москве в 1831 г., вызвала прилив гордости и широкий общественный интерес. В Москве же русским Обществом промышленников открыт был первый магазин, торговавший произведёнными в России вещами, соответственно и названный «Русским», в противовес многочисленным французским, английским, голландским и прочим. Николай I поощрял развитие мануфактур, устраивал приёмы для владельцев фабрик и награждал их медалями [Ковалевский 1915: 378–387]. Но «крепостная Россия, с насильственно задерживаемыми в деревне натурально-хозяйственными порядками, не могла представлять собой рынка для столь бурно развивавшейся промышленности, — уже в конце 20-х годов внутренний рынок считался исчерпанным» [Г.Л. 1932: 165]20 . В результате взгляды русских промышленников и купцов обратились на Восток. Ограничения Кяхтинского договора их не устраивали, они требовали официальной поддержки, добиваясь открытия дверей в Китай и допуска на внутренний китайский рынок (пусть и со всей его зарегламентированностью), дабы обеспечить прибыль от своей деятельности. Тогда-то не без горечи вспомнили о Русской духовной миссии: «В наше время доступ в Китай или, точнее, в Пекин, открыт лишь для немногочисленных сотрудников Миссии, известных, за немногими исключениями, разве что своим пьянством и драками, а ни один из наших купцов так и не может ступить на китайскую землю» [Скальковский 1901: 549]. Миссионеров следовало активней использовать на благо родины: царь со своими министрами решил найти им применение на поприще торгового шпионажа. Коммерческая информация считалась китайцами государственной 19 Один пуд равен 40 русским фунтам. Один [английский] фунт равен 1,1 русского фунта. — Прим. автора. 20 Г.Л. ссылается на: М.Н. Покровский. “Константинополь” // Внешняя политика. М. (?), 1918. С. 21. — Прим. автора. 242 Экономическая, политическая и культурная роль. . . тайной, не подлежащей разглашению перед европейцами [Г.Л. 1932: 163]. Внешнеполитическое ведомство России начало поощрять священников завязывать знакомства с влиятельными пекинскими чиновниками, а царское казначейство снабжало Миссию деньгами для подкупа и взяток [Г.Л. 1932: 162]. Англичан рассматривали как наиболее опасных конкурентов: соответственно, ослабление финансового могущества Лондона было главной задачей русских миссионеров. При дворе Николая I «встречалось немало желающих выбить англичан из Китая» [Покровский 1934: 12]. И русские священники в Пекине должны были способствовать русскому протекционизму в его борьбе против британской свободной торговли. Первые сообщения русских миссионеров о торговой конъюнктуре в Китае датируются 1836 г. 15 июня этого года арх. Вениамин Морачевич информировал министра иностранных дел о падении в Китае цен на вещи зарубежных производителей: «Китайский аршин21 нашего нашего плису с трудом продается по 2 чина серебра22 ; им завалены все большие и малые лавки; сукна наши, коих аршин стоит около 6 чин серебра, с трудом. . . находят себе покупателей по 3 чина» [Г.Л. 1932: 165]23 . Падение торговой активности архимандрит объясняет рядом причин, в том числе возрастающей конкуренцией с западноевропейскими товарами, неурожаями в Китае за последние пять лет, и даже недородами в России. Эта последняя причина, несмотря на то, что она, на первый взгляд, к делу не относится, тем не менее была поддержана современным советским исследователем, который заостряет внимание на том, что неурожаи в России снижали потребительский потенциал внутреннего рынка, в результате чего русские промышленники, снижая цены на свою продукцию, перенасытили Восток [Г.Л. 1932: 165]24 . Отец Вениамин предла21 Русский аршин равен 28 дюймам. Чин — китайская монета, вес которой составлял от девяти до двадцати восьми унций. — Прим. автора. 22 Более детальное обсуждение истории и стоимости монет старого Китая см.: Hosea Ballou Morse. The Trade and Administration of China (revised ed.). London, 1913. P. 122–124. — Прим. автора. 23 Вообще, до начала XX в. основной денежной единицей в Китае был серебряный лан, или, точнее, лян. Для более крупных платежей существовали также серебряные слиткиямбы (yuanbao) весом до 50 лян. В сельской местности хождение имели древние медные монеты — яни. Были широко распространены банкноты и монеты различных иностранных государств. Юани начали выпускаться в виде серебряных монет в 1835 г. Однако и лян не выходил из обращения. В лянах исчислялись таможенные пошлины (до 1930 г.) и налоги (до 1933 г.). — Прим. пер. 24 Г.Л. отмечает, что в первой половине 1830-х гг. Прохоровская мануфактура в течение 243 А. Перри гает вполне разумный метод выправления ситуации: «Для поддержания выгоднейшего сбыта на Кяхте наших фабричных произведений весьма полезно было бы умерять их отпуск» [Г.Л. 1932: 165]. Сукно не должно быть основным предметом российского экспорта. Священник обращает внимание соотечественников и на другие возможности, которыми до сих пор пренебрегали: «Судя по дорогим ценам зеркал, сюда из Кантона доставляемых, весьма было бы также выгодно отпускать в Китай и от нас оные. . . Полуаршинные. . . весьма идут к здешним туалетам. . . Пропорция в них вышины и ширины предпочитается квадратная» [Г.Л. 1932: 164]. Очевидно, к его совету прислушались. В 1843 г. в Кяхте было продано русских зеркал китайским купцам на сумму в 9 555 рублей; в 1848 г. эта цифра достигла 32 840, то есть увеличилась втрое25 . Однако в 1840-х годах текстиль оставался основным товаром в Кяхте. Министерство иностранных дел отправило в Пекинскую миссию образцы хлопчатобумажных изделий, запрашивая миссионеров, будут ли пользоваться эти товары спросом. По поводу некоторых образцов ситцевых тканей с рисунком арх. Поликарп Тугаринов 14 июля 1843 г. написал министру: «Они вполне удовлетворительны достоинством и шириной ткани и в последнем отношении представляют даже значительное преимущество перед английскими. Цвета же и рисунки ниже требований китайцев» [Г.Л. 1932: 164]. Далее отец Поликарп говорит о том, как западные торговцы, особенно британцы, умело подстраиваясь под вкусы китайцев, успешно продают дешёвые, непрочные, но изящного узора ситцы, простые и набивные. Это обстоятельство заставляет автора усомниться в будущем русской торговли текстилем в Срединной империи: «потребность Китая в русском ситце всегда будет составлять предмет второстепенный»; всё же он выражает надежду на оживление торговли более грубыми разновидностями ситцевых тканей из России, а именно миткалями, крашеными и некрашеными, «потому что употребление их китайцами, несомненно, трёх лет терпела убытки, конкретно в 1831–1832, 1832–1833, и 1835–1836 гг., и говорит, что это были три неурожайных для России года (он цитирует работу Рожкова из 6-го номера журнала «Историк-марксист») — Прим. автора. 25 Приводя эти данные, Г.Л. опирается на подсчёты МИД. Цен на зеркала — как большие, производившиеся в Петербурге, так и малые, «мелешкинские» — в Русском магазине в Москве касается Ковалевский: «Как правило, все зеркала очень аккуратны, дают точное отражение и продаются по весьма разумным ценам» [Ковалевский 1915: 382]. — Прим. автора. 244 Экономическая, политическая и культурная роль. . . обширнее», и для русского товара, вероятно, ещё достанет места наряду с британским [Г.Л. 1932: 164]. Знаменательно, что этот анализ рынка был подтверждён цифрами, приводимыми в министерских подсчётах по русской торговле в Китае. Миткаль продавался во всё возрастающих объёмах: от 1 475 рублей в 1843 г. и 2 217 в 1844 г., до 5 091 рублей в 1845 г. и 14 560 в 1846 г. В 1847 г. цифра достигла 46 567 рублей [Г.Л. 1932: 164–165]. Это было началом российского экономического наступления на Восток, позднее в некоторых источниках названного «ситцевым империализмом» [Покровский 1934]. Однако сбыт лучших образцов ситца долгое время оставался ограниченным. Несмотря на то, что в 1845 г. царское правительство установило даже специальную вывозную премию (щедрая плата за торговлю с Китаем!) — шесть рублей с пуда этих тканей, к 1852 г. их продажи едва достигли 13 845 рублей [Г.Л. 1932: 165]. Успешней продавался на китайском рынке русский вельвет («род полубархата»): к 1852 г. его доля составляла 70 % от продажи всех русских тканей в Поднебесной. В Северном Китае был хороший спрос на драдедам («дамское сукно») — лёгкое сукно полотняного переплетения. Цена на шерстяную ткань российского производства, так называемого «мизерицкого (мезерицкого) сукна», оказывалась на китайском рынке на одиннадцать процентов дешевле конкурировавшего бельгийского сукна соответствующего сорта [Г.Л. 1932: 164]. Название этой ткани дал город Вельке Мезиржичи в Силезии26 , где она впервые была изготовлена немецкими производителями. Поначалу русские продавали китайцам и другим восточным народам импортируемое ими самими мизерицкое сукно, но после 1822 г., когда царём был утверждён запретительный протекционистский тариф, московские фабрики сами освоили выпуск данной ткани [Покровский 1934]. С распространением действия тарифа и на Царство Польское, некоторые прусские промышленники перенесли свои фабрики в Россию, чтобы сбывать сукно русским, а через них — китайцам [Kornilov 1916: 267]. Прибыль была значительна, но 2 мая 1844 г. арх. Поликарп предупредил официальные лица в Петербурге, что такое успешное положение долго не продлится. Он привлёк внимание к Нанкинскому договору, дававшему определённые коммерческие преимущества британцам, и указал соотечественникам на возможность более прочных торговых связей с Западным Китаем. В 1850-х гг. завязалась масштабная российская торговля с Китайским Туркестаном [Г.Л. 1932: 26 Velké Мeziřı́čı́ в Моравии, известный своей сукновальной промышленностью. — Прим. пер. 245 А. Перри 163], чему способствовал Кульджинский договор 1851 г. [Скальковский 1901: 552] Важнейшую тему переписки пекинских священников с петербуржским Министерством составлял, конечно же, чай. Он был не только главным продуктом китайского экспорта в Россию, но и служил также основным заменителем денег, как когда-то пушнина. Православное духовенство, расквартированное в Пекине, помимо прочего, должно было сообщать своему внешнеполитическому ведомству о маршрутах передвижения в Кяхту китайских караванов с чаем. Эта информация была необходима российским купцам по двум причинам: с одной стороны, они хотели знать себестоимость чая, включая его перевозку, чтобы устанавливать выгодные цены на собственные товары; с другой стороны, они не оставляли надежды получить у китайских властей разрешение проводить караваны не только в Пекин, но и дальше, к местам чайных плантаций. Для этого и требовались точные данные о местоположении последних и маршрутах передвижения чайных караванов. 17 января 1843 г. МИД России проинформировало графа Канкрина, известного министра финансов при дворе Николая I, что пекинские священники отследили пути доставки чая в Кяхту: из провинции Фуцзянь до Шанхая, затем морем до Тянцзиня, где чай перегружали на мелкие суда, идущие вверх по реке Байхэ27 до Тунчжоу28 . Отсюда его караванным путём отправляли через Калган29 в Кяхту. В начале 1850-х гг., по донесениям арх. Палладия, этот морской путь заменяется целиком сухопутным. Такая перемена была вызвана тем, что власти Китая обложили водные пути непомерными таможенными пошлинами [Г.Л. 1932: 163]30 . Священники также внимательно следили за тем, какое воздействие оказывают на оборот чая внутренние беспорядки, происходившие в Китае. 9 марта 1853 г. отец Палладий, используя симпатические чернила, строго конфиденциально сообщал: «По слухам из Калгана, неблагопри27 Байхэ или Пейхо — короткий отрезок реки Юндинхэ («реки вечного спокойствия»), протекающей в Северном Китае и являющейся одной из семи крупнейших притоков Хайхэ — крупнейшей реки, образующейся при слиянии Байхэ, Вэйхэ, Цзыяхэ и Дацинхэ и протекающей через провинцию Хэбэй и Пекин. — Прим. пер. 28 Город Тунчжоу, у Перри «Tian-Chjo (Tungchow)», ныне район Пекина. — Прим. пер. 29 Калган (кит. Чжанцзякоу) возник и развивался как пограничная застава на Великой Китайской стене. Представлял собой главные ворота в Китай из Внутренней Монголии. В конце XIX в. здесь возникла колония русских чаеторговцев и именно через Калган прибывали в Китай русские посольства и купцы из Кяхты, представлявшей собой конечный пункт Сибирского тракта. — Прим. пер. 30 Г.Л. полагает, что это произошло «не без влияния Англии». — Прим. автора. 246 Экономическая, политическая и культурная роль. . . ятное влияние современных беспокойств в Китае на торговые обороты делается всё более и более ощутительным. Китайские купцы, торгующие на Кяхте, понесли убыток на 2 000 000 лан (4 310 000 руб. сер.) по случаю разорения инсургентами [тайпинами] торговой слободы Ханькоу и ограбления тамошних торговых домов, на которые купцы имели векселя. Из 200 000 ящиков чая, заказанных для Кяхты, доселе прибыла в Калган половина; о следовании же остальных партий чая ничего положительного неизвестно. Полагают даже, что, по случаю беспокойств на юге Китая, редкие из купцов в нынешнем году решатся сделать заказы чая в Фу-Цзянь, и потому к будущей [?] едва ли можно ожидать привоза новых чаёв. Наведенный мятежниками страх на всё пространство, прилегающее к низовью великого Цзяна [Янцзы], делает то, что транспорты уже перестали ходить через Хочуанскую провинцию [Хунань?]. . . Мало вероятно, чтобы шансийские купцы решили в столь смутное время рисковать своими капиталами» [Г.Л. 1932: 163]. Результаты договоров, последовавших за первой и второй Опиумными англо-китайскими войнами и Восстанием тайпинов, способствовали снижению роли Кяхты как главного центра торговли с Китаем. Чай стал поступать в Россию по морю. Его перевозили на британских кораблях из Кантона в Санкт-Петербург и другие балтийские порты России, где он продавался по более низким ценам, чем доставлявшийся через всю Сибирь кяхтинский чай31 . Таким образом, предупреждения священников об «угрозе из Кантона» сбылись. Советский комментатор отмечает «неплохое уменье монахов разбираться в экономике русско-китайских отношений» [Г.Л. 1932: 163]. Соглашения 1858 и 1860 гг. открывали путь в Китай не только западным дипломатам, консулам и торговцам, но и российским. С этого времени и китайские торговцы проложили путь через Сибирь на запад — на ярмарки Нижнего Новгорода, Москвы и Петербурга. Тогда же консулы Цветочной страны появились в городах Российской империи и начали, в свою очередь, отсылать на родину свои соображения о перспективах 31 В 1823 г. Александр I запретил импорт чая через европейские границы Империи и порты, там расположенные, но Александр II отменил этот указ. Скалковский пишет, что в 1860-х гг. русские купцы горько сетовали на отмену указа, однако считает, что эта мера была справедливой и необходимой: «Власти России на протяжении многих лет поддерживали Кяхту, но в конце концов отказались держать вечную монополию ради обогащения лишь нескольких крупных торговцев, которые продавали русские товары в Китай по ценам ниже московских и создавали дефицит за счёт русских потребителей» [Скальковский 1901: 548]. — Прим. автора. 247 А. Перри русско-китайской торговли. В 1896 г. Ли Хунчжан во время памятного визита в Россию на коронацию Николая II останавливался в Москве в доме Перлова, одного из богатейших российских чайных купцов [Покровский 1934: 388–389]. Православные священники выполнили свою задачу, и в их посреднических услугах уже не нуждались. Заключение Каков же был общий результат миссионерской деятельности русских священников в Китае за двести с лишним лет? С духовной и культурной точки зрения Миссия полностью провалилась. Причины ясны. Русское духовенство в целом никогда не отличалось глубиной богословской мысли или научных изысканий. Исторически сложилось так, что средства к существованию православные священники регулярно получали из царской казны практически по умолчанию, как и другие почести и поощрения со стороны как правящего класса, так и невежественных масс. Русскому духовенству недоставало стимулов для того, чтобы углубляться в толкование божественного откровения или способствовать развитию искусств и наук. Веками его положение оставалось неизменным, не требовалось никаких особых духовных либо интеллектуальных усилий для поддержания престижа православного духовенства, не говоря уже о его повышении. Гибельным для православия было не только то, что «оно предполагало слишком обширный набор узко национальных черт», но также, и это важнее, — его «откровенное раболепие перед светскими властями» [Hayes 1936: 439]. Слишком полно русская церковь захвачена была услужением государству. «Живая связь веков русского православия была прервана светской властью ещё XVII в.» — как раз тогда первые русские миссионеры направились в Китай, — и в конечном счёте «русская религиозная традиция лишилась твёрдости и стойкости. . . и не могла уже постоять за себя» [Milyoukov 1905: 549]. Неудивительно поэтому, что в течение двух с лишним веков священники оставались отчуждены от подлинно духовных страстей, но зато увязали в земных. В Китае их духовный провал был неизбежен. Фиаско обусловили не просто невежество, изоляция или даже скверный пекинский климат, которым пытались оправдать меланхолию и пьянство священников. И не только соперничество со стороны иезуитов и других католических миссионеров. Главная проблема, как это ни парадоксально, заключалась в том что между Цветочной страной и Империей Романовых налицо было 248 Экономическая, политическая и культурная роль. . . фатальное сходство. «Православная церковь душила все истинные религиозные чувства массой церемоний и детально разработанных ритуалов, параллели которым можно найти только в Китае» [Ogg 1925: 52], — вот сходство, послужившее камнем преткновения для русских. Оно выражало губительное для духа положение дел в обеих странах: как в Китае, так и в России церемонии и ритуалы насыщали молящегося поверхностной и внешней красотой, почти не оставляя места для развития внутреннего религиозного чувства. Китайские религиозные церемонии были делом национальной привычки, а не отражением глубоко прочувствованных убеждений. Нечто подобное было актуально и для России. Для Китая принять православия означало бы принять скорее чужой национальный дух, чем новую религиозную веру. В той и другой стране церемонии не помогали религиозному чувству — они его душили. Поэтому ни русские, ни китайцы не могли здесь предложить ничего, что одни могли бы перенять у других. Заимствуют только то, что жизненно необходимо. Неудивительно также, что русское духовенство не проявило себя и на учёном поприще. Научный вклад миссионеров, сдаётся, переоценен. Вот как пишет о католических священниках, проповедовавших в доколумбовой Америке, один вдумчивый исследователь: «Едва ли можно доверять тому, что миссионеры в целом руководствовались научными интересами; тот факт, что они сумели сохранить определённый объём научного материала (зато ещё больший — уничтожить), было лишь сопутствующим обстоятельством в их основной деятельности» [Keller 1908: 301]. Это верно и в отношении православных священников на Востоке. По сравнению с католическими, они оказались куда менее привлекательны и космополитичны. Их обременял груз национальной принадлежности, печать которой они на себе несли. А Россия, чьими типичными сынами они являлись, большую часть того периода, который мы здесь обсуждаем (1689–1917 гг.), далеко не шагала в авангарде мировой науки. Но если появление православия в Китае не означало никаких особых улучшений ни для него самого, ни для мира в целом, можно ли сказать, что оно принесло вред? Русские миссионеры, как представляется, попытались без всякой подготовки, без учёта чаяний и интересов самих китайцев, навязать им христианство. Новоявленное учение, однако, в том виде, в каком оно подавалось, никоим образом не затрагивало жизненного уклада и законов Поднебесной. Критики Миссии подчёркивают, что русские священники не проявили себя ни катехизаторами, ни учёными: слишком увлечены они были другой игрой, по иным правилам, тоже далеко не бесхитростным, а именно продвижением россий249 А. Перри ских государственных интересов в ущерб китайским. Насколько обосновано утверждение советского исследователя, что в лице Миссии царское правительство имело «не плохо организованную, под мантией религии, систему не только политического, но и экономического шпионажа» [Г.Л. 1932: 166]? Думается, ошибкой было бы безоглядно принять на веру современные советские представления о священниках Миссии как царских шпионах «маккиавеллиевского» типа. Возможно, они и были своего рода шпионами, но совсем не в духе Маккиавелли. Им не хватало спокойного, уверенного профессионализма, каковой обычно связывается с практической реализацией политической философии великого флорентийца. Кроме того, на протяжении всего XVIII в. они сталкивались с куда большим, чем ожидалось, противодействием со стороны китайцев, «поскольку в то время правил сильный император Хунли32 , при котором даже иезуитам пришлось опустить головы и затаиться, что уж говорить о вышеупомянутых неискушённых [российских] архимандритах, не имевших никаких серьёзных возможностей творить историю, пусть даже они и были не прочь вмешиваться в политику» [Parker 1905: 238]. И позже «они не показали себя гениальными интриганами в Китае, даже если и проявляли некоторые склонности к этому» [Parker 1905: 241]. Не зря в пору Тайпинского восстания отца Палладия нетерпеливо подстёгивало внешнеполитическое ведомство, требуя «оставить прежнюю систему нерешительности при сношениях с китайскими властями» [Попов 1927: 190]. Важно также учитывать, что экономические достижения Пекинской миссии держались на высоте лишь относительно короткое время. Как уже отмечалось, в течение XVIII в. у русских миссионеров не было ни особой охоты, ни возможности для вмешательства в торговые отношения двух стран. Активизация их деятельности занимает недолгие полтора десятилетия или около того, между 1836 и 1860 гг. Применительно к этому периоду советская оценка абсолютно верна. Но даже и тут советскими авторами рисуется порой превратная картина, будто священники только и делали, что отстаивали экономические интересы своего правительства, в ущерб прочим своим обязанностям. С учётом консерватизма 32 У Перри K’ien-lung. «Цяньлун» — тронное имя (девиз правления) императора Айсиньгёро Хунли (25 сентября 1711–7 февраля 1799), шестого маньчжурского монарха династии Цин, правившего 59 лет (1736–1795, одно из самых долгих царствований в китайской истории). Четвёртый сын Айсиньгёро Иньчжэня, правившего под девизом «Юнчжэн», он был, как и отец, жёстким, настроенным достаточно националистически, политиком, поддерживавшим идею «закрытия» Китая, успешным воином. — Прим. пер. 250 Экономическая, политическая и культурная роль. . . российского духовенства нетрудно представить себе православных миссионеров в Пекине как этаких бар, добродушных, но неповоротливых, а то и вовсе застывших в тоске, которые к своей работе относятся как к Божьей каре или наложенному царём наказанию, в лучшем случае рассматривают назначение в Миссию как синекуру, но никак не видят себя авангардом территориальной и коммерческой экспансии Романовых на Восток. Выказав достаточную компетентность при написании регулярных донесений об обстановке в Китае в мирное время, они были выбиты из колеи таким кризисом, как Восстание тайпинов. В событиях 1860 г. главная роль на самом деле принадлежит генералу Игнатьеву, который добился для своего правительства важных уступок от Китая в качестве платы за своё посредничество между Поднебесной и западными странами. Священники Пекинской миссии служили не более чем помощниками генерала. Едва ли уместно говорить о недооценке либо переоценке их роли, она воспринимается по-разному вследствие разнонаправленных подходов, благожелательных либо наоборот. Но возникает ещё один вопрос. Насколько греховным можно посчитать содействие миссионеров своему царю и его генералам в дипломатической игре и торговых операциях? Критикуя священников за то, что те занимались явно не своим делом, не пытаются ли современные комментаторы из Москвы вынести приговор слишком уж в современном ключе? То, что может показаться неуместным людям двадцатого столетия, представлялось совершенно законным их прадедам, и точно так же то, что кажется правильным сегодня, грядущим поколениям может показаться смешным и возмутительным. Церковь в России, как и в Западной Европе, какое-то время составляла часть государства. Для церкви считалось нормальным быть неотъемлемой частью государства, как прежде — находиться ниже либо выше него. Считалось также нормальным и даже похвальным, чтобы церковь выполняла какие-то поручения государства, а последнее, в свою очередь, обслуживало нужды церкви. Абсолютно нормальным считалось, чтобы миссионеры готовили почву для экспансии своего государства. Современникам это может показаться безнравственным, но с точки зрения наших предков такая подготовительная работа была в порядке вещей. Каждый век знает своих миссионеров, хотя и не всегда под этим конкретным именем. Таких миссионеров оппоненты запросто могут заклеймить лицемерами или, во всяком случае, осудить их использование государством как бесчестное. Так получилось и у советских критиков царских миссионеров. Но разве сами Советы чисты от греха миссионер251 А. Перри ства? Разве [М.М.] Бородин в 1920-е гг. не призывал мировую революцию в Китай? И «отцы», и «товарищи» одинаково стремились привить угнетённым массам Китая идеи, исповедуемые доминирующим соседом. Коммунисты, конечно, возразят, что подобные аналогии неуместны, поскольку никакое религиозное чувство никогда не было и не будет им свойственно. Коммунизм — наука, а не религия, говорят они. И тем не менее, даже изложенная в новейших экономических терминах и названная наукой, религия не перестаёт быть религией. Со своей нетерпимостью, громадьём своих планов и последователей, коммунизм является верой. Коммунизм — религия нового русского государства, причём позиции её покрепче будут, чем у православия в царской России. Непомерная ненависть коммунизма к совершенно ослабшей Православной церкви, непомерно крутые меры, предпринятые против неё коммунистами, лишь высвечивают тот факт, что коммунизм — преемник и конкурент старорежимной церкви. Его страх, его ревность, его схожесть с последней — именно они обусловливают критику советских авторов в адрес Русской духовной миссии в Китае. С этими оговорками и замечаниями, ваш покорный слуга, тем не менее, считает, что по вопросу Пекинской миссии советские историки заблуждаются меньше, нежели защитники миссионеров. Литература Адоратский, о. Николай. Православная миссия в Китае за 200 лет ея существования: Опыт церковно-исторического исследования по архивным документам. Казань, 1887. 367 с. Адоратский, о. Николай. Православная миссия в Китае за 200 лет ея существования // Православный Собеседник. Казань, 1887 (февраль–ноябрь). Архангелов С.А. Наши заграничные миссии: Очерк о русских духовных миссиях. СПб., 1899. Бакланова Н.А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. // Очерки по истории торговли и промышленности в России в XVII– начале XVIII столетия. М., 1928. Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с 1619 по 1792 год. Составленное по документам, хранящимся в Московском архиве Государственной коллегии иностранных дел, в 1792–1803 году. Казань, 1882. 252 Экономическая, политическая и культурная роль. . . Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. Т. 1–2. СПб., 1872. Г.Л. Пекинская духовная миссия и русско-китайская торговля в 30–50 гг. XIX в. // Красный архив. 1932. № 4 (53). Ковалевский М.М. (сост.). Хрестоматия по русской истории. Т. 3. М., 1915. Коростовец И.Я. Русская духовная миссия в Пекине // Русский архив. 1893. № 9. Можаровский А. К истории нашей духовной миссии в Китае // Русский архив. 1886. № 7. Палладий, арх. (Кафаров П.И.) Переписка начальника Пекинской духовной миссии архимандрита Палладия с Генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым / Сообщ. В. Крыжановский // Русский архив. 1914. № 10. Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. Т. 1. М., 1914. Покровский М.Н. Константинополь // Внешняя политика. Москва (?), 1918. Покровский М.Н. Русский империализм в прошлом и настоящем // Империалистская война. Сборник статей. М., 1934. Попов А.Л. Царская дипломатия в эпоху тайпинского восстания // Красный архив. 1927. № 2 (21). Рожков Н.А. Прохоровская мануфактура за первые 40 лет ее существования // Историк-марксист 6. М., 1927. С. 108. Рожков Н.А. Экономическое развитие России в первой половине XIX века. СПб., 190?. Скальковский К.А. Внешняя политика России и положение иностранных держав. 2-е изд. СПб., 1901. Bredon, Juliet. Peking; A Historical and Intimate Description of Its Chief Places of Interest. 3rd ed. Shanghai, 1931. Brinkley Е. China, Its History, Arts and Literature. Oriental Series, XII. Boston, 1902. Dennett, Tyler. Americans in Eastern Asia. New York, 1922. Hayes, Carlton J.H. A Political and Cultural History of Modern Europe. Vols. 1–2. New York, 1936. Innocent, Archimandrite. The Russian Orthodox Mission in China // The Chinese Recorder and Missionary Journal XLVII. Shanghai, 1916. Keller, Albert Galloway. Colonization: A Study of the Founding of New Societies. Boston, 1908. Kornilov, Alexander. Modern Russian History, trans., Alexander S. Kaun. New York, 1916. Martin, Robert Montgomery. China; Political, Commercial, and Social. London, 1847. Milyoukov, Paul. Russia and Its Crisis: Crane Lectures for 1903. Chicago, 1905. Morse, Hosea Ballou. The Trade and Administration of China. Revised ed. London, 1913. 253 А. Перри Ogg, David. Europe in the Seventeenth Century. London, 1925. Parker, Edward H. China and Religion. London, 1905. Timkowski, George. Travels of the Russian Mission Through Mongolia to China, and Residence in Peking, in the Years 1820–1821, with Corrections and Notes by Julius von Klaproth, trans., H.E. Lloyd. London, 1827. Ular, Alexandre. Un Empire Russo-Chinois. Paris, 1903. [Литература, использованная в Предисловии] Гринцевич О.А. Дискурс власти и сакральная топография в диалоге «Москва– Пекин»: человеческий фактор // Труды Русской антропологической школы. М.: РГГУ, 2009. № 6. С. 188–212. Барановский М. Пекинская духовная миссия. Из деятельности царской России в Китае // Атеист. 1930. № 49. С. 10–35. Петров В. Российская духовная миссия в Китае. Вашингтон, Д.К., Издательство Русского книжного дела в США / Victor Kamkin, Inc., 1956. 97 с. Parry A. Russian Missionaries in China, 1689–1917. Chicago: University of Chicago Libraries, 1938. Parry А. Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689–1917; Their Cultural, Political, and Economic Role // JSTOR archive / Source: The Pacific Historical Review. Vol. 9, No. 4 (Dec. 1940), P. 401–424. Published by: University of California Press. URL: http://www.jstor.org/stable/3632951 5. Разное Календарь мероприятий РАШ за 2012 год 21 февраля. Цикл поэтических вечеров «Poet in Res» (совместно с ЦНРЛ ИФИ РГГУ). Михаил Айзенберг. 22 февраля. Научный семинар РАШ. Вводный семинар в рамках проекта «Антропология дара» и обсуждение эссе Р.У. Эмерсона «Дары». Ведущая — Александра Уракова). 7 марта. Научный семинар РАШ. Проект «Антропология дара». Доклад С.Н. Зенкина (РГГУ/ИВГИ) «Неузнавание дара». 21 марта. Научный семинар РАШ. Доклад Михаила Аркадьева «Язык как катастрофа». 30 марта. Научный семинар РАШ. Доклад Дмитрия Горбатова «Музыкальная и речевая интонация». Оппонент — Александр Гитман. 4 апреля. Научный семинар РАШ. Проект «Антропология дара». Доклад Натальи Халымончик «Бесцельные усилия. Между даром и тратой». 255 РАШ 6 апреля. II Международная Междисциплинарная Конференция «Разломы истории: культурное пространство девяностых». Материалы конференции на сайте: http://kogni.ru/news/konferencija_razlomy_istorii/ 2012-04-20-1456 20 апреля. Международный Круглый стол «Советские семидесятые: стабильность или стагнация?» (совместно с РИК, ВШЭ, Европейским ин-том (СПб.), Лондонским университетом. В рамках проекта «Советский дискурс в современной культуре». Материалы круглого стола на сайте: http://kogni. ru/news/sovetskie_semidesjatye_stabilnost_i_ili_stagnacija/2012-04-06-1445 23 мая. Научный семинар РАШ. Проект «Антропология дара». Доклад Олега Аронсона «Дар неповиновения (перечитывая Торо)». 30 мая. Научный семинар РАШ. Доклад Алексея Глухова «Платон / “Федр” / Деррида / “Фармация Платона”». 18 июня. Открытая лекция академика Вячеслава Всеволодовича Иванова «Современная когнитивная нейропсихология в ее отношении к антропологии». 6–8 сентября. Международная конференция «Платон и платонизм в европейской культуре» (совместно с ФФ НИУ ВШЭ, СПб. платоновским обществом и Центром античной и средневековой философии и науки ИФ РАН). Сайт конференции: http://kogni.ru/plato/index.htm 20 сентября. Цикл поэтических вечеров «Poet in Res» (совместно с ЦНРЛ ИФИ РГГУ). Сергей Гандлевский. 10 октября. Научный семинар РАШ. Проект «Власть маршрута». Доклад Игоря Сида «Геопоэтика: история и перспективы концепта». 24 октября. Научный семинар РАШ. Доклад Екатерины Дайс «Пелевин, Сорокин, Елизаров — три столпа русского гнозиса». 7 ноября. Научный семинар РАШ. Доклад Ирины Сироткиной «Танец как философия. Философия как танец». 28 ноября. Научный семинар РАШ. Проект «Антропология дара». Доклад Дмитрия Новикова «Внеэтические начала этики: прощение, обещания, справедливость, дар (в работах Ж. Деррида)». 6 декабря. Конференция «Власть Маршрута: путешествие как предмет историкокультурного и философского анализа» (совместно с Крымским геопоэтическим клубом). Материалы конференции на сайте: http://kogni.ru/ news/konferencija_vlast_marshruta/2012-11-12-1575 Библиография преподавателей, сотрудников и учащихся РАШ за 2012 год Монографии Иванов Вяч.Вс. Целесообразность человека. Материал к Актовой лекции 4 сентября 2012 г. в Международном Университете в Москве / Источник: «Новая газета». Москва: Международный Университет в Москве, 2012. 69 с. Петровская Е.В. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012. 384 с. Пчелов Е.В. Рюрик / Жизнь замечательных людей. Изд. 2-е. Вып. 1557 (1357). М.: Молодая гвардия, 2012. 316 с. Пчелов Е.В. История Рюриковичей. М.: Вече, 2012. 384 с. Пчелов Е.В. Рюрик и начало Руси. М.: Старая Басманная, 2012. 60 с. Сборники трудов Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10 / Отв. ред. А.В. Гараджа, предс. ред. совета Вяч.Вс. Иванов, гл. ред. И.А. Протопопова, ред. коллегия: О.В. Аронсон, К.В. Бандуровский, А.В. Гараджа, А.А. Олейников, Е.В. Петровская, Е.В. Пчелов, А.И. Сосланд. М.: РГГУ, 2012. 255 с. Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11 / Отв. ред. Н.Г. Полтавцева, предс. ред. совета Вяч.Вс. Иванов, гл. ред. И.А. Протопопова, ред. коллегия: О.В. Аронсон, К.В. Бандуровский, А.В. Гараджа, А.А. Олейников, Е.В. Петровская, Е.В. Пчелов, А.И. Сосланд. М.: РГГУ, 2012. 373 с. Учебники Пчелов Е.В. История России с древнейших времён до конца XVI века. Учебник 257 РАШ для 6 кл. общеобразовательных учреждений / Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М.: Русское слово, 2012. 264 с. Пчелов Е.В. История России. XVII–XVIII века. Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. М.: Русское слово, 2012. 240 с. Зарубежные публикации Иванов Вяч.Вс. Пастернак и Врубель («Памяти Демона») // Venok: Studia slavica Stefano Garzonio sexagenario oblata. In Honor of Stefano Garzonio / Edited by Guido Carpi, Lazar Fleishman, Bianca Sulpasso (Stanford Slavic Studies. Vols. 40–41). Stanford, 2012. Иванов Вяч.Вс. Сонмы богов Востока и Запада у Хлебникова, де Квинси и Бодлера. К типологии романтизма // From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in honor of Ronald Vroon / Ed. L. Fleishman, A. Ospovat and F. Poljakov (Русская культура в Европе / Ed. By F. Poljakov. Vol. 8). Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. P. 163–184. Lysenko V. Actuality and Potentiality in Dignaga’s understanding of Immediate Perception (nirvikalpaka pratyaksha) according to his “Pramanasamuccaya” and “Alambana-pariksha” // Acta Orientalia Vilnesia. Vol. 11. Issue 1. 2012. P. 85–92. Lysenko V. What is Philosophy in India: overcoming the eurocentric stereotypes // Socialiniu˛ mokslu˛ studijos / Societal Studies. Mykolo Romerio universitetas. 2012. № 4 (2). С. 801–809. Lysenko V. Is there a mind-body problem in Buddhism? // Buddhism in Kashmir. Sharma, Nirmala (ed.), foreword by Karan Singh. New Delhi: Aditya Prakashan. 2012. С. 62–68. Lysenko V. Buddhism as interactive message // Socialiniu˛ mokslu˛ studijos / Societal Studies. Mykolo Romerio universitetas. 2012. № 4 (3). С. 3–13. Olejnikov A.. Mikrohistória a genealógia historickej skúsenosti // K otázkam metodológie vied (spoločenských a prı́rodných). Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2011. С. 95–112. Петровская Е.В. Matter and Memory in Photography // The Archive as Project / Archiwum jako projekt / Ed. / red.: K. Pijarski. Warszawa: Archeologia Fotografii, 2011. P. 92–105 (на польск. яз.: P. 106–113). Петровская Е.В. Back to the Basics // Foam. International Photography Magazine. Spring 2012. № 30 Micro (Amsterdam). P. 185–188. Петровская Е.В. Boris Mikhailov: Towards a New Universality // Everything Was Moving: Photography from the 60s and 70s / Ed.: K. Bush. London: Barbican Art Gallery, 2012. P. 184–185. 258 Библиография. . . Полтавцева Н.Г. Образ Другого в драматургии Андрея Платонова: синтез имагологии и философской антропологии // Лiтературна компаративистика. Випуск 4. В 2-х чч. Частина II. Нацiональна академiя наук Украiни. Iнститут лiтератури iм Т.Г.Шевченка. Київ: Виддавничий дiм «Стилос», 2011. С. 171– 201. Poltavtseva N. Power and the Other in the Dramatic Works of Andrei Platonov // ULBANDUS. The Slavic Review Of Columbia University. Vol. 14. 2012. P. 273– 286. Smolianskaia N. Pratiques et esthétiques de l’avant-garde russe: cadres, systèmes de coordonnées et projections // Avant-gardes: frontières, mouvements, ouvrage collectif en deux volumes. Nice, 2012. Уракова А.П. “Breaking the Law of Silence”: Rereading Poe’s “The Man of the Crowd” and Gogol’s “The Portrait” // Poe’s Pervasive Influence. Philadelphia, PA: Lehigh University Press, 2012. Р. 37–55. Уракова А.П. Между “tale” и “short story”: к вопросу об истоках жанра // Американский Short Story: Теория жанра и практика современности. Київ: Iнститут лiтератури iм Т.Г.Шевченка, 2012. Статьи Аронсон О.В. К антропологии свидетельства // Методология науки и антропология. М.: Институт философии РАН. 2012. С. 131–149. Аронсон О.В. Кинематографический образ: переизобретение чуда // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб: «Дмитрий Буланин». 2012. С. 206– 225. Аронсон О.В. Телевизионный образ, или Подражание Адаму // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб: «Дмитрий Буланин». 2012. С. 264–273. Аронсон О.В. Кинематографический текст и тексты о кино // Международный журнал исследований культуры. 2012. № 2 (7). С. 21–24. Аронсон О.В. Мгновение документа и полнота памяти // Статус документа: Окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? Сборник статей / Под ред. И.М. Каспэ. М.: Новое литературное обозрение. 2013. С. 218–244. Аронсон О.В. Логика ложного // Культиватор. 2012. № 4. С.35–43. Аронсон О.В. Современность и салон // Портрет / Пейзаж: границы жанра. Из коллекции Музея изобразительных искусств Нанта. М.: ГЦСИ, 2012. С. 42– 49. (на русском и французском языках). Аронсон О.В. Мечты о государстве непокорности (читая Генри Торо сегодня) // Синий диван. 2012. № 17. С. 73–94. 259 РАШ Бандуровский К.В. «Черный мед» Семиха Капланоглу // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 200–214. Бандуровский К.В. Остановился «Фордзон». Трактор как символ в советском кино // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 126–138. Бандуровский К.В. Внутренняя империя: опыт границы в современном кино // Предел, граница, рамка. Интерпретация культурных кодов. Саратов, СПб.: ЛИСКА, 2012. С. 184–189. Барышникова Д.В. «Аммортизация бреда»: советский дискурс в психоделическом реализме // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11. М., 2012. С. 343–356. Барышникова Д.В. Фауст в литературе: трансформация образа // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М., 2012. С. 139–148. Болтунова Е.М. Дворец как часть советского / постсоветского городского ландшафта (на примере дворца Екатерины II в Твери) // Труды «Русской Антропологической школы». Вып. 11. М.: РГГУ. С. 127–155. Болтунова Е.М. Колокольня «Иван Великий» в коронационном церемониале XVIII в. // Московский Кремль XV столетия. Т. 2: Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет / Отв. ред. А.Л. Баталов, И.А. Воротникова. М.: Арт-Волхонка, 2011. С. 344–349. Болтунова Е.М. Театр в пространстве императорского дворца XVIII в. // Драма и театр. Вып. 8. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. С. 196–208. Дашкова Т.Ю. Цирк (1936) // Ноев ковчег русского кино: от «Стеньки Разина» до «Стиляг» / Сост. и предисл. Е. Васильева, Н. Брагинский. Винница: ГлобусПресс, 2012. С. 127–131. Дашкова Т.Ю. Солярис (1972) // Ноев ковчег русского кино: от «Стеньки Разина» до «Стиляг» / Сост. и предисл. Е. Васильева, Н. Брагинский. Винница: Глобус-Пресс, 2012. С. 292–296 (в соавторстве). Иванов Вяч.Вс. Архаизм и новаторство в практике первых русских переводов Платона // Логос. 2012. № 6 (90). С. 26–44. Иванов Вяч.Вс. К диахроническому симболариуму: Страх и Ужас // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 24–35. Иванов Вяч.Вс. К диахроническому симболариуму: древнемалоазиатский хронотоп символа сокола и соколиной охоты // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 36–40. Иванов Вяч.Вс. К семантике алеутского словообразования. Производные типа величина // Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты. Сборник статей в честь 80-летия Игоря Александровича Мельчука / Под ред. Ю.Д. Апресяна, 260 Библиография. . . И.М. Богуславского, Л. Ваннера, Л.Л. Иомдина, Я. Миличевич, М.-К. Л’Омм, А. Польгера. М.; Языки славянской культуры, 2012. С. 252–256. Иванов Вяч.Вс. Новелла о Соколе в «Декамероне» Джованни Боккаччо и «Сокол» Всеволода Иванова // Обществ. науки и современность. 2012. С. 147–159. Иванов Вяч.Вс. О проекте сокращенного словника Симболария (Symbolarium) с краткими предварительными пояснениями и библиографическими ссылками // Труды «Рус. антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 5–24. Иванов Вяч.Вс. Cеверо-западно-индоевропейские и уральские тоны // Исследования по типологии славянских, балтийских и балканских языков (преимущественно в свете языковых контактов). СПБ: Алетейя, 2012. С. 265–276. Иванов Вяч.Вс. Хлебников и современная наука // Велимир Хлебников в новом тысячелетии. М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 5–26. (Там же. Предисловие. С. 3–5). Лысенко В.Г. Буддийский атомизм в свете современных понятий «эмерджентные свойства» и «квалия» // Наука и буддизм. Материалы научной конференции (Улан-Удэ — Байкал. 6–8 июля 2012 г.), «Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии» РАН. Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета. 2012. С. 47–59. Лысенко В.Г. Восприятие и телесность в буддизме и в современных когнитивных теориях «отелесненного ума» (embodied mind) // Буддизм Ваджраяны в России. От контактов к взаимодействию. М. Алмазный путь. 2012. С. 86–94. Lyssenko V. Le “determinisme linguistique” de Benviniste et le cas du Vaisheshika // Indologica. Orientalia et Classica. Сбор. статей памяти Т.Я. Елизаренковой. Кн. 2. М.: Институт восточных культур и античности, РГГУ. 2012. С. 381– 396. Лысенко В.Г. Ориентализм и проблема Чужого: ксенологический подход // Ориентализм / оксидентализм: языки культур и язык и их описания // Orientalism / Occidentalism: Languages of Cultures vs. Languages of Description / Отв. ред. Е. Штейнер. М.: «Совпадение». С. 34–42. Лысенко В.Г. Слог Ом в индийской культуре: от устной традиции к письму // Труды «Русской Антропологической школы». М.: РГГУ, 2012. С .48–60. Лысенко В.Г. Слово и бытие в учении Бхартрихари о действии (по «Криясамуддуше») // Индия — Тибет: текст и феномены культуры. Рериховские чтения в Институте востоковедения РАН. Институт востоковедения РАН. М.: «Языки славянской культуры». 2012. С .156–173. Петровская Е.В. Авангард и запрет на изображение (к вопросу о «реализме» авангарда) // Культура и революция: фрагменты совет. опыта 1920–1930-х гг. / Отв. ред.: Е.В. Петровская. М.: ИФ РАН, 2012. С. 109–126. Петровская Е.В. Арт короток, искусство вечно // Диалог искусств. 2012. № 3. 261 РАШ С. 102–103 (а также: URL: http://polit.ru/article/2012/05/17/ ep170512/). Петровская Е.В. Документ: факт и вымысел // Ex Cathedra: Современные методы изучения культуры. Сб. статей / Сост.: О.В. Гавришина, Ю.Г. Лидерман, М.С. Неклюдова, А.А. Олейников. М.: РГГУ, 2012. С. 207–218. Петровская Е.В. «Какая угодно» фотография // Экранная культура. Теоретические проблемы. Сб. статей / Отв. ред.: К.Э. Разлогов. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2012. С. 605–631. Петровская Е.В. Меркурий или деконструкция? // Диалог искусств. 2011. № 6. С. 78–79. URL: http://polit.ru/article/2011/11/25/ep241111/ Петровская Е.В. Порядок экскурса // Диалог искусств. 2012. № 1. С. 107. URL: http://polit.ru/article/2012/01/30/ep270112/ Петровская Е.В. Punctum: забыть субъективность // Диалог искусств. 2012. № 4. С. 102–3. URL: http://polit.ru/article/2012/08/11/al090812/ Петровская Е.В. Сны о чем-то большем // Норман. Архетипические вариации. Каталог выставки / Автор идеи и куратор С. Уолдрон. М.: Государственный центр современного искусства, 2012. С. 8–11 (на англ. яз.: P. 12–15). Петровская Е.В. Судить или спорить? Еще раз о вкусах // Диалог искусств. 2012. № 5. С. 96–97. URL: http://polit.ru/article/2012/11/09/ ep091112/ Петровская Е.В. Триумфальное шествие постмодернизма // Диалог искусств. 2012. № 2. С. 114–115. URL: http://polit.ru/article/2012/03/ 15/ip150312/ Петровская Е.В. «Человек технический»: о взаимосвязях интернета и литературы // Эксперт. 2012. № 2 (785). С. 96–98. Петровская Е.В. Этика и современное искусство (круглый стол) // Синий диван. 2011. № 16. С. 29–82. Полтавцева Н.Г. «Детский текст» в рассказах Андрея Платонова // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11. М.: РГГУ, 2012. С. 269–283. Полтавцева Н.Г. «Странный человек пришел. . . » (А. Островский): Другой в драматургии Андрея Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 7. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 336–347. Полтавцева Н.Г. Универсальный и «культурный» символизм в «стивеновском тексте» Улисса Дж. Джойса // Труды «Русской антропологической школы». Выпуск 10. М.: РГГУ, 2012. С. 186–199. Полтавцева Н.Г. Экспертное заключение по анализу аудивизуальной продукции как объекта авторского права (в соавторстве с Е. Покорской) // Философия и культурология в современной экспертной деятельности. СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. С. 442–464. 262 Библиография. . . Протопопова И.А. «Треугольники» в Тимее Платона: символическое изображение мышления Демиурга // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 61–65. Протопопова И.А. Прыгающий лебедь: о драматическом подходе к диалогам Платона // Логос. 2012. № 6. С. 85–100. Пчелов Е.В. Варяги и Русь // Литературная газета. 1–7 февраля 2012. № 4 (6355). С. 9. Пчелов Е.В. Государственный герб Российской Империи — энциклопедия геральдики // История и обществознание для школьников. 2012. № 1. С. 24–34. Пчелов Е.В. Евгеника в России и формирование генеалогического метода в генетике человека // Сплетались времена, сплетались страны. . . Сборник Уральского генеалогического общества. Вып. 32/4. СПб., 2012. С. 6–15. Пчелов Е.В. Игорь Владимирович Борисов (19 февраля 1937–23 января 2011) // Вестник РГГУ. № 21 (101). Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. С. 254–258. Пчелов Е.В. Илья Ефимович Репин и социалистический реализм // Труды «Русской Антропологической Школы». Вып. 11. М.: РГГУ, 2012. С. 234–250. Пчелов Е.В. Круглый стол «Династия Рюриковичей в истории Российского государства» в РГГУ // Вестник РГГУ. № 21 (101). Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. С. 241–243. Пчелов Е.В. Медведи в старинной русской геральдике: семантика образов // «Русский медведь»: История, семиотика, политика / Под ред. О.В. Рябова и А. де Лазари. М., 2012. С. 29–61. Пчелов Е.В. Научный семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисциплинам ИАИ РГГУ: хроника заседаний (продолжение) // Вестник РГГУ. № 21 (101). Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. С. 238–240 (совм. с С.В. Зверевым). Пчелов Е.В. Первые письменные известия о Руси и начало Древнерусского государства // Альманах «Чело». № 2 (51), 2012. С. 3–9. Пчелов Е.В. Потестарная нумерология в истории России // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 85–107. Пчелов Е.В. Посох, скипетр, жезл: из истории регалий Московского царства // Вестник РГГУ. № 21 (101). Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. С. 159–173. Пчелов Е.В. Русь от варягов. С чего начиналась история российской государственности // Союзное вече. Газета парламентского собрания союза Беларуси и России. 19–25 апреля 2012. № 17 (431). С. 6. 263 РАШ Пчелов Е.В. Пчёлы в европейской и русской эмблематике и геральдике // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 215–223. Пчелов Е.В. Селенография XVII века: как «осваивалась» и «заселялась» Луна // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы) / Сост. и общая ред. М.С. Петровой. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 127–142. Пчелов Е.В. Царица Херсониса Таврического: крымский титул Екатерины Великой // Е.Р. Дашкова и XVIII век: Традиции и новые подходы. М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2012. С. 173–179. Пчелов Е.В. Цветовая символика власти в русской культуре // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10. М.: РГГУ, 2012. С. 66–84. Пчелов Е.В. Юбилей российской государственности // Наука в России. 2012. № 4. С. 53–60. Пчелов Е.В. Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий // Московская Энциклопедия. Т. I: Лица Москвы. Кн. 5. М., 2012. С. 572. Смолянская Н.В. Между эротическим и «жутким»: куклы Синди Шерман // Журнал «Артикульт» ф-та истории искусства РГГУ. URL: http://articult. rsuh.ru/article.html?id=2627575 Тезисы докладов и материалы конференций Пчелов Е.В. Возникновение буквы Ё в русской письменности // VI Сытинские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции «Человек и История: вариации на тему», посвящённой памяти учёного и краеведа Сергея Львовича Сытина. Ульяновск, 21–22 октября 2010 года. Ульяновск, 2012. С. 496–501. Пчелов Е.В. Известие Бертинских анналов 839 г.: к вопросу об информационном потенциале источника // Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Материалы конференции / Ин-т всеобщей истории РАН; Ростовский музей-заповедник. М., 2012. С. 208–213. Пчелов Е.В. К истории территориального титула русских государей середины XV–середины XVI в. // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии. Материалы XXIV Международной научной конференции / ИАИ РГГУ, ИВИ РАН, Археографическая комиссия РАН. М., 2012. С. 81–90. Пчелов Е.В. Первые письменные известия о Руси и начале древнерусского христианства // Церковь и общество в России на переломных этапах истории: сборник тезисов Всероссийской научной исторической конференции Московской Духовной Академии. Сергиев Посад, 2012. С. 208–210. Пчелов Е.В. Печать Софьи Витовтовны и изображение на ней // Международная нумизматическая конференция «Нумизматические коллекции: наследие ис- 264 Библиография. . . торической Литвы и связанных с ней стран — открытия для просвещения и науки». Тезисы докладов. Вильнюс, 23–25 мая 2012 г. / Национальный музей Литвы; Ассоциация нумизматов стран Балтии. Vilnius (Вильнюс), 2012. С. 140–143 (на рус., лит. и англ. языках). Пчелов Е.В. Подсаадачный нож 1535 года из собрания ГИМ и его владелец // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Труды Третьей Международной научно-практической конференции. Ч. 3 / ВИМАИВиВС. СПб., 2012. С. 84–87. Синеокая Ю.В. К вопросу о разграничении понятий «свобода» и «воля» в отечественной философской традиции // Сборник докладов Всероссийской научной конференции «Бренное и вечное», Новгородский государственный университет. Новгород, 2012. С. 273–278. Смолянская Н.В. “Carré noir”: entre dispersion et incorporation du signe // Third bi-annual conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies “Material Meanings”. 2013. P. 130–131. Переводы Аполлинер, Гийом. Стихи / Перевод и вступительная заметка Вяч.Вс. Иванова // Звезда. 2012. № 1. Виник Дж. Великий перелом / Пер. с англ. А.В. Гараджа и др. М., 2013. Ч. 2: «Буря» С. 171–313. Дюв, Тьерри де. Авангард и потеря ремесла: простое объяснение / Пер. с французского Н. Смолянской // Философский журнал ИФРАН. 2013. Геймер М. Жанры для судебного преследования: порнография и готическое / Пер. с англ. К.В. Бандуровского // Логос. 2012. № 6. С. 204–227. Мартин А. Москва в 1812 году и судьба имперского социального проекта / Пер. с англ. А. Володиной под ред. Д. Харитонова // Новое литературное обозрение. 2012. № 118. Робин К. Первый контрреволюционер / Пер. с англ. Бандуровского К.В. // Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин / М.: Издательство Института Гайдара, 2013. С. 107–122. Стюарт В. «Военные мемуары павших»: Роль письма и памяти в первой мировой войне / Пер. с англ. А. Володиной под ред. К. Корчагина // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. Тиханов Г. Проблема преемственности в советское время / Пер. с англ. Н. Полтавцевой // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11. М.: РГГУ, 2012. С. 7–43. 265 РАШ Франк С. «Взрыв» как метафора культурного семиозиса / Пер. с немецкого К.В. Бандуровского // Новое литературное обозрение. 2012. № 115. С. 12–30. Чандлер Р. О Василии Гроссмане и Евгении Таратуте / Пер. с англ. и комментарии Н. Полтавцевой // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 11. М.: РГГУ, 2012. С. 293 -299. Каталоги выставок Петровская Е.В. Сны о чем-то большем // Норман. Архетипические вариации. Каталог выставки / Автор идеи и куратор С. Уолдрон. М.: Государственный центр современного искусства, 2012. С. 8–11 (на англ. яз.: P. 12–15). Смолянская Н.В. Диалектика INSIDE и OUTSIDE // Каталог выставки INSIDE_FABRIKA_OUTSIDE / Куратор и автор идей Смолянская Н.В. ЦТИ ФАБРИКА, 2012. С. 1–7. Рецензии Иванов Вяч.Вс. Рецензия на книгу: R. Watson, W. Horosowitz. Writing science before the Greeks. A naturalistic analysis of the Babylonian astronomical treatise MUL.APIN. Leiden: Brill, 2011 // Вопр. языкознания. 2012. № 5. С. 131–133. Сосланд А.И. Много любви, много работы. . . (Рецензия на коллективную монографию «Семейная групповая логопсихотерапия: исследование заикания») // Консультативная психология и психотерапия. 2012. № 1. С. 214–217. Публикации аспирантов и магистрантов РАШ Артемьева Н. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях П.А. Флоренского. URL: http://kogni.ru/news/ e_artemeva_analiz_prostranstvennosti_i_vremeni/2012-1230-1590 Володина А. Книжный агент [обзор книжных новинок] // «Октябрь». 2012. № 1 (совм. с С. Луговиком), 3, 6, 8, 12. Володина А. Символический мотив превращения человека в растение в мифологии и фольклоре. URL: http://kogni.ru/mag/volodina.pdf Володина А. Оппозиция «природа–культура» в Серебряном веке: «Камень» О.Э. Мандельштама. URL: http://kogni.ru/mag/volodina_servek. pdf Дмитриева Д., Косякова В. К проблеме понятий символа и знака // Труды «Русской антропологической школы». Вып. 10, М.: РГГУ, 2012, С. 41–47. 266 Библиография. . . Лаврентьева С. Символика дракона в скандинавской и древнекитайской мифологии. URL: http://kogni.ru/news/simvolika_drakona_v_skandinavskoj_i_drevnekitajskoj_mifologii/2012-12-22-1586 Путевская Ю. Феномен двойничества и его проявления в культуре. URL: http: //kogni.ru/mag/putevskaya.pdf Путевская Ю. Русское религиозное сектантство в сборнике К. Бальмонта «Зелёный вертоград». URL: http://kogni.ru/mag/ilina_servek.pdf Пушин А. Что скрыто за лицом. URL: http://kogni.ru/mag/Face_in_ Law.pdf Пушин А. Прометей парадоксальный. URL: http://kogni.ru/mag/pushin_ servek.pdf Омельченко М.. Пречистенский дворец и пространство “старой” столицы в восприятии Екатерины II. URL: http://kogni.ru/mag/om_pre4.pdf Соколова Ю. О символике белого цвета (по книге В. Тернера «Символ и ритуал») URL: http://kogni.ru/mag/sokolova_soc_ant.pdf Хачатрян Г. Репрезентация власти в эпоху Багратидов. Сакральная топография города Ани. URL: http://kogni.ru/text/any.pdf Хачатрян Г. Советский дискурс и роман Андрея Платонова «Котлован». URL: http://kogni.ru/mag/platonov.pdf Шумейко К. Социальные клубы для черных в Бразилии как места коллективной памяти. URL: http://kogni.ru/mag/schumeiko_braz.pdf Шумейко К. Имперская топография Куско. URL: http://kogni.ru/mag/ schumeiko_kusko.pdf Другие публикации (интервью, выступления в СМИ, художественное творчество) Иванов Вяч.Вс. «Если они испугаются, то начнут делать необратимые вещи» // «The New Times». Москва, 14 мая 2012 г. № 16 (244). Иванов Вяч.Вс. Злободневное. Стихи // Звезда. 2012. № 3. Иванов Вяч.Вс. «Существует представление. . . » / Интервью брал Юрий Сапрыкин // «Афиша. Советы старейшин». Москва. 6 февраля 2012 г. Иванов Вяч.Вс. Целесообразность человека [части 1–6] / Вопросы задает Юлия Латынина // «Новая газета». 15, 17, 20, 24 августа; 3, 12 сентября 2012. № 91, 92, 93, 95, 99, 103. ТВ. Передача «Закрытый показ» (с участием Е. Петровской). Обсуждение фильма Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» (20.01.2012). URL: http: //www.1tv.ru/sprojects_edition/si5730/fi12958 267 РАШ Радио Свобода. «Женский протест: Pussy Riot и FEMEN» (с участием Е. Петровской) (30.03.2012). URL: http://www.svobodanews.ru/content/ feature/24532701.html ТВ. Передача «Закрытый показ» (с участием Е. Петровской). Обсуждение фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба» (07.09.2012). URL: http://www. 1tv.ru/sprojects_edition/si5730/fi14606 ТВ. Передача «Тем временем» (с участием Е. Петровской). «История как жертва постмодерна» (14.05.2012). URL: http://www.tvkultura.ru/issue. html?id=121738 Радио Свобода. «Pussy Riot как художественный проект» (с участием Е. Петровской) (24.08.2012). URL: http://www.svobodanews.ru/content/ article/24687209.html Пчелов Е.В. Много картинок. . . Это здорово! [Поздравление с 20-летним юбилеем издания] // История. Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания. 2012. № 8. С. 13. Пчелов Е.В. Русь от варягов. С чего начиналась история российской государственности / С Е.В. Пчеловым беседовала Татьяна Кутаренкова // Союзное вече. Газета парламентского собрания союза Беларуси и России. 19–25 апреля 2012. № 17 (431). С. 6. Пчелов Е.В. Что читать обязательно? [мнение] // Газета «Твоя вертикаль». 2012. № 3. С. 13. Сосланд А.И. Век шизофрении / Беседа с М. Бруно, А. Сосландом и В. Рудневым // Русский репортер. 31 января 2012. № 04 (233). Рецензии на книги сотрудников РАШ Душин О. [Рец. на кн. Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М.: Изд. РГГУ, 2011] // Вестник РХГИ. 2012. № 2. С. 125–218. Левченко Я. Схватить отсутствие [Рец. на кн.: Петровская Е.В. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012.] // Русский журнал. URL: http://www. russ.ru/Mirovaya-povestka/Shvatit-otsutstvie Максаков В. [Рец. на кн. Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М.: Изд. РГГУ, 2011] // Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга». URL: http://knigirggu.ru/news/1148/ Савельев А.Л. Рюрикиада: факты и мифы [О книге Е.В. Пчелова «Рюрик»] // История. Научно-методический журнал для учителей истории и обществознания. Февраль 2012. № 2. С. 21–22. Савельев А.Л. Распутаем клубок «Рюрикиады». О книге Е.В. Пчелова «Рюрик» // Библиотека в школе. 2012. № 6. С. 56–58. 268 Библиография. . . Симонов Р.А. Рец. на кн: Пчелов Е.В. Бестиарий Московского царства: животные в эмблематике Московской Руси конца XV–XVII вв. М.: Старая Басманная, 2011. // Вопросы истории естествознания и техники. 2012. № 2. С. 172–180. Павликов С.Г. Рец. на кн.: Пчелов Е.В. Рюрик. М.: Молодая гвардия, 2010 // Государство и право. 2012. № 7. С. 125–126. Новейшие труды, посвящённые формированию древнерусской государственности // Исторический вестник. Ноябрь 2012. Т. 1 (148). С. 180. [аннотация книги: Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010]. Черных А.П. Эмблематические звери: кунсткамера или зоосад? Пчелов Е.В. Бестиарий Московского царства: животные в эмблематике Московской Руси конца XV–XVII вв. / Отв. ред. акад. РАН Вяч.Вс. Иванов. М.: Старая Басманная, 2011 // Средние века. 2012. Т. 73. № 3–4. С. 433–436. Шилов Е. [Рец. на кн. Бандуровский К.В. Бессмертие души в философии Фомы Аквинского. М.: Изд. РГГУ, 2011] // Вестник ПСТГУ. 2012. № 39. С. 121–124. Щавелёв А.С. Рюрик и его время (о книге Е.В. Пчелова «Рюрик». М., 2010) // Вестник РГГУ. № 21 (101). Серия «Исторические науки. Историография. Источниковедение. Методы исторических исследований». М., 2012. С. 233–237. Книги, запланированные к публикации в 2013 г. Иванов Вяч.Вс. От буквы и слога к иероглифу. Системы письма в пространстве и времени. М.: Изд. Языки русской культуры, 2013. Книга посвящена проблемам дешифровки и грамматологии — науке о теории и истории письма. В ней дается краткая характеристика систем письма с точки зрения современной науки — нейропсихологии (открытие А.Р. Лурия). Освещаются самые ранние логографические системы письма на Ближнем Востоке (Месопотамия и окрестные страны — клинопись и её происхождение из «знаков» по ШмандтБессера; история дешифровки благодаря применению методов сравнительного языкознания хеттской и других местных гетерографических форм клинописи, использовавшейся для разных языков древнего цивилизованного мира, лувийское иероглифическое письмо в Малой Азии) и на востоке Азии (Китай). Изучаются особенности письма майя и других древнецентральноамериканских, дешифровка иероглифических систем вплоть до Вентриса и Кнорозова, общие черты иероглифических культур. Описываются западно-семитские системы письма и их происхождение, письменность Угарита (слоговое и нотное письмо) и Финикии, 269 РАШ распространение слогово-консонантных систем на западе Евразии и в Центральной и Южной Азии, брахми и другие индийские системы, пиктографичесое, идеографическое и логографическое письмо. Также описывается история дешифровки этих систем и работ над древними видами письма в России (Тураев, Шилейко, Невский). Дашкова Т. Телесность — Идеология — Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Сборник статей Т. Дашковой посвящен исследованию различных аспектов функционирования визуального канона в советских медиа (в первую очередь, в журнальной фотографии и кинематографе). Основным предметом анализа становятся способы репрезентации телесности и различные контексты ее бытования — повседневность, гигиена, мода, эротика и т.д. В ходе исследования структуры фотоизображений и жанровых особенностей кинофильмов автор прослеживает процессы формирования образцов для подражания и стереотипов повседневного поведения, а также случаи отклонений и сбоев, обнажающие работу идеологических механизмов. Пчелов Е.В. История Романовых. М.: «Вече», 2013. Книга, издающаяся к юбилею династии Романовых. Справочник по генеалогии, биографиям и библиографии династии Романовых от 1613 г. до наших дней с биографическими очерками о её представителях. Объявление о приеме в магистратуру РАШ В 2013 г. учебно-научный институт РГГУ «Русская антропологическая школа» объявляет очередной набор в магистратуру по направлениям: Z 033000 Культурология, магистерская программа «Историческая культурология». Z 030100 Философия, магистерская программа 520410 «Философская антропология и философия культуры». В основе учебной программы лежит идея синтеза гуманитарных наук. План магистерской подготовки направлен на углублённое освоение современных методов и исследовательских подходов в изучении культуры и антропологии. Слушателей познакомят с новейшими достижениями российской и мировой культурологии и антропологии. Магистрант получит возможность выбора ряда дисциплин в зависимости от его исследовательского интереса. Высокий уровень преподавания обеспечивается участием ведущих отечественных и приглашаемых зарубежных специалистов. Выпускник магистратуры получает преимущественное право на поступление в аспирантуру по выбранной научной специальности. Учащиеся на бюджетных местах получают стипендию. Начало приема документов — 20 июня. Начало консультаций и экзаменов — 21 июля. 271 РАШ Подробная информация об условиях приема, экзаменах и сроках подачи документов на сайте РГГУ: http://magistratura.rggu.ru/ Программа, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы по Культурологии: http://kogni.ru/index/0-21 Примерный план магистерской программы по Культурологии: http://kogni.ru/index/0-7 Программа, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы по Философской антропологии: http://kogni.ru/mag/pr_mag_antr.pdf Концепция программы по Философской антропологии: http://kogni.ru/index/0-22 Наш адрес: Москва, Миусская площадь, 6 (здание РГГУ), пятый корпус, аудитории 103, 104, 105. Телефон: (499)250-68-38 e-mail: ra.school.edu@gmail.com Краткие сведения об авторах Бандуровский Константин Владимирович (Москва) — кандидат философских наук, доцент Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов: средневековая философия, антропология. Вайзер Татьяна Владиславовна, (Москва) — кандидат философских наук, Ph.D. по социальной философии Университета Париж VII, доцент кафедры общей социологии и социальной философии философско-социологического факультета РАНХиГС. Сфера научных интересов: социальная философия, этика сообщества и коммуникации. Володина Александра Владимировна (Москва) — преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, аспирант Института философии Российской Академии Наук. Сфера научных интересов: современная западная философия, советская неподцензурная поэзия. Гринцевич Олег Андреевич — магистр культурологии, сотрудник и соискатель ученой степени кандидата наук Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета, преподаватель. Сфера научных интересов: исследования в области религиоведения, ориенталистики, истории, культурологии и антропологии, наследию Русской духовной миссии в Китае, теологии диалога, межрелигиозных, межконфессиональных и межкультурных отношений. Кузнецов Василий Юрьевич (Москва) — кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета Московско- 273 го государственного университета им. М.В. Ломоносова. Сфера научных интересов: классические и неклассические стратегии философствования, дискурсивные практики власти, философские основания гендерных исследований, философия образования и методология преподавания философии, философия фантастики. Микитенко Павел Георгиевич (Москва) — художник, публицист, работает над диссертационным исследованием на кафедре политической антропологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Сфера научных интересов: акционизм, политическое искусство, политическая и эстетическая философия. Олейников Андрей Андреевич (Москва) — кандидат философских наук, доцент Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов: политическая антропология, теория гуманитарного знания, интеллектуальная история Ожиганова Анна Александровна (Москва) — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Сфера научных интересов: антропология религиозности, медицинская антропология, культура детства. Полтавцева Наталья Георгиевна (Москва) — кандидат филологических наук, доцент Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов: теория и история культуры ХХ века, теория культуры, советский дискурс в современной культуре, антропология литературы. Польский Игорь Валерьевич (Москва) — аспирант Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов: критика цивилизации, кинизм, даосизм, примитивизм. Савицкий Евгений Евгеньевич (Москва) — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов: западноевропейское средневековье, медиевализм, история историографии, влияние на современную историографию «постмодернистской» философии и критической теории, отношения между историографией и литературой, историографией и искусством/художественной критикой в XIX–XX вв. Сафронов Пётр Александрович (Москва) — кандидат философских наук, декан философско-социологического факультета РАНХиГС, старший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. Сфера научных интересов: моральная философия, метафизика, академическая этика, 274 философия сообщества, онтология и эпистемология институтов, философия и история образования. Уракова Александра Павловна (Москва) — кандидат философских наук, доцент Института «Русская антропологическая школа» Российского государственного гуманитарного университета. Сфера научных интересов — американская литература 19 века, история и теория литературы. Федотова Елена Яковлевна (Москва) — кандидат физико-математических наук, преподаватель Библейско-богословского института св. ап. Андрея. Сфера научных интересов: библеистика, иудео-христианские отношения. Якобидзе-Гитман Александр Сергеевич (Виттен) — кандидат искусствоведения, научный сотрудник университета Виттен/Хердеке (ФРГ). Сфера научных интересов: история музыкальной эстетики, социология искусства и музыки, теория и история кино. Abstracts Andrey Oleynikov Community in theory. The subject matter of community unites a variety of contemporary humanities and social sciences. There is a wide range of philosophical, sociological, political, anthropological theories of community. But is it possible today to conceive of an interdisciplinary theory of community? The article offers an outline of such a theory by means of analysis of two prevailing themes present in almost all studies devoted to this subject matter. The first theme (community and society) presupposes an approach to community from the external perspective of society. It treats the community as a very specific and an extremely problematic social phenomenon. The second theme (community and individuality) promotes in a sense the opposing view on community: the participation in the life of community is regarded here as an obligatory condition for self-realization of a human being. Keywords: community, society, communitas, individuation, communitarianism, practice, sensus communis, capability of judgment. Tatiana Vaizer Unity and singularity in community studies. The article is devoted to the analysis of two European traditions which treat the idea of community in two alternative ways. One of them regards community through the prism of unity, wholeness, integrity, while the other describes it, on the contrary, as a kind of division-between-us and differentiation. The author follows the transition from the first model to the second and shows how community in the philosophy of 276 the XX century produces conditions for constitution of selfness and singularity of the human being. Keywords: community, unity, wholeness, selfness, singularity. Petr Safronov Demobilization plan: Community beyond metaphysics and politics. The article is devoted to the philosophical analysis of community apart from the concerns of metaphysics and politics. Philosophy of community is regarded as a specific strategy of demobilized resistance transcending oppositions of movement and immobility. Keywords: community, demobilization, departure, cybernesis. Vasiliy Kuznetsov The Art Of Communication. The crisis of traditional communities apparently proceeds from the point that they are always based on a certain type of coercion («I’m gonna make him an offer he can’t refuse»). Free communities on the contrary are self-organizing and supposed to combine cooperative vision with pure interest. The student club «Perspectives», founded at the philosophical faculty of the Moscow State University in 1994 is a good example of such community. Keywords: communities, self-organization, communication, interest, cooperation, student club. Evgeny Savitsky «Our Common Emptiness»: How to think about a hollow community?. This article deals with the possibilities to describe theoretically a particular kind of communities, which cannot be represented neither as «positive», united by some productive purpose, nor as «negative», i.e. just opposed to something or seeking the destruction of a project. A special attention is paid to intellectual communities of the 1980–2000 s and their self-descriptions; in the first part of the article, the experience of the «negative» communities is dealt with, in the second, the latter are distinguished from «hollow» communities which have their special properties. Finally, a question is put, whether the concept of «hollow» communities may be of some practical and even political necessity. Keywords: community, new historicism, postcolonial studies, Gumbrecht, Kristeva, Didi-Huberman, Badiou, Sloterdijk. 277 Natalia Poltavtseva «Invisible colleges» / «imagined communities». The paper attempts to examine two usages in the contemporary science and philosophy of the term «community», which has been actualized in the 60–70 s years of the twentieth century. I understand the concept as a marginal area of a sociocultural space with a set of specific characteristics where different human singularities congregate. Depending on the bias if its treatment and the codes of its symbolization, the concept gives rise for an interesting speculation on its new opportunities — both in the studies of micro and macro processes, as in the way of deconstructing of metaphors and searching for «traces». Keywords: «invisible colleges», «imagined communities», naukoznanie, post-structuralism, socio-cultural space, «cluster», metaphors of deconstruction, «traces». Anna Ozhiganova Modern esoteric communities: Problems and prospects of study. The article is dedicated to the problems of studying contemporary associations of esoterics, a sufficiently elusive phenomenon in sociological or religious sense, and prospects for its research in the context of the theory of communities. Keywords: imagined communities, esotericism, communitas. Konstantin Bandurovsky Contemporary community and nationalism: Bernard Yack’s approaches to resolving the contradictions. This paper introduces the concept of nationalism described by Bernard Yack in his book «Nationalism and the Moral Psychology of Community» (2012). Yack claims that nationalism is not the opposite of modern liberal society, on the contrary, it is a result of two liberal principles: understanding the people as the source of sovereignty and recognition of the right of nations to self-determination. Nationalism also has a number of positive features, which even the extreme liberals can not reject. Danger of nationalism, his «moral problematic», according to Yack, is that common interests, friendship and a sense of social understanding of justice, which are different sources of morality and generally do balance each other, are being lined up against an enemy of the nation, that leads to erosion of moral restrictions, often entailing most disastrous consequences. Keywords: nation, nationalism, liberal society, the moral psychology, the people as the source of sovereignty, loyalty to the nation. 278 Igor Polsky From «summer residents» to «settlers»: Experiences of community in «Anastasia» / «The Ringing Cedars of Russia» movement. The movement of V. Megre book’s readers «The Ringing cedars of Russia» has arisen and quickly developed on the post-Soviet space in the mid-nineties. Thousands of townspeople moved to the earth in order to create «Patrimonial estates» and «Ecosettlements» in different regions and countries, without a single center, organization and a general plan. These new communities have chosen various legal, social and economic forms, have established relationships with pedagogical and medical institutes, with the church and administration. The network of city clubs, settlements, festivals, special events for experience exchange (house-building experience and etc.) and family creation («meetings of the halves») was generated. At the moment the development of these new communities and settlements, of their identity and mythologies is in progress. Keywords: new religious movements, «Anastasia», «The Ringing cedars of Russia», Vladimir Megre, New Age. Pavel Mikitenko Community and its conditions in Moscow in the 1990s: Towards a theory of actionism. The article contains a number of theoretical approaches to the political art. Touching his personal experience the author sketches terms of appearance and epistence of post-Soviet artistic actionism, as well as its lessons for contemporary political and artistic activities. This article belongs to a research project about Moscow Actionism. Keywords: political art, community of the nineties, street action. Alexander Jakobidze-Gitman The restoration of the old as a way of legitimation of the new: Social and cultural factors of the musical development in Italy and Germany at the turn of the 16th–17th centuries. This article investigates one of the key periods in the history of Western Music: at the end of the 16th–beginning of the 17th century the revolutionary changes took place in both musical theory and musical practice. All innovations, however, were presented as revivals of the older glorious traditions: Italians refered to the practice of Ancient Greece, whereas Germans appealed to the spirit of the medieval scholastics. The article offers the interpretation of this phenomenon from the point of view of the social history of music. 279 Keywords: Reformation, music of the Renaissance, music aesthetics, modality, harmonic tonality, protestant plainchant, musical rhetoric figures, double encoding, Johann Lippius, Heinrich Schütz, Max Weber. Alexandra Urakova The «anthropology of the gift» project: A workshop series in RAS. This review summarizes an ongoing workshop on the problem of the gift conducted by Alexandra Urakova together with Elena Zayac and Natalia Khalymonchik inside the Russian Anthropological School. In 2012, communications on the topics had been made by A. Urakova, N. Khalymonchik, S. Zenkin, O. Aronson, D. Novikov. Keywords: gift, Russian Anthropological School, contemporary philosophy, anthropology, Emerson, Thoreau, Derrida, Mauss, economy of exchange. Elena Fedotova Ritual death as a literary device for the King’s legitimation in a popular Scottish song. In this article the author offers the analysis of the text of a popular Scottish song Skye Boat Song in the context of its political component: its goal and ways of expression. The author tries to prove that the Song has a second, associative semantic level, created by the specific structure, imagery and vocabulary of the text. On this semantic plan, the protagonist of the Song, Charles Edward Stuart, appears to be a king fallen in battle and therefore a Saviour for his people. Even though this is not a historical truth, this literary device turns the unlucky pretender to the royal throne into the legitimate King and the center of unification and self-identification for the Scottish nation. Skye Boat Song, which was in reality written by H. Boulton, became ‘a standart of a Scottish folk song’, since its message corresponded to the national Scottish expectations. Keywords: Scottish folklore, Skye Boat Song, H. Boulton, Charles Edward Stuart, jacobitism, Celtic tradition, Irish sagas, underlying semantic level of a text. Alexandra Volodina Poetics of «common place» and a problem of poetic subjectivity: I. Kholin’s poetry. The article is devoted to the analysis of the poetics of Igor Sergeevich Kholin, one of the members of the so-called «barachnaya school» or «Lianozovo school». The key notion in this analysis is a «common place», which here represents not only a banality or a cliché, but a specific situation, non-poetic by its source and well-known and shared by a society of Soviet citizens. This article studies the deindividuated poetic subject, who is situated in this «common place», and the tradition of such type of fragmented poetic subjectivity (using the example of A. Vvedensky’s poetry). 280 Keywords: Lianozovo school, I. Kholin, G. Deleuze, A. Vvedensky, fragmented poetic subject, «common place», poetics of nonsense. Albert Parry Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689–1917: Their Cultural, Political, and Economic Role (Trans., introd. and comm. By O. Grintsevich). The article of Albert Parry (Parezky), an American author of Russian derivation, first published in 1940, analyzes the work of The Russian Orthodox Mission in China against the general background of political and economic developement of Russia. Dealing an impartial evaluation of its activities, the author considers the main reason for the relative failure of the Mission a typical for Russia subordinate position of the Church and religion (be it the orthodox christianity or the communism supplanting the former) in relation to the State. The translation is accompanied by an introduction and comments. Keywords: Russian Orthodox Mission in China, Russian-Chinese relations, trade capital, dialogue between confessions, historiography, history. Содержание 1. Сообщество: теория и практика А. Олейников. Сообщество в теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Т. Вайзер. Единое и единичное в исследованиях сообщества . . . . . . . . 33 П. Сафронов. План демобилизации: по ту сторону метафизики и политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 В. Кузнецов. Искусство со-общаться . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Е. Савицкий. «Наша общая пустота»: как мыслить полые сообщества? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Н. Полтавцева. «Невидимые колледжи» / «Воображаемые сообщества» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 А. Ожиганова. Современные эзотерические сообщества: проблемы и перспективы изучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 К. Бандуровский. Современное сообщество и национализм: подходы Бернарда Яка к решению противоречий . . . . . . . . . . . . . . 119 И. Польский. От «дачников» к «поселенцам»: опыты сообщества в движении «Анастасия» / «Звенящие кедры России» . . . . . . . . . . 136 П. Микитенко. Сообщество и его условия в Москве 1990-х гг.: к теории акционизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2. Научные семинары РАШ А. Якобидзе-Гитман. Восстановление старого как способ легитимации нового: социокультурные факторы развития музыки в Италии и Германии на рубеже XVI–XVII вв. . . . . . . . . . 166 А. Уракова. Семинары РАШ в рамках проекта «Антропология дара» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Е. Федотова. Ритуальная смерть как средство легитимации короля в популярной шотландской песне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3. Работы магистрантов РАШ А. Володина. Поэтика «общего места» и проблема поэтической субъективности: поэзия И. Холина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4. Переводы и публикации А. Перри. Экономическая, политическая и культурная роль русских (православных) миссионеров в Китае в 1689–1917 гг. (Пер., пред. и прим. О. Гринцевича) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5. Разное Календарь научных событий РАШ за 2012 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Библиография преподавателей, сотрудников и учащихся РАШ за 2012 год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Объявление о приеме в магистратуру РАШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Краткие сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Contents 1. Community: theory and practice A. Oleynikov. Community in theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 T. Vaizer. Unity and singularity in community studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 P. Safronov. Demobilization plan: Community beyond metaphysics and politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 V. Kuznetsov. The art of communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 E. Savitskiy. «Our Common Emptiness»: How to think about a hollow community? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 N. Poltavtseva. «Invisible colleges» / «imagined communities» . . . . . . . . . . 90 A. Ozhiganova. Modern esoteric communities: Problems and prospects of study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 K. Bandurovsky. Contemporary community and nationalism: Bernard Yack’s approaches to resolving the contradictions . . . . . . . . 119 I. Polsky. From «summer residents» to «settlers»: Experiences of community in «Anastasia» / «The Ringing Cedars of Russia» movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 P. Mikitenko. Community and its conditions in Moscow in the 1990s: Towards a theory of actionism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 2. Workshops in RAS A. Jakobidze-Gitman. The restoration of the old as a way of legitimation of the new: Social and cultural factors of the musical development in Italy and Germany at the turn of the 16th–17th centuries . . . . . . . 166 A. Urakova. The «anthropology of the gift» project: A workshop series in RAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 E. Fedotova. Ritual death as a literary device for the King’s legitimation in a popular Scottish song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3. RAS undergraduates’ contribution A. Volodina. Poetics of «common place» and a problem of poetic subjectivity: I. Kholin’s poetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 4. Translations and publications A. Parry. Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689–1917: Their Cultural, Political, and Economic Role (Trans., introd. and comm. by O. Grintsevich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5. Miscellanea Academic agenda in RAS in 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Bibliography of RAS faculty members and students for 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Notice on application to MA courses in RAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 The authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 T78 Труды «Русской антропологической школы»: Вып. 12. М.: РГГУ, 2013. 287 с. 12 том «Трудов РАШ» освещает различные аспекты работы РАШ за последнее время. В разделе «Сообщество: теория и практика» публикуются статьи участников конференции «Опыты сообщества», проведенной РАШ в 2011 г., раздел «Научные семинары РАШ» представляет материалы проектов, посвященных музыке и антропологии дара. Представлены также работы магистрантов РАШ: статья А. Володиной «Поэтика “общего места” и проблема поэтической субъективности: поэзия И. Холина» и перевод статьи Альберта Перри, выполненный О. Гринцевичем. С подробной библиографией сотрудников РАШ и мероприятиями, проведёнными РАШ в 2011 году можно ознакомиться в разделе «Разное». УДК 008.001 ББК 71.4я43 Научное издание Труды «Русской антропологической школы» Вып. 12 Ответственные редакторы выпуска А.А. Олейников, К.В. Бандуровский Художественный редактор М.А. Якобидзе-Гитман Корректор Д.В. Барышникова Компьютерная верстка А.В. Гараджа Оригинал-макет подготовлен в Институте «Русская антропологическая школа» Подписано в печать 30.04.2013. Бумага № 1. Формат 60 x 841 /16 Уч.-изд. л. 17,0. Усл. печ. л. 16,7. Тираж 1050 экз.