Ланкин - Смысловой космос России_x
advertisement
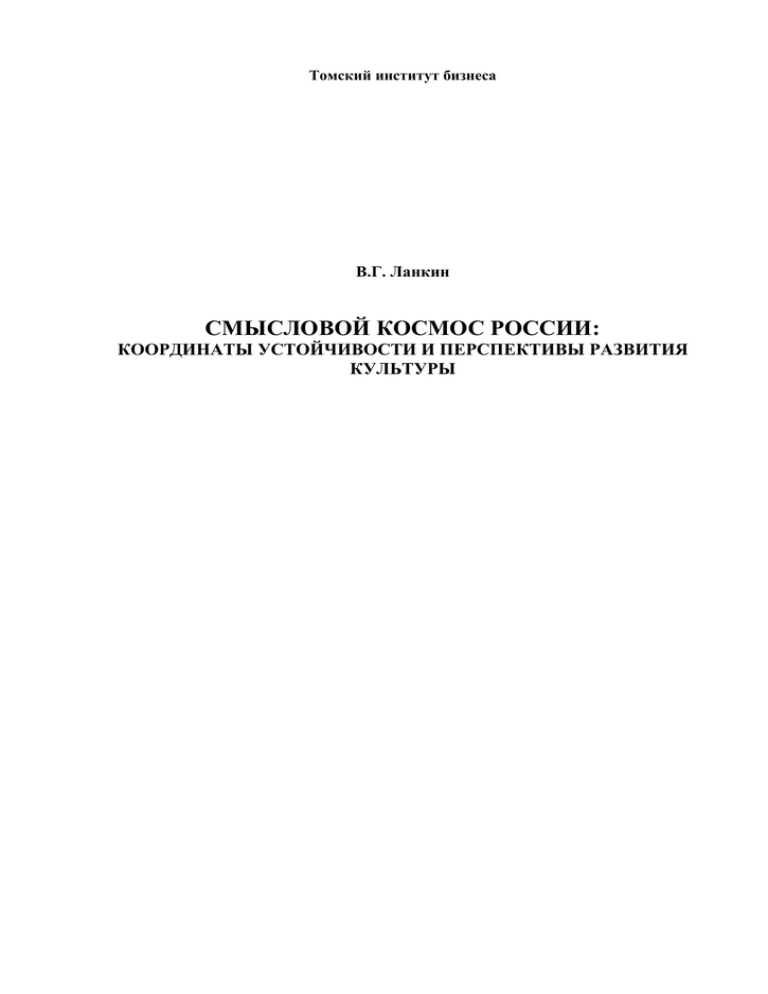
Томский институт бизнеса В.Г. Ланкин СМЫСЛОВОЙ КОСМОС РОССИИ: КООРДИНАТЫ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ Рецензенты: д. филос. н. И.П. Элентух, к. филос. н. С.И. Ануфриев Л 10 Ланкин В.Г. Смысловой космос России: Координаты устойчивости и перспективы развития культуры. Томск, 2010 г. - … с. В этой книге анализируется проблема культурной идентичности российской цивилизации. Основа для такого рассмотрения – теория типов культур как смысловых модальностей, задающих разные векторы в творческом переосмыслении и преобразовании естественного человеческого существования и лежащих в основе разных цивилизационных проектов и систем. Данная проблема рассмотрена в контексте современных процессов, происходящих в России и в мире – с одной стороны, процессов культурной глобализации, а с другой, – сосуществования и напряженного диалога культур различного типа – диалога, который идет внутри каждой из известных цивилизаций и, как кажется, особенно остро проявляется в политическо-правовом, философском и культурологическом дискурсе современного отечественного общества. Работа, выполнена в жанре научной монографии. Предназначается студентам, аспирантам, всем интересующимся вопросами культурного самоопределения человека и общества. © Ланкин В.Г. 2010 © ТИБ 2010 2 Оглавление Предисловие …………… ………………. ……………. ………….. 4 1. Идентичность в культуре и обществе: предварительные положения ………….. 6 2. Возможна ли российская цивилизация? Место России в в культурно-типологических координатах Запада и Востока …………………………………………………………. 13 2. Критерии типологии культур. Культура как переосмысление натуральности 4. Вариантность смысла и ключевые структуры типов культур 21 ………….. ….. 27 5. Характеристики культурно-смыслового типа: Исторический опыт России и его интерпретации ……. ……….. ……. …………… 46 6. Современное российское общество как зеркало культурно-смыслового типа 59 7. Язык и другие факторы устойчивости смысловой целостности культуры 62 8. Культура как система жизненных задач: естественные и смыслообразующие факторы 71 9.Национальный характер и менталитет как формы смыслообразования 75 10. Идентичность и традиция: концептуальные горизонты 11. Культурная традиция и современность 12. Логика модернизации ……… 80 …… ……. …… 88 …………. ………. ……….. 13. Россия ХХI: аргументы вестернизационного проекта 14. Россия в поисках пути к себе 15. Диалог как фактор развития культуры 95 ………… 102 ……………. ………. ………… 112 ………….. ………….. 118 Вместо заключения: Культура России в вихре непредсказуемой динамики 123 Литература 132 …………… …………. …………… ………. 3 Предисловие Если кто-то захочет найти в этой книге новые, берущие за душу, метафоры патриотической риторики, то он разочаруется. Тот, кто, напротив, будет искать в ней аргументы бесстрастного отрезвляющего анализа, сбивающего пафос культурной самобытности и самодостаточности, ошибется еще больше. Наконец, обманется и тот, кто будет искать в этой книге ранее не известные идеи и исторические подробности – тот дополнительно введенный материал, который бы позволил на обновленных эмпирических основаниях осветить вопрос о культурной идентичности российской цивилизации. Нет, в этой книге предлагается всего лишь новый взгляд на сумму вполне известных идей, характеристик и фактов. Но в свете этого нового взгляда все эти характеристики обретут статус аргументов в пользу вполне последовательной теоретической модели, позволяющей увидеть культуру, ее историю и современность не как свободный набор качеств, тенденций и особенностей, которыми можно произвольно манипулировать в конъюнктурных целях, а как логически четкую структуру, которую не возможно ни легко демонтировать, ни намеренно искривить, разве что подобрать столь же веские аргументы против этой модели. Вникнув в предложенные в этой книге аргументы, нельзя делать любые желательные выводы об отечественной истории и задумываться о вероятности любых, кажущихся убедительными, прогнозов о ее ближайшем и даже обозримо далеком будущем. Русская культура действительно предстанет здесь особым культурным типом, основывающемся на наличии особой системы смыслообразования, а отечественная история при все ее сбивчивости и противоречивости высветит многовековой опыт творческой реализации этой системы – опыт построения особой – уникальной и значимой цивилиазции. О своеобразии русской культуры за последние 180 лет – начиная с «Философических писем» П.Я. Чаадаева – написано очень много. Столь же много за 140-80 лет (начиная со знаменитых работ Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера) написано и о типологии культур. Обычно мы увлеченно начинаем перечислять, что было написано – с точки зрения содержания мнений. Но как было написано – с точки зрения метода? Если посмотреть внимательно, все эти теории имели либо эмпирически-индуктивный, либо гипотетически дедуктивный характер. Какой-то привкус случайности – случайности фактов, образующих эмпирически пестрое поле культурологического материала и (или) случайности теоретических построений, выхватывающих в качестве своей основы то один, то другой определяющий фактор так, что ни один из них не позволяет сфокусировать на себе все поле многообразия, ни один не позволяет с достаточностью оснований и систематической ясностью и полнотой объяснить природу этого многообразия. Порой кажется, что культурология для того и предназначена, чтобы утопить в море исторической случайности вечные истины миропонимания и вечные ценности человеческого бытия, раскрывавшиеся именно в таком качестве вечных в рамках философских теорий недавнего прошлого. И все же, глядя на эти хронологические цифры, мы видим, что наука, призванная изучать эти вопросы, чрезвычайно молода, в сравнении, скажем, с математикой, химией, биологией или, с другой стороны, с искусствознанием и догматическим богословием. Она – наука о культуре – в таком сопоставлении с науками, давно сложившимися, делает, по сути, первые шаги. И это связно, конечно, не с нерасторопностью исследователей, не с малым вниманием общества к ее проблемам, а с чрезвычайной сложностью темы и неподатливостью «субстанции» культуры, в которой по сути «растворены» сами наши сознания и в противоречивые перипетии которой так горячо и полемически остро вовлечено человечество. В свете этого разъяснения становится видно, что типология культур до сих пор представляла собой серию пробных идей, одни из которых более обещающие, другие 4 менее (потому и надо внимательно изучать все эти идеи), но исчерпывающей типологической теории так и не построено. А как можно говорить о своеобразии одного из элементов многообразия, если не видеть четких параметров сопоставления его с другими элементами, если не обладать существенными критериями сравнения – существенными для всех элементов многообразия? Да, именно так и выглядит сегодня компаративная культурология – произвольный набор «своих» презентативных качеств она соотносит с «соответствующим им», но при этом еще более произвольным – спроецированным - набором «чужих». «Что русскому – здоровье, то немцу – смерть» - и т.д. именно в таком роде. Как можно говорить о своеобразии русской культуры, не видя четко ее места в типологическом ряду? Пожалуй, можно говорить только о каких-либо приоритетах или же, наоборот, об отсталости – в зависимости от ракурса и критерия сравнения. Можно говорить о смешанных чертах мифологизированных «Востока» и «Запада» (в результате чего, рассуждая последовательно логически, Россия будет отставать и от того и от другого и, между тем, иметь черты относительных приоритетов и над тем и над другим). Можно, наконец, просто обрисовывать эмпирически конкретную модель – не по принципу типологического сравнения, а по принципу ее исторической уникальности: «на том, мол, стоим – Евразия; и другой судьбы нам не надо». Но будем логически строги: нет типологии, нет и четкости в осознании своеобразия. История и география точно тогда пересилят культурологию. Но разве русская культура это ее география? Разве культура России это ее сбивчивая история, а не наоборот, ее история – это история культуры, при всех превратностях событий преемственной и даже идентичной самой себе? Культура - это скорее духовная антропология и теория сознания. Мы постараемся отойти от модели культурологии как калейдоскопа многообразия и обратиться к модели культуры как формы творческого переосмысления натурального человеческого существования – при его логически определяемой вариантности. Мы обратимся к интерпретации культуры как формы организации деятельности человеческого сознания. И мы получим примерно такой же теоретический эффект, какой получила в свое время химия, ранее занимавшаяся описаниями свойств элементов и их соединений, а затем обретшая периодический закон, позволивший выявить саму «субстанцию» химического, состоящую в сочетании электронных оболочек атомов и молекул. Мы увидим вариантность культуры не как многообразие исторических преобразовательных задач человечества, а как вариантную форму смыслообразования – как способ организации деятельности человеческого сознания. Мы увидим типологию культур в ее необходимости, дискретности и строгой определенности и увидим сами типы культуры в их относительной исторической устойчивости и идентичности, в их несоизмеримой сопоставимости – в их равноценности, хотя и не равнозначности. И вот тогда мы поймем и своеобразие отечественной культуры – в качестве носительницы одного из типов культуры – одной из смысловых программ, направленной на преодоление спонтанной естественности бытия. 5 1. Идентичность в культуре и обществе: предварительные положения Вопрос о культурно-цивилизационной идентичности России предстает как часть, при чем вторичная, конкретизирующая часть более общей проблемы - проблемы идентичности социального субъекта как таковой. Одновременно установление (выявление) такой идентичности - это только часть проблемы ее восстановления. Фактором культурноцивилизационной идентичности и устойчивости выступает социальная самоидентификация самоидентификация членов сообщества в качестве носителей его ценностных приоритетов и, таким образом, в качестве членов именно этого сообщества. Кризис идентичность переживет в эру постмодерна не только общество - и это, соответственно, не только идентичность культурная и цивилизационная, на рассмотрении которой мы концентрируем внимание в этой работе, но и идентичность персональная. Личность теряется в плюрально-релятивном потоке нарратива, призванного установить его идентичность и при этом эту идентичность теряет - причем теряет ее не только в онтологическом смысле («смерть субъекта», но и в феноменологически-смысловом носитель субъектных претензий всего лишь встроен в помимо него нарастающий текст, к тому же тоже в качестве смыслового образования не идентичный сам себе. Можно заметить, что обе проблемы - персональная и культурная идентичность связаны и являются продолжением одна другой. Личностная – смысловая идентичность проявляется как идентификация с традицией. Стратегии игры и «паломничества» в смыслообразующем пространстве постмодернизма предполагают обращенность личности к традициям, равно как и открытость такой обращенности. Под идентичностью личности американский психолог Э.Г. Эриксон понимает субъективное чувство и одновременно объективно наблюдаемое качество самотождественности и целостности индивидуального Я, сопряженное с верой индивида в тождественность и целостность того или иного разделяемого с другими образа мира и человека. Являясь жизненным стержнем личности и главным индикатором ее психосоциального равновесия, идентичность означает: а) внутреннее тождество субъекта в процессе восприятия им внешнего мира, ощущение устойчивости и непрерывности своего Я во времени и пространстве; б) включенность этого Я в некоторую человеческую общность, тождество между типом мировоззрения, организующим личный опыт и том, что принят на уровне сообщества – идентификация себя в качестве члена сообщества. И в случае личности, и в случае культуры как идентичности - то есть тождественности самим себе, в результате чего они могут выступать в качестве устойчивых онтологических центров субъектной деятельности, в качестве смысловых центров субъектности - речь идет: 1) о непрерывающейся преемственности этой субъектности - как в аспекте носителя - индивида или сообщества, так и в аспекте ее смыслового содержания, 2) об определенном структурном качестве этого содержания, благодаря которому оно само, несмотря на все модификации и флуктуации, может сохранять единство смысловой собранности и интенциональности (ценностно-смысловой направленности). Первая из этих характеристик как бы выражает связь совершающегося деятельностного события с прошлым; вторая - с будущим; но и та и другая характеризуют, прежде всего, настоящее как аутентичное, а не сводящееся к совокупности обстоятельств, и собственно структурно организованное, а не сводящееся к действию спонтанно совпавших детерминант. Без этих качеств деятельного события идентичность распадается, и, соответственно, распадается и субъектность как самоорганизация, самоопределение, как аутентичность - теряется качество субъекта как агента, имеющего источник активности в себе самом. И это все не теоретические проблемы понимания и интерпретации, а проблемы реального мира 6 современности: именно сейчас на наших глазах человек субъект утрачивает это качество аутентичности, превращаясь в тотально манипулируемое существо. Но это же происходит и с цивилизационными сообществами - они теряют качество солидарности на основе высокой ценностно-смысловой структуры и превращаются в аморфное состояние массы, объединяемой только единством места и спонтанно протекающих (обыденных) обстоятельств, в число которых входит и циркуляция информации в той мере, в какой это делает возможным система современной массовой коммуникации. Так что проблема идентичности это не только вопрос выявления идентичности, а острая задача ее установления (восстановления). Это так называемое «воскрешение субъекта» — стратегическая ориентация позднего (современного) этапа развития культуры, фундированная отказом от установки на «смерть субъекта», сформулированной в рамках постмодернистского дискурса. Отмечается, что в центре внимания постмодернистской философии сегодня находится анализ феномена, который был обозначен Дж. Уардом как «кризис идентификации»: Дж. Уард констатирует применительно к современной культуре кризис судьбы как феномена, основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как идентичной самой себе, онтологически конституированной биографии. Но эта ситуация признается болезненной и опасной. Она требует преодоления, стратегия которого может быть обозначена как стратегия программного неоклассицизма, В этом контексте важнейшим моментом анализа "кризиса идентификации" выступает постулирование его связи с кризисом объективности ("кризисом значений"): как полагает Уард, именно эта причина, в первую очередь, порождает проблематичность для субъекта самоидентификации как таковой в условиях, когда "зеркало мира", в котором он видел себя, "разбито в осколки". В связи с этим М.Готдинер говорит о желательности, и даже необходимости формирования своего рода "культурного классицизма", предполагающего "возврат" утраченных культурой постмодерна "значений". Очевидно, что под этими значениями имеются в виду культурные смыслы, ведь идентичность личностно-субъектная и культурно-содержательная неразрывны. Эта идентичность означает ценностно-смысловую определенность, устойчивость смыслообразующих значений, в систему которых включен социальный субъект и связана с культурной преемственностью сообщества - от микросообщества - коллектива - до мегасообщества - цивилизации. Тезис о сохранении субъектной идентичности противостоит не только постмодернистским симптомам распада субъектности и выпадения человечества в ситуацию спонтанности, которая родственна идее приспособления к естественности и стирает принципиальную грань категориальной оппозиции культура - природа. Она противостоит и модернистскому тезису о перманентности и ценностном приоритете радикальных изменений в развитии. А именно этот тезис выносят в качестве главного логического аргумента сегодня сторонники модернизации по западному образцу (поскольку именно этот образец мыслится как эволюционно наиболее продвинутый и передовой). Если следовать модернистской логике, человечество должно быть культурно и цивилизационно унифицировано на принципах наиболее динамичной, как представляется, культуры Запада. Если следовать логике постмодерна, оно будет погружено в хаотическую мозаичность мультикультурности, за которой ничего не будет стоять кроме полного смыслового релятивизма и опрокинутости культуры в контекст технологий приспособления, напоминающих, несмотря на высокий уровень такой адаптации, примитивные формы магии и мифа при доминирующей сфере обыденности. М. Маклюэн пишет в связи с этим об мире массовой коммуникации как о «мировой деревне», о радио как о «племенном барабане», и о телевидкении как о «племенном костре»1. Это образ культуры осмысления, вырождающейся в технологию приспособления. Обе эти логики проявлены в реальных тенденциях современной социальной динамики человечества. Но они обе не кажутся здоровыми. Как мы постараемся 1 Маклюэн М. Понимание Media. М., 2006 7 показать, в основе культурной идентичности цивилизаций, представляющей вариантные типы, лежат типы смыслового преодоления наличной действительности, вокруг которого строился, начиная с «осевого времени» опыт культуры. Этот опыт дискретен, то есть основывается на культурно-смысловой идентичности и цивилизационной преемственности, и диалогичен, поскольку именно принципиальная вариантность опыта открывает возможность диалога. А в сохранении, совершенствовании и развитии поликультурного мира диалога видится путь, позволяющий избежать как модернистской суперглобальной унификации, так и плюралистического хаоса, в результате которого образ культуры как высокоорганизованного «смыслового космоса» оседает до контекста приспособительных реакций. Особую актуальность проблеме культурной идентичности придает и такая объективная тенденция современности, как воссоздание и рост национально-этнического сознания во многих уголках мира. В том числе и нашей страны - в противовес модернисткой тенденции унифицирующего объединения сообщества под знаком единых великих целей - в единую социальную общность. Это заметная характеристика не только таких многонациональных стран как Россия или Америка, в отношении которой замечено, что «плавильный котел», обеспечивавший культурное единство нации колонистов и эмигрантов, который Америка представляла на протяжении почти всей своей истории сегодня начинает остывать, но и такого интегрирующегося в единое государство региона, как Европа, одной из тенденций чего стал этнический сепаратизм, стремящийся разорвать политические и социокультурные узы бывших национальных государств. Ситуация же в России верно характеризуется следующими словами: «С конца 80-х годов в России заметно актуализировались этносоциальные процессы. Выразившись первоначально в культурных течениях, выдвигавших целью возрождение национальных культур, они постепенно стали оказывать существенное воздействие на реформирование политической системы» (Г.С. Денисова). При этом исследователи с тревогой замечают, что, казалось бы давно и на классической основе вопрос о специфике природы этнических общностей до сих пор «не нашел однозначного ответа в отечественной науке. В огромном количестве публицистических и аналитических статей, появившихся в последние годы, предметом которых является рассмотрение "точек" напряженности на почве межэтнических или этнополитических отношений, доминирует ситуационный подход» (Г.С. Денисова) 2 . Ряд авторов: Г.С.Денисова, В.А.Авксентьев3, Р.Д.Хунагов, М.М.Кучуков 4специально рассматривают проблему идентификации социального и культурного субъекта, в ситуации этнического конфликта (Авксентьев В.А., с.10). Именно эти условия важны для понимания природы «вторичного разогревания этногенеза, изменения социально-экономической и культурной моделей, задающих матрицы воспроизводства этнических сообществ»5. Все эти рассмотрения основаны на том, чтобы, так или иначе, поставить культурносмысловые мотивы в зависимость от логики социального интеракционизма, выражающего интересы сообществ и интересы индивидов в сообществах. Но история показывает, что интересы не так устойчивы, как культурные установки, что их наличие и особенно их шаткий баланс не могут выступать достаточным основанием объяснения цивилизационной устойчивости и идентичности. По нашему представлению, природа социокультурных процессов не гомогенна, а гетерогенна, как гетерогенен и сам человек - существо одновременно натуральное и сознательное (духовное), то есть сверхприродное. Одно начало Денисова Г.С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского государственного педагогического университета, 1997 3 Авксентьев В.А. Межэтнические конфликты. Социально-философский анализ. Автореф. на соискание степени докт. философ. наук. Ставрополь, 1997 4 Кучуков М.М. Национальное самосознание. Вопросы теории и истории. Автореф. на соиск. степени докт.филос.наук. Ростов-на-Дону, 1994 5 Андреев.А. Этническая революция и реконструктция постсоветского пространства. ОНС. 1996. N 1, с.107 2 8 не сводится к другому, но тесно взаимодействует с ним, выстраиваясь в системы органичной согласованности, но с включением существенных фрагментов противоречивых столкновений (культура как преодоление естественности, естественность как проявления варварства, как срыв, как разрушение культуры). Таким образом, редукционистская концепция социального интеракционизма и связанная с ней исключительно функциональная трактовка культуры должна быть дополнена концепцией культуры как опыта осмысления и формирования культурных установок в результате взаимодействия собственно культурносмысловых элементов. Наличие влияния идей культуры на общество не ново повсеместно отмечается, но отмечается оно следующим образом: Ракурс рассмотрения был, как правило, таков, что в его фокусе оказывались человек с его взглядами, общество с его идеями, на которые как-то влияла при этом и культура. Идеи, ценности и взгляды в их собственном смысловом измерении, как правило, не рассматривались, поскольку не выделялось само это измерение смысла вне отнесения к значениям осознаваемой реальности жизни. Даже идея М.Вебера о роли религиозной этики в складывании идеальных типов и, соответственно, формации общества в целом фокусирует внимание на прикладном характере этой этики по отношению к социальной жизни – на этике по отношению к богатству, к хозяйству, на этике смысла жизни – с акцентом на слове жизнь, а не нас лове смысл. Перспектива выделения собственно смыслового измерения в содержании культурных идей, ценностей, традиций позволяющая анализировать и сопоставлять феномены культуры как соотносимые величины смыслового космоса, открывается в связи с развитием феноменологии смысла, приходящей в конце ХХ гносеологии отражения и предметного содержания. Мы исходим из того, что культура не влияет на формирование, а составляет смысловое содержание взглядов. Культура это и есть опыт осознания. Формирование взглядов и идей – это не столько процесс осознание социального положения (или натурального положения человека), сколько собственно культурный процесс, на который социальные факторы, конечно, влияют, но существо которого – усвоение и выработка культурных идей. При этом усвоение здесь преобладает над выработкой. Дело в том, что положение о том, что человек – творец культуры, выведено в довольно абстрактной дедуктивной форме. Человек одновременно сам – конструкт, сформированный культурой. Хотя то усвоение культурных установок и идей, в результате которых формируется личность, происходит в форме их творческого (сотворческого) воссоздания. Романтическое и модернистское представление о свободе творчества как способности созидать новое, ранее не бывшее бытие (Н.А.Бердяев) в социально-гуманитарном знании последней трети ХХ века было откорректировано на основе представления о свободе как свободе выбора и о человеческом созидании как интерпретирующем переистолковании смысла – как о реорганизации имевшихся структур бытия, в противовес представлению об их произвольном конструировании. В основе исторического процесса, как правило, лежит выбор альтернатив, каждая из которых существует как возможная модель осмысления и организации деятельности. Причем большинство таких моделей характеризуется качеством устойчивости, носит воспроизводимый, традиционный характер; выбор же альтернатив это не повседневная реалия, а, как правило, исторический поворот, связанный с определенными социально-культурными условиями. Сам выбор исторических альтернатив характеризуется многими исследователями как бинарная логическая структура: модель культурной инверсии (по А. Ахиезеру), только в достаточно редких случаях дополняемой культурной медиацией, то есть нахождением ранее неизвестного «срединного пути» - логического синтеза, с которым и связывается собственно творческий потенциал культурного развития. Методологический поворот в понимании творческой свободы как основания культурного созидания – поворот от концепта свободы - неограниченной возможности к концепту свободы-выбора – заставляет сделать косвенный вывод о преобладании информационно-смысловой инерции над созданием (выработкой) новой информации, если 9 мыслить на том или ином частном примере, а в обобщенном масштабе эволюции сообществ. Причем это, скорее не столько тормозящая инерция консерватизма, сколько особая «инерция» типичной динамики - интенсивной динамики творчества, но динамики стереотипного характера. Стереотип здесь – в самом характере творческого порыва. Это позволяет сделать вывод и о роли факторов преемственности – поддерживаемой, восстанавливаемой или заимствованной – в условиях их столкновения и взаимодействия в социально-культурном развитии. Как правило, при этом технически-целевые и политически оперативные задачи вырабатываются. Ценностно-смысловые же установки усваиваются. Проблема культурной идентификации (самоидентификации) связана с категориальным уточнением (различением) социального и культурного аспектов. В современной исследовательской литературе, как отечественной, так и зарубежной, эти понятия разводятся довольно слабо (порой даже объединяются – в ключе признания наличия единой социокультурной реальности, только описываемой в разных ракурсах). Имеет место различное понимание соотношения этих понятий: Упрощенно говоря, в одном варианте культура мыслится как феномен в рамках социальной жизни (по преимуществу выражающий духовную составляющую этой жизни, активный, но, скорее все же «надстроечный» ее слой). В другом варианте, напротив, общество понимается как культурное сообщество, сформировавшееся в качестве такового именно в результате развития культуры, в частности, культуры общения (язык, «символические формы»), нравственной координации, взаимопонимания и мировоззренческого единства членов сообщества, образующего, таким образом, основу собственно социальных человеческих взаимодействий, отличных от естественных коллективных проявлений биологической популяции. Третий вариант, который нам представляется наиболее адекватным, исходит из дуализма в объяснении тесного и сложного взаимодействия естественно-социального и культурно-социального начал. Такой дуализм вполне вероятен и непротиворечив в объяснении амбивалентной человеческой реальности: С одной стороны, человек естественно-телесен – при чем не только в индивидуальном, но и в социально-групповом смысле (он материально зависит от рода и группы, стремится к получению большей доли от материальных возможностей, возникающих из взаимодействия группы (естественный экономический интерес), стремится к доминированию в группе (естественный мотив власти) вплоть до лидерских устремлений и агрессивно-насильственных форм. Сам факт того, что человека можно заставить подчиниться воле другого человека как простое физическое тело или как несмысленное живое существо (применять насилие, обман, внушение, манипуляцию), говорит о том, что человеческая социальность зиждется на естественной основе межчеловеческих ситуаций и связей. Естественное человеческое общество при этом неизбежно конфликтно и групповая самоидентификация в нем, если она возникает, зиждется на оппозиции «мы» – «они», на логике объединения «против кого-то». С другой стороны, человеческое сознание открывает возможность регулирования отношения на уровне взаимопонимания и в связи этим, культурной координации поведения, способной исторически преодолевать эксцессы межчеловеческой естественности, способной давать ответы осмысления на «вызовы» социальной природы (которых от этого, заметим, не становится меньше). Культура выступает в этом аспекте как опыт и текст осознания, не просто отражающего материальную действительность, но преобразующего ее спонтанные контексты в смысловые события. Культура здесь предстает как собственно духовная инстанция, то есть, как формирующаяся способность улавливать, смысловой потенциал естественного события и реализовывать его в творческих свершениях. Человеческое существование это и материальное бытие, и духовное событие. Это и природная заданность, и возможность свободного установления нового – смыслового (осознанного) и искусственного (культурного) события, которая к этой заданности не сводится. Человек, равно как и социум, в своих принципиальных истоках двойственны: они несут на себе печать устойчивого материального бытия и подчиняются его непреложным 10 законам; и они в свой субъектной деятельности открыто событийны и при этом организующе деятельны, способны к образованию в этом открытом событии нового смысла и новой реальности, что и раскрывается как культура. Эти два принципиальных истока человеческой социальной реальности хорошо различаются с помощью двух понятий: общество и сообщества (Х. Ортега-и-Гасссет ). Таким образом, и рассматриваемая нами культурная самоидентификация двойственна, поскольку она по своему понятию выражает отношение соответствия между человеком или сообществом как носителями субъектной самости и культурой как определившимся опытом осмысления и программой организации деятельности. Суть же проблемы состоит в том, что культурная самоидентификация по естественносоциальному мотиву означает использование культурных индексов для целей отстаивания субъективных интересов индивида и сообщества, для целей прагматически важного отмежевания «нас» от «них», для целей утверждения социально-культурного приоритета и даже исключительности. Прежде всего, здесь имеются в виду материальные интересы. Наиболее ярким и устойчивым феноменом такого типа идентификации является этнос. Этническая идентификация означает сплоченность сообщества, прежде всего для решения общих геополитических и стратегических задач; все прочие же признаки этноса – служебные, в том числе и язык. Как только единство геополитических задач теряется, или как только, по версии Л. Гумилева, теряется «пассионарность», то есть способность отождествить собственные интересы с интересом сообщества как целого, так теряют основу и культурные факторы этноса, вырождаясь в некие архаичные и фрагментированные традиционные формы. Подобный же пример дает политико-идеологическая сплоченность сообщества. Как только политический интерес и политическая воля иссякают, идеология теряет смысл. Другой вариант культурной самоидентификации имеет в основе своей мотив прежде всего собственно культурный – мотив внутренней организации опыта осознания, без которой человеческая личность не может обрести полноты осмысления собственного бытия. Культура выступает в таком понимании как опыт осмысления, который несводим к осознанию материального положения человека в мире и человека в социальной ситуации, а предполагает творческое новообразование смысловой целостности там, где ее раньше не было. Культура и есть такое суммарное новообразование, которое придает, таким образом, смысл человеческому существованию и становится программой его деятельности и поведения. Элементным материалом, а вовсе не всецелым содержанием культуры является в таком понимании естественная жизненная ситуация человека и социума. Содержание же это выходит за рамки естественной ситуативности жизни и поэтому может регулирующе влиять на жизнь, давать смысловые ответы на естественные всплески человечности и социальности. Пример – феномен религиозного сообщества, выходящего за рамки этнических и политических, и вообще – по своему особому содержанию – за рамки материальножизненных границ. При внимательном рассмотрении оказывается видно, что речь идет не о разных подходах, ракурсах рассмотрения и моделях понимания единой, хотя и сложной социокультурной реальности, не о способах выделения разных аспектов во взаимодействии естественно-социального и культурного начал, а о двух разных факторах в том взаимодействии и о той взаимообусловленности, которые происходят между обществом в развитии его естественной субъектности и культурой как фактором обретения человеческих качеств осмысления и понимания. Да, общество в его естественной сцепке нуждается в задействовании этих качеств. Именно тогда, когда социальные связи культивируются проходят через опыт осмысления и отражаются в его устойчивых структурах, эти связи образуют организованное сообщество. И в этом – вечный мотив культивации социального события, окультуривания социальных связей. Но, с другой стороны, культура реализует и свою собственную программу – дает человеческому существованию устойчивое смысловое пространство, организует свой собственный порядок – смысловой космос культуры, - в 11 котором и обитает человек и в который в соответствии с конфигурацией этого космоса укладываются социальные связи, становясь, таким образом, социокультурными. И в свою очередь, культура в этом ее собственном развертывании нуждается в пространстве межчеловеческой коммуникации, то есть нуждается в организуемом сообществе. В одном случае самоидентификации человек выступает как естественный субъект, который нуждается в культуре для того, чтобы упрочить свой естественно-социальный статус (осознать и отстоять свой интерес). В другом случае он нуждается в культуре как в способе обретения смыслового пространства миропонимания и деятельности, в том числе и пространства взаимопонимания, общения и образования сообщества. В первом случае можно говорить об индивиде и обществе, которые используют культуру в своих естественных интересах; в другом – о культуре, которая самим своим содержанием образует смысловой мир человека и дает ему возможность вступать в сообщества, образовывать сообщества на основе естественных социальных отношений. В случае культурной самоидентификации первого типа действуют прежде всего законы естественной социальности. В культурной самоидентификации второго типа раскрываются структурные закономерности культуры как пространства осмысления. При этом понятно, что в реальной истории эти два мотива и эти два фактора установления соответствия между социальным субъектом и культурным содержанием взаимопересекаются, взаимодействуют, как бы совпадая по содержанию, что не отменяет их выявленной принципиальной гетерогенности. Первый вариант самоидентификации правильнее назвать социологическим, второй – собственно культурологическим. В первом случае выделяется (и отслеживается) социальное значение факторов культурной самоопределяемости людей, их значение в образовании, сплочении и взаимодействии групп, коллективов, сообществ. Во втором случае на первый план выходит собственно культурное содержание – содержание осмысления жизненного и деятельностного опыта, которое приводит к действию идей (идеологий), проектов, традиций и символов памяти в общественной жизни, но к этому действию не сводится, а состоит в становлении (конструкции, складывании, формировании, появлении) самих этих идей. И это содержание систематизируется тогда не по его социально-группирующему значению, а по некоторой структурно-смысловой шкале (насколько применение таковой шкалы возможно на современном уровне философско-культурологического анализа). Мы в своем исследовании сделаем акцент не на самоидентификации в первом смысле, в результате которого человек отстаивает и обретает свой статус в сообществе, а на идентификации по принципу культурного сознания, под действием которого организуется сообщество. Нас будет лишь косвенно интересовать этническая история и история социальных движений и идеологий в обществе. Мы сделаем акцент на культурной идентификации второго типа, в которой кристаллизуются принципиальные структурные грани формируемого опыта осмысления человеком жизни, мира и общественного процесса. В поле зрения попадут, таким образом, типы культуры, различаемые по принципу внутренней организованности смысловых величин – классов ценностей, способов постижения, направлений и видов деятельности, форм мышления и культурного созидания. 12 2. Возможна ли российская цивилизация? Место России в в культурнотипологических координатах Запада и Востока Вопрос самобытности российской цивилизации неоднократно рассматривался. Много раз Россию пытались отнести к европейской, к единой христианской цивилизации, с определенного момента своего развития ориентированной на природопреобразующую деятельность с ее непопулярным ныне тезисом покорения природы, на науку, рациональную организацию деятельности, планирование жизни, жизнестроение. Столь же решительно временами ее относили к Востоку, к азиатскому миру с его стремлением раствориться природе, преобладанием адаптационных тенденций, внеличностного начала, сильным и священным – тотально доминирующим, но не правовым – государством. Чаще же обе точки зрения совмещались. Восток Европы мыслился либо как ареал смешения черт Востока и Запада, либо как некоторая пограничное поле, на котором культурный Восток «борется» с культурным Западом, создавая противостояние ему и в свою очередь Запад распространяется на восток как оппозиция культурному Востоку. Самобытность России признавалась как пограничье между Востоком и Западом. Сразу после крушения большевистской идеологии, акцентировавшей внимание на всеобщих законах социального развития, опиравшейся на идею интернационализма и сдерживавшей сравнительнокультурологическую мысль, можно было прочитать: "С ХV века Россия, Белоруссия и Украина образовали вместе с Византией гигантский мост между Востоком и Западом, создав уникальную, синтетическую культуру, свободную от крайностей как восточного мистицизма, так и западного скептицизма"(* Советская культура. 1989. 4 февр.). Россия выглядит здесь и как граница географических зон, и как материя ментального, духовного синтеза. Но является ли, или хотя бы являлась ли Россия самостоятельной цивилизацией? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего устранить разночтения в употреблении самого понятия «цивилизация». Цивилизация - один древних из аналогов понятия культуры, отсутствовавшего в античном мире. Латинское слово «цивилизация» выражало качество отличия римского общества – обычаев, законов и уклада священного града Рима – от варварского окружения. В эпоху Просвещения и в 19 в., термин Цивилизация также использовался как характеристика высшей стадии социокультурного развития, как синоним культуры или как суммирующее обобщение мирового созидания (Н.Я.Данилевский). О.Шпенглер впервые категориально противопоставил понятие цивилизации понятию культуры: с одной стороны цивилизация часть культуры, заключительная фаза развития, с другой стороны это фактор утраты живых сил культурного творчества, противостоящая ей тенденция, фаза ее упадка, окостеневания и умирания. Своеобразие цивилизации в этом смысле состоит в том, что она означает передачу культурных функций и достижений культуры воплощенным вещным и надчеловеческим формам, например, таким как государство, техника, письмо. В этом смысле, кстати, первобытная культура цивилизацией не является – она не знает таких технологически сложных и автономно существующих опосредований. Понимание цивилизации как оппозиции культуре довольно глубоко укоренилось в философском дискурсе. Особенно, как мы видим, в отечественной мысли. Это понятно: недостаток развития специфических «цивилизационных» качеств, столь характерный для истории России логически уравновешивается сравнительной «избыточностью» живых духовных свойств культуры. Это противопоставление оказывается тогда своего рода аргументом типологии культур. Но О. Шпенглер, строго говоря, имел в виду не это. Иногда, напротив, понятие цивилизации выступает в качестве культурологической и исторической универсалии, вбирающей в себя и культуру. Выражая системную полноту 13 организации жизни конкретного общества, цивилизация содержит в себе и особое измерение культуры – сферы осознанно-духовных начал в этой системе (А.Тойнби и др.). Данное понимание более распространено и более влиятельно. Оно является доминирующим на Западе, но присутствует и у многих отечественных авторов. У А. Тойнби сформировалось значение термина «цивилизация» как локальной моно- или полиэтничной общности с выраженной социо-культурной спецификой. Это цивилизации разных уровней, одни из которых архаические (первобытные), другие соответствуют древним империям (древнеегипетской, вавилонской, греческой, римской, китайской, индийской, византийской), третьи крупным межэтническим системам, организованным по объединяющему культурному принципу мировых религий (христианская, мусульманская, буддистская, православная, конфуцианская), а также суперцивилизация как цивилизационное единство всего человечества. Этому подходу соответствует и современное определение цивилизации как «локальной межэтнической общности, формирующейся на основе единства исторической судьбы народов, проживающих в одном регионе, длительного и тесного культурного взаимодействия и культурного обмена между ними, в результате чего складывается высокий уровень сходства в институциональных формах и механизмах их социальной организации и регуляции (правовых и полит, системах, специализированных компонентах и формах хозяйственного уклада, религиозно-конфессиональных институтах, в философии, науке, системах образования, стилистике литературы и художественного творчества и т.п.), при сохранении большего или меньшего разнообразия в чертах этнографической культур народов, составляющих ту или иную цивилизацию» (А.Я. Флиер)6. Сторонники понимания цивилизации как всеобъемлющей целостной системы подчеркивают, с одной стороны, естественный характер их образования (природные и геополитические условия и др.), а с другой стороны, роль собственно цивилизационных институтов и средств социальной организации и регуляции в складывании элементов культурного единообразия, в детерминации и специфики ценностных ориентаций, и принципов социальной консолидации7. Более верна, вероятно, позиция, где культура и цивилизация мыслятся как дополнительные категории социально-гуманитарной регуляции, обосновываемые в дуалистической парадигме. Социальная реальность гетерогенна: она и общество как система естественных связей и эффектов, и сообщество, организованное культурой мировидения, взаимопонимания и самопреобразования людей. Так понимаемые общество и сообщество взаимодействуют в рамках единой сложной социокультурной системы; их глубинная гетерогенность отчасти скрывается многоплановой сплетенностью линий этого взаимодействия. Жизнь общества определяют как аспекты приспособления к естественным условиям – говоря обобщенно, технологиям, так и аспекты осмысления, переосмысления, самосовершенствования, развития мышления – то есть аспектам культуры. С одной стороны, два этих качества содействуют друг другу, с другой – могут противодействовать в историческом развитии. Общество технологически целесообразно и непрерывно развивает эту сторону своего существования. Но при этом оно опирается на способности мышления, на воспитание и образование, на усмотрения ценностей и смысла – на опыт культуры в целом. Именно эти две стороны мы склонны называть цивилизацией и культурой. Цивилизация и культура – не просто две стороны одного процесса, а два пересекающихся поля, два взаимопроникнутых начала. Ведь и культура не может развиваться без развития форм цивилизации, например, без коммуникативных технологий, без способов политического регулирования и экономического метаболизма общества. Их связь настолько тесна, что культура всегда может представлять цивилизацию со стороны ее смысловой наполненности и субъектной идентичности, а цивилизация быть выражением культуры на уровне организации общества как реальной целостности. В этом смысле любое развитое общество – Флиер А.Я. Цивилизация. // Культурология ХХ век. СПб, 1996 т.2 с. 344-345 Новикова Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992 6 7 14 цивилизация, и любое сообщество, осмысляющее себя как коллективное сознание – культура. Тем более, великая культура, поскольку она социально и геополитически реализована, является цивилизацией. Кстати, даже независимо от масштабов и влияния этой реализации на земле. (По С.Хантингтону, кстати, Япония – особая цивилизация; с этим выделением можно спорить, но логически это вполне приемлемо. А вот используемый термин «цивилизация Ренессанса» вызывает сомнение, хотя определенная логика есть и здесь, ведь речь идет о культуре ряда городов Европы 15-16 вв.) Но, заметим, данная логика системного взаимодейтсивя геторгенных начал не позволяет сводить одно из начал к другому. В исследовательских кругах становится все более очевидным тезис о несводимости культурно-цивилизационного процесса к экономическому развитию. В этом смысле не только марксизм, но и такие современные теории развития общества и культуры, которые выдвигают, например, О. Тоффлер или Ж. Аттали, по сути своей редукционистские, не вписываются в данную парадигму. Тем более социокультурная эвлюция не сводится к политическим процессам, и развитие технологий не является единственным определяющим ее фактором. Даже если это социальные, информационные или пресловутые гуманитарные технологии. Технологии такого свойства имели место всегда, но они никогда не заменяли и не заслоняли культуры, исходящей из логики имманентного складывания самого сознания и не позволяющие поэтому превратить человека ни в марионетку, ни в самозабвенного манипулятора. Да и цивилиазция, как видим, не сводится к одной из ее сторон, которую бы мы по тем или иным соображениям взяли в качестве ведущей. Историки сегодня спорят, и видимо будут спорить всегда, что было первичным и ведущим истоком складывания древних цивилизаций – технологические возможности долгосрочно оседлого хозяйства, военные угрозы, связанные с относительным перенаселением территорий и заставлявшие строить укрепленные поселения или новые информационные технологии, прежде всего такие, как письменность. Сами факторы социальной адаптации по природе разнородны и действуют в едином ансамбле, возможно, в разных соотношениях, что исключает редукционизм в понимании их действия. Цивилизационные процессы, поскольку они в качестве конструирования и развития форм адаптации приемлемы для всех культур, для всего человечества способны глобально распространяться. Иногда это распространение, этот универсализм принимают за главную сторону исторического развития. Но культуры, как индивидуальные человеческие личности, уникальны – и эта их ценностно-смысловая уникальность неизбежно накладывает отпечаток на своеобразие цивилизационных процессов, отнюдь не сводимых к глобальному универсализму социального и технологического прогресса. Таковы логические предпосылки двух фундаментальные идей - идей формационного и цивилизациоиного рассмотрения истории. Исторически эти идеи не синхронны. Первая восходит к рационалистической идее всемирно-исторического прогресса в философии и историографии Просвещения, вторая — к идее органического процесса развития самобытных национальных культур романтизма. При этом верно замечено, что стремление к такому – формационно-цивилизационномму – пониманию истории пробивало себе дорогу не только в XX в.. Это тенденция, в рамках которой — на классических или неклассических основаниях — был бы возможен синтез идей прогресса и органического развития, единства общечеловеческой культуры и многообразия национальных культурных миров, формационного и цивилизационного расчленения всемирно-исторического процесса. В своих истоках эта тенденция восходит к опыту построения «Новой науки» Дж. Вико, в XIX в. получает наиболее рельефное выражение в теориях Г. Гегеля, а в XX в.— у А. Вебера и К. Ясперса. А.С. Панарин считает, что коренной недостаток прежнего формационного подхода заключался не столько в заложенном в нем универсализме как таковом, сколько в том, что в нем не актуализирована тема взаимодействия, взаимовлияния культур и цивилизаций, благодаря которому действительно возможны реальные процессы общемирового масштаба. Принцип "имманентного развития", сложившийся в рамках европоцентризма, уводил 15 теоретическое сознание от этой проблемы8. Между тем опыт человечества всегда был опытом обмена цивилизационными достижениями, появившимися в разных регионах мира. Он всегда был и опытом глубинного - смыслового – контакта культур, передававших друг другу религиозные учения, художественные стили, философские идеи. В особенности это касается нашего времени, характеризующегося небывало интенсивным взаимодействием цивилизаций и диалогом мировых культур. Но ситуация диалога как раз и подразумевает наличие субъектов как носителей не сводимых один к другому смысловых миров (систем). Именно в условиях сложившихся культурно смысловых паттернов, носителями которых выступают различные контактирующие между собой цивилизации, диалог - это главный определяющий фактор культурной динамики. Причем везде - как на Востоке, так и на Западе. И где диалогический процесс наиболее интенсивен, там и развитие культуры наиболее динамично. Азия - это целый спектр принципиально различных вариантов социокультурной идентичности и цивилизационной устойчивости. Со своей стороны, стало признаваться явление уникальности и своеобразии европейской социокультурной традиции, ее способа мышления, ее психологических и мировоззренческих установок. Отечественная история и культурология последних десятилетий красноречиво показывает это. Греческая античность (С. С. Аверинцев, А. Ф. Лосев, М. К. Петров), римское общество и культура (С. Л. Утченко, Е. М. Штаерман), западноевропейское средневековье (А. Я. Гуревич), итальянское возрождение (Л. М. Баткин) и смеховая народная культура ренессансной эпохи (М. М. Бахтин), философия и наука нового времени (В. С. Библер, М. К. Мамардашвили, М. К. Петров) были поняты как особые, уникальные культурно-смысловые явления. В исследованиях ряда последних десятилетий было показано, что в ключевые достижения в духовной культуре европейского общества, не имеют соответствующих аналогов в других цивилизациях. Вместе с тем ряд авторов указывают и на определенное единство, свидетельствующее о существовании особого, европейского культурного типа как развивающейся целостности. Иногда даже исследовательская мысль подходит к выделению европейской специфики в качестве какого-то отклонения от нормальных (естественных) способов культурно-исторического существования. (М. К. Петров). Идея культурного универсализма Запада серьезно оспаривается сегодня; достаточно вспомнить точку зрения С.Хантигтона, считающего, что Запад велик не своим универсализмом, а своей уникальностью, что ему не надо добиваться мировой цивилизационной гегемонии, а надо отстаивать свои приоритеты в исторически постоянном процессе конкуренции цивилиазций9. Известный отечественный синолог и востоковед Л.С. Васильев в своем труде «История Востока» показывает, что дихотомия Восток – Запад возникла в античности, когда в Древней Греции стала доминировать частная собственность и связанное с ней гражданское общество. «Начиная с античной Греции, — замечает он, — в цивилизованном мире возникли две разные социальные структуры — европейская и неевропейская, причем вторая была представлена многими вариантами, различающимися в разных районах мира, но принципиально сходными, однотипными в главном: им не были знакомы ни господствующая роль частной собственности, ни античное «гражданское общество»10. В другой своей работе он пишет: «Европейский путь развития с античности уникален. Если вплоть до гомеровских времен Европа в структурно-типологическом плане была близка традиционному Востоку, то примерно с VII в. до н.э. в ней, на юге континента, в Греции, появилась новая структура полисного типа и начала складываться соответствующая ей цивилизация. По сути своей рождение буквально из ничего столь сложного и принципиально нового социально-политического, экономического и цивилизационно-культурного Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). - М., 1994. - 262 с. 9 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Изд-во АСТ, 2003 – 603 с. 10 Васильев Л.С.История Востока. В 2-х томах. М., 1993. Т. 1. С. 17 8 16 феномена было чем-то вроде социальной мутации, великой революции, сопоставимой по ее значению для исторического процесса с неолитической»11. Но из этого верного положения неверно делать вывод, что существуют только два пути развития цивилизации (человечества) и соответственно имеются два типа идеологии. Этот тезис только объясняет своеобразие и уникальность рационалистического пути Запада в противовес всем основным типам культур, но вовсе не выражает положительного единства незападных культур между собой. Логически не Запад еще не означает Восток. Ряд из незападных культур строится на медитативном основании единства человека с природой и выдвигает в качестве ключевых адаптационные цели, ряд из них строится на мистическом тезисе радикального преодоления наличного спонтанного существования, некоторые из них имеют рациональные приоритеты, но в ином смысловом направлении, нежели рационализм Запада. При этом все эти аспекты в принципе равноценны как основания организации опыта осмысления, лежащего в основе культуры и конструктивного цивилизационного процесса разных типов. По мнению Ж. Эллюля, западная цивилизация - продукт сочетания греческого интеллектуального дискурса, римского правового порядка и христианской духовности. Напряжение между этими началами и явилось постоянным источником ее беспрецедентного динамизма. При этом, как считает Ж. Эллюль, философское совершенство греческого гения и институциональное совершенство римской культуры объединяло сходство языческого импульса - всепокоряющей энергии Эроса. Этому противоречила христианская аскеза. Все толкало христианство на Восток, полагает французский исследователь - культурное происхождение, ментальное сходство, политическая конъюнктура. Вопреки всему, оно устремилось на Запад, в самое сердце эмансипаторско-своевольной культуры Эроса, туда, где земной, телесный человек явился во всей дерзновенности и неудержимости своих прометеевых амбиций. Это и создало парадокс западного мира, возникшего в результате вселенского духовного катаклизма, сшибки непримиримых начал. И, - Ж.Эллюль мыслит совершенно верно, - вся его последующая история, его художественные шедевры, технические изобретения, политический, интеллектуальный и экономический прогресс явился продуктом этой сшибки, этого колоссального напряжения, вызванного лобовой встречей человека, стремящегося к полной самореализации, и Бога, который ждет от человека того же самого, но это «то же самое» не есть тавтология, а есть противоречие12. Между тем, огрублено генерализующие категории «Запад - Восток» имеет прямое отношение к пониманию и теоретичекой интерпретации специфики русской культуры. А.Н. Ерыгин, обобщая версии такого понимания, выработанные отечественными мыслителями на протяжении 19-20 вв., дает следующую дифференциацию версий: 1. Идея исключительности русского феномена (в разных формах и с различной акцентировкой она присутствует почти во всех направлениях русской философскоисторической мысли); 2. Возможность понимания России как Востока (от сугубо сциентистскои концепции азиатского способа производства в формационной теории К. Маркса и его российских последователей до чисто поэтического: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы» у А. Блока); 3. Различные варианты понимания России как Запада; 4. Идея русской самобытности, независимости в цивилизационном отношении как от Запада, так и от Востока («евразийство»); 5. Идея русской самобытности в рамках христианского мира (славянофилы; молодой С. М. Соловьев); 6. Славянская идея: Россия — славянская цивилизация (отчасти — славянофилы; Н. Я. Данилевский); Васильев Л.С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблемы) // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 103) 12 Ellul J. Trahison de l'Occident. P.91 11 17 7. Мысль о России как специфическом культурно-историческом образовании, включающем черты как Запада, так и Востока (В. О. Ключевский, Е. Ф. Шмурло, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов); 8. Универсалистская идея, базирующаяся на мысли о русской самобытности, но предполагающая также способность русского человека быть «всечеловеком» (Ф. М. Достоевский); 9. Идея синтеза: Россия как преодоление односторонности мусульманского Востока и католического Запада (Вл. Соловьев 70-х гг.)13. К этому надо, видимо, добавить специфическую евразийскую идею. По мнению Н. Трубецкого исходная идея евразийства такова: Россия — Евразия представляет собой уникальный географический и культурный мир, который обладает самодостаточностью14. При этом обращаетсявнимание на специфический «идеократизм» по сути этнически, религиозно, культурно разнородного евразийского сообщества15. «Идея-правительница», пишет современнй комментатор евроазийства, выступает в качестве изначальной основы или архетипа евразийской культуры; она также является структурообразующим фактором «государства-континента»16. Между тем, идея евразийства – присущая ей логика «месторазвития» имеет слишком мало теоретических аргументов. Она строится в основном на обсуждении исторического факта. Эта логика существенно проигрывает теориям геополитики и идее устойчивых ареалов цивилизаций А. Тойнби. В ней содержится объясняющий потенциал некой синергии природно-географического и духовно-идеологического факторов, но конкретные аспекты и движущие силы такой синергетики не проработаны. Между тем, именно они требуют внимания в свете идеи гетерогенности природных, социальных, культурных факторов развития сообществ. Факторы такой синергетической логики распределены в разных онтологических планах, но ее аттракторы сфокусированы не в сфере натуральности, а именно в сфере смыслового преобразования. Собственно обретение смысла, сама эта способность человеческого сознание и есть фокусировка синергетического аттрактора – предвидимого, таким образом, сознанием, программируемого, таким образом, культурой. Именно здесь ведущую роль играют факторы смыслообразования - как культурного преодоления бытия - и теперь уже они приводятся в соответствие с факторами естественности, включая, тем самым, адаптационную функцию культуры в новом витке ее развития. Этим социальное действие и отличается от синегетических процессов в биологии и химии. Конечно, адаптационная функция может выступать первичной и даже единственной, к ней может сводиться все смыслообразование - но тогда перед нами будет общество примитивного («доосевого») типа, не создающего цивилизации как оригинального культурно-смыслового типа и не стремящегося выходить за рамки органично освоенного ареала. Такой выход возможен только на основе идеи радикального смыслового преодоления естественного бытия. (Акцентуация технологизма, общество потребления – это симптомы новейшей опасности замкнуться в таком освоенном ареала – более широком, чем ареал первобытного человечества, но все же ограниченном принципиальоным адаптационным горизонтом, не размыкаемым озарениями переосмысления). Возвращаясь к логическим вариантам понимания самобытности российской цивилизации, вспомним, что славянофилы настойчиво проводили мысль о том, что российский уклад народной жизни уникален, неповторим, принципиально отличен от уклада западноевропейского. Самобытность России, ее культурных традиций, общинное владение землей, господство православия как истинного христианства — все это составляет основу Ерыгин А. Н. Восток — Запад — Россия (Становление цивилизационного подхода в исторических исследованиях). Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1993.— 120 с. 14 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. М., 2000. 15 Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. 16 Кульпин Э. Россия в евразийском пространстве // Вестник Евразии. 1996. № 1. С. 145 13 18 особого пути России в мировом процессе. Знаменитая «русская идея» заключала в себе стройную систему доводов в подтверждение особого исторического предназначения России и мессианской роли русского народа в истории. Размышление о России как о синтезе черт культур народов запада и востока, как о калейдоскопе намеренных или ненамеренных заимствований является логически очень легким и поэтому продолжает воспроизводиться в умах теоретиков. По мнению В.С. Поликарпова, одной из составляющих российской цивилизации является византинизм, впитавший в себя парадигмы восточного христианства, иудейский мессианизм и римскую идею мирового господства, каждая из которых в свою очередь вобрала в себя паттерны других, более древних цивилизаций вплоть до древнеегипетской и шумеро-месопотамской цивилизаций. Другой составляющей российской цивилизации выступает степная монгольская цивилизация, сумевшая наряду с паттерном эффективной организации присвоить архетипы китайской и других восточных цивилизаций. Российская цивилизация имеет и сильные европейскую и кавказскую компоненты с их культурными архетипами. Именно это многообразие архетипов, паттернов, моделей различных цивилизаций обусловливает необычайный запас цивилизационной прочности России и соответственно особенность русского характера, сотканного из противоречий17. Надо заметить, что сам термин «Российская цивилизация» предстает иногда как дискуссионный и проблемный. «Россия, понятно, еще не Западная Европа, но и не особая цивилизация, существующая и развивающаяся по собственным правилам и законам. … Заметное каждому отличие России от Европы свидетельствует, скорее, не о существовании особой цивилизации, а об еще сохраняющейся цивилизационной недостаточности»18. К прискорбию считающего так В.М. Межуева хочется сказать, что эта «недостаточность» будет сохраняться всегда, так как то, что он, несколько сбивая значение, понимает под «цивилизацией», не является доминирующей ценностью в рамках того культурного типа, который представляет собой Россия. Такая фатальная «недостаточность» цивилизации в России часто мыслится в ключе категориально понимаемых «Европы» и «Азии», образующих, таким образом особое евразийское цивилизационное пространство. В контексте таких рассуждений Россия (российская культура) выглядит как свое рода «недоцивилизация», как такой тип социальнокультурного существования, который в своих существенных образующих факторах противодействует складыванию цивилизационных форм. При чем это свойство можно считать хроническим – трактовать ли его как «вековую» отсталость или как фундаментальную предрасположенность. Здесь для обоснования понятия цивилизации действует один только критерий устойчиво овеществленных, рационально выверенных форм как оснований для поддержаний целостной социально-культурной конструкции. А именно такой способ поддержания и развития идентичного социально-культурного целого как раз оказывается хронически не характерным для России. И это, с одной стороны, вызывает тенденцию цивилизационной разорванности – ориентации на устойчивый цивилизационный образец Запада; а с другой, - как раз не позволяет твердо перейти к ориентации на этот образец. Россия исторически страдает от факта промежуточного цивилизационного положения страны. Означает ли это, что Россия - это цивилизационная затерянность между Востоком и Западом, что она не есть цивилизация, что русский человек - это гетерогенный социокультурный тип, Означает ли это, что он не есть вообще тип, а есть только эклектика типов? Конечно нет, культура России представляет себя особый тип смысловой координации культурно-ценностных мотивов, между которыми он не просто выбирает, а согласует эти альтернативы как возможные в динамично воссоздающемся смысловом Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Идеология современной России (эссе). Ростов-на-Дону: Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 2002 18 Межуев В.М. Позиция 4.4. Российская цивилизация. / Теоретическая культурология. М., Екатеринбург, 2005 с. 203-204 17 19 космосе. А.С. Панарин верно отмечается, что «Было бы опасным заблуждением из самого факта открытой истории делать вывод о возможности перманентного пребывания на перекрестке "безвременья", бесконечно оттягивая или отклоняя выбор, эклектически сочетая противоположные возможности. Парадокс открытой истории состоит в том, что она требует выбора из имеющихся альтернатив»19. Неустойчивость России как социокультурного типа связана, таким образом, не столько с промежуточным геополитическим положением как таковым, сколько с проблематичностью тех синтезов, которые российское общество создавало в разные моменты своей истории. Следует добавить, что эта неустойчивости не является перманентной; скорее более правильно говорить о динамично поддерживаемой устойчивости - о поисковых колебаниях относительно аттрактора устойчивости. Но ни эта «неустойчивость», ни эта «недостаточность» развития рационально-технологических форм не говорят о том, что в России не создана особая цивилиазция. Она существует давно и довольно давно успешно конкурирует с цивилизацией Запада. Правда, как это неизбежно должно быть в конкуренции между сообществами разных культурных типов, ее параметры и даже критерии асимметричны. Со своей стороны Запад – это отнюдь не столько «христианская цивилизация», сколько, рассуждая предельно обобщающее, – цивилизация разума. Если же сузить границы этого понятия до Запада Нового и Новейшего времени, то это именно индустриальная и постиндустриальная цивилизация, лидирующие достижения которой в области технологий, как военных и производственных, так и социальных, имеют универсальное значение и по мере этого значения и на которые могут равняться другие цивилизации, поскольку идут по пути интеграции, позволяющей компенсировать их собственную цивилиазционную конкурентоспособность. Главное отличие Запада от других типов культур, и причина, в том числе и его опережающе-транслирующих функций по отношению к другим можно усмотреть в том, что цивилизация разума прежде всего как раз предполагает целевую акцентуацию цивилизационной оформленности жизни в противовес другим культурносмысловым факторам. Цивилизация разума – это цивилизация в особой превосходной степени – это именно цивилизационный тип организации жизни по преимуществу, если понимать под цивилиазционность рационально-технолоогическое начало социальной адаптации в мире. А именно – правовой, властно-политический, познавательный, технический. Этому типу как бы предназначена роль опережающей в продвижении особы понятийно выделяемых цивилизационных форм, что не избавляет ее от отставания по другим векторам культурного и социального развития. Ж.Эллюль писал: «Перед лицом растущей ненависти и осуждения в адрес западного мира, которые сопровождаются самоубийственной восточной экзальтацией многих европейцев, для меня, давнего критика технической цивилизации, становится обязанностью показать, что Запад есть и нечто совсем другое - непреходящая духовно-историческая ценность современного мира и что конец Запада являлся бы в настоящих условиях и концом цивилизации вообще»20. Это, конечно, преувеличение. Запад уже подходил к своему концу в 5 в. н. э., и это отнюдь не привело к краху других цивилизаций, напротив, они – и Византия, и арабы, а опосредованно и отчасти даже и Китай – своим конструктивным влиянием позволили Западу вновь подняться. Но этот тезис об уникальности и невосполнимости культурно-цивилизационного типа применим - в логике нашего исследования - к каждой цивилизации современного мира. И Россия с ее типом духовности - это незаменимый баланс, альтернатива, устранение которой обеднило бы путь человечества как раз настолько, чтобы завести его на замкнутые круги деградации. Казалось бы, легче представить себе исчезновение китайского, исламского или индийского миров - представить нам, европейцам Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). - М.: ИФ РАН, 1994., с. 74 19 20 Цит. по: Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. (ред.-сост. Ерасов). М., 1996 20 и русским, не чувствующим еще до конца их неотразимой специфики. Еще легче представить отсутствие латиноамериканской цивилизации, допустить, что она как бы еще и не возникла. Но, чувствуя пафос поликультурного мира, важно принять, чтобы эта, географически тоже западная, альтернатива западному миру – Латинская Америка как особый культурный тип существовала и вносила свой особый вклад в эволюционные поиски Запада. Космос цивилизационного развития человечества сложен из необходимо соотносимых вариантных смыслообразующих форм, организован как сбалансированная «роза ветров» направлений развития как культурного преобразования бытия, позволяющая мировой цивилизации в целом расширятся, и расти, а не фатально смещаться в одном только преобладающем направлении. Логика поликультурного мира такова, что представляет собой дополнительность смыслообразующих альтернатив (вариантов) - как структурногенетически, так и эволюционно-функционально. Давний тезис Н.Я. Данилевского, что поле истории человечество должно исходить в разных направлениях, приобретает в этой теории не вид случайно последовательно сменяющихся движений, а логику взаимно дополнительных структур субъектности, складывающихся и развертывающихся одновременно, в продуктивной диалогической связи между ними. Самобытность российской цивилизации действительно обусловлена и наличием в ее социокультурном континууме целого ряда паттернов самых различных цивилизаций, идей разных культур и именно это многообразие архетипов, паттернов, моделей различных цивилизаций обусловливает ее относительную устойчивость. Но этого не достаточно, чтобы обосновать особую национальную идентичность российской культуры. Ее можно обосновать, только осознав тот тип культурно-смысловой целостности, который удерживает все это многообразие как внутренне согласованную систему, именно как логический необходимый тип, равноценный другим культурно-смысловым типам. 3. Критерии типологии культур. Культура как переосмысление натуральности Цивилизационный подход предполагает в основе историко-культурного процесса наличие и сосуществование различных, внутренне целостных типов цивилизации, каждая из которых представляет особенный культурно-исторический тип и имеет свой внутренний потенциал независимого развития. Согласно доминирующей линия в рамках данного подхода, между цивилизациями не существует отношений взаимообусловленности или форм культурного взаимообмена, столь существенных и устойчивых, чтобы определяюще воздействовать на саму их структуру. Впрочем, А.Тойнби как раз описывает судьбоносные трансформации цивилизаций, которые происходят именно в результате их взаимодействия. Истоки теории культурно-исторических типов - труд Джамбатиста Вико "Основания новой науки об общей природе наций" (XVIII в.). Другой источник подобной теории - идеи славянофилов (А.Хомяков, И.Киреевский, К.Аксаков), которые обосновывали особый путь развития русской истории и культуры, отмечая принципиальные различия культуры России от культуры Западной Европы. Культурно-исторические типы – понятие, введенное Н.Я. Данилевским, по сути развивавший идеи славянофилов. Его иногда (на Западе) тоже 21 называют славянофилом, поскольку он писал о славянском типе культуры и со вполне здоровой тенденциозностью предрекал его развитию – через объединение славянского мира – большое будущее. Идеи исторических типов культур были оригинальным образом поддержаны и развиты на Западе - О.Шпенглером, А.Тойнби, и др. Аналогом понятия культурно-исторических типов при этом стало в 20 в. именно понятие цивилизации. Цивилизация стала пониматься, во-первых, как определенный – институциализированный и технологизированный уровень развития культуры, во-вторых, как тип и одновременно как социально-геополитическая система развития культуры. Среди других аналогов этих понятий стали «социокультурные суперсистемы» (П.Сорокин), «великие культуры» (Н.Бердяев), «культурные системы» или «мировые культуры» (Ф. Нортроп). По Н.Я. Данилевскому, в основе каждой культуры, оставившей свой след в истории, лежит своего рода архетип, построенный по оригинальному плану. Этот план определяется особыми историческими целями культурного созидания. Этих целей может быть много. «Исходить все поле в разных направлениях», - говорит Н.Я. Данилевский. Но где границы этого поля, где порядок и логика этих целенаправленных путей? Этого он не говорит, ограничиваясь исторической констатацией, - но и в этом он уже чрезвычайно прозорлив и корректен. О. Шпенглер выделял ряд основных культур (цивилизаций), характеризуя их как совершенно разные культурные миры как несопоставимые в своих специфических внутренних характеристиках жизненные миры фрагментированного человечества. П. Сорокин рассматривает существование четырех суперсистем на протяжении трех тысячелетий на материале истории Средиземноморья и Запада: идеационную, сенсуалистическую, культуру идеального синтеза, эклектическую или смешанную. Классик американской антропологической школы А. Крёбер использует понятие «культурный стиль», расширяя его до рамок типа культуры или типа цивилизации. В основе его формирования - влияние других культур. Эти влияния могут быть настолько сильными, что обладают потенцией разрушения для более слабых культур, вступивших в контакт, хотя и не всегда губительны. Стиль собств. культуры вырабатывается постепенно и последовательно, поэтому необходимо время для ассимиляции новых элементов. П. Фейблман, рассматривая культуру как способ существование человека, выделяет семь типов культуры: допервобытный, первобытный, военный, религиозный, цивилизационный, научный и постнаучный типы культуры. Однако отнесение той или иной конкретной культуры к одному из идеальных типов может быть только условным. Но все эти подходы, как правило, (за исключением концепции П.Сорокина) не ставят своей целью выявить логику вариантности этих типов в качестве культурно-смысловых моделей. Н.Я. Данилевского, ставящий в основу такой вариантности разные цели той или иной культуры, по сути не отвечают на вопрос о способе заданности этих целей, то есть не объясняет в полной мере их устойчивого системного характера, на который мы обращали внимание в первой главе. Мы же предлагаем исходить из того, что культура это опыт и текст осознания. Культура – это программа и опыт переосмысления, сверхнатурального, сверхналичного смыслообразования, в отличие от технологии, являющейся формой адаптационного преобразования. При этом смыслообразование вариантно, вариантны и программы переосмысления натурального существования человека и общества. И тогда эволюция культуры, если рассматривать ее в некотором отвлечении от конкретно-исторических перипетий, в собственно логическом аспекте структурного становления, обнаруживает общие закономерности системы смыслообразования. Правда, рассматриваемая в таком ключе культурная эволюция – это не столько исторический путь культуры, сколько логика и типология культурного многообразия, понятая через призму многообразия смыслообразования - переосмысления, прослеживаемая сквозь историю – обнаруживаемая в виде дискретных типов и в современном культурном многообразии. Именно такая типология позволяет найти строго логически определенной место каждой из культурно-смысловых систем в этом многообразии, понятом как логически 22 исчерпываемое. При этом цивилизационные идентичности крупнее этнических, так как за ними стоят именно культурно-смысловые типы, а не совокупность геополитических, геоэкономических и исторических условий. Так этносы и нации могут быть представлены отдельными политическими субъектами, но при этом вписываться в смысловой космос единого культурно-цивилизационного типа. Мусульманский мир или особый культурный мир Латинской Америки здесь очень яркие примеры. Политические и идеологические конфликты между этими субъектами вовсе не ведут к расколу цивилизации как культурной идентичности. Хотя, конечно, и не содействуют ее развитию как монолитного целого. Другой пример - актуальные отношения между Россией, Украиной и Грузией. Для всех жителей этих стран, кроме оголтелых политиков, мир, в котором они живут составляет единое культурно-цивилизационное пространство, единый смысловой мир – легко открытый для взаимной коммуникации и не просто размыкаемый для внешних влияний. Поэтому деятельно-целевые мотивы, выраженные, например, в политической идеологии надо считать вторичными факторами устойчивости культуры как интеграции сообщества. Если мы хотим найти основания выделения типов в культуре, а не основания ориентиров в политике, или условий в экономике, мы должны обратиться к внутренней феноменальной структуре смыслообразования. Ведь культура это прежде всего программа и опыт осмысления – творческий опыт переосмысления натурально заданных условий человеческого существования. Структура смыслообразования не монолитна и не униформна, она весьма сложна и синтетична в любом культурном явлении. Но в то же время именно в ней способны с достаточной ясностью обнаружиться организованность и стройность основных системных связей, определяющих типологические членения внутри культуры среди ее форм и между ее историческими системами (смысловыми «организмами»). Культура - это такой уровень смыслообразующего целого, где сочетаются и взаимодействуют разные типы мышления - линии смыслообразования, образующие иерархически организованный смысловой «космос» культуры. Культура это всегда целостность и система - система смысла. Но сам смысл вариантен21. При этом можно говорить о трех основных способах осознания и смысловой систематизации - рациональном, эстетическом и мистическом, развертываются в трех типах мышления - в активно-познавательном со смыслообразующей доминантой рацио; в художественно-созерцательном со смысловой доминантой эстетически открытого чувства; в религиозно-аскетическим и нравственным, основанном на интуиции смыслообразующего "Другого" - на "другодоминантности" смысла. Но никогда и нигде не встретить этих вариантов смыслообразования как исчерпывающих характеристик универсального космоса культуры, потому что в любой культуре они тесно взаимосвязаны и переплетены. И, тем не менее, именно их соотношение и конфигурации взаимных зависимостей позволяют прорисовать основные контуры типологии культуры. Выделение критерия смысла (смыслообразования) – при понимании его вариантности – позволяет логически упорядочить совокупность таких факторов, как ценности, цели культурного созидания, в том числе задаваемые суперсоциально и суперпрагматично, то есть на основе религиозных откровений, ключевые достижения культур и цивилизаций, мироощущение и менталитет, наконец, стереотипы и структуры – как психологические, так лингвистические и социальные. Именно смыслообразование является первичным и ключевым началом по отношению ко всем названным – вторичным – факторам, ко всем эпифеноменам смысла. Эти факторы можно не только упорядочить таким образом, но можно именно вывести из смысла, - из события смыслообразования – но, конечно, только понятого в его структурности и вариантности. Ценность, кроме того, что она задает смысловой горизонт целеполагающей человеческой деятельности и в этом качестве, как кажется, принимается аксиоматически, Для подробного рассмотрения этой проблемы автор отсылает к своей книге: Ланкин В.Г. Явление смысла. Эстезис и логос. Томск, 2003 (гл 4-6) 21 23 сама является гранью смысловой ориентации: Она устанавливается как феноменальный результат отнесения явлений, данностей во внутреннем измерении сложившейся смысловой целостности – как своего рода смысл «для себя» (как сказал Г.Гегель о категории качества). Ценность это внутреннее соизмерение смысла – смысла как своего, соотнесенного с самим своим как целым – и именно в этом соизмерении обретающего характер иерархического соотнесения, соотнесения, выделяющего ценное среди менее ценного и того, что вовсе не имеет ценности. Ценность всегда субъектно окрашена: Ценностны не вещи («ценные вещи»), а всегда именно грани смысловой структуры субъекта – именно в них и задается ценностный горизонт. К тому же, именно субъект и оценивает, соизмеряя смысловые феномены в их внутренней отнесенности к субъектной целостности. Другое не может быть ценным, если в нем нет смыслового потенциала субъектности. С другой стороны, все эффекты постижения – от мировидения в целом до самых мелких элементов познания и от откровения Божества до реальной практической сметки – это разные варианты освоения феномена смыслового Другого. Собственно, слово «освоение» здесь не вполне подходит, оно слишком отзвучивает «присвоением», и это может сильно исказить смысл. Скорее это обретение координат другого – координат мира, который понят некоторым образом, увиден через особые грани сознания – смыслообразования. Это обретение координат мироздания, которые поняты как условия возможности появления и даже исчезновения мира, координат Бога, который может быть понят как условие допустимости мироздания и в то же время как условие допустимости человеческой жизни и деятельности – этой странной экзистенции, явно преодолевающей границы мира как он есть и даже миротворения, как оно было до этой нашей жизни, проявляющейся как продолжающееся миротворение. Мир – мир, обретаемый культурой как жизненный мир человека, мир, столь различный для разных культур, мир, деятельно преодолеваемый в качестве постижимых внешних координат существования, есть прежде всего эпифеномен смысла. Именно смысл как он складывается в сознании позволяет выделить значение мира в неопределенности спонтанного события-контекста и в монотонности природы. Мир - это значение, которое придает внешним явлениям смысловой феномен постижения другого. Это значение, которое обретает, таким образом, реальность. (Является ли она сама по себе, во всей ее разрозненности и энтропии, миром или только потенциалом мира, взывающим к воссозданию его целостности?). Опыт очевидного, опыт действительности задан по преимуществу именно этими, смысловыми по своему происхождению значениями. Опыт очевидности – то, что человек считает прежде всего и по преимуществу существующим, что действительно составляет его существование – как выборочную траекторию в потенциальном, еще не ставшим целостностью, мире вещей, – конечно, координируется тогда с существенным – с ценным. «Стили», определяемые, по П. Сорокину, по этой-то неисповедимо наивной очевидности опыта, тесно связаны с ценностями, но объяснить эту связь – очевидности из ценности или ценности из очевидности – никак нельзя, иначе как признав их общую производность от более фундаментальной вариантной структуры – структуры смысла (смыслообразования). Цели культурного созидания и, соответственно, основные результаты такового – лишь развертывания этих экзистенциальных миров в деятельной практике людей и их сообществ. Причем между приоритетными формами и целями созидания и фундаментальными конструктами (структурами) смысла имеется прямое соответствие. И это объясняется чрезвычайно просто: человек делает именно то, что имеет для него смысл, что, точнее говоря, способно восполнить для него смысл в этом всегда относительно бессмысленном реальном (естественном) мире. Культура – это прежде всего переосмысление натуральности существования, а потом – в прямом соответствии с этим переосмыслением – ее преобразование. Это так даже тогда, когда избранный и установившийся модус осмысления подсказывает, что якобы есть одно только натуральное и что все преобразование – только дело техники. 24 Понимание самого человека как деятельного субъекта, прежде всего подлежащего в этом качестве культурно определимому преобразованию, задано «магическим кристаллом» смыслообразования - переосмысления. Понимание самого человека как реальноестественного и одновременно понимание его как творчески или созерцательно сверхреального, образующего порыв к иному – к неприсутствующему истоку - Дао, к совершенному Космосу, к романтическому «светлому будущему», к «сверхчеловеку» и т п. – или же как отражения Бога в волнах этого зыбкого моря мира – это понимание – прямое проявление структуры смысла, образующего событие осознания и скрепляемого опытом культуры. Значимость и иерархия сущностных сил человека – то, что в этой таинственной субстанции полагается как первичное и основное, а что как вторичное, производное – определяется именно в соответствии с некоторым вариантом смыслообразования: Системообразующий приоритет рационального видения заставляет смотреть на человека прежде всего как на природную реальность, вполне инстинктивную, бессознательную, из которой – по мановению пресловутого психиатра происходит и вся психическая жизнь и порой даже начинает мерещиться такой фантомный феномен, как человеческих дух. Только рационализированный смысл - этот крепко сросшийся «кристалл» избранной смысловой иерархии - заставляет верить в такого человека – в человека-вещь. Системообразующий приоритет открытого эстетического события смыслообразования видит тайну человека в многогранности его органики - в его красоте, поэтичности, творческости, славе, любви – в краткой, но собственно только и существенной вспышке вот складывающегося события, счастливо феноменального, но именно настоящего – и тем связующего все – и телесность элементарного, и духовность мистического. Этот поэтический человек – тоже прочный «кристалл», хотя он и покажется рациональным прагматикам, равно как и отрешенным мистикам, непрочным, слишком легким, зыбким и эфемерным. Наконец, системообразующий приоритет мистического видения полагает человека прежде всего как дух, как сознание. Душа – это зыбкая связка между этим духом и чисто элементным, строительно-материальным телом. Тело же в такой перспективе иногда вообще не стоит ничего, иногда же мыслится только как хрупкий, но все же по-своему совершенный в этой своей временной цельности сосуд – носитель духа. Именно смысловой «кристалл» способен высветить феномен человека – в довольно расплывчатой самой по себе реальности параантропологического. При этом цели культурного преобразования – как мира, так и самого человека – это эпифеномены смысла. Они сколь не первичны, столь и не случайны – они производны от смыслообразования, от тех ценностных и постигающих горизонтов, которые в нем образуются. Собственно, преобразование, на которое способен человек, всецело зависит от того переосмысления, на которое способно его сознание. Типичные способы решения жизненных задач, как самых простых бытовых, так и сложных социальных, тоже заданы структурой этого «кристалла». Именно этой структурой задан как менталитет, так и психологический склад, характер носителей данного типа культуры. Все факторы, как видим, обретают здесь характер необходимо обусловленных свойств, хотя смысловой «кристалл» культуры как опыта осознания и преобразования действует не по принципу генетической детерминации натурального типа, а скорее как притягательный «магнит», как аттрактор смысловой устойчивости и идентичности, к которому стягиваются все горизонты культурного мира и из которого исходят все мотивы культурного созидания – в поле которого «кристаллизуется» без этого аморфное и сбивчивое человеческое бытие. Тип культуры определяется в глубине своей как тип смыслообразования, а все остальное нарастает затем по силовым линиям этого смыслового поля. Но при вариантности смыслообразования, смысловой облик культуры системен, и это означает, что в нем сплавлены так или иначе все взаимодействующие между собой стороны смыслообразования, все основные способы данности смыслового целого. В любой культуре 25 мы найдем сложное переплетение эстетических, рациональных и мистически-религиозных линий, образующее ее смысловой космос. Здесь, таким образом, органично взаимодействуют различные способы мышления, смыслообразования и деятельности. Но при этом культура – не конгломерат разнородных мыслей и артефактов. Видимо, ее реальную системность поддерживает постоянное согласование смыслообразующих факторов. Это единый процесс смыслообразования, хотя и превышающий масштабы одного оперирующего культурными данностями индивидуального сознания. Это своего рода смыслообразующий дискурс, не прекращающийся и напряженный. Как залог и результат органичности такого смыслового согласования в культуре устанавливается системообразующее лидерство одного из способов смыслообразования. Точнее, выстраивается субординативная структура взаимодействия форм мышления с их скоординированными ценностными и постигающими горизонтами. Культура современного (в широком - "осевом" смысле) типа всегда предполагает наличие определенную субординацию во взаимодействии фундаментальных начал смыслообразования. Она всегда выделяет некоторую организующую доминанту, внутренне задающую способ осознания, и, соответственно, определяющую тип мировоззрения, приоритетный характер деятельности, основополагающий горизонт ценностей, который и оказывается смыслово-центрируюшим началом при системном согласовании внутренне многообразного мира культуры. При этом автономные ценности и особенные постигающие горизонты подчиненного смыслового ряда служат восполнению доминирующего ценностного горизонта культуры, определяя ее смысловую синтетичность, согласованную сложность. Именно такие системно-иерархические структуры и находят подтверждающее отражение в реальных культурных типах, проявившихся в истории. Типы культуры – это в глубине своей типы смыслообразующих структур. Такой подход к пониманию природы культурных типов вносит действительную систематичность в гуманитарнокультурологическую область. Он позволяет не путать типы культуры с географическими факторами и категориями, такими, например, как пресловутые «Запад» и «Восток», с историческими обстоятельствами самими по себе – при их очевидной сбивчивости и случайности, которые так настойчиво пытались заклинать то с помощью шпенглеровской «судьбы», то с помощью соловьевского «замысла Божия» о том или ином народе. Такой подход позволяет не путать тип культуры – смысловой тип – с идентичностью и тем более идентификацией субъектов-носителей сознания, имеющей зачастую прикладное конъюнктурное значение. Этот подход позволяет преодолеть сбивчивость и произвол в выделнии типов культуры в их сопоставлении с сравнении. Одно из важных следствий этой теории – дискретный характер многообразия типов культуры – вариантов смыслообразования, организующих культурную деятельность как целостность. Эта идея дискретности проста, она витает в воздухе, но именно дискретность в отличие от смешивающей постепенности требует обоснования. В.Тростников в книге «Православная цивилизация», отстаивает идею дискретности поля культурно-исторических типов – невозможности промежуточных вариантов, опираясь на авторитет Н.Я.Данилевского22. Правда, он не дет исчерпывающего объяснения, на чем эта дискретность основывается и чем обусловлена эта невозможность. Мы же видим: дискретность культурных миров – переосмысляющих и созидательных программ человеческой деятельности – это следствие наличия иерархических комбинаций-систем из ограниченного числа вариантов – типов смыслообразования. Переходных и промежуточных вариантов нет, нет и исторически случайных вариантов, которые бы не уложились в тот или иной смысловой тип; количество вариантов нумерологически ограничено (их может быть всего шесть). При этом логично допустить, что архитектурно однотипные смысловые «кристаллы» могут вырастать на различной исторической почве. Эта дискретность и это Тростников В. Православная Цивилизация. Исторические корни и отличительные черты. М., 2004 – 270 с. 22 26 качество притягательного магнита (аттрактора) выступает особым фактором их устойчивости и идентичности (наряду со многими другими факторами, упрочивающими их продолжительное существование на уровне средств – носителей культурного смысла, таких, например, как хрестоматийные тексты, традиции, язык и т.п.). Да, именно это и подтверждается, если попытаться систематизировать типы культур, сформировавшиеся начиная с эпохи расцвета древних цивилизаций – начиная с той, испытанной ими, кульминации творческого смыслообразования, которую К. Ясперс назвал «осевым временем». Большинство сформировавшихся тогда культурно-смысловых типов сохранились до сих пор, продемонстрировав удивительную устойчивость. 4. Вариантность смысла и ключевые структуры типов культур Выстраиваемая в этой работе модель обоснования вариантности типов культуры включает идею смыслообразующей доминанты для каждой из культур как внутренне согласующихся смысловых систем. В качестве такой организующе-смысловой доминанты выступают либо 1) активно-познавательное, рациональное начало, либо 2) начало эстетически-созерцательное и творчески-игровое, либо 3) начало мистическое и нравственно-аскетическое. Основные ценности осознания, вокруг которых центрируется смыслообразование тогда – это: 1) истина познания и самоутверждающаяся власть, 2) красота и выразительность, склонная в своей убедительности пренебречь простой достоверностью, 3) святость и нравственная чистота, отвергающая соблазны фантазий и готовая пожертвовать обыденной вероятностью. Эти смыслообразующие величины не соединимы все вместе в прямом равноценном сплавляющем синтезе, они и феноменологически и событийно-онтологически исключают, точнее, отталкивают друг друга: переход на одну смыслообразующую позицию сразу отменяет и даже отрицает прежнюю. Эти позиции борются друг с другом за смысловое доминирование. Между ними в такой конкуренции возможно только динамичное равновесие, дискурсивное взаимодействие. Впрочем, взаимопрозрачность и взаимовключения тоже возможны. И именно тогда, когда четко прослеживается смысловая доминанта, возможна иерархия смыслового космоса. Став смыслообразующим центром, один из этих доминирующих смыслов вытесняет на периферию системного смыслообразования другие типы манифестации целого. Точнее, он находит особые способы сочетания с ними, как бы идя им навстречу, включая в себя в качестве подчиненных мотивов и тем самым обогащаясь ими. Таким образом, культура обретает качество смысловой системы, характеризующейся иерархией ценностных и постигающих горизонтов в их взаимозависимости. Очевидно при этом, что могут существовать различные культурные типы, где доминирует, тем не менее, один и тот же способ смыслообразования - иерархическая система взаимосогласования других смыслообразующих мотивов же в них все же будет различной – и итоговый результат – смысловой облик каждой из них окажется совершенно оригинальным. И это подтверждается феноменологическим анализом реального многообразия культурно-исторических типов. 27 Так, например, указывается, что доминанта эстетического смыслообразующего момента заметна и в Древней Греции и традиционном Китае. Они похожи в своем доминирующем эстетизме, но радикально различны в конкретном облике своих основных интуиций. Эстезис греков это ясный, гармоничный космос, которому причастна рациональная четкость пропорций, который описываем математически – это эстезис с внутренним рациональным подтекстом. Эстетика Китая – это неясная и неизъяснимая творящая пустота Дао – это не статичная и уравновешенная гармония, а вечное движение, всегда открытое и непредсказуемое событие, в котором чудесным образом и обретается реальность – реальность возникающая и исчезающая по закону Дао. Здесь доминанта эстетического насыщена мистикой чуда – у нее проявляются и магические и медитативнорелигиозные свойства. Так же отчасти внутренне схожи мистически ориентированные культуры, образующие православный (восточно-европейский) и исламский (ближневосточный) миры. И, тем не менее, сама мистическая интуиция совершенно иначе окрашена в этих культурных типах: в православии она подкреплена, прежде всего, эстетикой нераздельности природ Боговоплощения, феноменализмом (ипостасностью) раскрытия Бога как милостивой, любящей Личности, и вытекающей из этого особой интерсубъективностью отношений Бога и человека, напоминающих эстетическое сочувствие (сострадание), хотя, конечно и превосходящего эстетику любви любовью божественной и др.. В исламе (как и в ветхозаветной культуре) мистицизм подкрепляем, прежде всего, практической рациональностью - он проявлен в строгом нравственном законе, находит прямое продолжение в правовой системе и в своем откровении выявляет собственную властноволевую сущность Божества. А.Тойнби не случайно связывает цивилизации с мировыми религиями. Последние образуют ту специфическую форму социальной интеграции разнородных этнических и культурных начал, которая действует в масштабах большого пространства и большого времени. Религии задают аксиоматику верований и мировоззрения и одновременно дают трансцендентные (сверхъестественные) - то есть не обсуждаемое ценностно-целевые задания. Именно в религиях логика смыслообразования проявляет устойчивость и консервирующую неизменность, благодаря чему в итоге выкристаллизовывается в типологически цельный образец. Поэтому справедливо вслед за М.Вебером, А.Тойнби и другими авторами связывать кристаллизацию культурно-исторических типов с возникновением новых религий. «Базисным и наиболее позитивным фактором возникновения цивилизационных обществ послужили перемены в сознании, - пишет Р. Кулборн. - Процесс формирования новых религий шел под руководством харизматического руководства, создавшего для всего населения то, что Э. Дюркгейм назвал «коллективными представлениями», через которые происходило внедрение навыков самодисциплины, обеспечивавших поддержание на основе общей кооперации необходимых функций и обязанностей» 23. Однако эти прикладные функции не составляли сути названных перемен в сознании – суть их была в обретении смысла, задавшего программу преодоления натуральности человеческого бытия – программу развития культуры, встроенную затем в «коллективные представления». К этому надо добавить, что, выполняя общую функцию формирования сообщества и организации осмысленного человеческого существования, эти перемены в сознании оказались различными для разных цивилизаций, задав, тем самым специфические направления их социальному и культурному развитию, образовавшие их типологически вариантную самоидентичность. Более того, ввиду по-разному иерархически выстроенных смысловых систем сам статус и характер тех явлений, которые считаются религией в разных культурах различен. Людям Ближнего Востока, например, трудно иденифицировать даосизм собственно как религию – он слишком напоминает философию поэзию и медитативную 23 Coulborn R. Structure and Process in the Rise and Fall of Civilized Societies. // Comparative Studies in Society and History. 1966 V. VII, №4 P. 400-417 28 эстетику. Впрочем это касается и других форм сознания: магическое знание Индии и Китая с трудом подпадает под европейский критерий науки; медитативное в своей сути искусство Китая и Японии не просто соотнести с новоевропейским искусством, предназначенным для эстетического наслаждения. Таким образом, согласно данной модели, система типов культур - это не просто система, где тот или иной смыслообразующий тезис устойчиво доминирует над другими, это система именно иерархической логической взаимосвязи всех основных смыслообразующих линий, причем взаимосвязи устойчивой и своеобразной. И если базовых линий мышления мы выделили три, то таких иерархических зависимостей и смысловых «сплавов», а, соответственно, и логических типов культур может быть не сколь угодно много, а именно шесть. Именно эти шесть типов мы можем наблюдать в истории культуры; с ними же мы столкнемся и при анализе, современно цивилизационного многообразия24: 1. Западноевропейская цивилизация демонстрирует в своей основе единый культурный тип, поскольку на протяжении динамичной истории, несмотря на все влияния и включения, выстраивает одну и ту же иерархическую серию ценностно-смысловых рядов: Рациональное - эстетическое - (мистическое). Таков внутренний смыслообразующий каркас западноевропейской цивилизации, начиная с Древнего Рима, при том, что мотивов разрушить это структурно-смысловое сочетание было достаточно: это и эллинистическое "воспитание" и христианская рецепция с Востока. 2. Один из культурных типов, сложившийся в древности на востоке Европы (Древняя Греция) существенно отличен именно в субординативной структуре смыслообразующего сплава, породившего системный космос этой цивилизации: Эстетическое - рациональное (мистическое). (Как нам предстоит показать, подобный смысловой тип сложился в последние триста лет в виде особенной латиноамериканской цивилизации). 3. Новый культурный тип родился на Востоке Европы с принятием христианства. И для Византии, и затем для России иерархия ценностно-смыслового сочетания такова: Мистическое - эстетическое - (рациональное). При этом Византия - это культурный тип, исторически проступивший в сложном становлении, где отголоски типологически иной античности и типологически иного Ближнего Востока порой сильны и взрывоопасны. На Руси же культурный тип сложился как непосредственная смысловая органичность, и весь драматизм русской истории проистекает из напряженного диалога с Западом, в результате которого, впрочем, постоянно восстанавливается характерная смыслообразующая структура культурного целого. 4. Особый культурный тип являет Ближний Восток. При всей пестроте этносов и цивилизаций здесь тысячелетия господствует особая ценностно-смысловая иерархия: мистическое - рациональное - (эстетическое). И древнеегипетская культура, и иудаизм, и особенно ислам - смысловые явления именно этого ряда. Искусство здесь только символизирующе служебно. Однако разум конкурирующе вторгается в святая святых мистики и дает характерный смысловой отсвет и самому этому мистицизму, и всему типу культуры. 5. Китай и Восточная Азия в целом выдвинули особый сплав основных ценностносмысловых ориентиров: эстетическое-мистическое-(рациональное). (Эстетико-мистический синтез, разумеется, радикально отличен от мистико-эстетического по своей ценностнопостигающей направленности.). 6. Индия - это особый культурный континент. Рационализм здесь удивительно сочетается с мистицизмом, отводя эстетизм на задний план. Мистическое созерцание Полученная нами модель очень сходна с тем типологическим членением, которое осуществляет С.Хантингтон. Семь цивилизаций, которые выделяет в мире С.Хантингтом, опираясь не только на культурные, но прежде всего из политологических аргументы включают Японию, которая, являясь в 20 в. геополитическим субъектом, все же, очевидно, представляет единый культурно-смысловой тип с Китаем и др. странами Восточной Азии, развавшимися под его влиянием (Хантингтон С. Столконовение цивилиазций М., 2003) 24 29 всецело подчинено в индийской культуре всех эпох рациональному по своей природе началу власти и способностей субъективности, которая научается подчинять себе Другое и действовать вместо него. Именно этот смысловой сплав можно считать прямым продолжением древнего магизма, а как раз такого рода эффекты и характеризуют доминирующую направленность феноменальных интуиций цивилизации. Никаких других культурных типов в истории цивилизаций так называемого «осевого» типа выделить нельзя, если строго логически исходить из структурно-феноменологической модели культуры как системного опыта и текста осознания - как способа смыслового преобразования непосредственного существования человека. Но это не означает, что эта типология исчерпывает все многообразие культуры. Есть и известные нам типы культуры, которые выходят за рамки данной систематизации – не являясь культурам «осевого» типа. Дело в том, что в ряде типов культуры – архаичных и современных, культура, тесно интегрируясь с социальными технологиями, выступает по преимуществу формой адаптации человека к естественности природы и общества. Культура связана здесь технологией настолько, что сама оказывается ее частью. Как ни странно, это происходит не только на очень высоком уровне развития технологий, когда все стороны жизни, включая культуру, начинают в значительной степени зависеть от технологий (прежде всего, очевидно, информационно-коммуникативных), но и на очень низком уровне, когда зависимость общества от элементарных адаптационных процессов чрезвычайно велика – когда цена естественной адаптации выше переосмысления естественности как такового – когда культура тоже отлажена прежде всего как социальная и гуманитарная технология. Архаические формы доминирования в такой культуре – магия и миф (при этом миф менее технологичен и более переосмысляющ, чем магия, но все равно он вносит смысл в хаос жизни прежде всего как средство жизненной адаптации – как инструмент естетсвеннопростого и здорового миропонимания). Господство каждой из этих форм образует особый тип культуры. Современные формы такой культуры, сросшейся с социальной технологией и теряющей при этом высокое переосмысляющее значение в пользу значения адаптационнопреобразовательного – это массовая идеология и информационные технологии массового общества. Каждая из этих форм образует особый тип культуры. Эти типы хорошо нам известны как модернистская массовая культура тоталитарного общества и как постмодернистская массовая культура. (Эти формы отчасти аналогичны мифу и магии, хотя общества, жизнь которых регулируется их действием, заметно отличны от архаических: природа адапатационной доминанты в них иная, как совершенно иной и уровень развития технологии). Но при всем это все же именно «осевую», смыслообразующую структурную иерархию можно считать определяющей в установлении культурного типа, определяющего идентичность той или иной цивилизации. Именно она определяет конкретное многообразие основных культурных типов ("культурных континентов") в истории, хотя и реализуется эта типология в контексте естественноисторической случайности и ведет к относительному разбросу эмпирических феноменов. Это типология культурного смысла, а не историческая типология. Этот, пока еще довольно декларативный акт выделения типов требует подтверждений. Рационалистический Запад – с него начать, пожалуй, легче всего. Индивидуализм характерен для культуры Запада всех эпох, хотя и преломляется в разные эпохи, как кажется, несколько по-разному. Это именно рациональный – правовой, политический, прагматический индивидуализм, индивидуализм знания и техники, который открывает субъективному «я» смысловой код доминирования над окружающим другим. Ego доминирует над всем другим как смысловой центр доминирует над смысловой периферией, превращая ее в серию своих значений, в свой предмет. Вся основная нацеленность культурного преобразования цивилизации Запада – это нацеленность на рациональное упорядочение природного, витального и социального многообразия, на смысловое подчинение мира самоидентичному ego. Право – право человека-индивида – довлеет здесь 30 над солидарностью, состраданием, любовью и подчинением как принципом верховенства целого – другого – над частичным – моим. Возможно лишь подчинение закону – безличному рациональному принципу, позволяющему координировать взаимодействие «малых», эгоцентрических смысловых миров. И это подчинение еще более рационалистично, чем сам волевой эгоцентризм, ведь это подчинение праву – рационально нормированному принципу господства, который должен довлеть над случайностью волевых порывов. Оно более рафинированно и благородно рационалистично – и в этом, в своей правовой культуре Запад безусловно превосходит почти все прочие смысловые типы культуры. Все прочие культуры вечно смешивают волю и закон, даже Ислам, где закон – это воля Аллаха. Право это не воля, ищущая для себя оправдания, а идеальная власть разума – прямая и чистая презентация разума как особой власти, как доминанты. Истинный смысл западной культуры не в «воле к власти», а в праве власти – в признании власти в качестве права, в ее оправдании в качестве первичной смысловой очевидности. Собственность здесь именно частная собственность – собственность в индивидуально-эгоцентрическом смысле этого понятия. Она такова и в эпоху Рима, и в эпоху феодальных автономий, и в эпоху Реформации, и в Новое время и, конечно, сегодня. Священное право собственности – это прямое продолжение права на жизнь и права на суждение совести; Оно свято не со времен Дж. Локка, не со времен М. Лютера, не со времен витязей Карла Великого, а еще раньше – со времен древнеримского юса – неотъемлемого и священного права человека. Право – это форма рационального господства. Рациональность знания, более того, управляющий технологизм знания (в противовес, например, знанию-благоговению, или знанию-откровению) присуща не только современной науке: она такова и в классической науке рационализма, читающего «книгу природы», чтобы подчинить ее себе – разуму; она такова и в средневековой схоластике; она такова и в римской государственно-технической цивилизации. Прагматизм – вовсе не изобретение англо-американцев 19 в.. Именно этот расчет – расчет пользы мы ярко видим еще у И.Лойолы, еще у Н.Макиавелли, он доносится и от конклавов папских курий. Его циничные декларации мы слышим и из уст давно истлевших римских императоров, равно как и сенаторов республиканского Рима. Все здесь есть прежде всего Град, Цивилизация – царство разума, господства и права, включая даже «Царство Божие на земле». Все здесь есть прежде всего тело и внешность – прочный корпус, глянцево-поверхностная реальность – рациональная предметность. Все подчинено ее внешней силе, потому что сам человек – рациональная вещь. Неудивительно, что основные достижения Запада именно в сфере рациональных практик – в науке (и прежде других в науке о движении тел), в технике, с которой слито все знание, в праве и государстве, которым Запад стремится придать глобальное значение. Но это не традиция Рима простирает свою незабвенную сень над всеми последующими эпохами Запада. Это рациональный смысл – аксиоматически принимаемый как главный, а иногда и как единственный признак человеческого духа, организует свой устойчивый структурно-феноменальный «кристалл», собирая исторический мир, человеческую жизнь в преобразующую хаос целостность. Это – устойчивое смысловое видение, которое так очевидно, которое и не может быть иным, поскольку это видение через грани призмы, которую нельзя поворачивать, ибо тогда можно утратить смысл. Но разве на Западе не было ничего другого, кроме рациональности и ее выдающихся достижений? Да, как и в структуре всех других культурных типов, здесь включены все три грани возможного смыслообразующего события – кроме рационального начала событийной свершенности, придающей ему идентичность устойчивой реальности это и эстетика его волшебного, гипнотически завораживающего и душевно трогательного смыслового складывания, это и мистика его открытости непостижимому Другому, привносящему смысл. Но они включены именно как дальние, вторичные грани кристаллической смысловой призмы. Поэтому искусство Запада все проникнуто индивидуалистическим пафосом, страданием и славой героической индивидуальности и даже абсурдом одиночества (в ХХ в.). В его лучших образцах этот пафос высвечен изнутри напряженного индивидуального 31 переживания – напряженного именно в своей самоощущающей индивидуальности, претендующей на всеобъемлющую божественность. Эпика народной радости, лирика общей, общинной песни не характерны для поэтики Запада. Род ее специфичееской поэтики надо было бы назвать страстным героизмом (в противовес, например, античному героизму – героизму трагического самоотречения, сулящего герою славную полубожественность). Любовь сквозь призму эго-переживания, судьба как переживаемая биография, чувство как самоощущение и творчество как самоутверждение – вот критерии духа западного искусства. Они наблюдаются отчасти и у римских поэтов, и у трубадуров, любовь которых это скорее нарциссическое самовоспевание любви, нежели явленная трепетность другого существа, и у Данте, ад и рай которого отнюдь не мистичны, а являются следствием его собственного суда (так и говорится: «дантов ад»), и у резонирующих творцов искусства 17-18 вв., и, конечно, у романтиков, видящих мир с высоты парящего над миром и толпою гения. К этому страстному героизму органично привит и гедонизм – собственно он-то и является сутью этой увлекающей страстности. Никакого противоречия здесь нет: это наслаждение страстью, страсть не как страдание, а как непреодолимое увлечение. Разум доминирует здесь над эстетикой (он создал и саму эстетику в 18 в.), порой прямо диктуя искусству свои законы – как в романских образах-символах, как строгих формах классицизма, как в конструктивных модернистских программах, – порой же скрыто проступая сквозь субъективное по своей неизменно окраске чувство, разум доминирует над чистой эстетической интуицией. Таков смысловой «кристалл» западной культуры. Эстетика – это только средство, пособие по проявлению рационально-эгоцентрического предметного зрения. Это важное гипнотическое средство рационального самоутверждения сознания, это прикладная магия рациональной эгоцентрики, имеющая конечный экзистенциальный смысл только в прояснении смысла осознающего «я». Чувство – это форма самоутверждения. Это искусство напряженно авторское – ищущее самоутверждающей оригинальности. Это искусство присваиваемое по своему назначению – живопись для частных коллекций, книги для библиотек, в тиши которых можно ими наедине насладиться и т.д. Этими чертами, заметит внимательный критик, искусство Запада не исчерпывается. Да, но будучи вторичной гранью доминирующе рациональной смысловой призмы, искусство Запада ведь часто восполняет свою недостаточность за счет заимствований: у греков в римскую эпоху, у Византии в «темные века», на сказочном Востоке и в архаическом фольклоре в эпоху Романтизма, на настоящем медитативном Востоке и в неевропейской экзотике в эпоху модернизма, и отовсюду после модерна. Именно в силу своей смысловой ангажированности разумом, неразрывной смысловой встроенности в рациональный «кристалл», эстетическая жизнь Запада не самодостаточна. Она проигрывает в конкуренции с более тонкой и глубокой – с более чистой, экзистенциально более подлинной эстетикой других культур. И, соответственно, заимствует образцы, порой опираясь на заимствованные модели многие столетия. Что же касается мистики, несмотря на возможные возражения многих искренне верующих людей на Западе, надо признать, что эта сфера – смысловая периферия западной культуры. Об этом свидетельствует не только современное состояние западного общества, которое порой называют постхристианским. Уже древнеримская религия сильно отличалась от древнегреческой: Греки хотя и не имели догматической религии, как, например египтяне или евреи, но все же склонны были к мистериальной экстатике, хотя и насыщенной доминирующим пафосом эстетизма, во многом же бывшей все же специфической мистикой. Мистериальная религия играла большую роль в классической Греции, греки верили в орфическое преображение, в дионисийское бессмертие – они видели в мистике нетривиальный экзистенциальный смысл (хотя этот смысл при внимательном взгляде, и особенно при сравнении с религией действительно мистических культур, и предстает как отражение эстетически-космического смысла). Греки действительно преображались в чудесной вдохновенной мистериальной связи со своими богами. Римляне лишь формально откупаются от своих многочисленных богов соблюдением строгих ритуалов. Почитание у 32 римлян это добродетельная и священная почтительность – та, что собрана в специфически римском понятии «сакральность». Священное при всей своей сверхреальной силе должно помогать людям, которые должны для этого быть скрупулезными и предусмотрительными. Религия римлян это явное отражение рационального смыслообразования на мистической грани складывающегося экзистенциального события. Можно спорить о роли и специфике религии на Западе в эпоху Средневековья. Мистико-рационалистический характер раннесредневекового латинского христианства предстает как синтез (симбиоз, "псевдоморфоз", по выражению О.Шпенглера) рационализма Рима и мистицизма, идущего с Востока и из Византии. При этом автохтонный рационализм Запада довольно быстро переосмысливает идущую с Востока христианскую мистику – переосмысливает ее в характерных политико-юридических тонах, что и ведет неизбежно к разделению церквей и обнаруживается задолго до окончательного раскола и схизмы. Стоит сравнить феноменологичность тринитарного богословия (учения о лицах Бога-Личности), идущий от тонкого греческого идеализма академии (Василий Великий и Григорий Богослов, взращенные философскими Афинами) и нечуткость Запада к феноменальности греческих категорий - переформулировка их в типично рационалистических терминах субстанциализма (129, с 38), чтобы увидеть залог неизбежного расхождения двух европейских культурно-тектонических плит. Этот рационалистически-мистический культурный синтез католицизма вполне выдерживает сопоставление с исламом с его мистико-рационалистической системой. Дух теократизма и духовной юстиции витает и там, и тут, равно как и силовой экспансионизм, смешанный с навязчиво миссионерской идеей всемирности, исходящей из типично по-рационалистически сформулированных категорий логической строгости и тотальности. Но если политизм и "юридизм" ислама все же по преимуществу мистичен (что и порождает в суммарном сочетании характерный феномен восточного фанатизма), то на Западе, наоборот, религиозность все более политична, юридична, рационалистически схоластична и открыто экономически экспансивна, что позволяет вообще говорить о синтезе и "псевдоморфозе" в позднем средневековье, когда иные - отнюдь не христианские и вообще не религиозные смысловые силы - силы становящегося рационализма осознания, лишь внешне, структурно оформлены с помощью ветшающего каркаса католицизма. Католическая вера это прежде всего томистская доктрина; одно из ее положений – доказательство бытия Божия. Разве это мистика в полном смысле данного понятия? Практически не зная мистики – утратив связь с мистической апофатикой греческого Востока – западные созерцатели принимают за мистику эстетические в своей сути экзальтации. Западные святые хотят идти земным путем Христа («Подражание Христу») вплоть до имитации его страданий (стигматы), но они совершенно не ведают молитвенного состояния во Христе – этой дарованной непосредственности богообщения, которая в реалистической трактовке означает обожение человека – феосис. Западное христианство в целом рационалистично, и это сказывается не только в реформации и предшествующим ей все более рационализирующим духовную жизнь реформам в самом католицизме, но и в изначальной теологической позиции Западной церкви, в центральной христианской идее Боговоплощения подчеркивающей именно человеческую - мирскую свершенность этого события. Рождество - то есть самое начало воплощения Божества - рассматривается как решающее спасительное событие. Халкидонская двуприродность Христа подсказана Западной церковью с легкостью, но за этой легкостью крылся своего рода монофизитский уклон в сторону антропологизма христианства. Этот антропологизм и привел затем напрямую к гуманизму Ренессанса, органично развернувшемуся из недр самого католицизма, так, что четкой грани между "средневековьем" и "возрождением", переносимой внимательными исследователями 15в. на с 14 в., на 13 и даже на 12 век, почти не заметно. Западная религиозность отнюдь не подтягивается к политическим, юридическим, рационалистическим формам в качестве инструментально подчиненного момента, но в эпоху своего наивысшего взлета сама 33 внутренне пропитана рационализмом (и отчасти эстетизмом), который и придает ей подлинный смысловой тон. Это свидетельствует о культурной наносности, инородности мистической интуиции для Запада, что и выразилось затем в эпохальном упадке Западной религиозности на фоне естественного и оригинального подъема рациональных, а вслед за ними и эстетических мотивов смыслообразования в культуре. Католицизм это христианство рационализированное. Католицизм это по преимуществу рациональные государство, право и наука, хотя и мыслимое как «Царство Бога на земле» под властью папы, как право каноническое (впрочем, доминирующее при этом над властью и феодальными уложениями и строго контролировавшее все повороты ума возможных еретиков в виде суда инквизиции, и как догматическое знание). Христианство на Западе наносное влияние, оказавшееся таким ощутимым из-за падения цивилизации Запада и продолжительной интеграции ее в византийскую цивилизацию, хотя и не окончившейся бесповоротной ассимиляцией. Заметим – на это мало обращают внимание – христианство распространяется вначале по преимуществу на греческом Востоке. И там оно аутентично, а на Западе - наносно, транслировано. По свидетельству Плиния Младшего – наибольшее распространение в начале 2 века христианство имеет в Малой Азии, в греческих областях. На Западе же оно распространяется намного медленнее, хотя одна из многочисленных церквей, основанных апостолами действительно оказалась на Западе – в самом Риме, в столице Запада и Востока. Библия переведена на латынь только Амвросием Медиоланским (5 в.) – видимо для таких неведающих Востока неофитов, как тридцатилетний Августин, как известно, не знавший греческого языка. Христианство медленно прививается на Западе; а перенос столицы на Восток практически совпадает с христианизацией всей цивилизации. До 5 века Запад – это еще Древний Рим, влияние ближневосточной веры в нем невелико; с 6 по 9 век – это окраина Византии. Не только Рим – провинциальный город империи ромеев, но и Галлия, и Ирландия просвещаются выходцами из Антиохии и Александрии. И только с подъемом империи франков католический Рим начинает играть свою собственную цивилизационную роль в европейском Средневековье. С этого же времени начинается и разлад с православным Востоком. Именно эта роль церкви как «града Божия» на земле, как теократической цивилизации оказывается не приемлемой в Византии, хотя эта борьба и рефлексируется всего лишь как борьба правящих авторитетов. Раскол церкви не во вставке «filio que», не в первенстве церковных престолов, а в той миссии, которую осознает и берет на себя церковь: в культуре Запада – миссии рационально-правовой, в культуре Востока – миссии мистически спасительной. Разделение же христианской Европы на две цивилизации – не только в поле экклезиологии, но и в понимании самой миссии, цели Бога, Воплощенного на земле: «Нас ради человек» пришел Бог, или «нашего ради спасения» – на каком из этих, в общем-то неразделимых тезисах поставить акцент? Пришел ли Бог установить ли свое небесное Царство в этом, таким образом, восполненном мире, или возвести человека к Себе, к Богу, дав ему тем самым и возможность восполнить мир. Православный Восток делает акцент в слове Богочеловек на первом корне, Запад – на втором. Ну а если все здесь изложенные аргументы принять, то надо признать, что единой цивилизации под маркой «христианская Европа» никогда не существовало: не было такого аутентичного культурно-смыслового типа, хотя и имел место такой непрочный политический конгломерат. Всегда – с Древнего республиканского Рима - был Запад как идентичный культурный тип, хотя существование его было прерывно и порой принимало не свойственные ему, заслонявшие его смысл внешние формы. Это и имело место в раннее Средневековье, или, как точно сказал именно об этом О. Шпенглер, имел место «псевдоморфоз». На Востоке же Европы сменилось два культурно-смысловых типа: античная Греция и православный мир, сумевший расшириться и, несмотря на драматическую историю взаимодействий с Западом, сохранивший, как представляется, свою культурно-типологическую идентичность до сих пор. 34 Ключевыми для западной культуры были и являются два не равнозначных между собой смыслообразующих начала – рациональное и эстетическое. Второе порой вступает в спор с доминирующим первым, как это произошло в идеях романтиков, ставших влиятельными на почве критики оголтелого рационализма Просвещения. Порой кажется, что одновременно реабилитируется и религия. Но то, что пишет Ф. Шлейермахер, - очевидная ошибка понимания: под именем религии он описывает специфику эстетического феномена, противопоставляя его слепому к интуиции и чувствам разуму. Ф. Шлейермахер – типичный романтик, он чутко слышит эстетическое и оно для него заслоняет собственно религиозную мистику, опыта которой как таковой он просто, видимо, не имел. В аргументах реабилитации религии он уступает Ф. Шеллингу, яркому романтику – эстетическому мистику. Специфика религии заслоняется в романтизме именно такой особой эстетической мистикой – заслоняется как бы из защиты от покушений всеразлагающего и все сводящего к себе разума. И такие формы защиты религии от рациональной редукции считались многими европейцами убедительными и достаточными до тех пор, когда там стали появляться философские идеи феноменальной первичности и тайны Другого, внесенные в 20 в. М. Бубуром и Э.Левинасом – внесенные, очевидно, таким образом, из незападного ментального источника. Неизвестно, впрочем, усвоены ли эти идеи сегодня на Западе. Даже М. Хайдеггер, столь тонкий феноменолог поэтического события, онтолог вот-бытия – настоящего по сути не слышит еще онтологии грядущего, феноменологии мистического, и сам утверждает это. Судьба восточно-европейского православного смыслового типа тоже не проста. Ведь этот смысл прививается в эллинистическом мире и прививается трудно, поскольку сталкивается там с устойчивой смыслообразующей моделью – эстетически космической и рациональной по преимуществу. Смысловой «кристалл» греческой цивилизации эстетичен – таково все мировоззрение, таков мифология, таково назначение человека – микрокосмоса – прекрасно-доброе, калокагатия. Разум, как это ни парадоксально прозвучит для сторонников выводить европейскую рациональность из греческой философии, это вторичная грань в этом кристалле. Основные категории Платона и Аристотеля – идея и форма – имеют подоплеку в умозрительной интуиции совершенства – вовсе не обладания знанием, а стремления к истине, припоминания и рождения истины. Идея у греков это видение, а не абстракция; форма – это целостность, а не формальность; данная подмена смыслов произошла при адаптации греческих понятий к западному миру. Число Пифагора это не рациональное исчисление Ньютона и Лейбница, в нем не только мистическая глубина, но, главное, эстетическая гармония, чудное единство многого – то, что дает мистике доминирующее эстетическое содержание. Греки создали классические эстетические образцы; их же разум усваивается только при чуткой и углубленной истолковывающей реконструкции. Их разум не самодостаточен, он – только вторичная грань космоса. Что же касается религии греков, она такова, что для нее лучшее богослужение это искусство, посвященное богам. Но, как кажется, наличие этой-то эстетико-мистериальной религии как раз и позволило грекам понять и довольно быстро принять проповедь христианства. Вряд ли это было бы так легко возможно там, где не было мистерий страдающего Диониса и своеобразного дионисийского воскресения. Вряд ли это было бы возможно там, где подразумевание Бога никак не соотносится с реальностью мира и актуальностью человека, с его возможным сверхземным совершенством. Это и не стало возможно в древнееврейской среде – там, где новый тип культуры исторически зародился в виде парадоксального богооткровения. Только эстетизированная религия была открыта иной возможной мистике, только такая религия могла почувствовать свою мистическую неполноценность, свою неудовлетворяющую до конца эстетичность. Да, тот тип культуры, который мы назвали православным, восточно-европейским, родился вначале в одной личности – личности Богочеловека Христа. Иисус Христос полемизирует с мистическим рационализмом иудеев. Он вместо законнического расчета 35 предлагает метафорические притчи и совершает чудеса исцеления. Он наделяет земное и жизненное символикой небесного и божественно-вечного. Мир теперь из дольней пустыни изгнания из рая становится символической лестницей к Богу Отцу. Сам этот символизм не рационален, не конвенциален, а предельно реалистичен – это Бог во плоти – тело и кровь, готовые войти в тело и кровь каждого человека, обожая его. Царство Небесное приближается к миру, реально входит в него богочеловечеством Христа и мир наполняется светящейся харизмой Бога Духа. Евангелие создается в эллинистической среде и пишется на греческом языке κοινη. Вера Христова рождается в Палестине как откровение-переистолкование Ветхого Завета, но Христианство – это феномен эллинизма, точнее сказать, эллинизма, уже преображающегося на богооткровенном Востоке в византинизм. (Если для эллинизма характерно распространение греческого влияния на все цивилизационно интегрированные области Востока, то для византинизма – обратное движение – активное оплодотворение восточным смыслом греческих культурных форм.) Грубо и необычно звучит, но христианство это смысловой аттрактор византинизма. Это не трансляция восточного типа в греческий мир, а зарождение нового смысла на самом стыке смысловых миров – там, где человеческий смысл изумленно сбивается, смыслообразующее событие размыкается и в этом экзистенциальном просвете может проявиться сам Бог. Этот новый смысловой тип гаснет в ближневосточной культурной среде, настроенной на рациональное раскрытие высшего религиозно-мистического смысла. Эта среда вовсе не исчезла с возникновением христианства. Ближневосточный тип культуры продолжал воспроизводиться, кроме того, имел оригинальное развитие в виде исламской цивилизации, чрезвычайно мистически вдохновенной и при этом рационалистически законнической, несравненно политизированной, сливающей подзаконную человеческую волю с волей Аллаха, и одновременно с этим довольно мало продуктивной в художественно-эстетическом творчестве. Один только запрет на изображения лишает здесь целой степени свободы – все искусство здесь носит привкус фольклора, народной традиции, не претендующей на слишком высокое значение; и только зодчество, служа возвышенному божественному смыслу, развивается в полную меру. Становление же нового – христианского – культурного типа даже в наиболее благоприятной для этого эллинистической среде – долгий и сложный процесс. Монофизитство Византийского Ближнего Востока (Египта, Сирии, Армении), осужденное как ересь четвертым Халкидонским собором, – феномен другого непрочного смыслового синтеза в культуре. Оно глубинными корнями связано с монотеистической мистикой Ближнего Востока - корнями, проросшими в почве синтетической христианской культуры Византии и противостоит феноменологизму в истолковании Тринитарности и диалектике Христологии православия. Это противостояние в итоге приводит к ассимилятивному слиянию вновь со стихией восточного - мистически-рационалистического монотеизма Арабского Ислама. Эллинизированный и Византинизированный Ближний Восток вновь – быстро и естественно – покрывается "плитой" органичного для него культурно-смыслового "континента". Греческий рационализм и мистицизм Востока в свою очередь сталкиваются при драматическом историческом формировании православной мистики (догматики) и эстетики Византии - как крайности в складывании православного восточно-европейского культурного типа. Это сказалось и в рационалистических обострениях савелианства и арианства (3-5 вв.), и, с другой стороны, в эксцессе Ветхозаветной установки иконоборчества (8в.), с трудом преодоленными на основе новой, неизвестной ни Востоку, ни античности смысловой системой культуры. При этом культурные типы славянства и византинизма, бесспорно, изоморфны (К. Леонтьев). И то, что драматично для Византийской культуры, в муках растущей из синтетического противоборства двух ранее существовавших типов, то совершенно легко и органично для новой восточно-европейской культуры, закрепившейся в основном в славянском этническом самосознании. 36 При этом первое и второе тысячелетие православного богословия существенно отличны: первое еще по преимуществу рационалистически-диалектично и при этом драматически стремится выйти к горизонтам эстетически интуитивного феноменализма в артикуляции христианского мистического опыта. (Можно вспомнить об эстетически-рационалистических антично-греческих корнях феноменологизма, о которых пишет А.Ф.Лосев.) Второе - это эстетически-созерцательное, но внутренне несравнимо мистичное богословие поздней Византии и Руси. (На внутреннее родство древнерусского богословия и в целом христианства - на родство эстетико-мистического переживания Бога Симеоном Новым Богословом и влияние его школы на богословие и мистику Руси указывает И. Экономцев25). В этой связи понятно "богословие в красках" А. Рублева и весь облик мистико-эстетического синтеза Святой Руси. При этом именно восточная христианская антропология собственно православна: человек это иерархия и синтез Духа (мистического созерцания) - души (эстетического чувства) - тела (рацио); западное же христианство неизбежно душу ставит вровень или даже выше духа, что уже есть структурное искажение христианской парадигмы и одновременно есть тенденция идущей далее смысловой перестройки сознания, приводящая к нововременному и современному материализму антропологии 1) тела; 2) души и 3) духа как всего лишь сублимированного надстроечного эффекта. Основные свершения цивилизации этого культурного типа – в духовно религиозной сфере. Весь высокий слой и настрой культуры богооткровенно мистичен и опекается церковью. Уникальные высоты духа этой культуры – это явления духовного подвижничества, такого, какое не знают другие смысловые миры. Вера в высшую правду – основа миросозерцания. Служение – основа человеческой миссии в обществе и в мире в целом. Искусство и эстетика пронизаны символизмом, так как эта грань смыслового «кристалла» видна по преимуществу через интуицию высшего, мистического начала. Само же это чувственное начало не всегда прозрачно – оно, как кажется, способно порой обрядово и образно заслонять тонкие откровения мистического умозрения. Но при этом оно пронизано неотделимым духовно-религиозным накалом, так что все равно образует цельный кристалл священно-образного, главная смысловая нагрузка которого в священном, а не в эстетике самой по себе – в радении, а не в игре. В этом и иконопочитание, и «обрядоверие», и истовая радость праздника, ощущаемого экзистенциально, а не феноменальнокарнавально. В этом и значение искусства и литературы как нравственных органов культуры, в этом и тезис Ф.М. Достоевского о спасительности красоты – не в эстетизации спасения, а в сотериологической миссии эстетики. Кстати, если бы высшее откровение было бы умозрительно прозрачным, это значило бы, что божественное вполне ясно разуму, это было бы так похоже на схоластическое всезнание о Боге и ангелах, против которого так протестовал на Западе М.Лютер (не избежав при этом доминанты рационализма как в понимании самого смысла веры – веры для квазиюридического оправдания, – так и в индивидуалистической автономии суждений, невольно превращающей саму веру в суждение). Если бы символизация понималась с учетом сущностной дистанции между символом и реальностью, если бы терялась непрозрачность символа, его сплавленность с символизируемым, это была бы феноменальная символика, подобная символике готических соборов, собиравшая в себе все знание и бывшая формой знания. Да, тогда бы тайное было яснее, но тогда бы непосредственное не было бы тайным, люди бы не касались прямо и наивно самой сути в образах, а видели бы все сквозь сложную оптику полупрозрачного чувства, всегда субъективного, нетождественного видимому сквозь него другому. Рациональность же в православном смысловом типе – на низшей ступени значения и ценности: общество аполитично, воля доминирует над законом, а милость над волей, прагматизм не ценится и даже осуждается, расчет презирается, многознание не почитается – простота и даже юродство превозносятся и т.п. Аутентичные достижения в области науки, 25 Экономцев Иоанн. Православие. Византия. Россия. М.,1992. 37 техники, философии в Византии заметно останавливаются от столетия к столетию, философия упраздняется (6 в.), а в России всегда чувствуется вековая отсталость от Запада – и всегда требуются заимствования в этой, в общем-то весьма важной для развития цивилизации, области. В.М.Ломоносов – родной русский, но его наука немецкая. Д.И.Менделеев – гений химии, но при этом носитель немецкой образованности и методичности. Там же, где главный успех зависит не от метода, а от искусства, не от расчета, а от интуиции и хитрости, например, в войне, русские всегда бивали немецких. Здесь удача парадоксальна и совсем не равно выгоде. Иван-дурак выше умных братьев. Выгода не может быть целью, она лишь презренное средство. Счастье сбывается чудесно и не является прямым результатом мелкой суеты и медленного упорства. Исток счастья – чудо, а его собственная ипостась – радость праздника жизни; разум здесь третьестепенен. Этот ряд смежных характеристик можно продолжать, и читатель легко сделает это, если примет за основу типологии культуры предложенную модель вариантности смыслообразования. Нет возможности здесь также подробно иллюстрировать эту логику далее, на материале всех других типов культуры. Хотелось бы только снять некоторые сомнения и возражения, вытекающие из возможной сбивчивости примеров, причина которой – в исторических взаимодействиях ряда культур. Впрочем, эта-то кажущаяся сбивчивость при близком внимательном рассмотрении как раз позволяет выявлять проясняющие смысловые нюансы, как правило, скрытые от описательной культурологии. Так, например, буддизм распространился на Востоке – в Китае, Японии. Но буддизм рационально-магичен; это скорее род философии, чем мистика. Буддизм просто не считался бы религией на Ближнем Востоке, ведь в нем правит человеческий разум, и нет Другого сознания, Бога. Ключевая проблем буддизма – отказаться от собственного «я», но это так трудно, потому что все равно остается то же магнитное поле «моего», то же «я», только в событийно рассеянном виде – и таких циклов рассеяния «себя» должно быть бесконечно много. Тип культуры в Китае иной – это прежде всего чувство чудесного Дао, слитное с мистикой, но собственно наполняющее ее своим, по типу эстетическим, созерцанием; рациональность там явно на подразумеваемом заднем плане. Но Чань-буддизм (Дзенбуддизм) – это существенное преобразование прототипа: эта медитативная культура призывает созерцать мир, как он появляется, в недосказанности вот этой, здешней данности, в середине его всегда еще разомкнутого события – это эстетический (и по типу даосский) мир-еще, а не рациональный мир-уже – не мир-иллюзия, а мир - духовное пособие, спонтанность природы как модель духовной естественности. Дзен-буддизм это тонкий феномен, в котором соединились интуиции Дао и учение Будды, но превалирует эстетическое созерцание. Смысловой тип, сложившийся на Дальнем Востоке столь же целен и устойчив, как и все другие. Все, что воспринимается, кристаллизуется здесь в знакомой форме - форме видения мира и полагания смысла. И тогда дзен-буддизм это не столько синтез, сколько именно «псевдоморфоз», как сказал бы О.Шпенглер. Для кого-то бытовая прагматика китайца покажется признаком доминанты рацио. Или конфуцианство с его строгими правилами и предписаниями предстанет прямым аналогом закона. Но это, очевидно, не так. Ритуал (ли) именно благороден, возвышен, а не законообразен в смысле неизбежных детерминант – он не признак власти разума, а, напротив, символ служения, как и долг – не рациональное долженствование, а благоговейное почитание. Ритуал – это воспитание духа, а не проявление духа: «правильные действия ведут к правильной речи, правильная речь к правильному слуху, правильный слух к правильным мыслям», а, как это ни странно для европейца, не наоборот. Ли это руководящий путь к жэнь (человечности), жэнь же – это скорее особое внутреннее чувство, нежели дух разума. При всем социально-бытовом прагматизме дух техники и дух власти чужды традиционной китайской культуре; сердце человека не должно стать железным от использования железных орудий. 38 Кому-то покажется парадоксом выделение разума в качестве смыслообразующей основы индийской культуры – при той славе мистики и чудес этой сказочной страны. Сами индусы называют свою страну «матерью всех религий». Но если всмотреться внимательно в саму традиционную религиозность разных версий, имевших место на Индостане, поражает неразрывная связь религии с магией, причем связь иная, нежели, например, в даосизме. Подавляющая часть ведийских текстов магическая – ритуалы, заклинания. Да и гимны Ригведы мифологичны, а отнюдь не религиозны. Веды – это прежде всего знание, а не почитание. Если же обратиться к самому содержанию ведической религии, к характерному для нее мировоззрению, изложенному в Упанишадах, то можно только изумиться, как близко ключевое для мистического контакта соотношение Атмана и Брахмана тому, что мы выделили как феноменальную диспозицию сознания рационального типа: В самой сердцевине «я» - выход к божественному; более того, это не выход к другому а именно выход к себе как к богу, поскольку Брахман стал Атманом, он - его перевоплощение. Религиозность такого типа можно сопоставить, пожалуй, только с идеей «искры Божьей» в человеке Майстера Экхарта (и то если не понимать «искру» как мерцающий отблеск, отсвет извне – образ и знак близкого присутствия Бога, что бы вполне согласовывалось с бесспорным христианством). Индийская религия – это прежде всего тайное знание, а потом уже благочестие. Распространяясь в модифицированном виде в западном мире, неоиндуистские секты постоянно настаивают на этой специфике как своем особом приоритете над верой, лежащей основе большинства других конфессий. Традиционная йогическая практика – это тоже по преимуществу знание и технология, а вовсе не медитация-озарение, каковую можно встретить в даосизме и дзен-буддизме. Чего больше в йогической практике, духа или тела? В индийской культуре тела и телесно организованной души больше, чем духа. Она вся пронизана идеей телесного удовольствия – идеей вполне рациональной, не связанной строгими эстетическими, моральными или сакральными обязательствами. Напротив, порой, как в тантре, телесность доминирует и ведет за собой дух. Эта идея телесности, конечно, не идентична западной прагматике тела, делающей рационально приемлемой все естественное и противоестественное, но далека и от греческой эстетики тела, отбраковывающей многое из сферы телесного, что не соответствует идеалу гармоничного совершенства. Она не идентична и даосской магии, нацеленной на то, чтобы увлечь все телесное в это, уже невесомое, движение духа, в эту событийную открытость движения, открытость появлению, что, если точно филологически разобраться и выражается иероглифом Дао – * *. Как указывает классик изучения восточной ментальности американец А.Уотс, трудность понимания философии Дао для европейца состоит как раз в неточном переводе этого ключевого понятия. В китайском языке это понятие одновременно – глагол и существительное, а для этого в европейских языках нет эквивалента. Сфера телесного онтологический ареал рацио. Это сфера тождественного своего – того же самого «я» - моего тела, благодаря которому «мое» сознание опорно и самоидентично. Эта онтологическая сфера наиболее податлива рациональному познанию именно потому, что природа, телесность, реальность как модус и слой бытия феноменологически аналогичны структуре рацио – модальность того и другого – свершенное событие – не ожидание грядущего, не чудо настоящего, а эта устойчивость свершившегося – метафизическое бытие. Оспаривать значение искусства в индийской культуре, как и в любой другой бесперспективно. Но надо обратить внимание, что по своему типу все оно выглядит как искусство народное, как фольклор, не несущий решающего переосмысляющего значения. Если сопоставить Махабхарату и Рамаяну с Илиадой и Одиссеей, то можно ясно увидеть в греческом эпосе прямой прообраз трагедии, этого парадоксального эстетического осмысления, а в эпосе индийском – чистый фольклор. Искусство может нести и магическую функцию, но эстетика созерцания никогда не главенствует в индийской магии в такой степени, в какой она ведет за собой медитацию восточно-азиатского типа культуры. 39 Таким образом, видим: все основные феноменально-смысловые типы – типы переосмысления натурального существования, то есть типы культуры – имеют место в истории и играют определяющую роль в цивилизационном размежевании человечества. Из положений раскрываемой здесь феноменологической теории культуры четко следует, что количество таких смысловых типов ограничено. Но почему же они практически все представлены в мире вот уже несколько тысячелетий? Почему нет повторяющихся типов – одинаковых смысловых типов на разной исторической почве? На первый вопрос ответить можно пока, видимо, только гипотетически. Культурносмысловые типы не возникали повсеместно и сразу в большом количестве. Прежде чем смысл иерархически кристаллизуется, должен идти долгий процесс дискурсивной борьбы между смысловыми полюсами культуры – борьбы за смыслообразующую доминанту и за иерархическую цельность всей системы. Наличие такого внутреннего дискурса – сильная сторона развития культуры. Именно этот дискурс, эта конкуренция моделей смыслообразования внутри культурного организма выводят этот организм из состояния мифологической традиционности и формируют тот тип, который вслед за К. Ясперсом принято называть «осевым». Информационно-технологическое условие такого напряженного дискурсивного процесса – развитие письменности, причем, не просто письменности, а значительно распространенной грамотности. Как мы знаем, имели место исключительные очаги таких процессов в поясе древних цивилизаций. Развитие конкурирующих форм культуры – искусства, религии, философии или некоторого квазифилософской рационального дискурса – довольно долгое время должно было идти параллельно, иначе бы они не развились как возможные грани цельного смыслообразования. Но успех становления культурного типа зависел еще и от распространения «сильного», то есть выражено иерархического и развитого типа до масштабов целой цивилизации. Собственно, крупные цивилизации и могли развиться только на основе таких «сильных» иерархических смыслообразующих синтезов, само их существование в качестве реализации программы культурного преобразования мира и человека и могло стать устойчивым только в качестве полного и гармоничного смыслового космоса культуры. При этом эти цивилизации могли бы быть и крупнее: каждая смыслообразующая перспектива имеет, по сути, универсальную возможность в качестве основы культурной глобализации. Поэтому удивительно не то, что таких суперцивилизаций не больше, чем возможных смысловых типов, а то, что их не меньше. Что же касается второго вопроса, ответ на него можно получить, если пристально рассмотреть в аспекте культурной идентичности одну из самых молодых цивилизаций (культурно-исторических типов), которые знает история (и с самим выделением которой в качестве таковой даже не все сразу согласятся). Ряд авторов, в их числе С. Хантингтон, делают попытку выделить особую цивилизацию в современном мире, имея в виду Латинскую Америку. Является ли при этом цивилизация стран Латинской Америки особым типом культуры? Что заставляет выделять регион, пусть даже большой и лежащий отдаленно от большей части остального мира, в отдельную цивилизацию? Конечно, прежде всего, культурное отличие, поскольку оно столь существенно, что заметна дистанция и даже непонимание между носителями этой культуры и другими культурами, как правило, свидетельствующие о том, что между ними проходит смысловая типологическая граница. С другой стороны, имеет место культурная идентичность и как ее эффект – безусловное понимание носителями этой культуры друг друга, смысловое единство, присущее их жизненным мирам – в данном случае такое, которое фиксируется в характеристиках, данных смысловому миру латиноамериканской цивилизации мексиканским поэтом и культурологом О. Пасом. Культурным же отличием вызывается непонимание, недоверие, на котором как на критерии разделения цивилизаций делает акцент С. Хантингтон, – которое, прежде всего, проявляется при непосредственном соприкосновении представителей этой группы стран с другими культурами. Это может 40 проявляться в конфигурациях внешней политики, но ярче всего предстает при процессах миграции, то есть тогда, когда довольно большие группы носителей культуры оказываются в инокультурной среде. Здесь начинает проявляться прежде всего недоверие, не вполне осознанное отторжение, скрытыми мотивами которых оказывается культурное непонимание, а причиной последнего – культурно-смысловое различие, несущее в себе существенные, принципиальные черты. Культурная идентичность, в свою очередь образует то широкое единство сообщества, которое, как во многих случаях, не сводимо к политическому единству, к этническим общностям и к геополитическим интересам. Легче всего исходить из того, что Латинская Америка – это огромный филиал цивилизации Запада. Язык и религия здесь европейского происхождения, да и значительная часть населения этого региона - потомки выходцев из Европы. Во всех формах публичной деятельности латиноамериканские государства и латиноамериканские общества всегда были сориентированы на аналогичные европейские (или североамериканские) образцы. Для представителей латиноамериканской культуры характерны качества индивидуализма и личной независимости, являющиеся основными признаками культурно-смысловой матрицы Запада. И тем не менее заметна существенная оппозиция во взаимодействии латиноамериканца с другими культурами. Будучи особенно родственным культурам католических стран Европы, латиноамериканская культура представляет как бы особую модификацию традиционного католического мира. Конкиста, в ходе которой произошла христианизация Америки, это совсем не то, что реконкиста, в ходе которой выковалась экзальтированно героическая религиозная верность Испании и Португалии. Конкиста означала во многом номинальное крещение порабощенных племен. Можно заметить, что магизм их культуры внутренне возобладал над юридизмом исконного католицизма. Он не исчез совсем, иногда составляя причудливо синкретические верования, включающие и элементы магии и элементы католической эстетики, тоже интерпретируемые магически, такие как ритуалы вуду у потомков ввезенных в Америку негров-рабов. Магия возобладала в этом своеобразном синтезе с эстетикой религии – именно с эстетикой, а не с самой мистикой веры Христовой, с которой никакая магия не совместима. Надо заметить, что как раз католицизм вообще открывает эстетическому началу наибольшие возможности, в сравнении с другими христианскими конфессиями. Магическое начало в отношении к реликвиям как к снадобьям и фетишам, к обрядам как к заклинаниям, по мнению критиков католицизма, прежде всего в лице протестантов, тоже выделяет эту веру среди других исповеданий Христа. В характеризуемом же латиноамериканской культуры синкрезисе рациональнопрактическое начало магии уступает место чистой эстетике событийно возможного. Дон Хуан у К. Кастанеды учит не практике, не прагматике волшебства, а его чистой феноменологии. Любовь к танцам, карнавалам, массовым празднествам, преданность семейно (кланово) групповым формам солидарности отчасти роднит, но и существенно отличает носителя латиноамериканской культуры от итальянца, португальца, испанца или ирландца. То что у этих европейских народов фокусируется как фольклорный – низкий, подпороговый пласт культуры, у латиноамериканцев становится главным. Не только потому, что высокая – рационально-юридическая и схоластическая надстройка еще не наросла, а потому, что в растущем смысловом «кристалле» в ней и нет необходимости: формируется особый, эстетико-центрированный смысловой тип – тем самым, формируются основания выделения особого культурного типа. Возможность культурного типа определяется не политикой и даже не геополитикой (в чем геополитическая разница между Северной и Южной Америками?), а именно ростом этого самого смыслового «кристалла» - структурой смыслообразования, которое лежит в основе культуры как опыта осмысления бытия. Это выраженная акцентуация отличия латиноамериканской культуры от прагматически рациональной и однозначно индивидуалистической культуры Европы, имеющей доминирующие гуманистические истоки, связана с одной стороны, и с тем, что сами Испания и Португалия были архаически средневековой периферией Европы, более католической, чем сам Рим. Но в Новое время этот приоритет обратился в недостаток. Сами 41 испанцы в Новое время культурно ориентировались на Париж, а позже на Лондон и НьюЙорк как на духовные столицы, а свою местность мыслили как периферию европейского и, шире, западного культурного пространства. Латинская же Америка не унаследовала этой переориентации. С другой стороны, особая акцентуация культурного своеобразия Латинской Америки связана не только с ее удаленностью от Европы, но и с явной оппозицией Северной Америке – а в ее лице и всей западной цивилизации, постоянно и агрессивно осуществлявшей экспансию против латиноамериканских народов, неприемлемо противостоящей их культуре – и прежде всего противостоящей ей этой своей презренной прагматической ментальностью гринго. Значительные неевропейские факторы способствовали формированию оригинального образа жизни и привычек народов, хотя и не могли всецело образовать или тем более задать сам культурный тип. Впрочем, то, что вносилось при интеграции неевропейских традиций в культуре Латинской Америки – это особое поэтическое, эмоциональное начало, ощущение чувственной, телесной осмысленности мира. Если анализировать латиноамериканскую культуру как культурный тип, то именно это эстетическое начало смыслообразования начинает выступать в ней на первое место. И это одновременно сопровождается снижением роли таких форм проявления европейской рациональности социального бытия, как правовая сфера и обыденный правопорядок, столь сильные не только в чопорной Англии, резонной Франции и пунктуальной Германии, но и в Испании и Португалии – странах традиционного римско-католического канонического права. Латинская Америка в этом отношении сразу оказывается отдаленной от рационально-правовых и рационально-технологических центров периферией западной цивилизации, маргинальной областью, где рациональные скрепы сознания и поведения не только ослабевают, но и теряют свой смысл в качестве основы миро- и жизнепонимания. Это католическая цивилизация, где связь с Римом католицизма, а главное с архетипическим Римом европейской государственности, права и схоластики предельно истончилась, а эстетические начала праздника, любви, героической и революционной политики выступили на первый план. При всей политической страстности, любовь для латиноамериканца все же, скорее всего, выше политики – эстетика выше ценности власти, а в самой этой страстной политике больше анархического порыва, чем властного закона. При этом мистика, характерная для собственно христианского источника, при всей номинальной религиозности, оказывается периферией власти. В ней больше подлинной мистики, чем в усредненной религиозности собственно Запада, поскольку над мистикой здесь царит эстетическое чудо, а не иссушающий тайну и выхолащивающий молитву разум26. Но, как мы уже сказали, это в еще большей степени это мистика нехристианская – мистика индейских поверий, африканской магии, которая уживается и создает неповторимый синтез с мистикой христианской, и таинственность отчасти постмодернистских по духу созерцаний К. Кастанеды, Х. Борхеса и Г. Маркеса. Это по своему духу в значительной степени не мистика религии, а мистика магии, мистика поэтического чуда, строго говоря, не знакомого ироничному западному постмодерну. То есть за фасадом никогда до конца не утрачиваемой европейской ориентированности в Латинской Америке произошла существенная инверсия смыслообразующих величин, что привело к смещению ценностных приоритетов и целостно-культурных ориентиров - к формированию оригинального культурного типа. Идентифицировать его в плане феноменологически-смыслового анализа, который был применен к другим типам культуры, здесь сложнее, ввиду слишком малого по времени развертывания собственной истории этой цивилизации (всего около 300 лет – 10 поколений), по накопленным достижениям которой можно было бы однозначно судить о смысловых приоритетах и иерархической феноменально-смысловой структуре целостного смыслообразования. Это сложно делать ввиду того, что мы имеем дело с еще формирующимся культурным типом, который только в Подобным образом религиозность греков была экзистенциально подлинней и экстатически напряженней, чем религия римлян, поскольку заряжалась смыслом от доминирующего эстетического чуда Космоса, а не от целсообразности разума. 26 42 новейшей истории начинает осознавать этот процесс на уровне цивилизационной самоидентификации и противопоставления - дистанцирования от других цивилизаций. И тем не менее, появляется основание оценить отмеченную инверсию мотивов смыслообразования в культуре – и создать структурно-иерархической модели по аналогии с ранее представленными: Основу смыслообразования для этого культурного типа задает эстетическое осмысление мира и человеческой жизни. Мистика, скорее всего, представляет все же периферийный мотив жизни и миропонимания этой культуры. Гораздо большую роль играют обыденные интересы, интересы обладания и власти – то есть сферы в основном рационального регулирования. Но как раз рациональное начало здесь, в этих сферах оказывается под доминирующим влиянием эстетического принципа открытого переживаемого события. Культура чужда пунктуальному расчету, подчинению логике и правовым нормам. Она как бы выстраивает все эти сферы по эстетическому наитию, хотя и привлекает для их феноменально-смысловой и оформленно выраженной организации рациональные мотивы. Завершается же эта смысловая целостность собственно эстетическими феноменами праздника, действа, игры, героически-торжественного образа самоосознания человека. Таким образом, анализ смыслообразующих мотивов культуры приводит к следующей структурно-иерархической модели: эстетика – разум – мистика. И только если действительно здесь воспроизводится данная модель, можно говорить о латиноамериканской цивилизации не как о геополитическом ареале, а как о культурном типе, занимающем особое место среди других цивилизаций в мировом поликультурном пространстве. Получается, что это логически та же модель, на которую указывает анализ феномена античной греческой культуры. Если принять, что это так, нельзя не сделать ряд замечаний и выводов: По мере того, как прекратила существование античная греческая культурная традиция и память о ней растворилась в разнообразных антикизирующих модернизациях (ренессансного, классицистского и иных типов) сама по себе структурно-феноменологичекая модель культуры подобного типа смогла восстановиться, вырасти на глазах последних поколений человечества. Абсолютно не имея прямой связи ни с каким историческим «прототипом», культура, формируясь в основном под действием фрагментарных влияний и определяющих оппозиций, самостоятельно выработала утраченный некогда структурносмысловой тип. На новой почве вырос смысловой «кристалл», во многом подобный, аналогичный древнему, некогда распавшемуся. Культура человечества, тем самым, обрела полноту типологических вариантов. Это говорит, во-первых, о том, что логическая возможность культурного типа, а точнее возможность феноменально-смысловой структуры, лежащей в основе типов культуры как типов осмысления, присутствует и может реализоваться вне зависимости от факторов прямой исторической трансляции. Этот пример показывает нам, что феноменология смысла как логики культуры разворачивается в принципе независимо от исторических перипетий, трансляций и случайностей, хотя и через все эти перипетии. Логика культуры – это не стечение исторических обстоятельств, хотя она и разворачивается, реализуется не иначе, как проходя через эти обстоятельства. Во-вторых, это указывает на наличие исторических механизмов трансформации культурного типа и выделения нескольких типов из изначально единого. В-третьих это говорит о том, что возникновение одинаковых смысловых моделей культуры в истории не ведет к появлению идентичных культур – идентичных не только в конкретных проявлениях, но даже и в тех формах, в каких осуществляется связь между их структурно-смысловыми моментами. Древнегреческое искусство, философия, мифология, религия, а также эстетически – соревновательно, по-игровому – организованное самоутверждение, где рациональная дисциплина включена в целостно организующий эстетический смысл – это неповторимые исторические феномены ушедшей оригинальной культуры. 43 Данная структурно-феноменологическая теория культуры как «смыслового космоса», позволяет вывести и ряд следствий, приложимых при анализе культурно-типологическог многообразия и выявлении специфики цивилизаций как культурных идентичностей: 1) Наличие типов культуры означает наличие системных каркасов осознания смысловых систем мышления и деятельности, характеризующихся относительной устойчивостью. Это устойчивость не вследствие неизменности внешних обстоятельств – например, геоэкономических условий или геополитических интересов, а вследствие латентных факторов, подобных генетическому коду27. 2) При всем многообразии культур выделяемые культурные типы дискретны, их количество ограничено. Каковыми бы ни были прихоти истории, в результате которых возникли и эволюционируют цивилизации, сами культурные типы, составляющие их основу, внутренне относительно устойчивы и, главное, логически определенны. Именно эта структурно-логическая определенность культурных типов как систем смыслообразования, отображенная, в частности, в языке как смысловой системе, а шире - в структурах ментальности, - не позволяет культурному типу трансформироваться в другой тип, каковыми бы ни были исторические толчки и влияния. А главное, такая структурно-логическая определенность не предполагает бесконечно большого многообразия таких культурных типов. Несмотря на то, что этнических центров культуры достаточно много, радикально отличающихся культурных типов можно насчитать ограниченное число, и это для нас тогда уже не столько проблема истории, сколько проблема логики культуры как многообразия смыслообразующих систем. История, география, геополитика, этнология в состоянии объяснить множественность различий между культурами. Но они не объясняют дискретности и дефинитивности (чекой определенности) культурных типов. Это может объяснить только структурная феноменология осознания, на основе которой можно выявить и проанализировать сам склад субъектности культурно-исторического процесса – тот склад , что сказывается в итоге в сложном смысловом целом культуры. 3) Типология устойчивых культурно-смысловых образований указывает на взаимодействие и структурно-иерархическую связь основных способов смыслообразования как на ключевое событие в складывании и установлении культурных образцов разных типов - как на событие системного взаимосогласования (смысловой самоорганизиации) разных сфер культургенеза и культурной деятельности. Характером этой структурно-логической взаимосвязанности определяется и выступание определенных форм мышления и деятельности на первый план в том или ином культурном типе и, соответственно, специфическая направленность его основных свершений и высших достижений, сказывающийся в своеобразном облике культуры. Согласно данной логике, один из типов деятельности в каждой из выделенных таким образом цивилизаций обретает ключевую значимость, что, естественно, отражается в основных достижениях, наиболее ярко характеризующих в компаративной культурологии именно данный культурный тип. Такой критерий, по сути, ввел еще Н.Я.Данилевский, говоря о специфических целях каждой из культур, впрочем, не раскрывая логики этих целей. Каждый из культурно-исторических типов он выделял по тому особому приоритетному вкладу, который они внесли в многоплановое развитие мировой цивилизации. Этот фактор позволяет выделять некоторые основные темы, обсуждаемые и реализуемые в той или иной культуре - даже в ущерб другим и в ущерб той идеальной целостности, которая, соответственно, в рамках одной цивилизации (одного культурно-исторического типа) не может быть достигнута, что и заставляет историю культуры становиться типологически плюральной. Для нашего подхода важно, что 27 Т. Парсонс использует понятие «латентность», чтобы подчеркнуть фундаментальное значение общезначимых символов, которые приняты внутри системы и как бы скрыты от глаз, но без которых невозможно функционирование системы. Они играют роль внутренней функции, подобной гену в организме. 44 смысловая заданность и тематическая определенность культуры является основанием ограниченного количества культурно-смысловых типов. Весь этот, может быть, несколько неуместно обширный экскурс в область типологии мировой культуры был сделан главным образом для того, чтобы высветить особое место в этой типологической системе русской культуры. Да, она такое место занимает. Именно поэтому она и представляет особую цивилизацию. Прокомментировать качества ее культурной идентичности нам еще предстоит. Сейчас же можно сделать некоторые предваряющие выводы – развернутая здесь логика уже позволяет сделать их: Тайна идентичности русской культуры состоит не столько в том, что она является продуктом исторически складывающегося общежития, сколько в том, что она представляет собой опыт и программу духовных решений. Отсюда и прерывность российской истории, связанной с перерешениями высших вопросов бытия, с новыми духовными синтезами. Именно такой тип смыслообразования в культуре свойственен России, где ведущее значение играет мистика, а эстетика подчиненное - и обе эти сферы внерациональны. Разум с его особыми адаптационно-технологическими возможностями, как это ни стыдно признать после трех веков рационалистического просвещения, здесь – на заднем плане. Основной смысл этой программы преодоления натуральности человеческого существования сконцентрирован на выходе сознания за рамки реального – распадающегося и зыбкого – мира, вплоть до пренебрежения земными заботами и земным счастьем. Эта неотмирность наименее метафизична – наиболее духовна. Восточно-азиатский вариант смысла культуры к этому наиболее близок, поскольку тоже строится на сочетании эстетического и мистического. Но там, в уже в самой доминирующей эстетике кроется особый адаптационный «технологизм» – сам образ субъекта там адаптационен, он технологически психотехнически – медитативно – вписываем в систему природы. Это своеобразная «техника духовности». В некоторой степени смысловому типу православной цивилиазции близка та модель, которая характерна для культуры исламского мира: Мистика в ее глубоком подлинном значении там во главе. Но она там иная. Она тесно связана там с рациональностью и продуцирует особый «автоматизм» субъектности: воля Аллаха, сама по себе неумолимо эгоцентричная воля всесильного владыки, буквально действует сквозь волю человека, сказывается через нее, редуцируя ее к себе. Вся человеческая воля – и вся культура – скованы здесь скрупулезно соблюдаемым и властным предписанием закона рациональным не в смысле дискурсивности мышления, а в смысле рационального истолкования, рационального наполнения мистической воли. Недостаточность рационального начала в той смысловой структуре, которую образует целостно-организованная система отечественной (русской) культуры - отнюдь не позитивное свойство культурного типа, а проблема, постоянно встающая перед обществом, периодически обостряющаяся и требующая преодоления. Но это, как видим, не та проблема, которую можно вдруг разрешить, преодолеть раз и навсегда. Это систематическая проблема, связанная с иерархией ценностей и смысловых величин, характерных для устойчиво воспроизводимого типа культуры. Приоритет же эстетического начала осмысления над рациональным может красноречиво подтвердить и следующее замечание: «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи, — писал С.Л.Франк, — были высказаны не в систематических научных работах, а в литературной форме»28. Комментируя эту мысль современные исследователи конкретизируют: с одной стороны, философские идеи высказывались в жанре литературного творчества (П.А.Чаадаев, И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, К.Н.Леонтьев, Вл.Соловьев и др.), с другой стороны, художественная литература была пронизана глубоким философским восприятием мира (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, В.В.Розанов). Но к этому надо добавить, что почти все перечисленные здесь писатели, за 28 Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Филос. науки. 1990. № 5. C. 84 45 исключением Пушкина и Чаадаева - яркие религиозные мыслители. В серьезно размышляющей русской литературе буквально доминирует религиозная проблемная нагруженность, явно превалирует ценность мистического - святость, Царство Христово. Не говоря уже о большой традиции религиозной философии. Даже такие, своеобразные мыслители, как Н.А.Бердяев считают себя христианскими философами, только открывающими некоторый «подлинный смысл» христианства, неведомый «исторической церкви» или утраченный ею. Пафос пророчества, мистики, символизма и мистического интуитивизма – доминирующая черта оригинальной русской философии. Именно здесь - в смысловой сфере мистической другодоминантности - сердце и ценность русского миросозерцания, а эстетика - только благодатная аура для постижения и выражения этого мистического смысла, явно выигрывающая в таковом качестве у эгоцентрически настроенного разума. Главный вывод, который можно из этого сделать, это то, что если принять данную логику, Россия предстает не просто оригинальной культурой, своеобразие и идентичность которой можно обсуждать, но компонентном всемирно исчерпывающей системы культурносмысловых типов, имеющим среди них важное и незаменимое значение. Именно в этом смысле русский народ, по меткому, хотя и несколько конфронтационному высказыванию А.С.Панарина – «в качестве типа не этнического, а всемирно-исторического, по-своему ставящего все великие мировые вопросы, он посягает на западную монополию истолкования судьбоносных вопросов вообще, и американскую – в особенности»29. Россия предстает в результате проделанного здесь типологического анализа не этническим типом, а одной из логических альтернатив культурного задания – переосмысления натурального бытия. Ее культура предстает основанием идентичности особого типа цивилизации. 5. Характеристики культурно-смыслового типа: Исторический опыт России и его интерпретации Сходятся ли оценки, совпадают ли исторические реалии с той теоретической моделью типологии культур, место в которой мы нашли для российской цивилизации? Ответить на этот вопрос не просто ввиду сложности и многофакторной сбивчивости самой истории России, а также в связи с довольно мозаичным спектром характеристик и особенно оценок, в свете которых был авторитетно рассмотрен данный культурный тип и многие из которых стали привычными и стереотипными. Здесь мы попытаемся показать, что эти характеристики оценки вписываются в предложенную модель, позволяя конкретизировать ее. Труднее всего применить к России критерии этнического своеобразия. Россия даже в современных границах – не только крупнейшее по территории государство, но и одна из самых многонациональных стран мира. Россия всегда была не только поликультурной, но и наднациональной, надэтнической общностью. Это такая цивилизация, в основании 29 Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006,с. 282 46 идентичности которой должны лежать более общие культурные ориентиры, должна присутствовать логика культурного единства в многообразии, которая и могла бы выступить основой столь масштабной культурной конвергенции. Культурная конвергенция представляет собой процесс равноправного взаимодействия культур на основе общих интересов, целей и ценностей, в результате чего обеспечивается не только их интеграция, но и сохраняется, развивается самобытность. Но проблема интерпретации особенной культуры России в качестве культурного типа это и проблема интенсивных интеграционных процессов, которые она переживает практически на протяжении всей истории при взаимодействии с западной цивилизацией. В данном случае конвергенция представляет собой драматичный процесс, в ходе которого периодически восстанавливаются базовые черты типологически единого культурно-цивилизационного типа. Русская культура не первый раз на рубеже ХХ – ХХI веков сталкивается с развитием процессов сосуществования и взаимодействия типологически различных культурных образцов в рамках одной эпохи и цивилизации. Наиболее яркую картину такого процесса являет история отечественной культуры в послепетровскую эру: здесь выкристаллизовывается две явственно отличных друг от друга – и по сути принадлежащих к разным смыслообразующим типам – культуры – дворянская, выкраиваемая по европейскому образцу и напитывающаяся европейским идеями секуляризма, разума, индивидуальной автономии, свободы, атеизма; и «крестьянская» (к которой, безусловно, примыкает и духовное сословие и часть вышедшего из крестьянства купечества), несущая в себе патриархальные образцы и православные ценности древнерусской традиции. Как писал И. Карамзин, «...Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество Государств... Искореняя древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, Государь России унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому себе располагает ли человека и Гражданина к великим делам? Любовь к Отечеству питается самими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубокомысленного». А.И. Герцен так оценивал состояние русской культуры в середине 19 в.: «Ужасное последствие полного разрыва народной России с Россией объевропеизированной. Между двумя лагерями прервалась всякая связь»30. Позже – во второй половине 19 – начале 20 в. эти противоречия начали сглаживаться и после хотя и радикального, но относительно краткого периода универсалистского – по природе своей западного - революционного порыва фактически был воссоздан самобытный культурный тип – не традиционный, но определенно преемственный. В связи с этим и высказывается порой мнение, что «большевизм выступил как сила реставрационная. Он резко приостановил начавшиеся с реформ Петра I, а затем Александра II процессы секуляризации - высвобождения производительной и воинской функции от жреческого доминирования и реставрировал архетипический образец. С неистовым ожесточением он всюду преследовал светскую жизнь - автономную по отношению к «великой идее», к идеологии. Произошла небывалая в новой истории атрофия светской энергии общества, утратившей способность жить повседневностью - вне эсхатологической перспективы, требующей «последнего рывка» для преодоления мирового зла и вхождения в рай»31. Эта точка зрения А.С. Панарина спорна, особенно если смотреть на данный вопрос с исторической скрупулезностью, но логика воссоздаваемой парадоксальным образом культурно-типологической идентичности – скорее вопреки, а не благодаря модернистским порывам как таковым – здесь действительно прослеживается. И связь традиционной России с Россией социалистической, связь, на которую указывал еще Н.А. Бердяев, выглядит не так Герцен А.И. Полн.собр.соч. и писем. Пг.,1917. Т.VI. С.364.). Кроме того, считал А.И.Герцен, «Деревенская Россия "ничего на самом деле не приняла из реформ Петра I".(Герцен А.И. Полн.собр. соч. и писем. Пг.,1917. Т.VI. С.406. 31 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994. 30 47 уж фантастично. «С позиций герменевтики текста, - пишет А.С. Панарин, обнаруживается, что встреча «текста» стихийной народной правды с текстом социалистической идеологии позволила высветлить в толще народного сознания, в недрах народной культуры те рациональные «моральные смыслы», которые ставят народ в конфликтное отношение с буржуазной цивилизацией»32. Но неприятие прагматизма и торгашества есть уже в традиционном менталитете, есть и внутренняя оппозиций озабоченно рациональному, рассудочному Западу. На примере российской истории мы видим, что поддержание идентичности культурного типа отнюдь не всегда связано со статикой традиционализма. Взаимодействие между различными культурными аттракторами социального развития России, характерное для отечественной истории, проявляется по-разному: от яростного протеста в феномене старообрядчества, являющегося, по-видимому, носителем наиболее подлинной и типологиически «чистой» древнерусской традиции, и столь же яростного преследования этого явления со стороны властей, выражающих обновление культурного типа, до постепенного сближения искусственно разделенных некогда сословных субкультур. ХIХ век – это век медленного сближения и взаимопроникновения «двух культур» в российской истории, который, впрочем, не был доведен до их полного слияния, а был прерван в результате произошедшего на этой же культурно-типологической почве раскола в среде самой интеллектуальной элиты. Этот раскол прослеживается от полемики западников и славянофилов до гражданской войны и ее трагических итогов – массированного подавления всех элементов спектра культурных традиций, на пепелище которых должно было возникнуть совершенно новое общество с новой культурой. Но как раз этой-то культурносмысловой новизны не оказалось: в результате десятилетий политической и идеологической диктатуры сформировалась элита (аристократия, номенклатура, интеллигенция), происходящая по преимуществу из той же крестьянской среды, несущая типологически традиционную ментальность, которая вновь столкнулась с носителями идей и ценностей «западного» - гуманистического - культурно-цивилизационного типа и с 80-х годов ХХ столетия по сей день с переменным успехом является носителем культурной идентичности (самоидентификации) российского общества. Логика взаимодействия культурных альтернатив в русской истории – это логика кристаллизации идентичного смыслового типа в постоянно приливающем «насыщенном растворе» влияний, за счет которых расширяются практические возможности цивилизации. Впрочем, в результате последнего влияния возможности цивилизации на глазах качественно уменьшились, что объяснимо активностью целей такого влияния, вписывающейся в логику модернизации извне. Внутренним же мотивом влияний и заимствований всегда выступал недостаток рациональных цивилизационных форм, связанный со спецификой смыслообразования, образующей сам культурный тип. Этот недостаток воспринимается как недостаток систематической организованности, как аполитичность, недостаточность законности, требующие компенсации. И эта компенсация проявляется как неожиданный парадокс, отмеченный еще Н.А. Бердяевым: «Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитичный народ, никогда не умевший устраивать свою землю /…/ наша православная идеология самодержавия – такое же явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь. /…/ Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства»33. «Русская безгосударственность – не завоевание свободы, а отдание себя, свобода от активности»34. Подобных метафор русской «женственности» можно найти у Н.А.Бердяева немало. Этот мифологизированный образ действительно эмпирически обоснован. Но одновременно Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006, с.244 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2005, с.14-16 34 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2005, с.17 32 33 48 «Россия – самая государственная страна в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал самое могущественнейшее в мире государство, величайшую империю», говорит Н. А. Бердяев35. Эту антиномию Н. А. Бердяев объясняет квазимифологически, но не обосновывает рационально. Причины такого устойчивого архетипа остаются у него неявными. Противоречие остается неразрешимой антиномией, лишь мифологически опосредуемой. Они, на наш взгляд, кроются в смысловом типе русской культуры, где рациональное начало власти как организации бытия вокруг активного субъектного центра ослаблено или отсутствует и функционально замещено мотивом выделения смыслообразующего Другого – мотивом подчинения высшему началу. При этом аспект власти не отсутствует, он замещен, компенсирован действием иного смыслового принципа – принципа подчинения, служения. Именно на его действии строится иерархия целей служения и иерархия субъектов, каждый из который мыслится как служащий высшему началу. Служение в этом высоком смысле нельзя сопоставить с сервилизмом: служит и царь, и последний с виду никчемный в обществе человек, ибо предмет служения – не человеческая воля, а божественный источник смысла, наполняющий человеческую жизнь смыслом служения. Вместе с иерархией и властью, рожденными интенцией подчинения, этим структурам служения придана и вся ответственность за осмысленность и порядок социального бытия, которую не хочет брать на себя народное сознание, сознание каждого человека в отдельности, кажущееся при этом «анархичным», аполитичным. Смысловая доминант интенции служения порой приводит к тому, что структуры собственно власти складываются как бы извне смыслового космоса культуры; и в этом одна из действительных причин столь частого заимствования, привнесения власти и вообще форм дисциплинированный организации, причем, заметим, добровольного заимствования и привнесения (варяги, петровские реформы, современная демократия). Сама инстанция власти вполне может мыслиться как внешняя, но только при условии, что она тоже связана с принципом подчинения - с общим служением высшему смыслу. Недостаточное развитие личного начала в русской жизни славянофилы связывали с христианской соборностью; Н.А. Бердяев же оспаривает эту связь и находит большее сходство этого традиционно укорененного коллективизма с колхозом и советской властью в ХХ веке. При этом черты общинного коллективизма и вместе с ним индивидуального конформизма действительно присущи были еще восточно-славянской общине и вошли в менталитет, отобразившись в структурах социального поведения, мышления и языка. «Мы» всегда значило больше, чем «я». Индивидуализм осуждался. Это понятие негативно ценностно окрашено в русском языке, равно как и в ментальных структурах обыденного группового поведения. Это проявляется и в теоретическом осмыслении данного вопроса. «В предшествующие годы в нашей литературе основным проявлением и следствием индивидуализма считалось сосредоточение всех помыслов человека на реализации своего индивидуального интереса, - анализирует вопрос исследователь 1990-х годов, - с индивидуализмом столь же привычно ассоциировалась и тенденция нравственного релятивизма и аморализма»36. В философском энциклопедическом словаре (1983) суть индивидуализма связывается с абсолютизацией позиции отдельного индивида в его противопоставлении обществу. В свою очередь понятие коллективизма окрашено положительно, оно ассоциируется с такими понятиями, как согласие, единомыслие. Обращает на себя внимание, что в западном миропонимании все это выглядит обратным образом: «коллективизм» скорее негативен и может ассоциироваться с подобострастием и произволом – навязыванием воли одного всем. Индивидуализм же здесь – ключевая позитивная категория. Он включает «установки на свободу, самостоятельность и предприимчивость индивида, на определение им своей жизни, своих интересов и средств их Бердяев Н.А. Судьба России. М., 2005, с.18 Замошкин Ю.А. За новый подход к проблеме индивидуализма. / О человеческом в человеке (ред. И.Т.Фролов) М., 1991, с. 168-194, с. 171 35 36 49 реализации, на личную ответственность за собственную судьбу» 37. Для человека Запада индивидуализм – форма уважения общества к индивидуальности каждого его члена. Верно отмечается, что развитие индивидуализма было затруднено и тем обстоятельством, что основная часть населения нашей страны никогда не являлась собственниками, была отчуждена от земли и средств производства. В экономике индивидуализм означает право частной собственности, в политике — право личного участия в осуществлении государственной власти (с соблюдением принципов выборности и представительности власти), в религии - свободу совести, в идеологии — плюрализм мнений, в праве – совокупность неотъемлемых прав человека-индивида. В познании, мировидении и практической ориентации индивидуализм означает рационализм. Индивидуализм – это смыслобразующий эгоцентризм. Становясь универсальным принципом социальной организации, индивидуализм уже не тождествен эгоизму, он выражает идею уважения общества к индивидуальности каждого человека, признание его неотъемлемых прав и суверенитета. Именно для западной либерально-демократической модели общества индивидуализм, таким образом, – ключевая культурная ценность. При этом наблюдаемый сегодня новый российский индивидуализм исследователи определяют как «нелиберальный» (Б. Г. Капустин, И М. Клямкин), «адаптационный» (Г Г. Дилигенский), который не ориентирован на свободную жизнедеятельность индивида, а сочетается с социальной пассивностью и конформизмом, с низкой способностью к разумному самоограничению во имя групповых интересов. Нормой для индивидуалистов нового типа является независимость, личная автономия. Некоторые из них ощущают эту норму как необходимость рассчитывать на собственные силы, «выкручиваться» в одиночку, самим нести ответственность за себя и свои семьи. Часть из них безразлична и к проблемам других людей38. При этом надо понимать, что индивидуализм как явление современной социальной жизни в России все же принципиально отличен от индивидуализма как культурной ценности Запада: он основывается на противостоянии обществу с его коллективистским сознанием, он полагает себя как неприкрытый эгоизм, как перевес индивидуальной воли и силы, которые, тем самым, как бы выведены за пределы нравственной критики. С наших позиций, правильнее было бы говорить не столько о русском коллективизме как таковом – гораздо более яркий пример именно коллективизма дает китайская культура, – сколько о доминанте своего-другого над своим собственным («я»). Именно этот смысловой эффект предстает как в русском феномене «мы», означающем не семью и общину, а субъектное начало, превышающее элементное «я», так и в нравственной нацеленности на служение высшему началу, которое легче усмотреть в благе другого человека и особенно в благе всех, а не в своей выгоде. Чистый коллективизм не сочетаем с анархизмом, а русская общинность сочетаема. И это обнаруживает в ее глубине как раз смысловой феномен служения другому – высшему, а не покорность порядку общего – не конформизм, а другодоминантную экстатику индивидуального. С этой экстатикой связны ближайшим образом не рациональные мотивы всеобщего порядка, столь характерные для индивидуалистической в своей сути западной культуры, а мотивы эстетические. Эстетическое создает здесь особый смысловой сплав с нравственно-мистическим (другодоминантным) началом, отодвигая рациональное на задний план. Подобные характеристики даются и при анализе черт современного массового сознания в нашей стране. «Для массового сознания в России характерна установка на «глобальность», детали если и рассматриваются, то после того, как становится ясен общий план событий…; для нашей культуры характерна мотивация избегания и пассивный стиль реакции («Гром не грянет – мужик не перекрестится» и т.п., действия под давление сильных Замошкин Ю.А. За новый подход к проблеме индивидуализма. / О человеческом в человеке (ред. И.Т.Фролов) М.,1991, с. 168-194, с. 179 38 Дилигенский Г. Г. Индивидуализм старый и новый. Личность в постсоветском социуме // Полис 1999. - № 3. - С. 5 - 15 37 50 обстоятельств»; «Русский человек в массе своей ориентирован на прошлое (на «золотое прошлое»), изредка на будущее и почти никогда – на настоящее»; Для российского массового сознания характерно негативное отношение к тем, кто «гребет под себя» и особенно ценится, когда человек «на мир работает»39. Если оставить в стороне элемент негативной оценочности, проглядывающей в этих положениях, они отражают не что иное, как мотив смыслообразующей другодоминантности, нацеленности на включенность во всеобщее («глобальное»), превышающее по своему значению фокусировку сознания на частностях и сиюминутностях повседневности; они выражают аспект традиционализма – нерушимости образца (при чем мыслимого не только и, добавим, не столько как прошлое, но и как будущее – идеальное грядущее, могущее появиться чудесно-мистически. Все эти качества ментальности противоречат субъективизму – причинность в этом смысловом мире - непредсказуемое до конца грядущее; источник смысла вне субъекта; сам этот смысл – коллективно общий. Отмечается, что торговля как вид деятельности, определяемый, говоря по-веберовски некоторым идеальным типом, в нашем обществе не получила высоких нравственных оценок и, в понимании некоторых, близка криминальной деятельности40. Конечно, слияние бизнеса с криминалитетом - характерная отличительная черта отечественного капитализма новейшей генерации. И все же при этом криминальной эта деятельность в широком сознании не считается. А вот безнравственной – да. Особенно безнравственной кажется «сверхприбыль» от этой, по сути, в общем представлении, непроизводственной деятельности – символом безнравственного стяжательства выглядят все эти сверкающие дворцами «поля чудес» в «стране дураков». «От трудов праведных не построишь палат каменных», гласит старинная поговорка, и в ней, конечно, не столько отражение примитивной строительной технологии, сколько проявление менталитета в его ценностно-нравственном аспекте. В этом менталитете скрыт идеальный образ бескорыстной социально полезной деятельности. Здесь скрыт образ деятельности как служения, в противовес мотивам экономического и политического эгоцентризма. Здесь закодирован принцип другодоминантности смысла деятельности как аксиоматический императив. Кстати, торговля и предпринимательство считались греховными делами и в этике европейского средневековья. Для слоев общества, занимавшихся этой деятельностью, как и для актеров, не находилось места в нравственно легитимной сословной структуре. Эту нишу зачастую, поэтому занимали иноверцы. Христианство преподало образ Бога, который пришел не для того, чтобы владеть, но чтобы послужить, – и представило идеальную модель смыслообразования другодоминантного типа. И дело не в том, что христианство именно как религия повлияло отчасти на Европу, и в значительной мере на формирование русской культуры. Дело в том, что в христианстве заложен этот принцип смысловой другодоминантности, кажущийся парадоксом даже с позиций других авраамическаих религий, – понимание самого Бога как нисходящего, служащего, милостиво смиренного – как Бога-человека, как Бога Сына, обретающегося в воле Бога Отца. Здесь проявилось совершенно особое понимание Бога – этого источника высшего смысла бытия. Здесь проявился и оригинальный базовый принцип культуры, коренящийся в данной модели обретения смысла. Поэтому историческое распространение этой модели связано с распространением христианства, в том числе с принятием христианства – восточного – греческого православия на Руси. Н.А.Бердяев признает, что «в России нравственный элемент всегда преобладал над интеллектуальным»41. Можно даже говорить об известном “панморализме” русской общественной мысли. «Наша моральная идея, наша солидаристская идея – вот те слагаемые «русской идеи», которые по-прежнему внушают настоящее опасение архитекторам нового Данилова Е.Е. Информационное развитие социальных систем. М., 2002, с.15. 98 Данилова Е.Е. Информационное развитие социальных систем. М., 2002, с.90 41 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. C. 57, 63. 39 40 51 мирового порядка», отмечает современный исследователь42. Один из самых действенных истоков русского философствования состоит в том, что важно не только понять мир, но и постичь нравственный принцип мироздания с тем, чтобы преобразовать его и спасти себя в этой очищающей, преобразующей деятельности. Нравственный принцип русской философии далек от этики разумного эгоизма, равно, как и от гедонистической эстетики. Он именно - в сострадании к другому, в котором (а не во «мне») - источник осмысления нравственности, откуда исходит голос совести, как нетождественный с «моим» феноменальным существом. «Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться», — эта заповедь «смешного человека» Ф.М. Достоевского, сформулированная, по замыслу автора, как своеобразный нравственный противовес социалистическому идеалу. Этот приоритет нравственной темы – причем, как в персоналистической этике, так и в социальном плане – как образ справедливости, почти идентичный с сострадательностью и имеющий мало общего с правом – очевидное свидетельство выделенной иерархии ценностей, иерархической структуры смыслообразования русского культурного типа. Но и социалистический проект – в том виде, как он конструктивно реализовался в России – не чужд этого же приоритета другодоминантности и логики служения в противовес властвованию – приоритета страдания в противовес удовольствию. Как многократно указывается, он утверждал жертвенность как принцип повседневной жизни. Отметим, что ни одной западной утопии этот принцип не был свойственен. В русском социалистическом сознании он высветился со всей полнотой и даже был доведен до крайних форм: приняв за критерий прогресса счастье будущих поколений, социалистическая идея приносила в жертву ему судьбы живущих поколений, при чем так, что для многих жертва была добровольной. Для этих особенностей может быть несколько линий объяснения. Это линии, исходящие из географических, геополитических, исторических и идейных (например, религиозно-нравственных) факторов. Наша задача проследить конфигуративную параллельность этих линий, их структурное единство в формировании типологически определенного опыта культуры как основы самобытной цивилизации и их соединение в определении опыта культуры как смыслового преодоления первичных условий натурального существования. «Природа страны, - пишет С М Соловьев, - имеет важное значение в истории по тому влиянию, какое оказывает она на характер народный» (С.М. Соловьев. История России с древнейших времен Том 1). В случае России географический фактор особенно важен, поскольку жесткость (если не сказать - жестокость) природных условий позволяет ее населению вести в лучшем случае весьма скудное существование. Порой можно столкнуться с мнением, что борьба за выживание предопределяет минимальную свободу действий, понуждая людей существовать в условиях резко ограниченной возможности выбора. Так фактором, затруднявшим цивилизационное развитие России, явились неблагоприятные демографические условия, которые евразийцы определяли как географическую обездоленность России43. С.М. Соловьев констатировал неоптимальное соотношение громадной территории и незначительной численности населения, обусловившее дефицит рабочих рук и ставшее одной из главных причин закрепощения крестьян. Евразийцы состояние России — Евразии рассматривали как интенцию и цель ее исторического развития. «История распространения русского государства есть в значительной степени история приспособления русского народа к своему месторазвитию — Евразии, а также и приспособления всего пространства Евразии к хозяйственноисторическим нуждам русского народа»44. Одна из особенностей такова: Россия постоянно Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006, с.286 Олейников Ю В Природный фактор исторического бытия России// Свободная мысль - 1990, с. 84 42 43 Вернадский Г.В. Начертания русской истории // Очерк русской философии истории. М., 1996, с. 202 44 52 отстает от развитых стран по уровню энергозатрат на душу населения. Поэтому здесь всегда выше степень централизация государственной власти, и государство исполняет больше своих функций, нежели в других странах45. Как отмечают сторонники идеи производности культуры от материальных условий, которые с ее помощью осмысляются, эмпирически найденный способ выживания получил отражение в идеологии – теоретическом обосновании необходимости государства, обеспечивающего защиту от внешней угрозы, приращение эффективных территорий, а также централизованное распределение ограниченных средств существования. Государство в лице самодержца призвано было заботиться обо всех вместе и каждом гражданине в отдельности. Социальная функция государства нашла свое выражение в идеологеме «Батюшки царя», «Заступника». По этой причине в России никогда не было настоящих собственников, кроме государства. Имущество любого российского подданного в принципе могло быть отписано на государя, взято в казну – и история знает такие примеры. Вертикаль государственной власти опиралась на фундамент общинной формы организации жизни общества. Но и община руководствовалась приматом общего. Демократический принцип ее бытия был так же подчинен коллективным, соборным целям. Община сохранялась государством как условие бытия целого. Попытки разрушить коллективное существование, ликвидировать общину всегда заканчивались социальными потрясениями. Как писал И.А.Ильин, «первое наше бремя есть бремя земли - необъятного, непокорного, разбегающегося пространства... второе наше бремя есть бремя природы... и третье наше бремя есть бремя народности... до ста восьмидесяти различных племен и наречий»46. Для того чтобы нести это бремя, нужны огромные усилия, причем, не столько сосредоточенные на частностях, сколько призванные охватить целостность. Нужны усилия не только постоянного, регулярного, но и мобилизационного типа. В свою очередь мобилизационность усилий во многом снимает (заменяет собой) фактор инновационности. Отчасти отсюда – особый тип экстенсивной культуры, с чертами неустойчивости, непредсказуемости, рискованности, психологически выражаемой такими чертами, как долгое терпение, удаль, азарт, а с другой стороны, бесшабашность и лень. Отмечается, что педантичная добросовестность, расчетливость, дедуктивная строгость, осторожный эмпиризм – все эти качества европейской культуры значительно труднее прививались в России. Однако аргумент выживания представляется не вполне логичным. Речь ведь идет не об угрозе исчезновения, заставляющейся приспособиться – не об отрицательном залоге, а о положительном залоге освоения именно такой, неблагоприятной экологической ниши, суровой территории. Это может только народ, способный справиться с такой задачей в силу его внутренних культурных качеств. И не каждый народ готов приобрести эти качества, брось их история в такие условия (освоение северной части Евразии, теоретически рассуждая, могли осуществить и другие народы – хазары, татары, скандинавы – но это смогли сделать только русские – носители уже сложившейся к 16 в. православной цивилизации). Своеобразие российской культуры определяют традиционные ценности, которые сформировались под влиянием православного христианства. По мнению некоторых исследователей, среди них можно выделить главные: духовность и соборность; при этом духовность понимается как превосходство духовных ценностей над материальными47. Часто в качестве одной из особенных почитаемых русских ценностей, наряду с духовностью выделяется соборность, означающая «свободное, братское, любовное соединение личностей» (В. Аксючиц). Это понятие, по оценке современного американского Олейников Ю. В. Природный фактор исторического бытия России// Свободная мысль – 1990, с. 84 45 Ильин И.А. О России. М., 1991. С. 12-13. М. П. Меняева. Культурная идентичность современной России / Культура – искусство – образование: новое в методологии, теории и практике. Челябинск., 2005, с 77 46 47 53 аналитика, выражает стремление найти некую общую цель для народа и культуры, дает постсоветскому поколению общественный идеал, отличный и от восточного коллективизма, и от западного индивидуализма. Оно предполагает духовный аспект для сообщества людей, сложившегося вне политики48. Но соборность имеет именно христианское, церковное происхождении – в первоистоке это соборность церкви как способ пребывания Тела Христова на земле после Вознесения: именно в церковной соборности – полнота боговоплощения. Отсюда и особый смысл соборного разума – совокупного видения многих, представляющего собой сумму разных граней и отражений одной идеи. С. Л. Франк писал, что соборность есть «хоровой принцип русской жизни», не только унаследованный от прошлого идеал, но сила, дающая возможность двигаться в будущее. Соборность преодолела потенциальное противоборство «я» и «ты» с помощью органичного духовного единства, отличного от «общественности» - объединения изолированных индивидов в группы, продиктованного материальными интересами49. Некоторые из постсоветских авторов видят в соборности один из главных отличительный элемент русской цивилизации. Уже в сочинении митрополита Иллариона «Проповедь о Законе и Благодати», написанном в ХI веке в Киеве, говорится: «Бог представляется дарующим благодать не только отдельному человеку, но и народу в целом. Закон повелевал несвободными людьми в пустыне, но благодать – это вода, дающая жизнь засушливым местам, и сама есть источник соборности»50. «Одно только это слово целиком содержит в себе исповедание веры», - писал А.С. Хомяков о соборности51. По мнению сторонников надстроечного значения культуры по отношению в материальному базису человеческой деятельности, соборность как способ коллективного выживания, как выражение общей судьбы народа, не является каким-то имманентным внутренним психологическим или духовным качеством россиян, а есть суровая необходимость, продиктованная бытием российского суперэтноса в крайне неблагоприятных природно-климатических условиях при постоянном дефиците освоенных энергетических ресурсов. Но в свете принятой нами логики с такой редукционисткой аргументацией трудно согласиться: соборность это прежде всего качество духовного плана, связанное с ощущением высшего смысла, выходящего за рамки индивидуального сознания и побуждающего к служению, в частности к служению ближним, в пределе охватываемом родством и соседством общины, братством единоверцев. Корни соборности в соборной молитве, а не в общей беде; но и в общей беде, конечно, актуализируется это качество служения, коренящееся в самой структуре личности каждого. Другим важным мотивом обоснования черт своеобразия самобытности российской цивилизации выступает геополитический аргумент. Русская нация немыслима вне русской культуры, но эта культура, в глубинной своей интенции, является культурой "Третьего Рима" - культурой единого большого пространства, энергетика которого питается этнической гетерогенностью. Ю.А.Жданов в связи с этим пишет: «В отличие от империй, государство-континент России не имеет этнокласса, то есть экономически, политически господствующей нации. Это государство в равной степени русское, татарское, бурятское, башкирское, аварское, осетинское, чеченское, ингушское, мордовское, чувашское, лезгинское, карелофинское, украинское, армянское, еврейское, казахское, калмыцкое, узбекское, якутское, таджикское, грузинское – в нем все равны перед законом без какихлибо дискриминаций, ограничений. В то же время, как целостная страна, она обладает единой, органической, историко-культурной, социально-экономической, оборонной, геополитической общностью»52. Но в основе действенности этого геополитического аргумента – все же духовный фактор. Российский этос основан на парадоксальном Биллингтон Д. Россия в поисках себя / Пер. с англ. – М., 2006. – С. 159 Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 180 -181 50 Есаулов И.А. Категория соборности в Русской литературе. Петрозаводск, 1995. С. 16 -17 51 Хомяков А.С. Сочинения в 2-х томах.Т. 2. М., 1994. с. 22 52 Жданов Ю.А. Избранное. Ростов-на-Дону. 2001. Т. 2. С. 269. 48 49 54 сочетании жертвенности и мессианизма (западноевропейский мессианизм никогда не был жертвенным - ему почти всегда сопутствовали колонизаторский эгоизм и высокомерие). Выдержать тяжкий груз большой евразийской государственности способен только народ с особой духовной субстанцией, отличной от европейского прагматическииндивидуалистического этоса. С этим же геополитическим фактором связана и надэтничность русской культуры как смысловой идентичности. По мнению Н.А. Бердяева, русскому народу свойственна национальная терпимость, национальная бескорыстность. Русскому духу свойственен «интернационализм», «терпимость», «всечеловечность». Он восприимчив к чужим достижениям, отзывчив на чужую боль. Однако в силу геополитических обстоятельств Россия последние пять веков вынуждена была подчинять соседние народы и вовлекать их в орбиту национальных интересов выживания российского этноса. Однако вернее было бы видеть истоки этой надэтничности культуры в самом том смысловом проекте, который эта культура собой представляет. Это, по словам А.С. Панарина, «восточно-христианская мировая идея, способная родить альтернативу западной мировой идее»53. Она, помимо конкретных геополитических задач, сформировала осмысленный текст культуры – отразилась в ее творческих вершинах. Поэтому верно, что «в пространстве, где тосковал «печальный демон, дух изгнанья», где излагал свой вселенский проект Великий Инквизитор и где, в противовес им же, исходил землю в нищем виде благословляющий ее Царь Небесный, национализм как серьезная идея немыслим»54. Само русское государство, несомненно, идеократическое. Идея многими воспринимается как системообразующий фактор существования русского государства. Вместе с тем государственная идеология однажды исторически меняется – православие сменяет марксизм-ленинизм, и эта смена, несмотря на порой жестокий репрессивный ее механизм, все же искренне принимается народом. Причина подобных рокировок некоторым исследователям видится в том, что «обе эти идеологии были приняты русским народом не в силу их теоретической обоснованности, а исключительно по причине провозглашаемых ими принципов коллективного, соборного выживания»55. Правильнее было бы считать, что обе идеологии вписываются в культурно-смысловой тип как отстаивающие ценность служения высшему. А государство воспринималось как высший эшелон такого служения. (И оно, заметим, переставало восприниматься таковым, когда властная элита переставала представлять собой образец такого служения (аристократия начала ХХ века, партия брежневского времени)). «Русский народ, - пишет А.С.Панарин, - в самом деле является одним из самых государственнических или «этатистских» в мире. Причем данная черта является не просто одной из его эмпирических характеристик, отражающих ситуацию де-факто, но принадлежит к его сакральной антропологии как народа-богоносца, затрагивает ядро его ценностной системы. Там, где нынешние либеральные обвинители видят проявление лени и жажды опеки, на самом деле выступает мужественная жертвенность и мессианское чувство призвания»56. Выделяя специфический этатизм как заимствованный, византийский принцип, можно дейтсвительно признать, что «государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи», как писал в свое время К. Леонтьев57. Приводя много аргументов и примеров в пользу идеи политического подчинения как основы понимания общественного долга и церковно-мистического начала в обосновании нравственности, как характерных особенностей русского культурного типа, К. Леонтьев сопоставляет этот смысловой феномен с идеей долга и нравственности как производных фамильного достоинства – в качестве типичных черт западного, особенно германского и англо-саксонского менталитета. Он связывает эту особенность с цивилизационной ролью Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006, с.284 Там же: с.285 55 Волк П.Л. Основания культурной политики. Томск, 2005 56 Панрин А.С. Народ без элиты. М., 2006 с. 318 57 К. Леонтьев. Византизм и Славянство./ Леонтьев К. Избранное. М., 1993,с 28 53 54 55 монархической политической власти, перенятой от Византии, и пишет: «Всю силу нашего родового чувства история перенесла на государственную власть, на монархию, царизм»58. Говоря о внутренних мотивах традиционного российского аристократизма, он пишет: «Гордились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не древностью самого рода, не своей личностью, не городом, наконец, или замком, с которыми бы сопряжены были их власть и племя»59. А редукцию нравственного порядка, в том числе и семейного, к церковным формам этического благочестия выражает такими словами: «Что такое семья без религии?»60. Но природа этих особенностей, как представляется, вовсе не в политическиимперском сознании как таковом. Оно в главенствующей роли смыслообразующего тезиса другодоминантности, под действием которого само политическое сознание фокусируется не как эгоцентрический и силовой принцип власти, а как принцип подчинения, представляющий собой необходимую оборотную сторону власти, но в данном типологическом случае выступающей в качестве главной образующей стороны системы социальной субординации. С ним же связана и характерная коллективность политического сознания, и одновременная аполитичность сознания индивидуального. Субъект – носитель российского менталитета не чувствует себя сувереном власти и владения, имеющим соответствующее право и только делегирующим его либо в силу феодальной верности договору, либо в силу осуществления демократических моделей. Он не чувствует изначальным смысловым центром, относительно которого могли бы фокусироваться право, долг и владение, а строит смыслообразующий горизонт относительно идеи Другого – Бога или государства, аккумулирующих истоки всего того справедливого и должного, чему можно служить. Это способ осуществления тех же социокультурных функций, но только выстроенный совершенно иным способом, на основе иной иерархии смысловых величин. По этой же причине и семья – узкий круг человеческой заботы и ответственности – это не сектор особой власти, долга и гордости, а предмет заботы и ответственности перед Другим – перед феноменальным центром экстрасубъективного смысла. С этим связано и такое парадоксальное сочетание идеи служения и анархизма, присущих русскому менталитету и в целом – культурному типу. Если продолжить эту логику, то и политическое подчинение как принципиальная основа политической культуры не является раболепным поклонением власти, а предполагает высшую смысловую целостность, ради которой существует и власть как модель организованного служения. Этот источник или хранитель справедливости как таковой и предполагается как смысловой центр всего служения. Служа не власти, а высшей справедливости, сфокусированной по типу феноменальной другодоминантности, человек служит «не за страх, а за совесть». Но если возникает ситуация разлада между властью как организацией служения и высшими мотивами справедливости и блага, пробуждается анархический срыв – именно как свобода усмотрения высшего смыслового порядка вне и помимо реальной власти, которая перестает тогда пониматься достойным центром подчинения, но как помехой к такому центру. Специфично и отношение к праву в русской культурной традиции. Русским людям присущ правовой нигилизм и определенная нравственная распущенность в повседневной жизни, но жесткая дисциплина и безграничное самопожертвование в экстремальных ситуациях (войны, стихийные бедствия и т. п. ). Стоит заметить, что в одном случае речь идет о преследовании целей обыденно рационального порядка, которые ассоциируются в менталитете с низшим разрядом ценностей, а в другом – о жертве и служении во имя высшей нравственной и духовной (даже духовно-мистической) идее. Важным свидетельством своеобразия понимания роли права и государства в соответствии с культурно-смысловой идентичностью российской культуры было создание в конце ХIХ в. специфической теории, согласно которой само понимание оснований и целей мотивации права, совершенно расходилось с западным – понимание права как гарантии Там же: .c.31 Там же: .c.31 60 Там же: .c.31 58 59 56 «минимума добра и нравственности». Эта теория была вдохновлена социальнофилософскими воззрениями В.Соловьева, и получила воплощение в так называемом «новом либерализме». По сути же она отражала приоритет нравственно этического идеала служения другому над идеалом автономии индивида как самоценного субъекта. Она выражала приоритет нравственно-мистического идеала над рациональным, смыслообразующего мотива другодоминантности над эгоцентрикой рационалистически-индивидуалистического смыслообразования, лежащего в основе западного либерализма и правового общества. Этот подход предлагал толковать право не просто как обеспечение индивидуальной свободы, но и как гарантию «минимального добра», что включало в правосознание вместе с категорией права категорию морали. Роль права в человеческой жизни предстала у Соловьева в свете его высшего идеального предназначения «служить целям нравственного прогресса». Суть позиции Соловьева состояла в признании, что право по своей природе родственно нравственности, поскольку принадлежит к сфере долженствования. Правопорядок – это такое общественное состояние, которое соответствует «внутреннему запросу нравственно развитой личности». Само же право — это есть «принудительное требование определенного минимального добра»61, «определенного минимума нравственности»62, идея о “праве человека на достойное существование”, “на возможное благополучие”, которые государство обязано гарантировать всем гражданам, утверждало самоценность человеческой личности, критерий, в соответствии с которым общество, где личность становится орудием политических целей, признавалось противоречащим идеалу человеческой общественности. Таковы идеи о «сверхутилитарном (духовно-нравственном) первоистоке правосознания», которые развивались в рамках оригинальной отечественной правоведческой школы рубежа 19-20 вв.. Изменение взгляда на природу права и функции государства меняло понимание свободы. “Свобода, — писал С.И.Гессен, не есть более чисто отрицательное состояние индивида, только запрещающее по отношению к нему определенные поступки, но также и положительное состояние, предписывающее со стороны других определенные акты»63. Подход В.Соловьева и его последователей наносил удар по чистому этатизму в понимании права, делало его условным. Право, согласно теории «минимального добра», перестает логически выводиться из политической воли, зависеть от нее. И эта позиция вовсе не является только нормативной программой философов и правоведов, она отчасти отражает и реальности истории. Эксцессы самодержавной политической воли, связанные с именами Ивана Грозного, Петра Великого и некоторых других, отнюдь не многих, монархов не должны заслонять прослеживающейся в отечественной истории идеи нравственной легитимации власти, понимания власти как служения высшей правде, в рамки которой умещались и в ней соединялись и право и добро. Исток теории В. Соловьева именно здесь – в опыте истории. Производность права исключительно от политической воли не свойственна православному учению о светской власти, выработанному еще в 6 в. в Византии. Такой смысл полной зависимости от политической воли право приобрело только в эпоху диктатуры пролетариата. В рамках же византийской теории «симфонии властей» само государство понималось как светское служение, как защита православной веры, то есть как служение высшему с смыслу и высшей правде, усматриваемой религиозно-нравственной сфере. Государство требовало освящения – мистической легитимации и нравственного обоснования. И только в результате этого политическая воля могла мыслиться как источник порядка и права в обществе. Только после этого понятно такое сакральное доверие к государству, которое снимает в традиционном русском менталитете необходимость ставить право выше власти, которое приводит к общему мнению, что политическая воля создает законы (мнению, которое противоположно западному примату права над политикой, Соловьев В.С. Собр. соч. Т. VII. С. 509-511. Соловьев В.С. Собр. соч. Т. VII. С.382 63 Гессен С.И. Проблема правового социализма. С. 271-272 61 62 57 выработанному еще в Средневековье и имеющему отчасти древнеримские истоки). Впрочем это же ведет и к неразвитости массовой правовой культуры, которое ощущалось всегда. Наш современник, Э.Ю. Соловьев в связи с этим свойством отечественной культуры замечает: «Было бы благодушием не видеть /…/ давнего и острого дефицита правосознания, который в сфере самих моральных отношений выражал себя прежде всего как отсутствие уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности (автономии) и как упорное сопротивление идее примата справедливости над состраданием»64. Это последнее суждение хотелось бы усилить: внерационально, а именно мистико-эстетически организованный смысловой космос русской культуры исходит из примата сострадания (а точнее милости Божьей, равно как и милости человеческой, являющейся ее посильной проекцией) над справедливостью как свойством человеческого ума, неизбежно сбивающегося на логику субъективно интереса, представляющегося всеобщим справедливым порядком. Справедливость в русском культурном сознании мыслится как паллиатив милости: здесь каждому воздается по его месту, лицу, заслугам (впрочем, заслуга мыслится здесь, скорее, в качестве столь же случайного факта отличия, как и место, как и лицо), а не по нелицеприятному великодушию. Справедливость происходит от недостатка этой нелицеприятности, от погруженности человеческого сознания в мелочные земные условности; и эта недостаточность отчасти преодолевается как раз состраданием – возможностью проявить великодушие и милость как таковые, способные подлинно врачевать мир. Логика милости и сострадания – по сути, христианская, новозаветная логика – исходит из того, что мир болен и его надо врачевать, и, разумеется, прежде всего сверхмирными – божественными средствами. А логика справедливости основывается на признании исходной правды мира и человека, которую надо подтвердить и по которой надо воздать; справедливость это как бы сообразование с правдой мира. Эта позиция выращена, прежде всего, гуманистической цивилизацией, истоки которой коренятся в рационалистической (правовой) культуре античности. Заметим, греки (Платон в «Государстве» Аристотель в «Политике») говорят о справедливости как о сложной проблеме, в итоге сводя ее решение к аргументу естественности как выражения олимпийскикосмического миропорядка. Римляне же исходят из презумпции права гражданина (юст), то есть из безусловного позитивного основания бытия человека в мире, подлежащего разумному (справедливому) регулированию. Э.Ю.Соловьев выносит жесткий приговор культуре, основанной на нравственных интенциях, но не опосредованных рациональной логикой правосознания: «Высокая нравственная притязательность слишком часто перерастала у нас в моралистическую нетерпимость. Ее постоянными спутниками были бестактное доброхотство, общинное инквизиторство и стремление к принудительному осчастливливанию людей по расхожей уравнительной мерке»65. Но этот приговор не справедлив. Это приговор политизированной, то есть экстремально рационализированной, превращенной в мотив властной манипуляции нравственной идее, а вовсе не культуре, основывающейся на милосердии, на голосе совести, на послушании. Это приговор тоталитарному обществу восточного типа, черты которого действительно прослеживались в отечественной истории эпохи идеологической диктатуры ХХ в., эпохи «культа», напоминавшего древневосточные и римские культы властителей – земных богов. Согласно взгляду на право, возникшему в рамках русской философии, власть в правовом государстве всегда выступает носительницей какой-нибудь общественной идеи и в этом смысле должна иметь нравственное оправдание. Это оправдание может включать стремление к утверждению величия страны, заботу о росте благополучия народа, упрочение правового порядка, усиление роли государства в регулировании общественных процессов, в частности экономической жизни, и т.п. Каждый из этих мотивов власти (или их 64 65 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.,1991, с. 230 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.,1991, с. 230 58 совокупность) составляют одухотворяющую ее основу, без которой она в цивилизованном мире гибнет. 6. Современное российское общество как зеркало культурно-смыслового типа Повсеместно отмечается, что в современном российском обществе чрезвычайно сложно прививается политическая культура демократии и либерализма – понятий, находящих в системе ценностей, характерных для традиционного менталитета российского общества, специфическое не высокое место. Несмотря на то, что российское общественное мнение склонно признавать реальный рост свободы, нельзя не обнаружить антиномию, характерную для постсоветской ментальности: ей присуще стремление получить одновременно и свободу, и несовместимые с ней формы социальной защищенности, при чем именно со стороны государства. Другим проявлением той же антиномии, выявленным в эмпирическом исследовании В.В. Лапкина и В. И. Пантина, является то, что для значительной части россиян идеалом стало «абсурдное сочетание экономического диктата и политической свободы»66. Одна из версий объяснения этих антиномий связывается с тем обстоятельством, что в социальной психологии россиян глубоко укоренена идея подчинения государственной власти, долгое время базировавшаяся на модели отношений человека и власти как отношений детей и родителей (так называемый «патернализм»). Да, примерно в этом, но не только в этом и состоит причина трудной усваиваемости демократической идеи и либеральных ценностей в из полном, откристаллизовавшемся на Западе смысле. По мнению Б. М. Пугачева, демократия в современной России как таковая не складывается. Она все более подменяется властью различных групп влияния 67. Н. Е. Покровский считает, что «демократия в России, еще не оформившись как следует, превратилась в нечто совершенно нетрадиционное - манипулятивную, театральную демократию, то есть использование внешней формы демократического процесса для сокрытия его глубоко недемократической и даже антидемократической сути»68. Согласно данным опроса РОМИР, который проводился в сентябре 2000 г. среди 2000 респондентов в 115 населенных пунктах (40 субъектов Федерации), только чуть более четверти россиян склонны были в той или иной степени считать Россию демократическим государством69. «В условиях узости социальной базы демократии, - пишет Н.Н. Федотова, - население тяготеет не к демократии как форме государственного устройства и социального механизма, а к анархии. Среди анархических тенденций она выделяет такую, как «подмена свободы как социально организующей и цивилизующей силы волей как системой произвольных действий»70. Это сопоставление свободы и воли представляется совершенно верным для понимания своеобразия традиционно сложившегося менталитета отечественного общества. Лапкин В. В., Пантин В. И. Русский порядок // Полис. - 1997. - № 3. - С. 74 - 88. с. 81 Пугачев Б. М. Судьба либерализма и демократии в России // Вестник Моск. ун-та; сер, 18. Социология и политология. - 1995. - № 2. - С. 55 - 58., с. 57 68 Покровский Н. Е. Российское общество в контексте американизации (Принципиальная схема) // Социс. - 2000. - № 6. - С. 3 - 9. 69 Лайдинен Н. В. Образ России в зеркале российского общественного мнения // Социс.-2001.- №4.С. 27-31, с. 128 70 Федотова Н. Н. Возможна ли мировая культура? // Философские науки. - 2000. - № 4.-С. 58-68., с. 4 66 67 59 Либерализм, не являющийся укорененным в феноменологии смыслового типа, неизбежно предстает как своеволие, как символ стихии экстатического беспредела, имеющего не рациональное, а вольно-эстетическое значение. И между тем, этот фактор никак не может стать респектабельным – именно он всенародно осуждается как нечто болезненно несправедливое, как явное искажение идеала высокого смысла социального существования – общественного служения. Туманно, неясно для современных россиян и само содержание идеала демократии. В российском общественном сознании демократия не отождествляется со свободой, последняя ценится значительно выше. По данным В. В. Лапкина и В. И. Пантина, ценность свободы значима почти для половины (47 %) россиян, демократия - только для пятой (21 %)71. По данным многих опросов, в качестве важнейших, положительных результатов демократических реформ большинство признают свободу слова и печати, около половины свободу выезда за рубеж и свободу предпринимательства. Значительно ниже оцениваются в российском обществе права на участие в политической жизни и независимую социальную активность, образующие основу демократических порядков72. Приведенные выше мнения позволяют нам утверждать, что в России складывается модель стихийной, крайне неустойчивой демократии. Освоение демократических ценностей происходит сложно. Складывается действительно своя, совершенно особая «суверенная демократия». Чаще всего это объясняют пережитками тоталитарной государственности. Но думается, что трудности освоения демократических ценностей и демократической практики не столько определяет приверженность к авторитарно-этатистским отношениям, выработанная в нашем менталитете, сколько место политической прагматики в системе ценностей, среди которых служение высшему смыслу бытия занимает более высокое место, чем проявление своеволия и рационально интерпретируемой свободы. Оптимально организованная воля означает не свободу как возможность преследования и полагания собственных целей и выгод, как предлагает человеку Запада понимать эту категорию Дж. Локк и как предлагает ее усвоить нам Э.Ю. Соловьев73, а как воля, подчиненная высшей воле – то есть в строгом духе православного христианского богословия, характеризующего соотношение божественной и человеческой воль. Разрыв между ценностями свободы (воли) и демократии коренится, таким образом, в традиционных, архетипических особенностях русского менталитета и согласован как с условиями истории, так и со священным заданием культуре. Этим объясняется та трудность, с которой сталкивается усвоение категории свободы в российском обществе. Подмена свободы в либеральном смысле свободой-волей может означать волевой «беспредел». Такого рода «свобода» лишена институционального социального содержания. Она касается только отдельного субъекта и не представляет собой нормативного социального отношения. При этом исторический аргумент также имеет свою детерминирующее-объясняющую силу: Действительно, в течение веков институциональная свобода была на Руси чем-то совершенно немыслимым, освобождение понималось как индивидуальное бегство от существующего порядка, в крайних проявлениях - как отказ от любого порядка. Правовой нигилизм и произвол порождался приматом государства над законом. Эти этатистские взгляды на природу закона присутствуют и сегодня. «С одной стороны, - замечает Г. Г. Дилигенский, - восстановление законности и порядка в обществе один из главных приоритетов россиян, уставших от хаоса в обществе, от произвола властей и беззащитности перед криминальными группировками. С другой стороны, исправления положения люди ожидают исключительно от той же власти, которую справедливо обвиняют в беззаконии, и снимают с себя ответственность за соблюдение закона»74. Получается, что 71 Лапкин В. В., Пантин В. И. Русский порядок // Полис. - 1997. - № 3. - С. 74 - 88., с. 8 72 Там же, с.8 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. с. 162 Дилигенский Г. Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. - 2000. - № 5. - С. 5 - 19., с.9 73 74 60 движение России к правовому государству обернулось порочным кругом: власть не хочет или не умеет управлять на основе закона, граждане отвечают ей уклонением от его выполнения. По мнению Г. Г. Дилигенского, «средний россиянин чаще всего внутренне убежден, что все проблемы страны должны решаться властью, и не склонен объединяться с другими людьми, чтобы участвовать в какой-либо социальной, коллективной деятельности по решению этих проблем... Те институты, которые открывают наибольшие возможности для непосредственного участия граждан в экономической, политической и иной сфере общества привлекают наименьший интерес, не придается значение ни формированию независимых от государства общественных организаций и объединений, ни становлению самоуправления на муниципальном уровне»75. Этот дефицит автономной политической воли индивидов – в отведении рационального начала сознания (осмысления) с его смыслообраующим эгоцентризмом на задний план, в противовес другодоминантности нравственно-мистического смыслового наклонения и эстетической по своей смысловой логике вере в чудо. Можно утверждать, что в современной российской культуре, несмотря на воздействие западной культуры, продолжают воспроизводиться важные особенности менталитета, которые составляют содержание ее самобытности (например, стремление к сильному государству, патерналистской власти, недоверие к закону, боязнь личной ответственности, ценность коллективистского единодушия в противовес индивидуалистическому балансу интересов, сострадательное отношение к ближнему в противовес строгому принципу справедливости и, с другой стороны, – вера в праведность – специфическую нравственную легитимированность власти, даже несмотря на то, что реальная власть не слишком часто соответствует этой идеальной заданности). Стоит ометить, что на конференции «Россия в поисках идентичности», состоявшейся в Институте философии РАН еще в 1992 г., российский менталитет определялся через такие разноуровневые характеристики, как соборность и самобытность, всечеловечность и оптимизм, патриотизм, неопределенность и незавершенность русской души, ее устремленность в бесконечность, сакральный характер власти, справедливость и равенство как основа социального ритуала, нормативность предписаний власти и статусность потребления. Все эти характеристики соответствуют логике смыслообразования другодоминантного типа, при котором служение другому как высшему смысловому началу выступает главенствующим ценностным принципом и при котором собственно рациональное сознание не отвергается, но отодвигается в качестве ценности низшего порядка, уступая место мистическому призванию и эстетическому чуду. (Таков ведь и архетипический образ Ивана-дурака в русских сказках: он – символ приоритета вовсе не начала глупости как такового, а начала чудесного и доверчиво-добросовестного над началом повседневно-рассудочным). При этом результаты исследований ФОМ показывают, что большинство населения стремится и считает необходимым ориентироваться на традиционно российские ценности, образ жизни, нежели на западные или советские76. Показательно выделение пяти наиболее устойчивых и типичных для различных эпох культурной жизни России ценностных доминант которые, по мнению А.П. Маркова, составляют ядро российской национально-культурной ментальности: низкая значимость факторов материального благополучия и устремленность в идеальную, духовную сферу, неуверенность в настоящем и обращенность в прошлое или будущее, доминирование социальных ориентации над индивидуально-личностными, этатированность сознания, недифференцированное, духовно-целостное отношение к жизни, миру77. Дилигенский Г. Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. - 2000. - № 5. - С. 5 - 19., с. 11 76 Рывкина Р. В. Образ жизни населения России: социальные последствия реформ 90-х годов // Социс. 2001. - № 4. - С. 32 - 39., с. 36 77 Марков А.П. Отечественная культура как предмет культурологии - СПб СПбГУП, 1996 -С 125 75 61 Культурно обусловленный приоритет нравственной духовной идеи над прагматическими ценностями овладения жизнью является базовым качеством культурносмыслового типа, по логике которого организуется как ментальность русского мышления, так и русская история. Национально-культурные особенности, являющиеся ценностноориентационным отражением историко-культурных, психологических, географических, этнических черт совокупного субъекта русской культуры составляют ядро национальной ментальности. В них и воплотился культурно-смысловой тип, с одной стороны, соответствующий согласованной совокупности всех этих условий, с другой – несущий в себе устойчивую логику смысловой иерархии, придающей российской цивилизации самобытность не просто одного из вариантов историко-культурной экзотики, а идентичность логически необходимого культурно-смыслового типа. 7. Язык и другие факторы устойчивости смысловой целостности культуры Особый вопрос состоит в том, как и за счет чего поддерживается специфическое качество культурного типа, тот самый смысловой космос, разрушить и изменить который, как показывает история, очень сложно. Видимо, отвечая на этот вопрос, надо учитывать, что мы имеем дело именно со смысловым космосом, то есть с системой взаимосогласованных моментов. При рассмотрении факторов, способных предстать в качестве носителей культуры как типичной ценностно-смысловой матрицы и выступить, таким образом, в качестве гарантов ее типологической определенности, скорее всего нельзя осуществлять редукцию к неким базовым реалиям – это было бы рискованным упрощением – необходимо исходить из принципа системной согласованности элементов взаимодействия и сторон целого. Если зафиксировать внимание на том, что носителем всей это системы является человек, то, как бы он – субъект культуры – и окажется гарантом существования этого смыслового целого в его относительной устойчивости. Но как раз человек – субъект культурного творчества и носитель культурно традиции – наиболее изменчивый компонент всей рассматриваемой системы. Меняется поколение за поколением, еще быстрее меняются исторические обстоятельства, требующие их жизненных реакций. Если сегодня мы захотим выделить носителей русского, например, культурного типа, то мы вряд ли найдем такового в чистом виде. Все русские будут давать некоторый «промежуточный» результат. В головах, в жизненных устремлениях каждого из соотечественников, считающих себя принадлежащими к русской культуре, идет постоянный живой процесс сопоставления ценностей, нахождения ответов на вызовы ситуации, в том числе и на вопросы и вызовы своей собственной культуры, открытыми собеседниками которой они являются. Собственно творческий или сотворческий характер формирования культурного опыта человека как раз и состоит в этой открытости смыслообразующего события, в этой устремленности к смыслу, гарантом которого и выступает для человека культура. За счет именно такой событийной открытости проявляется возможность для относительной свободы культурного творчества (за счет него, строго говоря, воссоздается даже и сама культурная традиция, поскольку прав М.Хайдеггер, говоря, что «всякая традиция существует потому, что ее постоянно восстанавливают»). Таким образом, можно утверждать, что человек как носитель культуры – это скорее динамичная (свободная, творческая, открытая) составляющая системы, ищущая опорных и регулирующих устойчивость факторов как бы во вне самого человека - в социальных установках, в авторитете другого, в формах коммуникации, в текстах, выступающих признанными образцами выражения этих установок и форм. Собственно эти 62 детерминирующие факторы мы и называем культурой в узком смысле слова – культурой как задаваемой программой, культурой как текстом осознания в противовес культуре в широком и полном смысле - как опыте осмысления и усовершенствования мира. При таком принципиальном делении нельзя, конечно, упростить мысль таким образом, что человек – исключительно подвижная часть системы воспроизводства культуры. Он в силу ряда психологических закономерностей тоже способен брать на себя функции консервативного, охранительного начала. И, тем не менее, человек – это по преимуществу динамичная сторона системы формирования культурно-смыслового целого. Именно это обстоятельство выдвигает проблему культурной самоидентификации человека в относительно устойчивом, данном (заданном) культурном пространстве, значение которой усиливается в современных социально-исторических условиях складывания мультикультурной социальной среды. Понимание культуры как программы человеческой самореализации и деятельности предполагает творческий мотив в ее задании, нацеливании. Программа не только выбирается, но порой в некоторых аспектах и переосмысляется; хотя значение таких переосмыслений человеком культуры нельзя переоценивать. С другой стороны, культура как программа, привносимая для человеческого усвоения, предполагает динамический характер ее реализации. Сами внесубъектные инстанции культуры при всех формах закрепления их смыслового направленности, выраженного в письменной фиксации (текстуализации), в чеканке правил (канонизация), в защитном ограничении свободы интерпретации (догматика), наконец, в предании (прямой непосредственной передаче опыта) и языке (универсально-интерсубъективной и потому относительно устойчивой системе смысловой коммуникации) не представляют собой «абсолютно жестких» структур. Дело в том, что все эти структуры – не застывшие формы, они сами выражают собой динамично напряженные отношения. Если язык предстает по видимости как устойчивая структура выражения смысла, то речь - как устремленность языка к смыслу, как постоянная динамика осмысления, в форме которой и существует язык (если не считать наивно, что он существует в виде словарей и правил грамматики). Все эти структуры – поляризованные силы, организующие живой опыт, без этого опыта и характерного модуса его деятельной открытости не существующие. Причем, смысловое единство, относительное согласование всех этих структур в контексте культуротворческого опыта достигается путем параллельного взаимодействия с этим формирующимся, таким образом, опытом. Когда мы говорим о культуре как смысловом космосе, то имеется в виду именно эта взаимосогласованность различных, многообразно и параллельно существующих факторов. При этом данные факторы несут на себе, по всей вероятности, разные функциональные роли в формировании устойчивости системы культуры: язык берет на себя в этом ключе особую функцию, подобную методологической, - он выступает не как средство общения только, а как способ организации мышления, включающий систему понятий, категориальное упорядочение опыта и мировосприятия. Конечно, язык при этом оказывается и мировоззренчески нагруженным. Но это все же не заданная система мировоззрения, а именно система организации взгляда на мир, приводящая к формированию мировоззрения. Собственно же мировоззренческую функцию выполняет мифология – как живая система аксиом, базовых и отправных для всего последующего опыта, идеология – как система целеполагающих мотивов сознания, призванная гомогенизировать социально-значимые взгляды людей на жизнь, и догматика, будь то догматика в области религиозного мировоззрения, позволяющая отграничить ортодоксию от ереси, будь то авторитетность научных школ, позволяющая отделить достоверную научную картину от маргинальных и паранаучных гипотез. Практические же аспекты устойчивости системы культуры выражены в ряде сторон ментальности. При этом все стороны системы смыслообразующей устойчивости культуры находятся в отношении взаимодействия и взаимной детерминации. Особый интерес в связи со сказанным представляет собой язык как хранитель схем мышления – выражения и понимания смысла, непосредственно связанных с самим 63 смыслообразованием. Язык постоянно претерпевает всевозможные спонтанные изменения, но закрепляются в качестве норм языка именно те новообразования, которые оказываются значимыми для выражения существенных смысловых определенностей культуры, которые позволяют адекватно отображать смысловую ауру мышления, складывающуюся, все-таки, не только в самом языке как абстрактном универсуме структур, отсылок и метафор, а в конкретном процессе проявления смысла, который осуществляется в мышлении через формы языка. Смысл открывается, прежде всего, в том, как мы склонны сочетать, соединять, скреплять значения, поскольку смысл – это феномен целого. Именно в связи с этим, как представляется, Б.Уорф в свое время указывал, что «сильное влияние на поведение людей могут оказывать разнообразные типы грамматических категорий, таких как категория числа, рода, классификация по одушевленности, неодушевленности и.т.п., а также времена, залоги и другие формы глагола, классификация по частям речи»78. Одна из таких, не вполне понятных для американского лингвиста, особенностей – отсутствие использования определенного и неопределенного артиклей в русском языке, в отличие от языковой нормы большинства европейских наций. Между тем, отсутствие артикля представляет собой важную особенность мышления: оно означает отсутствие различия между подразумеванием конкретной вещи, на которую можно указать, и общим понятием, к которому можно отсылать. Это – различие между указанием на реальный факт и взыванием к идеальному принципу, универсальной форме явления, которая как бы присутствует наряду с фактами, над ними, без них и даже вопреки им. Смешение или соединение этих феноменальных данностей в сознании, несомненно, накладывает отпечаток на мировосприятие. Оно определяюще связано со своеобразным «идеализмом» русского менталитета: Это характерное явление упования на высшие сущности при относительном невнимании к конкретным фактам, в которых или через которые могут эти сущности сказаться. Универсальные сущности действительно как бы прямо сказываются в мыслящем таким образом сознании сквозь случайные индивидуации, не меняя своей принципиальной идейной высоты: например, справедливость власти как таковая усматривается сквозь целую вереницу несостоявшихся в этом отношении правлений. Справедливость мыслится как существующая сама по себе, как сила, которая непременно восторжествует вопреки любым отклонениям от нее. Заметим, что не так выглядит отношение к ней на Западе: она там может существовать только строго соблюдаясь и выверяясь в мелочах – ее надо вечно отстаивать как зыбкий баланс интересов, так как в нее саму по себе – в идеальнореалистическую справедливость – никто не верит. В языке, где опущена функции артикля – функции фактуального указания и генерализации а названии индивидуального всегда как бы присутствует и всеобщее. Через индивидуальным образом названную вещь всегда светится генерализация, идея этого рода, здесь сливаются и конкретизирующий знак-указание и расширяющий непосредственную реальность метафорический знак-символ: дерево – это и это непосредственно данное растение и древесность всех деревьев как таковая, и Древо жизни. Здесь – особое символически-реалистическое значение метафор. Объединение фактуальной реальности и идеальной универсальности бытия, которое заложено в таком свойстве языка, координируется с тем характерным символизмом русского сознания, отраженном, в частности, и в фольклоре, и в специфике искусства – как древнего (средневекового), так и нового, и в оригинальной отечественной философии – единственной бесспорно русской классической философской школе софиологии. Случайно ли то, что не употребляется указание на индивидуацию или на генерализацию в виде соответствующих артиклей и это языковое обстоятельство затем влияет на формирование мышления и мировидения? Скорее всего, указание на Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку./ Язык как образ мира. М., СПб, 2003 с.167-201, с. 162 78 64 индивидуацию и генерализацию исчезает или не появляется потому, что данная процедура не идет в согласие с общим смысловым настроем текстов, ценностей и опыта культуры. Строго говоря, здесь вообще редуцируется, отсутствует указание – «вот», «то», - которое делало бы вещи предметами, представшими пред нами и для нас. Тогда получается, что не мы господствуем над вещами, а вещи как бы доминируют над нами как носители некоторого высшего смысла бытия для нас, с которым мы, таким образом, сообщаемся, к которому приобщаемся. Здесь, таким образом, косвенно проступают и нравственный приоритет общего перед индивидуальным, точнее их слияние (общинность русской ментальности), и понимание жизни не как власти и манипуляции, а как служения и подчинения высшему (на чем настаивает православное христианство), и любовь к персонифицированной Земле (Родине) – своеобразная «этика долга» перед реальностью, которая понимается, таким образом, в народном сознании в качестве высшей, хотя не перестает при этом оставаться конкретной. Все это – сумма особого – другодоминантного типа смыслообразования, только закрепившего свои методологически-мыслительные процедуры в формах языка. Язык, таким образом, это и не только выражение самобытности народного духа, определяющий мышление и развитие каждого человека (по В.Гумбольдту), и не символическая форма, устанавливающая культуру (по Э.Кассиреру). Это система закрепления суммированного в текстах, нормах и верованиях типа смыслообразования, сказывающегося как тип культуры – несомненный фактор устойчивости идентичного культурно-исторического типа. В противовес охарактеризованному символизму русского мышления, выражающегося через язык, лишенный артиклей и сказавшийся в итоге в специфическом символистскиреалистическом мироощущении, для западного сознания как раз характерен номинализм общих понятий, уже в языке предстающих в качестве абстрактных имен обобщенных классов конкретных вещей. Слово скорее только знак, чем весомая реальность, истина чисто познавательна, а не онтологична, каковой она является в категориальной системе сознания, характерной для российского культурно-смыслового типа. При наличии тонко разработанного понятия истины как соответствия суждения фактам в западноевропейских языках отсутствует специфически реалистичное и объемное понятие правды, объединяющей истину и нравственную правоту, познающую рефлексию и онтологическую нормативность. Это понятие здесь распадается на право как обобщение прав отдельных людей, которые соответственно надо отстаивать, и на истину как обобщение истинных фактов, на которые надо опираться. Заметим, правду как таковую отстаивать не надо – ее надо просто встретить как высшую реальность; а реалистически воспринимаемую истину как таковую не надо доказывать – ею надо просто обладать. Здесь коренится и специфика стереотипов социально-культурной практики. Эти нюансы мироощущения все четко закодированы в языке как целостной системе смыслообразующих отсылок, причем системе чрезвычайно прочной именно в качестве смыслового целого, несмотря на динамичные изменения ее выразительных элементов. Мы не можем в рамках этого исследования повести разговор о языке как полной системе ценностно-мировоззренческих ориентиров. Но важно сосредоточить внимание на таких аспектах, которые характеризуют язык как систему мышления - с наиболее общими структурами, определяющими способы смыслообразования. Мир и жизнь категориально упорядочены в соответствии с тем, на чем настаивают тексты, целостно скрепляющие смысл на этом языке и с тем, вокруг чего вращается система обычных (ситуативных) вопросов и ответов – к чему устремляет язык мыслительно-речевой поток. «Манеры речи, - пишет Б.Уорф, - составляют неотъемлемую часть всей культуры. Хотя это и нельзя считать общим законом, и существуют связи между применяемыми лингвистически категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными формами, которые принимает развитие культуры. Эти связи обнаруживаются не столько тогда, когда мы концентрируем внимание на чисто лингвистических, этнографических или социологических данных, сколько тогда, когда мы изучаем культуру и язык как нечто целое, 65 в котором можно предполагать взаимозависимость между отдельными областями»79. При этом язык – это, скорее, хранитель суммарного смысла культуры, взятого в его методологическом аспекте – в аспекте, ответственном за воспроизведение выразительных и понимающих форм мышления, с помощью которого раскрывается смысл. Язык – это всеобщая смысловая связка, используя которую мы движемся через тексты и упорядочиваемые явления мира и жизни к смыслу, выражением которого предстают для нас тексты и явления. Согласование структур языка происходит не непосредственно между ними самими, а через посредство культурного опыта, выражаемого через язык, через посредство выделяемого смысла культурных текстов, понятности которых служит язык. В русском языке редуцирован вспомогательный глагол «есть». И это тоже не кажется случайным: таким образом перестает акцентироваться модус бытия: бытие становится здесь равным явлению («является» оказывается вполне равнозначным эквивалентом «есть»), планы явления и бытия смешиваются – акцентуация реальности в ее свершенности заменяется выделением события в его являемости. Что это – отказ от онтологизма миропонимания? Нет, это слияние онтологического и феноменального планов – планов бытия как свершенности («есть») и появления как чуда обретения («является»). Это скорее внутреннее погружение в онтологию, чем ее игнорирование, представление бытия в качестве настоящего события, а не в качестве метафизической отстраненности. Здесь, скорее, ощещается та же тенденция подчинения субъекта мысли объективному событию, которое с ним приключается и в котором этот субъект проявляется. Это продолжение все той же тенденции смыслообразующей другодоминантности, характерной для того типа культуры, который сложился под влиянием православия, общинности и этики служения – в противовес самоуверенной эгоцентрике и метафизического противопоставления бытия сознанию, характерным для западного типа культуры. Важно, что эта тенденция не просто закреплена в языке и воспроизводится благодаря консерватизму языка. Она согласуется со смысловым целым (смысловым космосом) культуры. Она согласуется с православным учением в противовес католическому, с традициями народного быта и творчества, в противовес западному индивидуалистически-рационалистическому прагматизму и субъективной чувствительности (эстетике) и т.д.. Она укоренена в опыте культуры. Но эта тенденция, будучи закрепленной в столь обобщенном структурном виде, выражает не частности этого опыта, а как раз его глубинный смыслообразующий поворот. Подобная же тенденция отражена и в сохранении мужского и женского родов при относительно узком распространении третьего (среднего) рода существительных. Эта тенденция распространения среднего рада, далеко зашедшая, например в английском языке, выражает вытеснение субъектов (подлежащих) мышления, несущих персональные характеристики в разряд предметов и связана с общим для рационалистической по духу цивилизации смысловым опредмечиванием мира. Средний род – то, на что можно просто указать как на предмет; его собственная субъектная энергия при этом не предусматривается. За распространением среднего рода в языке очевидно кроется десубъективация реальности – рассмотрение подлежащих языка не в качестве субъектов и сил, а в качестве пассивных предметов активного сознания. Но этот процесс с разной скоростью прошел в разных культурно-типологических регионах Европы. В русском языке, таким образом, доминирует ощутимый отголосок «архаичного» персонифицированного миропонимания, субъектного отношения к элементам мира, «мифического» отношения к реальности мира больше как к высшему бытию, чем как к предметной периферии субъективной деятельности. «Миф» означает здесь феноменальный мир, в котором мы живем, а не предметный мир, который мы практически преобразуем. Таков, конечно, миф архаики в противовес разуму цивилизации; но таков и тип культуры, в рамках которого разум – не эпицентр смыслообразования, а функциональная периферия. Это тип культуры вполне современный и вполне реалистичный, Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку./ Язык как образ мира. М., СПб, 2003 с.167-201, с. 201 79 66 только отличный от рационалистического типа, под стандарт которого подгонялась европейская цивилизация последних трех столетий. Другой такой особенностью языка, обнаруживающей его смыслообразующую конструкцию, оказывается опора его синтаксической структуры на флексии – взаимосогласующие изменения слов. Эта особенность, заметна на фоне наличия многих языков, опирающихся в смысловой координации семантических единиц на внешние указания-отсылки (предлоги) (английский и др.) или на свободный контекст объединения (китайский). В языках, производящих согласование посредством флексий, действует принцип изменений слов, в противовес другому принципу согласования, основанному на контексте внешних соотношений, на предлогах (своего рода внешних указаниях одного понятия на отношение к другим) и на порядке слов в предложении, устанавливающей функциональную иерархию понятий. Эта особенность языков выражает не только логику согласования значений, но и логику образования смысла. Для согласований посредством указаний характерна смыслообразующая произвольность, исходящая от субъекта высказывания; для наличия флексий – присутствие внутренних связей языка, которые доминируют над субъективной прагматикой. Чем гибче язык, чем больше в нем флексий, тем он феноменологически богаче; древние языки сложнее и богаче современных. Наличие утраченного звательного падежа, к примеру, позволяет молитвенно обращаться к Богу, поэтому, в частности, замена церковнославянского богослужебного языка на русский, может быть, и добавит популярности церкви, но несомненно исказит тонкий духовный феномен молитвы. «Флексия свойственна слуховой или устно ориентированной культуре, поскольку представляет собой форму одновременности. Культура фонетического алфавита тяготеет к сокращению или упразднению флексий во имя визуально-позиционной грамматики», пишет М. Маклюэн80. В других местах своей книги «Галактика Гуттенберга» он подчеркивает, что аудитивная культура коммуникации и информации, к каковой он относит всю традиционную восточнохристианскую цивилизацию, в том числе и русскую культуру в противовес западной, и в чем видит культурную причину исторического раскола на две христианских цивилизации, - что эта аудитивная культуры предполагает иной склад мышления - монологичный, а не дискурсивный, иной, более суггестивный, способ организации внимания, больше похожий на введение в транс («звучание голоса вводит в транс»), чем на аттрактивное привлечение внимания. Для стиля мышления этой культуры, считает канадский социолог, характерна убедительность риторического склада, в противовес аргументации рационального типа. Упрощенно выражаясь, здесь именно язык говорит человеком. Но это не значит, что человек при этом не говорит на языке: формы прагматики в такой речи иные – они обусловлены не властью, а подчинением смысловому строю языка, но которое можно использовать и в интересах власти субъекта высказывания над реципиентом. Действительно, культура, в основе которой лежит визуальная презентация (предметная отсылка – указание) тяготеет к упразднению флексий. А сохраняет их культура, для которой система понятий открывает объективную данность, в которую как бы вступает мысль и с которой не стремится произвольно оперировать как со своей предметностью. «Флексия скорее предполагает, нежели выражает отношения», - пишет М. Маклюэн81. Здесь проявляется смыслообразующая структура подчинения в противовес структуре управления (власти). Она предполагает предзаданный смысл в языке, который открывается нашему сознанию - мы выявляем таким образом собственное родство слов как символов должного и предуготовленного бытия. В языке, организованном таким образом, доминирует структура подчинения, в противовес структуре управления (власти). Другодоминантность смысла превалирует над субъективизмом смыслообразования. Наличие (возможность) взаимосогласования слов как 80 81 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. М., 2003 с. 403 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. М., 2003 с. 404 67 бы логически предшествует их употреблению – это не согласование в употреблении и именно согласование в языке. Оно предполагает предзаданный смысл в языке; исходит из такого типа смыслообразования, где сознание организуется здесь не самим эгоцентрическим субъектом, использующим язык для своих предметных отсылок, а основывается на вхождении субъекта в высший смысловой строй языка, где он выявляет родство слов как символов должного и предуготовленного бытия. Во флексивно организованном языке (речи) опорной оказывается собственная соподчиненность и связь элементов и структур языка, доминирующая над субъективной прагматикой речи. Субъект оказывается как бы в среде (залоге) внутренних обязательств языка и стремится таким образом согласовать свою прагматику с данной в языке взаимосогласованной смысловой структурой. В определенной степени к этому стремится и любая речь, используя слова языка как средоточия смысла, но язык, основанный на отсылках внешне указательного типа, связан с этим в гораздо меньшей степени. И тем большую роль в таком языке обретает порядок слов в предложении, энергично вносящий в речь субъектную интенцию и прагматику – язык здесь более устремлен к субъективно вносимому смыслу, нежели к смыслу самого языка как основы осмысленности речи. Русская речь предстает в ключе такого анализа как стремление к удостоверенности неким высшим смыслом, как бы уже присутствующим в языке до действия нашей логики, реорганизующей его понятия. Логика в этой связи может предстать двояко: 1) как выявление заданного в выразительных формах смысла и 2) как придание смысла элементам языка, указывающими на их реально (практически, активно) складывающиеся отношения. И то и другое логично; но это логики в разных системах смыслообразования, которые мы и называем другодоминантной и эгоцентрической. В плане усмотрения в стихии мыслимого, в стихии языка высшего смысла – подлинного центра смысловой гравитации, доминирующего над ролью активного речевого субъекта – человеческого «я», становится понятно и не разделение (смешение) определенных и общих понятий: каждое выделенное мною и таким образом мое предметно указывающее понятие оказывается понятием самого языка – доминирующего смыслового опыта, в который я со всей моей прагматикой только подчиненно включен. Флексии как формы согласования и синтаксической интеграции слов несут собой логику слов-метафор. Частицы (артикли, предлоги) – логику указаний. В конечном счете, это указания на реальность, на факты, выбранные и установленные эгоцентрическирациональным сознанием. С другой стороны, слова-указания как бы отталкиваются от реальности, которую называют, становясь прозрачным наименованием множеств (номинализм); слова же метафоры всегда в тесной связи с реальностью, как бы непосредственно символически представляют ее, несут собой систему реализма. А. Тойнби говорит о законе упрощения языка по мере эволюции цивилизаций. Одним из проявлений такого упрощения предстает и отказ от флексий. Здесь действительно есть фактор простоты, но одновременно и фактор стиля и направления мышления – фактор типа смыслообразующей активности. Так есть языки, с помощью которых можно выразить глубокие и сложные философские мысли (греческий, немецкий, русский) и языки по самому своему складу номиналистски-позитивистские (английский), на почве которых естественным образом рождается именно лингвистическая аналитика и логистика. Это различие можно, конечно, объяснить вообще относительной свободой в порядке слов предложения славянского языка – относительной малозначительной синтаксической ролью этого фактора, компенсируемой ролью согласования слов за счет соответствующих флексий. Но, с одной стороны, важен смысловой результат, при котором в одном случае фокусируется субъектный центр смыслообразования – и это несет существенную нагрузку, причем соответствующую рациональному настрою осознания, столь характерному для совокупности всех взаимосогласуемых сторон смыслообразования в опыте западноевропейской культуры. В другом случае субъектный центр не акцентируется – он как бы рассеян во взаимосвязанности понятий и не может произвольно ими оперировать, склонен подчиняться их логике. Это тот же самый принцип, который искусствоведы 68 наблюдают при анализе перспективы в иконе: она обратная, то есть пространство видимого организовано не вокруг взгляда зрителя, а этот взгляд как бы перемещается вокруг видимой объективной реальности, подчиняясь ей. Б. Успенский называет это смыслообразующее качество гетерономностью, хотя этот термин «гетеорономия» употребляют и по-другому и поэтому он хуже способен исполнять категориальную задачу, чем точный термин «другодоминантность», предложенный в свое время Г.С.Батищевым. Синтаксис на основе флексий действительно более пассивен в качестве модели взаимодействия человека со смысловой реальностью языка, в нем меньше активной реорганизации, больше вслушивания в собственные языковые взаимосвязи-согласования. Такой синтаксис может соотноситься со слуховым восприятием – со вслушиванием в стихию слова. Но это происходит не только (и не столько) оттого, что принцип письменности слабо внедрился в такого рода культурах, а оттого, что весь смысловой склад культуры такого типа опирается на другодоминантность смысла – на интуицию постижения, а не рационального конструирования его. Данный анализ указывает не на семантику значений и не на ценностно-категориальную окраску понятий; он кажется более поверхностным, поскольку касается только формообразования в языке. Но он затрагивает именно глубинные структуры смыслообразования, от существования которых зависит жизнь языка, постоянно своим особым образом воскрешающая всю его семантику и категориальность. На основе данного анализа важно отметить, что замена отдельных слов (терминов) на иностранные хотя и несет в себе роль смысловых трансформаций, на которую возлагают такие надежды реформаторы культуры в надежде ценностно реабилитировать многие, не слишком чествуемые в традиционном сознании, сферы жизни, но эта роль не значительна в сравнении с ролью смыслообразующей структуры языка, в которую неизбежно эти термины встраиваются и органически преодолеваются в ней как инородности, натурализуются, в частности, обретая флексии (встраиваясь в смыслообразующий строй языка), меняя статус общности и ценностный статус (знак) (приобретая ироническую окраску). Язык – это не просто сумма значений и смыслообразующих отношений, которая отражает и даже формирует картину мира, мировоззрение. Это результат бесконечно многочисленных актов смыслообразования, вновь и вновь воспроизводящихся в их типологической идентичности и кристаллизующихся в значениях языка. Язык – это дифференцированная и конкретизированная карта смыслообразования, развернутая в ландшафте мира. Следовательно, это не только средство консервации смысла, но и часть, фаза, дискретно рассыпанная мозаика осуществленных и осуществляемых смыслообразований. Структуралистский подход верен в том, что структурность языков и структурность социумов, в которых языки образуют поле информационной коммуникации, изоморфны. Можно сопоставить социально-культурную традицию типов социализации – западной, восточной (китайской) и русской со смыслообразующей структурой соответствующих языков. При анализе истоков такой социализации, коренящихся в характере и логике консолидации традиционной общины – германской, китайской и русской – авторы коллективной монографии «Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала 21 века»82 отмечают три разных типа соотношения индивидуального и общего: 1) внешнюю координацию атомарно-индивидуальных элементов – координацию частных интересов и личных прав; 2) полное подчинение индивидуального общему, в суммирующем контексте которого растворяется смысл индивидуального – то, что находит отражение в китайском коллективизме; 3) проникновение индивидуального смыслом общего – согласованием с ним – то, что находит отражение в русской соборности. И здесь действительно видны параллели со смыслообразующей структурой языков. В основе английской, например, речи – индивидуально-прагматическая перестройка языкового 82 Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала 21 века. М., 2003, с.243-249 69 материала; в основе китайского языкового процесса – погружение в контекст как бы помимо активного сознания существующих очевидностей, выраженных визуальным контекстом иероглифов. При этом флексивная гибкость русского языка означает соподчиненность и связь его элементов и структур, в которую вплетается прагматика субъекта – но не просто как подчиненный элемент, страдательно претерпевающий напряжения этого смыслового поля, вслушивающийся (вглядывающийся) в контекст, а как бы бережно расплетающий – как языковая личность признающая первичность и святость смысловой системы, вступающей с ней в диалог. По-своему подобным образом характеризуется и специфика общинного сознания в русской культуре. Надо согласиться, что «русская общинность выразилась в социально-психологическом механизме идентификации индивида с общностью, благодаря которому русский человек осознавал себя не отдельной личностью, а частицей целого, которая вне этого целого не может существовать, тесно вплетенная в это объективное целое, не перестраивая его, но и не исчезая в нем. «Отдельность» индивидуального существования проявлялась в чувстве причастности к некоему общему началу, носящему надличностный характер. Русская общинность сформировала такой тип социальных отношений, в котором индивид испытывает потребность и необходимость в идентификации и коррелирует личные интересы с коллективными, превращая коллективное в личное. Благодаря этому в аксиосфере доминируют корпоративно-общинные ценности» 83. В своей теории социальных систем Т. Парсонс обращается к свойству социальных общностей – наличию в них общепринятых символов, которые действуют как ценностные системы. В этой связи можно назвать три параллельных ряда – аксиологии, социологии и лингвистики, каждый из которых отображает одну и ту же специфическую системообразующую структуру – структуру образования смысла, обретаемую и устойчиво воспроизводимою в опыте культуры как опыте осмысления бытия. Проще всего выводить смысловой строй языка из уклада социальности, а социальность из условий природы и хозяйства. Такое мы часто и наблюдаем при анализе объясняющих моделей. Но надо заметить, что такое выведение представляет собой редукционистский логический ход, выстраивающий линейный детерминирующий ряд – в движении от тезиса природы к тезису хозяйства, от тезиса хозяйства, к тезису социума, и далее к каузальной связи общества и языка, при которой язык понимается как отражение социальных связей. От редукции, означающей сведение эффекта целого к элементам или сумме их множества можно отойти, если принять идею взаимного согласовании социальных и языковых структур на основе системной целостности опыта, программируемой в языке и подкрепляемой, проверяемой в осмысленно координируемой социальной деятельности. Язык и социальный опыт – это тогда единая система складывания смысла. Причем смысловая система языка образует системное целое на уровне сознания – создавая со своей стороны ментальный прототип реальных и социальных практик, давая возможность носителям языка сообщаться и взаимно согласовывать свою активность. При этом язык надо понимать отнюдь не статично, как раз и навсегда записанную программу смысловых ориентиров, а именно как постоянный опыт движения к смыслу в коммуникативных процессах его выражения и понимания, если понимать жизнь языка как динамичную жизнь сообщений. Именно такое взаимосогласование социальных и языковых систем как носителей смысла и надо принять как итог анализа, ключевой категорией которого является событие смыслообразования. Очень похожим образом А. С. Панарин говорит об особой «исторической субстанции как народ»: «Что же скрепляет эту субстанцию? Ее основанием служит: единство территории (месторазвития), истории, образующей источник коллективный культурной памяти, и ценностной нормативной системы, служащей ориентиром группового и индивидуального поведения. Все это выражает язык, непрерывно актуализирующий все три единства в сознании данного народа. … Ни система частной собственности, ни 83 Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала 21 века. М., 2003, с.248 70 возникновение на месте этнических единств суперэтнических образований, называемых политическими нациями, не отменили закона трех единств, образующих коллективную идентичность народа»84. Единственно, что надо к этому добавить в нашей связи, это то, что народ – это лишь один из масштабных уровней культурной идентичности, менее крупный, чем цивилизация. Кроме того, территория, является действительно фактором скрепления – местом непрерывного и тесного культурного общения, а с другой стороны, географическим фактором, в результате согласования с которым формируется специфический опыт культуры – но это опыт согласующегося преодоления натуральности, а опыт всецелой адаптации к ней. Таким образом, география (как и геоэкономика, как и геополитика) отнюдь не определяют всецело содержания культуры – не является ни первично, но доминирующе определяющим фактором. Это отчасти проясняет механизмы поддержания относительной устойчивости культурного типа как согласованной смысловой системы. В этих механизмах проявляются основные принципы синергетики как логики такого согласования, где равноценны как 1) момент спонтанного содействия («самоорганизации») сторон, так и 2) аттрактор устойчивости, несущий в себе принцип целостности, а 3) реальность среды играет роль значимого контекста. При этом социум явно несет на себе первый логический момент, а язык - второй, служа фактором устойчивости и конкретным носителем традиционности. Все же факторы природного ряда, условно объединяемые термином география, играют роль значимого контекста, учитываемого и реорганизуемого в этом масштабном системносмысловом согласовании. Так в общих чертах выглядит модель гетерогенной многофакторности системы устойчивости и идентичности культуры. Важно сделать вывод, что язык культуры, речевые и дискурсивные процессы, протекающие на этом языке и активирующие, таким образом, мышление, тексты, созданные в этих процессах и сама деятельность человека, к которым эти размышления побуждают (поскольку эта деятельность опосредована культурной программой) – не есть абстракции, а есть единый процесс – процесс смыслового напряжения культуры, ее движения к смыслу в ходе осмысления, систематизации и, таким образом, решения жизненных задач и проблем. Именно в этом едином процессе, помимо которого и не существует как таковой никакой язык, не пишется и не читается никакой текст (разве что они намертво зафиксированы в словарях, грамматиках и архивах), происходит исследуемое нами смысловое согласование программирующих элементов культуры. Устремленность мышления и языка к смыслу – долгосрочная и, как правило, единственная для данной культуры программа сопоставления ее целей и ценностей, программа решения как высоких мировоззренческих, так и обыденных вопросов. Логично предположить, что такая процедура задана в культуре однозначно – через иерархию постоянно апробируемых понятий, в которых модель смыслообразования нашла свое воплощение в совокупности элементарных значений и их связей, и через выделение и систематизацию постоянно выделяемых проблем. Сами понятия языка в этом плане оказываются элементарными смысловыми сообщениями, столь же значимыми, как базовые мировоззренческие тексты и нарративы этой культуры и столь же активными, как нравственные и, шире, ценностные определения практической деятельности, приводя к формированию установок менталитета. Все вместе во взаимодействии эти факторы формируют устойчивую модель культуры как типологически идентичного способа смыслового преодоления натурального существования, за рамки которого призван выйти человек. 84 Панарин А. С. Народ без элиты. М., 2006 – 352 с. С. 29-30 71 8. Культура как система жизненных задач: естественные и смыслообразующие факторы Если мы согласны с И. Кантом, говоря о том, что история является царством свободы, где человек сам полагает себе цели, мы должны признать, что аттрактор в социально-культурных синергетических процессах своеобразен: это не просто спонтанно находимый и естественно поддерживаемый образ устойчивости воспроизводимых процессов в результате достижения которого они и определяются как целое. Аттрактор в истории это всегда в значительной степени как бы заданная, осознаваемая цель, точнее, не конкретная предметная цель, а ценность – это предвидимый горизонт смысла. Смысл и есть аттрактор устойчивости системы, данный феноменально – освещенный светом сознания. Смысл как явление целого и гарантирует устойчиывость культурного типа. В этой логике находят обоснование и механизмы взаимодействия культурных традиций и привносимых извне цивилизационных форм. Будучи выработанными в рамках одной культуры, скажем, культуры рационального типа, цивилизационные формы интерпретируются по-особому, порой даже искажаются, когда пересаживаются на почву культуры других типов или же постепенно адаптируются там, приобретают там новые характерные черты, вписываясь в уже существующий, внутренне согласованный смысловой космос. Дело в том, что при любых заимствованиях основополагающие смысловые установки же практически не передаются. Стоит им вторгнуться в смысловое поле иной культуры, устойчивость этого поля подвергается угрозе, а вместе с тем подвергается угрозе существование самой культуры. По этой причине наиболее легко «экспортируема» как рез информация технологического значения. Вторичное, инструментальное значение такой информации позволяет ей относительно легко вписаться в другую, гетерогенную культурносмысловую систему – систему целей и мотивов, для реализации которых они теперь станут служить. При этом восприняты технологически-приспособительные механизмы могут быть и без полноценной передачи той смысловой ауры и мировоззренческой картины, в которой они были рождены. В технике и технологиях самих по себе мировоззренчески-смысловые координаты познания проявляются минимально, присутствуя там в снятом виде. Тем более они могут быть сняты и даже отчуждены в использовании техники в деятельности, организованной в рамках иной смысловой системы. Вся история человечества наполнена примерами технологического взаимообмена между культурами. Но реакция на хроническую нерешенность реальных жизненных проблем цивилизации может приводить периодически и к желанию переосмыслить саму относительно устойчивую систему культуры за счет перенесения центра тяжести на ценности, ранее считавшиеся периферийными. Такое усилие не под силу индивидам и даже партиям. Культурные революции такого рода возможны, когда устремленность к смыслу ослабла, дискурс культуры ослаб, когда при этом сильно влияние иных культурносмысловых систем. Наиболее яркий и часто приводимый пример – христианизация античного средиземноморского мира. Другой пример, пожалуй, не такой бесспорный – модернизация по западного образцу, начавшаяся в незападных обществах в 18, 19, начале 20 в. и продолжающаяся во многих из них сегодня. Существует точка зрения, что природная среда определяет хозяйственную жизнь, формы быта и политическую организацию этноса. Часто подчеркивается влияние природной среды на формирование психического склада этноса и содержание этнического самосознания. Адаптация к природной среде рождает сообщество - этнос - и определяет способ его коллективной жизнедеятельности. Способ жизнедеятельности, в свою очередь, детерминирует формирование внутренних системообразующих связей, которые в той или иной мере влияют на социальное развитие (экономику, тип политических отношений, 72 доминирующий тип личности и др.85. «Природная среда определяет основные характерные черты этноса, - пишет Г.С.Денисова. - Однако не только их, но и внутрисистемные связи степень внутригрупповой сплоченности, тип демографического воспроизводства, устойчивость первичных коллективов,- поскольку определяет форму расселения, вырабатываемую в данных условиях этнической общностью»86. Но редукционистская логика причинной зависимости системы от одного «ключевого» фактора здесь все-таки не действует. Именно потому, что целое несводимо к отдельным своим частям и характеристикам, этнологам в долгих дискуссиях не удается определить природу этнической системы: каждая из характеристик этноса вне связи с другими не является бесспорным индикатором его онтологической природы. К.С.Момджян указывает, что этническим сообществвам присущ «особый целостный образ жизни», который «предполагает особый механизм самосохранения и саморазвития системной целостности, при котором все многообразие частей, свойств и состояний системы имеет единый источник, сводится к единому основанию»87. Но это основание нельзя мыслить редукционистски, генетически – его можно помыслить только синергетически, телеологически. Образ жизни связан с условиями жизни и собственно является формой их активного преобразования; в свою очередь, это преобразование связано с моделями решения жизненных задач. При этом характер постановки жизненных задач влияет не только на итоговый результат – полученный образ жизни, но и на выбор самих условий, в том числе и природных условий, в которых данные задачи имеют преобразовательный смысл. Ориентиры осмысления, запечатленные в процессах мышления – в процессах выражения, текстуализации и понимания смысла, составляющих событие культуры как событие осознания, определяют характерное решение и даже постановку жизненных задач, что приводит этнос, в частности, к той геоэкономической ситуации, в которую они исторически встроились – которую они сами создали. Эти соображения справедливы по отношению к этническому сообществу, тем более они справедливы к большему по масштабам и менее связанному с геополитической и геоэкономической конкретикой задач социокультурному пространству цивилизационной идентичности. Культурные условия смыслообразования координируются с условиями природы, а не однонаправлено определяются ими, как это преподносится в распространенных концепциях географического детерминизма культуры, на основе которых, в частности, чаще всего анализируется своеобразие менталитета и всей культуры России. При сходных климатических и географических условиях культурно-цивилизационный результат может быть кардинально отличен. Легче предположить, что как раз разные способы освоения сходной по условиям территории определяются разным культурным типом – разным типом смыслового преодоления натурального существования, задающим программу развития разных цивилизаций. Что было бы с хозяйством на территории России, если бы ее осваивали американо-канадцы? Она бы считалась экономически неэффективной для заселения и т.п. Ведь для западной цивилизации резон эффективности представляет собой смысловой приоритет по отношению к другим целям и ценностями. Освоение неблагоприятных для проживаний земель – не только безвыходная судьба русского народа, но и подвиг служения вне прямой зависимости от личной выгоды – следствие качественного своеобразия культурно-смыслового типа, на основе которого организован весь опыт цивилизации. Верно оценивает логику взаимодействия разных – природных и сверхнатуральных, смыслообразующих – факторов формирования устойчивого образа жизни Г.Л.Тульчинский: «Бесполезно спорить - то ли образ жизни породил отношение к ней, то ли отношение Арутюнов С.А. Этногенез, его формы и закономерности// Этнополитический вестник. 1993. N 1., с.17-41 86 Денисова Г.С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). Ростов-на-Дону, 1997 87 Момджян К.С. Социум. Общество. История. М., 1994, с.151 85 73 определяет и воспроизводит сценарий жизни. Они уже сплелись и переплелись, воспроизводясь в бесконечной череде поколений»88. Эти факторы гетерогенны, но находятся в ситуации постоянного взаимосогласования, определяющего бытие цивилизации. Указывается, что можно определить этнос как «субстанциальную систему, которой присущи такие характеристики как самоорганизация и саморазвитие, основывающиеся на адаптации к среде и диахронных информационных связях»89. При этом автор данного определения отмечает, что «если на первом этапе своего развития адаптация предполагала приспособление этноса преимущественно к природной среде, то по мере исторического развития адаптационный механизм переориентируется на приспособление к изменяющейся социальной среде»90. Этническую идентичность, конечно, нельзя отождествляясь с культурной и цивилизационной идентичностью. В ее генезисе гораздо больше сильных естественных факторов - кровное родство или миф о родстве, единство геополитических и геоэкономических задач, политическая консолидация, сходящая хотя бы из противопоставления «им» - враждебным сообществам- конкурентам в политическом и экономическом противостоянии. Анализируя социальные отношения, которые приводят к возникновению социальной группы как реально действующего субъекта, Ю.Л.Качанов и Н.А.Шматко отмечают, что они реализуются как система признаваемых различий. А социальная группа возникает в качестве "пучка" отношений и "проявляется в воспроизводстве различий/различений, понимаемых как воспроизводство определенной системы практик (оформляющейся в социальный гештальт - стиль жизни) различающейся и различной от другой системы практик»91. И все же сегодня основания этничности по преимуществу понимаются как культурные основания. Указывается, что в индустриальную и постиндустриальную эпохи этноспецифические формы организации жизни – обычное право, традиционная трудовая деятельность, другие традиции и религиозные верования – оказываются оттесненными из сферы основной практической деятельности людей. Они трансформируются, перемещаясь в историческую память, в сферу специфического этнопсихического склада, в область менталитета культуры. Отмечается, что ядро содержания «этнического» перемещается в при этом сферу осознания этнической группой своих отличий. Этнос все больше становится синонимом психологического склада, ценностно-этических особенностей, чувством духовной братской солидарности. Системная организованность этой общности по своей логике приближается к характеру системы культурной идентичности. А это, прежде всего система взаимосогласованности качеств в смысловое целое (синтаксический принцип, если мыслить в логике структурализма), а не система значений натурального бытия или адаптационного соответствия натуральному бытию (своего рода семантический принцип денотации). Именно поэтому вопреки эволюционисткой идее о преходящем характере этноса этническое сообщество продолжает осваивать свою идентичность, строит приоритетные коммуникации, берет на себя новые социокультурные функции. Ранее цивилизация, образующая целостность в рамках нации, стремительно растворяла в себе этносы; теперь этносы находят свое место в культурно-цивилизационном пространстве. В связи с этим, в частности в американсткой науке произошла замена известной теории «плавильного котла» концепцией этнического плюрализма. Американцы Б. Андерсон и Э. Геллнер трактуют этнос как «воображаемую общность», которая конструируется для достижения каких-либо политических интересов. Они считают, что открытие книгопечатания и распространение грамотности имело следствием нивелировку языковых и культурных различий. Печатное Тульчинский Г.Л. Драйв трансцендентного. Российский духовный опыт: апофатика как потенциирование бытия. // Человеческий потенциал России. Ред. Ашмарин. М., СПб, 2005 89 Денисова Г. С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). Ростов-на-дону, 1997 90 Денисова Г. С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). Ростов-на-дону, 1997 91 Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа? (к проблеме реальности в социологии)//Социс. 1996. N 12., с.92 88 74 слово стало инструментом, с помощью которого оказалось возможным организовывать и мобилизовывать массы. Именно с развитием книгопечатания возникают и массовые национальные движения. Одним из его организаторов выступает само государство: оно предлагает символику (герб, гимн), специально формирует национальное сознание и прочее. Б. Андерсон утверждает, что без сознательной и усиленной пропагандистской работы в этой сфере этнические общности не формировались бы как активные политические единицы. Иными словами, обретая политическую нацеленность, этнос преобразуется в нацию. Но, перепоручая политическую волю правовому укладу сообщества – как национального, так и международного масштаба, – этничность не исчезает и становится носителем культурной солидарности. Но при этом она все же отлична от культурного типа, лежащего в основании цивилизации как межэтнической и межнациональной идентичности, поскольку представляет собой некую деятельно-ценностную нацеленность, тогда как культурная идентичность цивилизации представляет собой целостный смысловой космос, в рамках которого возможны многие деятельно-целевые и ценностные мотивы. Процесс смыслообразования в культуре – устремленности к смыслу, организующий деятельность, мышление, общение и формирование текстов (артефактов), - представляет собой ориентированный на определенный способ смыслообразования устойчивый тип постановки решения проблем. Его можно уподобить большой (бесконечной) логической цепочке (задаче), для которой жизненные вопросы – большие или мелкие – своего рода возникающие примеры и частные задачи. Культура – это логический процесс смыслообразования, в котором субординативно организуются цели, смысловые величины, категории миропонимания, ценности и конкретные жизненные вопросы. В этом процессе как базовые тексты и понятия, так и стереотипы обыденного поведения и менталитета нагружены ценностно-смысловым потенциалом, представляющим собой однотипную модель упорядочивающую жизнь и деятельность. Без сомнения действием этих синергетических механизмов смыслового взаимосогласования разных факторов определяется и национальный характер, то есть наличие у представителей той или иной культурной традиции таких общих личностных элементов и структур, которые обеспечивают общие для всех них (или доминирующие у них) формы мировосприятия, поведения и мышления. 9. Национальный характер и менталитет как формы смыслообразования В рамках развития давней темы национального характера, развивавшейся в романтической и почвеннической философии, в середине ХХ веке была сформулирована важная идея о глубинной психологической связности и внутренней согласованности культурного этноса в целом. Эта согласованность представала как некий внутренний код, определяющий поведение личности и имеющий этнокультурную специфику. В исследования на эту тему, предпринимавшихся в 20 в. акцент делался на влияние культурно закрепленных практик воспитания и переживаний детства на формирование определенных черт личности, свойственные различным культурам общие паттерны межличностных отношений, сравнительные описания культурных “конфигураций” разных народов, характерные для того или иного народа черты личности и иерархия ценностей. Особенно много конкретно-аналитических исследований было посвящено Японии, Германии, США, России. Очевидно, что понимание психологического склада как специфичного и внутренне 75 согласованного комплексного образования может вскрывать одну из важных сторон не только этнической, но и культурно-цивилизационной идентичности и устойчивости. Учет этого фактора вписывается в контекст нашего рассмотрения смыслообразующей целостности как основания культурного типа и системного аттрактора, регулирующего взаимодействие множества разных факторов формирования специфических черт культуры от географических до лингвистических. Понятно, что взаимосогласованность психических черт, как и смыслообразующих сфер (мотивов) - это не первопричина, а, скорее, результат культурогенеза. Но в том-то и состоит роль аттрактора как явления синергетического взаимодействия, что он не выступает в качестве генетической детерминанты состояния систем, а скорее напоминает ее телеологическую детерминанту - образ возможного целого, в регулятивах которого состояние системы обретает устойчивость. При этом тезисы этнопсихологии аргументируют идею о том, что культура и личность находятся в относительном соответствии друг с другом (концепция “базисной личности”) как психодинамическая матрица как совокупность основных предрасположений, представлений и способов общения межличностных отношениях. Согласно этой концепции в рамках каждой культуры отбираются и реализуются определенные возможности, которые образуют культурный паттерн, не допускающий реализации других возможностей, с ним не согласующихся, или серьезно ограничивающий их реализацию. Каждый элемент культуры в рамках данной модели должен пониматься через сопоставление с культурой в целом, то есть ее общим паттерном; сама же культура истолковывалась как своего рода “расширенная личность”. Э. Фромм («Бегство от свободы»92) использовал понятие “социальный характер” и рассматривал национальный характер как нечто исторически изменчивое. Характер, представляющий собой те общие психологические особенности, которые свойственны большинству людей данной группы, формируется образом жизни группы. При этом отмечается, что структура личности большинства членов группы представляет собой лишь различные вариации развития одного и того же “ядра”, состоящего из общих черт характера. Тип характера определяется преобладающими побуждениями. Впрочем, эти интересные и многообещающие гипотезы в реальных исследованиях часто перекрывались специфическим редукционистским характером, присущим психоаналитическому подходу, в основе которого – натуралистический генетический детерминизм, не дающий адекватной интерпретации феномену взаимодействия разнородных определяющих факторов. Совершенно незаметным в принятом за рубежом в 30-70 гг. психологическом подходе к теме национального характера становится то, как культура определяет склад личности, что, на наш взгляд, представляется наиболее перспективным и верным. Отмечается (В.Г.Николаев), что с 70-х гг. поднимается проблема национального характера, “этничности” и этнической идентификации (Дж. Де Во, Л. Романуччи-Росс, Дж. Деверо, Т. Шварцман); характерным становится использование динамической интеракционистской модели анализа. Под влиянием Дж.Г. Мида и Э. Гоффмана получают развитие исследования человеческого Я в разных культурах (К. Эвинг, П. Стивенсон, Н. Розенбергер)93. Классической работой по национальному характеру в русской культуре надо считать книгу Н.О.Лосского «Характер русского народа». Ее содержание и аргументы не сводятся к описательности, а представляют собой внимательный и продуктивный феноменологический анализ. Черты национального характера представляют здесь именно как важные, логически соотнесенные смысловые характеристики культуры. Все, отмеченное выше, позволяет сделать вывод, что наличие национального характера как широко распространенного в сообществе, отличающегося своеобразием типа личностного поведения не только является результатом взаимодействия разных социо- и культурогенерирующих факторов, результатом специфически организованного Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990 В.Г.Николаев. Национального характера концепции. / Кульутрология ХХ в. Энциклопедия, СПб., т. 2, 1998 92 93 76 социокультурного опыта, но само выступает фактором формирования и закрепления этого опыта - фактором складывания и поддержания культурной идентичности, тесно связанной с другими аспектами менталитета. Национальный характер - это одновременно свойство типичной личности и свойство социума (сообщества), сформированное культурой как системой смыслового согласования элементов человеческого опыта. Будучи сам личностной формой такого согласования, национальный характер, несомненно, является важным фактором устойчивости культурного типа. Смысловую согласованность культуры можно сопоставить в структуре личности со складом мышления («складом ума»); и этом сопоставление будет боле эвристически ценным, нежели проникнутое дескриптивным психологизмом и этнографизмом понятие национального характера. Национальный характер можно мылить только как нечто параллельное культуре, нечто, что в структуре личности, сконструированной психологически, согласовано с культурой как системой осознанного опыта, системой текстов, системой смысла. Склад же мышления, ментальность уже предполагает структуру формирования смысла - структуру, в которой собственно прямо отображены ценностные, аксиоматически-мировоззренческие и интенциально-поведенческие установки культуры. Если, конечно, не сводить ментальность к сумме бессознательно залегающих стереотипов и реакций, как это часто делается. Ментальность, менталитет (от лат. mens - ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) – трактуется в литературе как глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное. Ментальность понимают как «совокупность готовностей, установок и предрасположений индивида или социальной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом»94. При этом указывается, что ментальность формируется в зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей среды обитания человека и сама, в свою очередь, их формирует, выступая как порождающее сознание, как трудноопределимый исток культурно-исторической динамики. Это «общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо сообщества. Ментальность характеризует специфические уровни индивидуального и коллективного сознания; в этом смысле она представляет собой специфический тип мышления»95. С этой позицией, раскрывающей понятие менталитета через совокупность культурных явлений, конкурирует другая – подчеркивающая укорененность менталитета в бессознательном, в естественно-историческом социальном опыте, который только находит поверхностное проявление в культуре. Сторонники этого подхода указывают, что восприятие мира формируется в глубинах подсознания. Следовательно, ментальность — то общее, что рождается из природных данных и социально обусловленных компонентов и раскрывает представление человека о жизненном мире. Согласно этой концепции ментальность коренится в бессознательных глубинам психики. Захватывая бессознательное, ментальность выражает жизненные и практические установки людей, устойчивые образы мира, эмоциональные предпочтения, свойственные данному сообществу и культурной традиции. Она включает в себя ценностные ориентации, но не исчерпывается ими, поскольку характеризует собой глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания. При этом ценности осознаваемы, они выражают жизненные установки, самостоятельность, выбор святынь96. Гуревич П.С., Шульман О.И. Ментальность. Менталитет. / Культурология. ХХ в. Энциклопедия, СПб, 1998 т.2.с.24-26 95 Гуревич П.С., Шульман О.И. Ментальность. Менталитет. / Культурология. ХХ в. Энциклопедия, СПб, 1998 т.2 96 Гуревич П.С., Шульман О.И. Ментальность. Менталитет. / Культурология. ХХ в. Энциклопедия, СПб, 1998 т.2 – с. 26 94 77 И все же ключевой проблемой здесь является связь неосознаваемых, латентных форм переживания и выраженных форм сознания. Причем не только связь «снизу-вверх» - как зависимость осознающих эффектов от естественных социальных, психологических и других факторов, но и как зависимость скрытых поведенческих и мыслительных эффектов от структуры смысла, представляющей организованную целостность культуры как текста и контекста осознания, раскрывающей культуру как «смысловой космос». Именно так, как представляется, мыслят понятие менталитета историческая «Школа анналов», подчеркивая ее коллективных характер. Здесь это, прежде всего явление культуры, на значение специфического склада которой и обращают главное внимание французские историки ХХ века. Менталитет как понятие позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы сознания с полуосознанными культурными шифрами. В этом смысле внутри менталитета находят себя различные оппозиции — природное и культурное, эмоциональное и рассудочное, иррациональное и рациональное, индивидуальное и общественное. С его помощью толкуются сегодня не только отдельные культурные трафареты, но и образ мыслей97. При этом хочется отметить, что все-таки речь не должна здесь идти об эмоциональных трафаретах, привычках, но именно о глубинном, скрытом, не проявленном до конца уровне смыслообразования, которое как раз и находит свое целостное проявление как в подсознательно закрепленных привычках, так и в осознаваемых формах культурной идентичности, как в традиции (первобытной, фольклорной, обыденной), так и в дискурсивном содержании критического мышления и осознанно выявляемых высоких идеях культуры. И основная проблема анализа менталитета в изучении культуры на современном этапе как раз и состоит в том, чтобы выявить целостно-смыслообразующие структуры в тех формах сознании, которые принято рассматривать как скрытые носители менталитета – при координации этих выявляемых структур с манифестируемыми идеями и достижениями культуры, характеризующими ее как выраженный опыт осознания. Диалектика осознанного и неосознанного в феноменах ментальности сложнее, нежели двухуровневая оппозиция «скрытое-выявленное». Она дополняется категориальной парой «смысловое – выражаемое» (смысл-выражение), в которой складываемость смысла является первичной и более общей, а любое выражение этого смысла – вторично и всегда основывается на смысле. Именно на этой структуре смысла как таковой и основывается устойчивость ментальных реакций, поведения, чувств и привычек, которые не сводимы к случайным эффектам неосознанного поведения. В свою очередь такие двухуровневые (осознаваемо-неосознаваемые) формы проявления менталитета, как, например, верования, перестают выглядеть как произвольные – они укоренены и скоординированы в той смысловой структуре, которая проступает в целостности культуры как опыта осмысления. Яркий пример существования менталитета как скрытого, не выявленного до конца, но кардинально присутствующего смысла – это язык. В нем многое может высказываться, но высказано всегда не все; и при этом он остается системой смысла, несмотря на то, что не все значения, возможные и уместные в его смысловой ракурсе, актуально выраженные. Он не вполне прозрачен для прагматический целей высказываний, так как сам является системой смысла, через которую только и может проходить вся прагматика и все указания значения речи. Но он же и не вполне осмыслен, поскольку еще не вскрыты и не показаны все его смысловые связи; он требует философской работы со своими понятиями и структурами. До сих пор, если термин «менталитет» появлялся в литературе, он определялся как «специфика мысли и системы мышления» - определение более краткое, но не менее туманное, ибо остается непонятным, что за специфика имеется в виду, и что понимается под словами «система мышления» Видимо, здесь-то и должны крыться механизмы взаимосогласования Мыльников А.С. О менталитете русской культуры: моноцентризм или полицентризм // Гуманитарий: Ежегодник. Спб., 1996. № 1 97 78 элементов и связей в культуре, которые ведут к ее идентичности и значительной степени устойчивости. Если в основу понимания культурной идентичности положить не бессознательные стереотипы, а опыт осмысления, организующий сознания определенным образом, то человек как субъект смыслообразования и, таким образом, субъект свободы вовсе не устраняется и не сводится к заданным заранее по сути, полунатуральным установкам. Вспомним, слово «менталитет» происходит от понятия «ум», а не от понятия «бессознательное». Человек осознанно рефлексирует и обретает смысл именно в форме мышления – а мышление есть иерархически организованная структура смыслообразования – это всегда конкретная структура упорядочения смыслообразующих элементов, которая сохраняется в формах опыта культуры – в языке, в ценностных ориентирах, наличие которых позволяет языку и мышлению функционировать как кодирующим инструментам опыта, в хрестоматийных текстах, которые задают устойчивые модели истолкования как смыслообразующей системы языка, так и иерархии ценностей. Наконец, та структура закладывается и воспроизводится в самом направлении творческого – переосмысляющего – поиска, в соответствии с которым вся система развивается. Психологи утверждают, что люди, воспринимающие экзотические религиозные учения, не свойственные родной культуре, или погружающиеся в экстравагантные психологические практики и на этой почве теряющие адекватность, наиболее трудно подлежат лечению, происходят очень глубокие психологические сбои: здесь действует фактор инородности воспринятых смыслообразующих текстов и практик, вступающих в незримый конфликт с установками и структурами менталитета. Сам образ мышления некоторым образом задан, традиционен и иногда почти неизменен. С. Домников например, подчеркивает сохранение крестьянского менталитета дохристианских верований в России98, они же выделяются в книге В. Кожинова «О русском национальном сознании»99. Г.Г.Беляев и Г.А.Торгашев показывают на материале древнеславянской мифологии, как русская духовность воссоединяла землю с небом в представлении о «мировом древе»100. Но этот образ мышления не бессознателен, как часто трактуют явления менталитета – как скрытый от осознания склад ума, а именно смыслообразующ, то есть представляет собой структуру организации сознания как смыслообразования. И этот образ типологически устойчив, причем устойчив, воспроизводим вне зависимости от непосредственного предания (от традиции в узком смысле). Он является основой культурной преемственности и культурно-личностной идентичности. Культура как заданная система выражения и понимания смысла не заслоняет здесь личности и ее смыслотворческих возможностей; она дает достаточно сложно сконструированное условие для осуществления этих возможностей - дает феноменально-смыслообразующую структуру мышления, определяющую и смысловую заостренность деятельности. Существует и ряд других факторов поддержания культурной идентичности и, следовательно, цивилизационной устойчивости – такие как традиционная религия, общественные ритуалы, наличие так называемых хрестоматийных текстов – не только письменных, но и устных носителей смысла, которые знают все и на которые все ссылаются при постановке и решении жизненно-смысловых задач, социальная идеология. Мы их не будем здесь рассматривать. Дело в том, что все они, в отличие от охарактеризованных ранее, в большей мере – хотя и каждая из них, конечно, в разной степени – «искусственны», заданы волевым напряжением общества. А это напряжение, как мы знаем на многих исторических примерах, а особенно на историческом примере России последних трех столетий слишком свободно и многообразно может менять свой вектор. И тогда данные факторы преображаются, напротив, в факторы преобразования культурного типа – в сознательные инструменты его цивилизационной трансформации. Старые хрестоматийные тексы, как мы видим, быстро забываются, религия, отвергаемая, преследуемая и заменяемая новым типом Домников С. Мать-земля и царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002 Кожинов В. О русском национальном сознании. М., 2002 100 Беляев Г.Г. и Торгашев Г.А. Духовные корни русского народа. М., 2002 98 99 79 духовности, и быстро теряет влияние, и так же быстро в масштабе исторического времени может его восстановить. Ну а идеология вообще сочиняется искусственно и намеренно и чаще всего зависит от политической воли, которая, понятно, так же изменчива, как и политический интерес. Для нас это, таким образом, не столько факторы устойчивости, сколько факторы, подлежащие трансформациям, которые надлежит рассмотреть при анализе процессов культурных модернизаций, цивилизационных трансформаций, межцивилизационых коммуникаций, имеющих существенный характер. Приоритет в изучении культурной идентичности надо отдать не контролируемым намеренно, не преобразуемым легко факторам – тем факторам, на которых действительно держится скрытое внутреннее «я» культуры. Процесс логической интеграции и гомогенизирующего согласования опыта культуры происходит и внеинституционально - в обыденном мышлении и коммуникации, при решении практических жизненных задач, которые одновременно выступают и «логическими» - смысловыми задачами сознания. Главное же, что такая интеграция и такое согласование осуществляются в рамках того типа рациональности, шире, того типа смыслообразования, который доминирует в той или иной культуре. Иногда его действительно можно сопоставить с институциализованным формами сознания, как это делает, например И.А. Ильин: «Философия в ее первоначальной, опытной стадии разлита в душах всего народа. Каждый человек, независимо от своего образования и личной одаренности становится участником национального философского и метафизического дела, поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия и самоотвержения, молится Богу добра, растит в себе или в других правосознание и политический смысл, или даже просто борется со своими, унижающими дух слабостями. /…/ В совокупном, всенародном духовном делании нет ни одного усилия, ни одного достижения, которое пропало бы даром: ибо всякое усовершенствование, всякое просветление в человеческой душевной ткани незаметно живет, и размножается, и передается во все стороны, никогда не исчезая бесследно. Здесь драгоценно каждое личное состояние: ибо все поступает в единую национальную сокровищницу духовного опыта. Поэтому можно сказать, что духовный расцвет народа есть расцвет его философии; и обратно: где растет и углубляется настоящая философия, там народ уже накопил прочный духовный опыт и продолжает духовно возрастать»101. Конечно, речь идет здесь в действительности не о философии как особой форме сознания, а об элементах рациональнофилософского типа, разлитых в повседневном опыте людей – составляющем этот специфический и кардинальный опыт смыслообразования, сопровождающего жизнь как предосознаваемый аттрактор всегда, в общем-то, открытого и незавершенного культурного события. Таким образом, можно сделать вывод: при очевидном многообразии детерминант состояния и динамики культуры ключевым фактором становится интеграция их в единую целостность. Американская исследовательница Р. Бенедикт в работе «Паттерны культуры» пишет: «Культура, как и индивид, представляет собой более или менее согласованный паттерн мышления и действия. В каждой культуре возникают характерные задачи, которые не обязательно свойственны другим типам общества. Подчиняя свою жизнь этим задачам, народ все более и более консолидирует свой опыт, и в соответствии с настоятельностью этих побуждений разнородные типы поведения обретают все более и более конгруэнтную форму». Аналогичные трактовки внутренней согласованности культур давались и в концепциях «национального характера»; в них делался упор на личность как интегрирующий фактор культуры, и нередко вся совокупность культурных проявлений рассматривалась как актуализация тех предрасположений и склонностей, которые заложены 101 Ильин И.А. Соч. в 2-х т. Т.2. Религиозная философия. М., 1994 с. 44-45 80 в типичной для того или иного общества структуре личности. К этому необходимо только добавить, что речь идет не столько о психологической, сколько о смысловой структуре, эпифеноменом которой выступает характер. При этом ряд исследователей сосредоточивают внимание на динамических процессах, посредством которых достигается состояние внутренней согласованности культурных элементов. Отмечались избирательность принятия культурой нового, процесс адаптации традиционных элементов культуры к заимствованиям, что имеет прямое отношение к логике протекания модернизационных процессов в поликультурном мире. Но динамика внутренних смысловых согласований при интеграции сфер, элементов и мотивов культуры имеет принципиальное значение и в эволюции культуры как идентичности: Подчеркивается, что интеграция культуры не происходит автоматически, что изменение в одних элементах культуры не вызывает немедленного приспособления к ним других ее элементов, и, более того, именно постоянно возникающая рассогласованность – один из важнейших факторов внутренней культурной динамики. Используя именно эти положения, мы попытаемся объяснить мотивы динамики отечественной культуры – не как череду пассивных заимствований с последующей «натурализацией» воспринятого, а как внутренне инициируемый процесс системно-смысловой интеграции разнонаправленных переосмысляющих усилий различных сфер культуры с ее стремлением к воспроизведению устойчивой иерархической модели. 10. Идентичность и традиция: концептуальные горизонты Неминуемо должен возникнуть вопрос: является ли поддержание культурной идентичности проявлением ее традиционности? И если это так, то еще ряд вопросов: Как тогда это может соотноситься с факторами модернизации, кросс-культурных влияний, глобализации? Как, наконец, рассматривать эти факторы, как объективные процессы, неминуемо тогда приводящие к редукции культурной идентичности, а при этом уже к ее трансформации или переориентации, или как элементы более сложных системных процессов, происходящих на основе самой культурно-смысловой идентичности и способных сложно интегрироваться с тенденциями ее собственного устойчивого существования? В связи с этим особое внимание должны привлечь сами такие базовые понятия, как культурная идентичность, преемственность и традиция. Интенсивные поиски, ведущиеся в общественной мысли незападных стран для выяснения реальной сути происходящих процессов и основ для самоопределения в современном мире вызвали во второй половине 70-х – начале 80-х гг. важные сдвиги, как в характере научных подходов, так и в самом содержании используемых понятий. В общих подходах все более заметное место, наряду с экономикоцентричными и политологическими, стали занимать социкультурные факторы, претендующие на равное, а подчас и преобладающее место по сравнению с остальными. В ходе возвышения культурных 81 факторов самоопределения была резко изменена и сама парадигма осмысления культуры. Содержание понятия «традиция» оказалось распределено между такими понятиями, как «самобытность», «идентичность», «специфика», «культурное наследие». Русский термин «самобытность» по мнению Б.С. Ерасова102, более полно отражает те оттенки, которые вкладываются в это понятие, чем его английский, французский или немецкий эквивалент «идентичность». Он указывает, что для выражения той же идеи, например, в 60-х гг. употреблялся еще менее адекватный термин «личность» (personality); при этом трудность для западноевропейской терминологии состояла в том, что термины идентичность» и «личность» были заимствованы из социальной психологии, где они успешно использовались для выражения внутренней определенности и самосознания личности или общности. Как мы уже говорили ранее, идентичность определяется как представление человека о своем Я, характеризующееся субъективным чувством своей индивидуальной самотождественности и целостности; отождествление человеком самого себя с теми или иными типологическими категориями (социальным статусом, полом, возрастом, ролью, образцом, нормой, группой, культурой и т.п.). В социальных науках различаются социальная идентичность (отождествление себя с социальной позицией, или статусом), культурная идентичность (отождествление себя с культурной традицией), этническая идентичность (отождествление себя с опр. этнической группой), групповая идентичность (отождествление себя с той или иной общностью, или группой). В период быстрых изменений в социокультурной системе кризис идентичности может принимать массовый характер, что может иметь и негативные, и позитивные последствия. Механизм идентичности является необходимым условием преемственности социальной структуры и культурной традиции. Многие современные авторы отдают предпочтение термину «идентификация», критикуя статичность термина «идентичность». Идентификация охватывает динамические, процессуальные аспекты формирования идентичности103. Порой понятие «самобытность» замещает собой понятие «традиции». Так французский исследователь Р. Тар пишет: «Самобытность – выражение единства индивида и коллектива, стремления к устойчивости, постоянству, интеграции и гармонизации»104. Самобытность культуры означает существенное и постоянное проявление тех компонентов культурного достояния данного общества, которые обеспечивают его самосохранение и идентичность при всех изменениях в нормативно ценностной и смысловой сферах105. Самобытность означает также способность поддержания присущих данному обществу специфических принципов социокультурной регуляции. Концептуальное оформление этой проблематики происходило лишь в 70-х гг., в ходе преодоления парадигмы «модернизация – традиционность». Еще в 70-е годы ЮНЕСКО было признано принципиальное значение принципа самобытности (идентичности) в культурном самоопределении общества и в международных отношениях. Как указывается, в документах ЮНЕСКО самобытность определяется как «жизненное ядро культуры, тот динамический принцип, через который общество, опираясь на свое прошлое, черпая силу в своих внутренних возможностях и осваивая внешние достижения, отвечающие его потребностям, осуществляет процесс постоянного развития». Таким образом, в понятии самобытности совмещается преемственность и способность к переменам. Ерасов Б.С. Концепция самобытности как методологическая предпосылка цивилизационной компаративистики./ Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998, с.280-285 103 Николаев В.Г. Идентичность./ Культурология ХХ в. Энциклопедия. СПб., 1998, т.2 104 цит по Ерасов Б.С. Концепция самобытности как методологическая предпосылка цивилизационной компаративистики./ Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998 с.282 105 Ерасов Б.С.. Самобытность. / Культурология. ХХ век. СПб, 1996, т.1 С. 188 102 82 Нередко в это понятие вкладывается либо самосознание общества или индивида, либо, напротив, дорефлексивный смысл бытия, что с трудом поддается аналитическому определению, необходимому для социальной и культурологической теории. В самобытности усматривается а) сущностная характеристика данного коллектива, б) связь его исторического и современного бытия, в) единство его сознания и деятельности. На всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике (Мехико, 1983) культурная самобытность была признана одной из важных проблем нашего времени и одним из движущих принципов истории. В самом этом понятии подчеркиваются такие аспекты, как самостоятельность общества и его специфика, преемственность, выявляющая связь его культуры с прошлым и в то же время ориентация на будущее, что должно обеспечить, как сказано в материалах конференции, «соединение человека и народа с ценностями своей цивилизации». Понятие «самобытность» рассматривается здесь как «жизненное ядро культуры, тот динамический принцип, через который общество, опираясь на свое прошлое, черпая силы в своих внутренних возможностях и осваивая внешние достижения, отвечающие его потребностям, осуществляет постоянный процесс самостоятельного развития»106. В этих тезисах звучит признание абсолютной ценности самобытности и утверждение принципиальных идей поликультурного мира, которые, по сути, резко противоречат культурно-глобалистским тенденциям и взглядам. Но в этой абсолютизации факторов самобытности и преемственности и самобытности есть и уязвимые стороны, обрекающие эти идеи на относительную беззащитность в реальной ситуации взаимодействия культур и модернизации, присущей современному глобализирующемуся миру: В них не отражены критерии соотносимости и соизмеримости самобытности различных культур друг с другом, которые могли бы указать пути сохранения их самоидентичности при интенсивной культурной диффузии. Ориентация на самобытность в таком упрощенно идеализированном виде скорее ведет к логике изоляционизма, совершенно бесперспективной в современном интегрирующемся мире. На наш взгляд, важно не только утверждение ценности самобытности и преемственности как конструктивных факторов устойчивости в процессе культурного развития (и даже как движущих сил такого развития), но и раскрытие этой их конструктивной роли, которую можно определить только в результате систематизации всех основных культурно-цивилизационных моделей, претендующих на собственную самобытность – в результате выявления их взаимодополнительного (взаимообогащающего) характера, который мог бы позитивно сказаться в процессе развития тех безудержных интеграционных тенденций, которые могут привести как к конструктивному диалогу культур, так и к таким явлениям как, с одной стороны, упрощающая унификация (культурная ассимиляция), а с другой стороны, к бесперспективным и разрушительным межэтническим и даже межцивилизационным конфликтам. Подобного рода слабость абсолютизирующих тезисов самобытности замечается и современным исследовательским сообществом. Б.С.Ерасов указывает, что «столь желанное для исследователей и идеологов совмещение принципов единства, преемственности и динамичности приобретало во многом умозрительное содержание и не давало перехода к структурному пониманию соотношения преемственности и современности»107. Другая проблема, возникающая в связи с утверждение тезиса самобытности, связана с установлением различий в уровнях самобытности, которая без этого может приобрести «безразмерный» характер и использоваться для самых разных вариантов «культурного самоопределения». Действительно, важно выявить принципиальные основания культурноцивилизационной самобытности из всего многообразия специфических черт культуры, - 106 Conference mondiale sur les politiques culturelles: Problemes et perspectives. Mexico, 1983. P. 7 Ерасов Б.С. Концепция самобытности как методологическая предпосылка цивилизационной компаративистики./ Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998, с.282-283 107 83 основания, которые позволяли бы квалифицировать культуру как определенный тип - в его принципиальной несводимости к другим фундаментальным основаниям. В связи с этим требует анализа и термин «специфика». Выявление культурной специфики – необходимая процедура при описании норм, обычаев, ценностей и социальных отношений. Чаще всего этот термин применяется к явлениям своеобразия на этническом уровне и даже носит этноцентрический характер. Каждое общество специфично, но важно четко определить, в чем состоит его самобытность (идентичность) как конструктивноустойчивый фактор развития, могущий действительно претендовать на качество основания преемственности в процессе такого развития в будущем. В современных культурологическом знании традиции понимаются как культурные образцы, институты, нормы, ценности, идеи, обычаи, обряды, стили и т.д. выступающие в качестве социального и культурного наследия, передающегося от поколения к поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени108. При этом отмечается, что традиции присутствуют во всех социальных и культурных системах как фактор устойчивости их развития и существования. Наряду с фактором культурной новации, выражающим творчески-преобразовательный характер изменений в культуре, традиция – ключевой фактор, образующий механизмы культурной динамики, - обеспечивающий преемственность форм и образцов, а так же идентичность, так или иначе, исторически меняющегося культурного целого. Понятие традиции, таким образом, тесно связано с понятиями самобытности, идентичности, преемственности. Как мы постараемся показать, выступая в качестве одной из главных категорий культурного развития, понятие традиции имеет целый ряд форм исторической трансляции, которые не ограничиваются прямой передачей от одного поколения к другому. Среди целого ряда возможных переводов латинского слова tradition – передача, предание, повествование (подчеркивающее устную форму передачи). Очевидно, что этим этимологическим смыслом не ограничивается значение этого понятия. Под традицией подразумевается также норма, установившийся порядок, передаваемый и перенимаемый образец. Истории культуры известен и феномен восстановления традиции, предполагающий более или менее длительный период ее забвения или упадка. М. Хайдеггер как-то заметил, что всякая традиция существует благодаря тому, что она постоянно вновь восстанавливается. В воспроизведении традиционных форм всегда присутствует скрытая дискретность. Проявлением традиции можно считать всякий относительно устойчивый образец и порядок, которому стремится подражать общество – образец и порядок как непосредственно воспринятый, так и намеренно воссозданный, восстановленный. Как представляется, для культур, имеющих сложный генезис и множественность истоков, взаимодействующих между собой в качестве начал традиционных форм, должна быть характерна прерывная динамика воспроизведения традиции – «раскачивающаяся», «маятниковая» структура отхода от одних традиций и предпочтения других с последующим воссозданием («возрождением») первых. Особое значение, как отмечается, фактор традиции играет в так называемых традиционных типах культур. Здесь имеются в виду, как правило, культуры стран Востока, в противовес западноевропейской культуре Нового и Новейшего времени, понимаемой как динамичный тип культуры. При этом отмечается, что и в индустриальном обществе тоже важную роль конкретизации культурного развития играет традиция, а в постиндустриальном обществе современного типа большую роль играет обращение к культурным традициям в их множественности и фрагментарности. Культура Запада, если разобраться внимательно, тоже имеет традиционные основы своего развития – это, во-первых, античные образцы, понимаемые в качестве классики, и, во-вторых, христианство, которое имеет иные – внеевропейские – истоки. В сложноорганизованном, внутренне дифференцированном обществе возможна множественность и противоречивость традиционных культурных форм 108 Гофмин А.Б. Традиции. / Культурология ХХ век. Энциклопедия, СПб, 1998, и др. 84 и их интерпретаций. Динамизм западной культуры как можно объяснить тем, что импульсы, исходящие от этих традиционных основ борются и конкурируют между собой, определяя «маятниковые» векторы развития: эпоха Возрождения (античных образцов) и следующая за ней эпоха классицизма сменяется периодом популярности романтических идей, вновь обращающихся к религии, мистике и образам Средневековья. Некоторые формы культуры в особенности тяготеют к традиционным образцам; прежде всего это религия с ее незыблемыми канонами и догматами и с тем значением, которое играет в существовании религии предание; а так же фольклор – народное художественное творчество, формы которого так же основываются на устной передаче из поколения в поколении, на редукции авторского и, соответственно, новаторского начал. В воспроизведении традиционных форм возможны два варианта: передача образцов из поколения в поколение в почти неизменной форме и восстановление (возрождение) традиционных форм как реакция на их длительное забвение. Традиционные формы и образцы могут заимствоваться, то есть воссоздаваться на иной культурной почве. Впервые заимствуемые элементы культурного наследия, выступающие вначале как новации, затем нередко становятся традиционной частью культуры, идентифицируются с нею. В развитии культуры происходит формирование новых традиций, при котором нечто новое укореняется в качестве образца органично входит в смысловое целое культуры, обогащая ее. Наличие традиций – основа самобытности, идентичности, преемственности и устойчивости в развитии культуры. Каждое поколение, получая в свое распоряжение традиционное культурное наследие, не просто усваивает его в готовом виде; оно всегда осуществляет собственную интерпретацию и выбор, идентифицирует себя с определенной культурной традицией. В различных исследованиях понятие «традиция» обозначает многие различные аспекты социальной структуры, поведения индивидов, верований, обычаев, культурных представлений. Произведенный в исследовательской литературе анализ позволяет отметить, что это понятие также может обозначать и способы легитимации социокультурного порядка, и общие способы восприятия социальной и культурной реальности, и принципы устройства социальных и политических систем. В самом обобщенном смысле понятие «традиция» выражает фактор сфомированности и устойчивости социального и культурного опыта. При использовании этого понятия, как правило, подчеркивается устойчивость и преемственность социальной и культурной жизни, хотя вместе с тем выявляются и принципы динамики и изменений. В то же время часто использование понятия традиции выражает некую архаичность исходных организационных механизмов, обычаев и повседневных привычек – особенно в связи с концепциями «традиционного общества». До недавнего времени в социальных науках была широко принята дихотомия традиционного и современного; традиционное общество, как правило, описывалось как статичное (с малой степенью дифференциации и специализации), а современное общество ассоциировалось с высоким уровнем дифференциации, урбанизации и технологической оснащенности и характеризовалось высокой динамикой развития, ориентацией на изменения и инновации. Но, как отмечается, это противопоставление традиционного и современного общества – традиционного и современного начал в культуре было не корректным и приводило к серьезным искажениям109. Такое дихотомическое понимание вело к распространенной мысли о том, что традиция означает исключительное препятствие к развитию, а развитие и модернизация должны быть связаны с разрушением всех традиционных элементов. Представлялось, что чем меньше влияние традиций, тем общество современнее, а значит, тем в большей степени оно в состоянии интенсивно развиваться. Между тем, вместе с традиционностью как таковой разрушению подвергался принцип устойчивости (который можно мыслить не только в терминах неизменности, но и терминах синергетики – как аттрактивный принцип порядка, действующий среди хаоса изменений). 109 Ссылка по: Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998 с. 239 85 Ш. Эйзенштадт в связи с этим пишет: «Очень часто получается так, что чем сильнее какойлибо компонент традиционной регуляции, будь то семья, община, а иногда и политический институт, подвергается разрушению, тем больше степень дезорганизации, преступности и хаоса, а не утверждения современного жизнеспособного порядка. В-вторых, можно привести много примеров вполне успешной модернизации, предпринимаемой под традиционной культурно-смысловой оболочкой и даже традиционными элитами…. В третьих, как признается, во многих случаях, когда первоначальный толчок к модернизации исходит от антитрадиционных элит, очень скоро они пытаются, хотя бы и нерешительно, возродить более традиционные аспекты и образы данного общества»110. Этот последний аспект легче всего подтвердить на примере нашей отечественной истории: аристократическая элита ХVIII-ХIХ веков, проводившая курс модернизации по европейскому западному образцу, была сформирована как особое «высшее общетсво», по своему образованию и образу жизни противостоящее национальной традиции. Но эта элита столкнулась с неизбежностью поддержания национального культурного образца в условиях агрессивного вызова со стороны Запада, в условиях культурного кризиса, в котором оказалась отечественная интеллигенция и сам царь, которые, говоря по-французски, воспитываясь по-французски и любя французские идеи, должны были найти ответ цивилизационной экспансии, исходящей как раз из Франции, наконец, откровенно проявившейся и готовой разрушить отечественную цивилизацию, расчленив и ассимилировав ее. И этот ответ был найден в устойчивых образцах национального характера, социального менталитета и традиционных идеях нравственности и религиозности, которые к тому времени еще сохранил народ. Подобным образом, большевики 20-30-х гг. ХХ века представляли собой революционную элиту агрессивно антитрадиционного модернистского типа. Но задачи цивилизационного строительства в России заставили их с конца 30-х гг. постепенно обратиться к устойчивым ценностям уникальной национальной культуры, поскольку только на основе этой уникальности можно было достичь той меры социальной стабильности, при которой вообще возможна конструктивность человеческой деятельности. К тому же здесь тоже имел место силовой вызов со стороны западной цивилизации, понимавшей пути социальной модернизации иначе – на основе своей культурной идентичности, уходящей корнями в политически экспансионисткие идеи Рима. Этому вызову можно было противопоставить только собственную культурную идентичность как основание цивилизационной устойчивости. Трансформация коммунистических идей как радикально культурно-революционных и всемирных в национальную идеологию советского народа ознаменовала значительный период с конца 30-х до середины 60-х гг. В конце 30-х годов в исключительно политически ангажированных литературе и кинематографе были по-новому героизованы образы русских князей, царей и царских генералов, которые еще совсем недавно толковались как реакционный анахронизм. В 80-е годы было изменено представление о роли церкви в русской истории и культуре. Проявился интерес к фольклорной традиции, а из безусловно ценного концепта интернационализма был вычленен негативно оценивавшийся феномен космополитизма. Традиционные формы и образцы могут заимствоваться, то есть воссоздаваться на иной культурной почве. Впервые заимствуемые элементы культурного наследия, выступающие вначале как новации, затем нередко становятся традиционной частью культуры, идентифицируются с нею. А еще чаще встраиваются в уже сложившуюся систему координат, находят в ней свое, зачастую скромное место, не будучи способными заместить собой вершинные позиции в ценностной иерархии сложившегося – традиционного или восстанавливаемого типа. Примером первого варианта судьбы заимствований в отечественной истории может стать заимствование христианства, а вместе с ним и других аспектов цивилизации из Византии. Примером судьбы заимствований второго типа 110 Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998 86 становятся большинство реформ, происходивших в России под влиянием Запада в 18-20 вв. Нельзя сказать, что они прошли бесследно; но они не изменили культурного типа цивилизации, основные качества самобытности которой восстанавливались в российском обществе через значительный промежуток времени после принимаемых реформ. Традиционность, несущая в себе принципы устойчивости и преемственности, действительно выступает здесь как синергетический аттрактор, позволяющий: 1) аккумулировать динамику изменений вокруг самотождественного центра культурной идентичности, не допуская, тем самым, превратить процесс в хаотический и в итоге деструктивный; 2) поддерживать смысловую доступность и ценностную легитимность возможных преобразования, находя аргументы укоренения их в основаниях менталитета и культурного авторитета – давая основания для социально-культурной коммуникации; 3) обосновывать типологическую уникальность цивилизации в процессах ее связей и сопоставления с другими цивилизациями, без чего ее существование перестает мыслиться как эволюционно необходимое, теряется ощущение ее самостоятельного центра в поликультурном мире; 4) давать возможность каждому члену сообщества самоидентифицироваться в качестве его члена – на основе причастности к культуре как целостной смысловой системе. Современная исследовательская позиция формируется на основе признания того, что насколько бы велик ни был контраст между «традиционным» и «современным» обществами, успешная модернизация может быть проведена при опоре на определенные элементы традиционной регуляции, отвечающие ее направленности. Признается, что устойчивое функционирование любого современного общества в большой степени зависит от наличия соответствующих традиционных предпосылок, от их использования и включения их в современную систему. Настоятельно указывается на необходимость находить различия между теми изменениями, которые содействуют дальнейшему устойчивому развитию общества, и теми, которые подрывают такую способность Американский исследователь данного вопроса Э. Шилз пишет, что термины, «традиция» и «традиционный» относятся к одним из самых употребительных в культурологи и социологии. Они используются для описания и объяснения повторяемости, в почти идентичной форме, структур поведения и характера верований на протяжении нескольких поколений или же в течение длительного времени в рамках одного общества или одной культуры. Чаще всего эти понятия интерпретируются как «представления, сохраняющие преемственность с прошлым», как «консенсус, поддерживаемый во времени». Справедливо замечается в этой связи, что преемственность подразумевает не только передачу, но и восприятие наследия. Они же могут быть обусловлены различными мотивами и, более того, иметь различную временную динамику. Как правило, в связи с этим подчеркивается наличие отчетливой тенденции мотивировать восприятие легитимностью авторитета, принимаемого как передатчик, связью этой легитимности с устойчиво принятыми авторитетами и нормами, которые при этом поддерживаются, утверждаются или восстанавливаются. Причем логика восстановления традиции, если внимательно вглядеться в историю культур и цивилизаций, и связанная с ней дискретная динамика восприятия традиционных структур не менее значительно, чем привычно понимаемый вариант непосредственной передачи традиции в почти неизменном виде из поколения в поколение. Для истории многих крупных цивилизаций и культур она играет фактически первостепенное значение. Таковы и российская и даже западноевропейская цивилизации (которая при упрощенной трактовке феномена зачастую считается цивилизацией «нетрадиционного» – изменчиво-динамического типа). Э. Шилз по-своему аргументирует эту же идею: «Традиционные представления и действия, пишет он, являются не только делом пассивного принятия уже установленного. Существует и активный поиск традиции как формы связи с прошлым, если установленные представления оказываются неприемлемыми. Подчас «прошлое создается» для легитимации представлений и действия теми, кто в настоящем не 87 находит такой основы. Обретаемая традиция объявляется «настоящей», восстанавливается «истинны» источник вместо «искаженного» и «подлинный» ряд передачи взамен «извращенного». Происходит «возрождение» реабилитируемого прошлого, большей частью приобретающего сходство с золотым веком»111. То есть традиция действует не только как непосредственная непрерывность культурного наследования, но и как «дискретность» воссоздания культурных образцов, характеризующего устойчивый характер развития цивилизации как культурного типа. Современное научное сообщество постепенно становится все более солидарным в том, что традиционные культурные общности, их наличие в истории и их особенности - это основание формирования культурного сознания современного общества, базовая структурная и ценностно-содержательная основа для возможной самоидентификации культурных субъектов – индивидов и общин (коллективов) – в сложном развитии социокультурных процессов современности. С другой стороны, одна из знаменательных тенденций как раз современного культурного развития это стремление воссоздать некоторые традиционные культурные типы сознания, модели миропонимания и связанные с ними выразительные, знаковые формы в качестве основания для культурной идентификации. 11. Культурная традиция и современность Современное состояние культуры, которое чаще всего характеризуется как состояние постмодерна характеризуется целым рядом противоречий. Постмодерн плюралистичен и эклектичен. Его символом выступает феномен игры – случайного, необязательного (несерьезного), условного (ироничного) и не вполне реального (виртуального) события. Феномен игры противостоит уравновешенной логике устойчивого бытия классической культуры, равно как и энергичной воле романтизма и модернизма, выражающей творческое деяние, преобразование. Одно из противоречий же состоит в том, что этот, претендующий на всеохватывающее значение феномен игры отнюдь не исчерпывает пространства современной культуры. Не только в том отношении, что помимо этого типично постмодернистского феномена, наполняющего виртуальное общение через интернет, шоу и развлечения, тиражируемые масс-медиа, авангардистское искусство и литературу, продолжают существовать и развиваться традиционные по своему историческому значению и классические по форме пласты культурной жизни – институциализированная наука, классическое образование, традиционная религия, классическое искусство. Сама постмодернистская игра как свободное смыслообразующее событие допускает в свои объемлющие рамки традиционные формы деятельности, мышления, осмысления мира и человеческой жизни – их принятие, воспроизведение, восстановление. Восспрроизводимая (хотя в таком воспроизведенном виде и не прочная) традиция – это одна из отмечаемых стратегий постмодернистского дискурса. Традиция присутствует внутри постмодернистской Цит по: Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М., 1998, с.243244 111 88 игры, причем не в качестве единственной заданной структуры, а как целый спектр традиционных моделей, представленных человеку и обществу в качестве своего рода вариантов для выбора и культурной самоидентификации. Эта ситуация, охарактеризованная в аспекте культурно-смысловых возможностей, дополняется таким социальным явлением современного мира, как формирование полиэтнического, поликультурного сообщества. С одной стороны это явление связано с проблемой взаимодействия этносов – носителей различных культурных моделей, традиций и ментальностей, проблема их сосуществования в едином социальном пространстве и проблема налаживания толерантного и конструктивного диалога между ними. С другой же стороны, это явление формирования мультикультурной среды общения и формирования сознания человека. Этнические традиции и культурные модели могут передаваться при этом отнюдь не по линии генетической преемственности поколений. Они выступают предметом информационного обмена и взаимовлияния между различными социальными группами. Чрезвычайно важную роль в этом процессе перемешивающихся в социальном пространстве традиционных и контртрадиционных форм начинает играть индивидуальная и групповая культурно-смысловая самоидентификация. Сегодня для большинства развитых стран мира характерна культурная фрагментарность; практически трудно найти культурно однородную среду социальной коммуникации. С другой стороны, человечеству в целом присуще, с одной стороны, культурное разнообразие, а с другой стороны, цивилизационное единство. XX век внес фундаментальные коррективы в цивилизационные процессы тем, что социальный мир впервые в своей истории стал целостным, единым, взаимозависимым. Можно говорить о реальном процессе формировании, начиная примерно с середины ХХ века, единой мировой цивилизации, которая потребовала от различных типов цивилизаций, как и от входящих в них всевозможных (многочисленных) культур соблюдения единых для всего человечества норм, правил, запретов, предписаний и т. п. Хотя глобализация – не тотальный и, возможно, и не беспредельный процесс. Теперь социокультурное развитие уже вышло на тот уровень, когда, все усиливающаяся глобализация вступила в противоречие с нормами и ценностями, сложившимися в существующих ныне типах цивилизаций, возникших и развивавшихся на основе локальных культур определенного относительно устойчивого типа. Глобализация предстает как усиление взаимосвязей между людьми разных стран, этносов и культур. Это объективный процесс. Но ведет ли он к неизбежному формированию единого человечества, единой унифицированной культуры замлян? С одной стороны этот процесс положителен: в сфере производства, экономики, техники, транспорта и информационных коммуникаций, политических и политко-правовых взаимодейтсвий соединение разрозненных усилий способствует росту и развитию, но те сферы жизни, где ценны как раз различия, где унификация приводит к усреднению, к стиранию высокой структуры оригинального – деградируют. В глобально целостной системе этносы не обогащают друг друга, а взаимопоглощаются, культуры не получают импульса для самораскрытия, а унифицируются. Происходит унификация в сфере производства и технологий (при том, что развивается международное разделение труда), в сфере потребления и быта, поведения и образа жизни людей. Зачастую считается, что своеобразие и самобытность народов и их культуры теперь уходит в прошлое, все более предстает как исключительный феномен традиции. Но какую роль играет традиция в реальном социально-культурном процессе? Каков реальный масштаб и содержание этого понятия в приложении к переживаемой человечеством современности? Каковы ее исторические перспективы? Каковы закономерности существования и воспроизведения традиционных явлений культуры в современном мире? На эти вопросы сегодня ответить не просто. Точки зрения могут быть крайними. Научное сообщество испытывает недостаток оснований для анализа этого феномена. Именно сами основания понимания феномена традиционности в современном мире требуют внимательного изучения, 89 анализа и прояснения. При этом само понятие традиции в приложении к современной культурной ситуации (в отличие от понятия традиции в обществе традиционного типа) требует специального рассмотрения и более широкого понимания. Тем не менее очевидно, что, хотя мы не живем сегодня в традиционном обществе, культурные традиции присутствуют и активно действуют, представляя собой существенное основание для формирования современной культуры и самосознания современной цивилизации. Однако характер выделенных нами аспектов наличия традиции в современном обществе существенно иной, нежели качество традиционности, характерное для явлений культурно преемственности прошлого. Говоря о современной ситуации в культуре, речь надо вести в большей степени не о непосредственной передаче традиции, а о ее воссоздании – реконструкции, восприятии и интерпретации – не о непрерывном, а о своего рода дискретном типе трансляции культурной традиции. Фактор традиционности культуры подразумевает такой способ воспроизведения культурных форм, где преемственность доминирует над новацией, сохранение преобладает над преобразованием, где в основе культурной коммуникации поколений лежат устойчивые структуры и образцы. В чем же жизненная сила культурной традиции, которая заставляет употреблять это понятие для характеристики современной ситуации? Отнюдь не только в феномене памяти – феномене трансляции образцов прошлого. Это одновременно и фактор устойчивой самоидентификации в открытом, свободном пространстве настоящего, и организующий смысловой залог программируемого будущего. Чтобы применять понятие культурной традиции к явлениям современной культуры нельзя ограничивать его понимание выделением совокупности фрагментов, отдельных традиционных явлений и выразительных форм (стилевых ассоциаций). Традиция в самом общем и в самом существенном значении – это трансляция идентичного культурного типа, обеспечивающая преемственность в развитии культуры. Традиция в широком смысле этого понятия может воспроизводиться или восстанавливаться, в том числе в современных условиях – и при этом выступать как существенный смысловой противовес массовой культуре, несущей на себе печать деградации идентичности, нивелирования культурного типа. Реальный пример из современной российской жизни – воссоздание и, хотя и медленное, но неуклонное повышение влияния церкви. В таком случае это понятие традиции выражает глубинную органическую смысловую целостность, проявляющуюся в том числе в системно связанных стереотипных (и институциализированно-канонических) формах, обрядах, привычках и обычаях. Традиция в современных культурных процессах проявляется, прежде всего, как системно-организующий носитель культурно-смыслового типа. Мы уже отмечали, что само понятие традиции может выступать не только в аспекте передачи мемориально наследуемых форм культуры, но и в боле широком значении – как воспроизведение культурно-смыслового типа на основе поддержания архетипического образца (обращения к истокам), на основе принципиальной преемственности в существовании культуры как смысловой системы. Важно выделить понятие культурносмысловой традиционности, поддерживающей культурные основания цивилизации на основе исторической преемственности. Но это понятие не надо отождествлять с понятием культурно-смыслового типа вообще. Традиция – это форма преемственности. Это форма, посредством которой типичные ценностно-смысловые структуры могут воспроизводиться в истории культуры. Но это все же не единственная форма такого воспроизведения: вопервых, мы видели, что культурно-смысловые типы могут появляться, зарождаться на основе разрыва с традицией или существенной – как раз смысловой – ее модификации (как например, зарождение христианской культуры); во-вторых, они порой могут и воссоздаваться в совершенно новых, не связанных непосредственно с возможными прототипами, исторических условиях – культурно-смысловых типов, в принципе, меньше, чем исторически существовавших цивилизаций, в жизни которых они воплощаются. При этом традиционность как таковая, выражая преемственность в системной организации 90 различных сторон культуры, означает наличие особое качества устойчивости культурносмыслового типа. Процессы культурной эволюции, межэтнической и межкультурной коммуникации демонстрируют, как правило, невозможность сообщества отказаться от некоторого базового каркаса, стержня культуры при том, что активно заимствуются и ассимилируются ее периферийные элементы. Представляется, что эта постоянная, неизменная составляющая культуры как целостной системы как раз и составляет основу исторически сохраняемой культурной традиции. Эта неизменная основа поддерживается или восстанавливается, будучи выраженной) через традиционные формы. Традиция в этом плане выступает как оформленное выражение смыслообразующего стержня культуры: это постоянно возобновляющаяся, восстанавливающаяся часть культурного целого, относительно которой центрируется смысловая органичность культуры (культурного типа). Предложенное здесь понимание традиционности как воспроизводимой и преемственной устойчивости культурного типа применима не только в качестве характеристики явлений цивилизационного масштаба, но и к традиционным основаниям индивидуальной и групповой культурной самоидентификации, происходящей в плюралистическом мультикультурном обществе, формирование которого знаменует современный этап развития цивилизаций и межкультурных коммуникаций. Типологический анализ исторического многообразия культур позволяет констатировать, что практически все цивилизации поддерживают свою идентичность на основе действия фактора культурной традиции. Причем этот фактор проявляет себя как раз не только статично, но и динамично, более того, часто является истоком и внутренней культурной динамики – того напряженного – иногда творчески конструктиного, а иногда и разрушительного, диалога конкурирующих моделей традиционности. Так западная цивилизация, о которой зачастую говорят как о культуре нетрадиционного, динамичного типа, действительно выглядит таковой в сравнении с цивилизациями Востока. Но это не значит, что Западная цивилизация не имеет своей традиции. Традиция здесь имеет место, хотя она и не однородна: по сути это две основных конкурирующих традиций цивилизационного масштаба. Во-первых, эта традиция представлена классикой, основанной на античном наследии. Обращает на себя внимание постоянное внимание к античным образцам и прототипам в искусстве, политической культуре и т.п. Практически во все эпохи культурной эволюции Европы распространены повторения и аналогии, восходящие к классической античности. Она выступает своего рода знаком авторитета, на котором фокусируется потребность в обосновывающих параллелях. Во-вторых, конечно, это христианство – традиция, с которой связаны базовые нравственные, и даже бытовые установки, действующие сквозь столетия. Возможной представляется версия, что сложная, динамичная и даже конфликтная судьба культуры Запада не в том, что она не традиционна, а как раз в том, что у него два разных, более того противостоящих, дискутирующих, полемизирующих, а порой и обостренно конфликтующих традиционных истока. Западная культура в своей сложной судьбе динамична в немалой степени потому, что в ее основе – диалог и спор типологически различных традиций. В этом и особая продуктивность западной цивилизации, поскольку культурная продуктивность основывается на эффектных пересечениях и синтезах. В этом и ее исторический драматизм, поскольку конкурирующие традиции представляют собой действительно разные культурные типы, в принципиальных смыслообразующих позициях своих противоречащие друг другу. Если говорить словами американского политолога С. Хантингтона, то вся европейская история предстает как история «разорванной цивилизации». Хотя это и история постепенного преодоления двойственности традиции – отчасти путем синтеза и примирения тезисов, а отчасти (по большей части), в суммарном итоге многоактных взаимодействий – путем вытеснения христианской мистически-смысловой традиции с горизонта западноевропейского смыслового мира и опосредованного восстановления (renaissance) рационалистически-античного варианта культурного типа. При этом вытесненным оказался 91 и тот плодотворный синтез, которым ознаменован взлет европейской цивилизации 16-19-х вв. - синтез рационализма и естественности, идущих от античности, и богочеловечности, переданной человеку, оказавшемся «трансцендентальным субъектом» нового искусственного – миротворения. Антропология же ХХ в., идущая от Ф. Ницше и З. Фрейда и приведшая к постструктуралистскому «устранению» человека (М. Фуко) – это антропология человека естественного, переставшего выглядеть аутентичным субъектом; это возвращение от логики человека-творца к логике человека – играющей и потребляющей машине естественных, а точнее, спонтанных, желаний. То есть это своего рода возвращение к античной по своему смысловому типу логике хаоса-космоса (ср. «мерцание» смысла сквозь нонсенс в постмодернистском дискурсе) и к пониманию человека как части и проекции этой логики. Заметить традиционный характер западной цивилизации для нас сложно, поскольку мы сами во многом находимся уже «внутри» ее сложного диалогического процесса, поскольку не имеем достаточной дистанции, чтобы опознать архитектонику традиции, лежащей в основе ее сложного склада. Между тем, внимательная исследовательская позиции подсказывает именно эту версию мотивов развития (Ж. Эллюль). Кроме того, действительно привлекает внимание ослабление ориентации на традицию как преемственность, характерное прежде всего для цивилизации Запада, опирающейся на творчески-модернизационное понимание человеческой активности. Идея Просвещения мыслится как идея освобождения от традиции; тем более, ярким проявлением этой идеи является модернизм, декларирующий полный разрыв с традицией как таковой. Но не надо при этом забывать, что Просвещение представляет собой конкретный культросозидающий проект. Это проект развертывания сил относительно новой гуманистической цивилизации, проект реализации рационалистически сконструированной «утопии», возникшей в сознании человека 16 столетия - в развитие идей возрождения по-новому понятой античной традиции. Эта обновленная традиция связана с воссозданием естественного человека, но человека, господствующего, имеющего власть над природой – с воссозданием человека - бога. При этом вполне убедительной выглядит версия, что эта идея представляет собой отнюдь не абсолютную новацию, а, скорее, оригинальный синтез на основе имевшихся традиционных культурно-смысловых оснований: христианское понимание человека, приобщенного божеству и обретающего (восстанавливающего) богоподобие соединяется с идеей естественности мира, в котором человек занимает, таким образом, место центрального творящего (преобразующего, переосмысляющего, наводящего свой порядок) субъекта. И тем не менее, на основе этого «синтеза» рождается новый образ субъектной самоидентификации (самоопределения), новый образ смыслообразования, новый образ культуры и цивилизации. По сути, рождается новое основание традиции, хотя и имеющая опосредованную связь с античными прообразами, равно как и с христианскими предпосылками. Поэтому, с одной стороны, гуманистическая цивилизация нового времени периодически ищет опорных параллелей в античности, при этом постепенно удаляясь от своих христианских истоков. Возможно, этот-то процесс напряженной борьбы предпосылок и прообразов и реализуется как особая культурная динамика. Но главная причина «нетрадиционности» цивилизации - идея человека-творца, свободного и независимого в своих культуросозидающих возможностях. И поэтому, с другой стороны, можно говорить о новой формирующейся традиции – традиции новейшего гуманизма, либерализма, индивидуализма, правового общества, то есть тех ценностей, которые воспринимаются как аксиомы современного цивилизационного мировоззрения и которые преподаются как безусловные (аксиоматические, архетипические, несомненноестественные) основания цивилизционного бытия. Постмодерн как эпоха отказа от Проекта модернизма, даже отказа от образа человекатворца, по-своему, больше играя и иронизируя, возвращает традиции, обращаясь, правда не к какой-то из них, безусловно веря в нее, а ко всем вперемешку, увлеченно и легко перебирая их – насыщая свой мир мозаикой виртуальных образцов. Это отчасти позволяет 92 увидеть в антитезах - традиционное – индустриальное (моденистское) постиндустриальное (постмодерное)- момент возвращения. Постмодерн предстает как отказ от стратегии радикального обновления, эксперимента и разрыва с традицией. Но является ли в связи с этим идея постмодерна идеей возвращения к традиции? В полном и буквальном смысле возвращение к традиции как к незыблемой модели исторической преемственности практически невозможно. Но здесь надо исходить из того, что всякое воспроизведение традиции есть в той или иной степени уже ее восстановление. Для времени после модерна именно такая тенденция воссоздания традиций – при чем, конечно, во множественном числе, в соответствии с плюрализмом современной культурной ситуации – как раз очень характерна. Это – воссоздание, как правило, уже через значительную историческую и культурно-смысловую дистанцию, и поэтому оно носит явственные черты вновь создаваемой традиции – с опорой на исторически реминисценции. Во вновь создаваемой традиции, таким образом, может проступать элемент стилизации, приобретающий характер поверхностно-имитирующих форм. Но наряду с этом имеет место все же и интерес к традиции как форме исторически и культурно фундированного бытия, как устойчивой смыслообразующей формы человеческого существования. Следование той или иной традиции лежит в основе многих современных субкультур. Традиция как форма смыслообразования и личностной идентификации, ориентированной на авторитетную легитимацию и образцовые модели, вступает в серьезную конкуренцию (и в сложное взаимодействие) с либеральной парадигмой жизненных новаций. И, разумеется, укреплению и построению традиции как формы смыслообразования содействует общение к традиции исторически укорененной, хотя и передаваемой, как правило, в некотором новом, восстановленном, реконструированном истолковании. Спектр присутствия традиционно ориентированных форм организации культурного бытия современного человека довольно широк - от уже охарактеризованого поверхностностилевого имитирования до попытки воссоздать традицию в ее первоначальном виде, а точнее, в ее предельной инаковости модернисткой цивилизации. Такова столь характерная для многих традиционалистских направлений тенденция фундаментализма. Фундаментализм проявляет себя не только в качестве религиозного и мировоззренческого, яркие примеры которого дают протестантский фундаментализм в США, оспаривающий мировоззренческие позиции у современной науки, исламский фундаментализм в таком виде, как вахаббизм; не в столь навязчивой форме имеет место и православный религиозный фундаментализм. Одно из важных проявлений культурного фундаментализма – интерес к первичной, «супераутентичной» художественной традиции, коренящейся как в фольклоре, так и в религиозном искусстве. Для этой тенденции характерен поиск изначальных символических, смыслонесущих форм в их выразительном своеобразии, мотив «очищения» образца от исторических стилевых напластований, выявление «чистой» формы традиционности, опять же, в ее принципиальном отличии от форм культуры просвещения и модернизма. Ярким примером могут выступить обращение к истокам в русском церковном искусстве – музыке, иконописи, обрядности и др. Столь же серьезный пример и неоязычество. Восстановление традиции в той или иной степени связно сегодня с поиском адекватных художественно-выразительных форм – в развитии искусства (современном художественном процессе). Эта же тенденция наблюдается в публично-обрядовой области (праздники). В целом - в структурировании выразительного пространства и времени человеческой жизни, поскольку выразительность культурно-смыслового космоса структурирована как логика выражения и понимания смысла, а символика культурносмыслового типа предстает здесь как модель культурной (само)идентификации. В связи с этим особая актуальная проблема для многих культур, в том числе и для отечественной, это адекватность выразительных форм культурно-цивилизационному типу как фактор социальной культурной самоидентификации и одновременно как фактор опоры на культурную традицию. 93 Яркая особенность ситуации в сегодняшнем мире – это наличие претензий на культурное доминирование ряда цивилизаций с традиционной историей. Это отнюдь не самые передовые по модернизационным достижениям цивилизации, но готовые выставить свои альтернативы вестернизации. Таких цивилизаций как минимум две – исламский мир и Китай, готовый интегрировать в свою систему обширные регионы Восточной Азии. Здесь факторы культурно-цивилизационного идентичности выходят на первый план. Здесь отстаивается идея культурного превосходства. В противовес все еще весьма популярной идее унифицирующей модернизации в осознании мировых процессов начинает развертываться логика взаимодействия и столкновения цивилизаций. При этом имеет место и возникновение новых «традиций» (неформальные сообщества, секты), и поиск фундирующих прототипов, и потребность в типологической систематизации взаимодействующих традиционных моделей. Созидание традиции и обращение к традиции после десятилетий откровенного противостояния культурной традиции как таковой того типа развития, который связан с понятием модернизма, - симптом возможного перехода цивилизации на типологически новые культурные основания. Возможно, это признак перехода с доминирующего технологического направления развития – развития как совершенствования в плане господства человека над природой и роста на этой основе потребления жизненных благ – на доминанту социально-нравственного направления развития – развития как совершенствования в смысловой организации самой человеческой субъектности (личности и общества), и отсюда, - совершенствования в области нравственных (межличностных) отношений и этики социального моделирования. Это переход к новому гуманизму – к пониманию человека не в качестве вожделеющего центра вселенной, а в качестве целостного мира, требующего совершенствования. В возможность такого перехода пока еще трудно поверить – при том, что коммуникативные технологии современности создали сегодня высокоэффективную систему манипуляции человеческим сознанием, апеллируя к естественности человека, обращаясь к нему как к желающей вещи. При том, что оборотная сторона манипулятивных технологий – это как раз та свободаспонтанность, которая мыслится как высшая ценность, если не считать ценности средств ее достижения – денег. Либеральные основания самоопределения – духовного, политического, социального, гендерного, повседневно-поведенческого, психорегулирующего (психотропного) - достигли наивысшего за всю историю человечества диапазона. Но тем не мене, не свобода-спонтанность, а именно субъектная аутентичность самоопределения (на подавление которой и направлена манипулятивность) является главной силой, способной позитивно влиять на формирование культурной смысловой программы человеческой деятельности и содействовать творчески продуктивному развитию цивилизации. А аутентичность неизбежно связана с культурно-смысловой самоидентификацией человека-. Как это ни парадоксально, она связана с опорой на традицию – нет, не в качестве навязываемых и не обсуждаемых устойчивых форм, а в качестве организующей культурносмысловое пространство инстанции, отсылающей к определенному культурному типу, позволяющей эффективно настраиваться на его смысловую целостность. Логика культурного развития сказывается не во все новом и новом изобретении культурных органичностей, а, как правило, в «воспоминании» адекватных форм, позволяющих реализовать избранную органичность. Она не всецело инновационна, как казалось идеологам модернизма, а и кумулятивна, поскольку опирается на историческую память. Только это не абсолютная кумулятивность суммирующего накопления, а специфическая относительная кумулятивность типологического выбора, при котором неизбежно отсеивается все неорганичное и собирается все соответствующее доминирующей смысловой модели. Именно эта смысловая модель и наследуется, точнее, воссоздается, таким образом, тогда, когда теряется прямая преемственность во многих сферах культуры. Процесс как раз такого характера легко наблюдается в истории России как минимум последних трех столетий, проходившей под знаком влияний и реформ и одновременно под 94 знаком кристаллизации российской цивилизации как автономного и влиятельного культурного типа. Проблема традиции как преемственности переходит здесь в проблему идентичности как субъектной целостности и самотождественности, типологически-смысловой неизменности и самобытности, подлежащей выбору, восстановлению и ведущей к созданию устойчивого облика цивилизации. 12. Логика модернизации Но как же тогда возможна модернизация? Допустимы ли эти понятия – модернизация и традиция – в интегрированнном логическом поле, или их судьба – жесткое противостояние, борьба не на жизнь, а на смерть? Европейская классическая мысль Нового и Новейшего времени строилась на основе идеи модернизации. Обновление социальной жизни и культурных форм представлялась абсолютной ценностью – новое мыслилось синонимом лучшего; преодоление традиции, мешающей движению прогресса, мыслилось как очевидный положительный фактор социального конструирования. Между тем, еще идеи культурного роста (Ф. Боас, И. Кребер и др.) в противовес идеям культурной эволюции (Л.Уайт и др.) предполагали, что главный конструктивный фактор культуры как системы – ее неизменное «ядро», на которое наслаиваются и на основе базовых координат которого преобразуются всевозможные заимствования, возникающие в результате кросс-культурных связей и культурной диффузии. Это «ядро» создает фактор стабильности и смысловой идентичности культуры, без которого изменения и безоглядные заимствования приводят, как правило, к деградации культуры или к такой ее трансформации, которую правильнее было бы выразить в терминах ассимиляции. Социально-культурологическая мысль во второй половине ХХ в. столкнулась с серьезными ограничениями в отношении оценки радикально-революционного характера перемен. Фактор стабильности постепенно начинает оцениваться позитивно - как неотъемлемый базовый фактор. Так, американский исследователь Ш. Эйзенштадт пишет: «Важная дихотомия современного общества - стабильность и преемственность против перемен. Перемены («прогресс или «развитие») которые могли принимать революционный или же постепенный характер, рассматривались как общая структурная тенденция современного общества, имеющая позитивную ценность. Но современные политические системы и общества столкнулись с проблемой сочетания перемен с достаточной степенью институциональной стабильности и преемственности»112. 95 Серьезный перелом в понимании соотношения новации и традиции связан с переоценкой роли рационального начала смыслообразования в складывании культуры как смыслового целого. Рациональность все чаще понимается сегодня как доминирующий принцип западной цивилизации нового времени, а отнюдь не как универсальный принцип исторического конструирования, как это понималось еще совсем недавно (К. Поппер и его идея открытого общества, выражающая как раз логику произвольно-рационального конструирования истории и восходящая в своих методологических принципах к идеям «общественного» договора Т.Гоббса и Кондильяка). Ш. Эйзенштадт выделяет проблему устойчивой понятийной дихотомии: современной социальной рациональности противопоставляются другие смысловые культурные ориентации и ценности, воплощенные, в частности, в традициях, религиозном или мистическом опыте. Он пишет: «Рациональность часто воспринималась как «техническая» эффективность, то есть как мера овладения человеком самим собой и своей судьбой. Противоположный подход выявлял возможность того, что, освободившись от стеснительных рамок общих ценностей и ориентаций, от самоконтроля, человек становится добычей собственных нерегулируемых и девиантных инстинктов, прихотей, меняющихся и противоречивых интересов». Но и рациональность не гарантирует высокой меры осмысленности социальной жизни, ее высокого культурного статуса, она способна ввергнуть человека и общество во власть бессознательных оснований эгоцентрической мотивации. Рациональность как таковая отнюдь не дает гарантий совершенствования социальной системы. Для обществ, традиционно сложившихся на основе внерациональных способов осмысления нравственных, эстетических и многих практических вопросов культурной организации жизни, радикальная рационализация может означать социальную и личностную деградацию. «Даже те, кто рассматривал досовременные режимы как угнетающие, пишет Ш. Эйзенштадт, - признавали, что специфические условия модернизации порождали новые, доселе неведомые проблемы поддержания внутренней стабильности и обеспечения социальной справедливости». Отмечается, что с 50-х, а особенно начиная с середины 60-х годов стала нарастать критика ранних теорий модернизации, которая постепенно подорвала большинство положений, выдвигавшихся в ней. «Главным фокусом этой критики, - пишет Ш. Эйзенштадт, - стала неспособность объяснить разнообразие переходных обществ, присущей им внутренней динамики, а также возможности самостоятельного развития современных дифференцированных политических и экономических комплексов»113. Критика ранних подходов к модернизации направлена, прежде всего, против дихотомии традиция современность, в том числе на выявление неисторичности и западноцентричности этой модели. Важной темой в этой связи стало своего рода новое открытие факта устойчивости в современных и модернизирующихся обществах традиций, обязательных форм поведения идущих из прошлого и ссылающихся на прошлые образцы. Доминирующим стало признание того, что модернизация может иметь частичных характер, то есть формирование новых институтов или современных организационных принципов не обязательно приводит к целостному обновлению общества, а может даже, как указывается, сопровождаться укреплением традиционных систем через влияние новых форм организации. «Во многих обществах, – писал Д. Рюшемейер, – модернизированные и традиционные элементы сплетаются в причудливые структуры. Частичная модернизация представляет собой такой процесс социальных изменений, который ведет к институционализации в одном и том же обществе относительно модернизированных социальных форм и менее модернизированных структур»114. Высказываются и такие точки зрения, что процесс модернизации не имеет универсального характера, он не присущ природе каждого общества; этот процесс отражает уникальную историческую ситуацию, связанную с распространением западной культуры по 113 114 Eisenstadt S. Modernisation: Protest and Change. N.Y. 1966, P. 131-132 Theorien des sozialen Wandels/Hrsg. von Zapf W. Konigstein,1979. S.382 96 всему миру, дополняемым попытками незападных стран заимствовать эти модели индустриализации, политической унификации и т.д. Эти попытки связаны, с одной стороны, со стремлением восполнить видимые «пробелы» в развитии оригинальных цивилизаций, которые оказались заметными в том прямом сопоставлении с достижениями Запада, в котором цивилизации оказались в эпоху интенсивной глобальной интеграции (18-20 вв.). С другой стороны, связаны с прямой торгово-экономической, политической и идеологической интервенцией, который осуществлял в этот период Запад, и который наиболее ярко сказался в феномене колониализма. В частности, модернизация многих сторон жизни в России, проходившая по Западному образцу, связана по преимуществу с первым типом мотивации – с намеренным заимствованием передовых западных образцов, осуществлявшихся элитой общества и наиболее ярко сказавшейся в периоды 1700-1725 гг., 1762-1790 гг., 1861-1881 гг. и в 19181938 гг. Новейший же виток модернизации по западному типу, произошедший в 90-е годы 20 в. во многом был связан и со вторым мотивом – с массированной идеологической, политической и торгово-экономической экспансией Запада в отношении России, отчего этот модернизационный виток в отечественной истории и привел к небывалому для мирных периодов истории страны разрушению системных оснований жизни общества - к своеобразному экономическому и культурному шоку. Современная модернизация на основе западных – культурно-рационалистических – образцов рассматривается многими исследователями как частный случай модернизации. Сторонник идеи фундаментальной конкуренции оригинальных цивилизаций, определяющей историю человечества со времен активного расширения межцивилизационных контактов, американский политолог С. Хантигтон, опираясь одновременно на суждения видного французского историка культуры Ф.Броделя, считает, что было бы наивно думать, что модернизация как «триумф цивилизации в единственном числе» приведет к устранению плюрализма исторических культур, веками существовавших в лоне великих цивилизаций. «На самом деле, - пишет он, - модернизация усиливает эти культуры и приводит к относительному уменьшению силы Запада. В весьма существенном смысле можно сказать, что мир становится все более современным и все менее западным»115. Это суждение верно, если учесть, что в истории человечества соотношение сил между основными цивилизациями периодически менялось и фактор первенства, определяющий сам характер передового общества, достойного подражаний и заимствований периодически перемещался от одной цивилизации к другой. Так историки констатируют передовое значение китайской цивилизации в эпоху, соответствующую европейскому средневековью, передовое значение и активное культурное распространение индийской цивилизации первых веков новой эры, очевидный приоритет восточно-европейской (православной) цивилизации – прежде всего в лице Византийской империи, но также отчасти и в лице стран, развивавшихся под непосредственным влиянием Византии, таких, в частности, как Болгария и Древняя Русь, - по отношению к европейском Западу 4-12 веков. Другой аргумент, заставляющий согласиться с мнением С. Хантингтона о постоянной конкуренции цивилизаций как основе международного исторического развития, не теряющей свое значение и в футурологической перспективе, может состоять в том, что каждая из значимых цивилизаций готова выступить в роли культурного центра глобализации, как только ее специфические приоритеты и достижения окажутся жизненно значимыми и, следовательно, притягательными для всего остального мира. Так, к примеру, исламская цивилизация выступает со строгими нормативными критериями социально-нравственного порядка, имеющего мистическое обоснование, и это может оказаться востребованным человечеством в условиях массовой деградации и релятивизации нравственных норм, в условиях кризиса нравственных отношений, кризиса семьи и предвидимой депопуляции – как реакция на эти деструктивные тенденции. И на 115 Huntington S. The Clash of Civilization and Remaking the World Order. N.Y., 1996 P. 78 97 осознании этих приоритетов основывается, по сути, неизменная со времен древних халифов идея исламизации мира, которая внедрена в качестве ключевой в сами культурные основы этой специфической цивилизации. В свою очередь, возможна и глобализация по-китайски; она может быть реально связана с экспансией дешевой рабочей силы во все регионы мира, и будет тогда основываться на конфуцианской по своим истокам этике трудолюбия, коллективизма и этнического протекционизма, способной противостоять возможным кризисным проявлениям эгоцентрически разобщенного общества потребления современного западного образца, идущего как раз по пути прогрессирующего снижения рождаемости – по пути демографической деградации, неизбежно связанной с привлечением рабочих рук извне. Российская цивилизация как оригинальный культурный тип тоже порой выдвигала свои приоритеты развития, которые сказывались как передовые в условиях цивилизационного кризиса человечества. Таковыми, в частности, оказались идеи социальной справедливости на основе отказа от частной собственности, которые хотя и имели теоретические истоки в марксизме, стали известны всему миру как универсально значимые идеи русской революции начала ХХ века. Именно идеи социальной справедливости, а вовсе не идеи диктатуры пролетариата и партийного государства будоражили умы русской общественности, даже не только революционной в ХIХ – ХХ вв. и, конечно, коренились в нравственно-религиозных традициях православной культуры, а также хозяйственной общины и экономического этатизма, которые были характерны для отечественной истории многих столетий. Именно они делали опыт русской революции популярными во всем мире в 20-60 гг. – ровно до тех пор, пока обнаружившиеся эксцессы никак не кончавшеся партийной диктатуры не отпугнули мировую общественность от опыта страны Советов. Утопичность социального идеала вовсе не означает его фатальной бесперспективности. По крайней мере, сама идея общества нравственного взаимодействия и справедливости как социального равенства, очевидно, сохраняет и будет сохранять свое значение. А исторический неуспех тотально плановой государственной экономики, если рассуждать логически, вовсе не означает фатального неуспеха; возможны такие состояния экономики мира, где факторы планирования и регулирования экономических процессов, во-первых, обретут действительные возможности учета и конструктивного предусмотрения качественно большего объема данных, во-вторых, окажутся востребованными как необходимые дополнительные инструменты организации рынка, преодоления его непредсказуемой стихийности - тогда «реальный социализм» как цивилизационная идея может вновь оказаться передовой и притягательной в глобальном масштабе. При этом главное в данном проекте не это, а приоритет качеств альтруизма и коллективизма как доминирующих культурных ценностей, выступающих в качестве системной основы российской цивилизации наличие которых редуцируется рационалистическим проектом эффективности, заводящим западную цивилизацию в эволюционный тупик, описанный А.Зиновьевым как тупик глобальный («Глобальный человейник»)116. Более того, каждая цивилизация хранит некое внутреннее осознание своих культурносмысловых приоритетов, мыслит себя как «лучшую в своем роде», хотя аргументация этой традиционалистски-мессианской тенденции не всегда оказывается исторически уместной и убедительной (как аргументация российских славянофилов, пришедшаяся на середину 19 в. и в целом выглядевшая как наивная мечта и даже как идейное основание культурной реакции, отвечающей на вызов безудержной вестернизации, характерной для того периода истории.). Понятие модернизации как исторической тенденции, очевидно, не совпадает с понятием вестернизации, сколь бы универсальный смысл не вкладывался ее сторонниками в ее основные идеи и направления. Модернизация возникает всякий раз, как передовые достижения одной из цивилизация начинают усваиваться, заимствоваться другими. 116 Зиновьев А.А. Глобальный человейник. М., 2006 98 Модернизацию следует определить как исторически изменчивую по своему направлению тенденцию, которая имеет в ту или иную эпоху общемировое значение. Она влечет за собой радикальное изменение культуры, и именно фактор этого радикального изменения раскрывает культурологический смысл понятия модернизация (обновление). Это понятие может не эксплицирует напрямую так или иначе конкретно понимаемую прогрессивную эволюцию, даже описываемую в самых общих чертах (так, как это делает, например, Л.Уайт, выделяя такие общие тенденции мировой исторической эволюции, как прогрессирующее овладение человеком энергией природы и формирование все более масштабных и сложных сообществ на прогрессивном пути социализации человечества). Модернизация именно как радикальное обновление культуры связана не столько с медленными тенденциями эволюции, сколько с относительно быстрыми преобразованиями, которые можно объяснить только фактором творчески продуктивного взаимодействия цивилизаций – фактором заимствования форм и образцов, созданных в рамках одной специфической цивилизации и обретающих значение общемировых приоритетов развития, восполняющих своеобразные «недостатки» цивилизационного развития остального мира. При этом вестернизация как вектор современной тенденции модернизации культуры – частный случай. Модернизация на основе рационалистически-технологической модели реорганизации социальных отношений между людьми и отношений между человеком и природой, выступающая смысловым содержанием современной модернизации выступает как логически частный случай, хотя и столь масштабный, что охватывает историю практически четырех последних столетий истории человечества. При анализе соотношения глобальных тенденций модернизации и сохранения культурной идентичности специфических цивилизаций (сохранения поликультурного мира) необходимо поставить и решить проблему всеобщности критериев современного направления культурной и цивилизационной модернизации. Как уже было сказано, модель современной культурной модернизации строится под знаком рационализации мышления и деятельности (организации познания, принятия решений, выбора мотиваций и др.), а также технологизации всех значимых отношений в общественной и хозяйственной организации жизни. Европейская научная и философская мысль классического нововременного типа выдвигала тезис о рациональности как об универсальном качестве организации сознания, как о синониме осмысленности. Этот тезис казался аксиоматическим и в связи с этим не подлежал анализу (несмотря на определенную романтическую реакцию на рационализм, произошедшую в ХIХ веке). Проанализировать аксиоматический тезис действительно невозможно, пока не будут высвечены более общие основания, позволяющие аксиому – фактор научной веры – превратить в частный случай и эффект, имеющий место наряду с другими рядоположными тезисами и, кроме того, соотносимыми с ними. Так рациональность можно рассмотреть как частный случай осмысленности вообще – наряду с осмысленностью эстетического и мистического типов. В свою очередь то значение, которое придается сегодня понятию «технология», тоже начинает носить имплицитно универсальный характер. Особенно тогда, когда это касается распространения понятия технологии на сферу информации (кроме словосочетания «информационные технологии» сегодня можно встретить и такие как «технологии культуры»). Технология все более начинает мыслиться как замещающий аналог и даже основание культуры, как аналог и даже основание человеческого существования, если принять во внимание столь активно обсуждающуюся сегодня тему «конструирования человека» постепенного превращения человеческого организма в искусственный конструкт биотехнологий, медицинских операций, его зависимость от искусственно создаваемых сред и, разумеется, от «социальных технологий», эволюция которых начинает мыслиться как основание смены эпох в историческом развитии человечества. Между тем, очевидно, что сама категориальная направленность понятий технология и культура различна. При том, что эволюция технологий действительно связана с эволюцией культуры, например эволюция 99 информационно-коммуникативных технологий – технологий передачи и фиксации человеческих мыслей и способов их «раскодирования» - прочтения, воспроизведения – действительно напрямую связана с эпохальными изменениями в истории культуры – в смене способов мышления, условий дискурса, форм понимания и истолкования смысла, то есть влияет на тот опыт осознания, который и составляет культуру как смыслоорганизованную систему, - при всем этом культура несводима к технологии или к совокупности технологий. Более того, это в определенном аспекте кардинально различные категории. Технология выступает здесь как целесообразная, утилитарно ценная организация отношений в контексте человека как натурально заданного и натурально адаптирующегося субъектного центра. Технология выступате как форма овладения и произвольного манипулирования реальностью, а культура предстает как феномен организации самой смыслообразующей человеческой субъектности, как система субъектного самоопределения в мире ценностносмысловых ориентиров. Технология раскрывается в этом категориальном сопоставлении как форма власти и манипуляции – в противовес категории культуры, выражающей формы понимания и подчинения осознаваемому высшему смыслу бытия. Впрочем, не надо отождествлять рационализацию и технологизм. Рационализация – это тоже форма смыслообразования, переосмысления – смыслового упорядочения реальности, а вовсе не простая адаптация. Только предметно-прагматический акцент рациональности вносит в нее дисбаланс в пользу приспособления человека к миру – субъекта к податливому ему предмету, превращая разум в слугу технологии. Рационализация, весь смысл которой сводится к развитию технологической адаптации человека к натуральным условиям его существования, включая условия самой его природы – его тело, его спонтанные желания, неизбежно ведет цивилизацию к рискованной грани, когда ее массовым агентом оказывается уже не человек культуры – человек осмысляющий и преодолевающий натуральность, а спонтанный человек адаптации – человек гедонизма – своего рода технологическое животное, построившее себе, наконец гнездо, в котором переосмысляющий ум может, наконец расслабиться и уснуть, а тело получит все, что ему требуется – именно в виде бесконечных удовольствий. Как раз такова, заметим, современная эволюция по западному образцу. В чем же эта ее рискованная грань? Возможно, в том, что рано или поздно такая цивилизационная модель проиграет моделям традиционного – высокого смыслового строя? Но это, конечно, только в том случае, если сами традиционные культуры когда-то перестанут играть по правилам приоритета технологизации – по правилам приоритета модернизации-вестернизации в ущерб своей традиции. Ряд исследователей утверждают наличие «объективных пределов» и «естественных границ», до которых может распространяться западная социокультурная модель, отмечается ее несовместимость с базисными ценностными ориентациями, присущими незападным культурам, одной из которых исторически является и культура России. По мнению Д. Шайгена117, в прошлом имел место плодотворный диалог между цивилизациями, в результате которого происходило создание великих культур Запада и Востока. Однако «вызов нового времени» принципиально отличается от взаимодействия культур в прошлом, так как речь идет о тотальном противостоянии исходных принципов организации социального и индивидуального бытия. Для Запада это принципы исторической эволюции, отделенности души, существующей независимо как от чувственновоспринимаемого, так и от сверхчувственного мира, примат воли и сведение мироздания к количественным характеристикам. Утвердившаяся здесь секуляризация мира означает и его деспиритуализацию, крайнюю объективизацию природы, из чего исходит сциентистское и техницистское отношение к миру. Совершенно иными, по его мнению, являются принципы восточных цивилизаций. История здесь имеет священный характер и порой непосредственно связана с эсхатологией. Человеческие инстинкты и воля не принимаются за основные 117 Shaygen D. The Challenges of Today and Cultural Identity. // East Asian Cultural Studies/ Tokyo, 1977. V. VI. №4. P. 31-44 100 движущие силы истории. Напротив, как в исламе, так и в индуизме им отводится подчиненное место. Здесь утверждается жесткое столкновение двух типов бытия, между которыми невозможно установить согласие и равновесие (отчасти в духе идеи О.Шпенглера о взаимонепроницаемой инаковости культур). Вряд ли можно полностью согласиться с данным тезисом тотального противостояния принципов – этот тезис построен как намеренное категориальное заострение различий. Но очевидно, речь надо вести о кардинальных различиях базовых установок, возникающих не в результате традиционалистского застоя как такового, а на основе вариантности смыслообразующих типов, организующих опыт осознания и деятельности в рамках специфических культур и цивилизаций и определяющих несводимость принципов культур одних типов к другим. В литературе по данной проблеме отмечается, что утверждение западной цивилизации как универсальной лишает остальные культуры какой-либо этической или эстетической ценности, сводит их к «местному колориту». И возникающее здесь противоречие не дает стимула для проявления творческих сил трансформирующихся культур, теряющих свою идентичность. Так, в свое время высказывался и алармистский тезис (Д. Шайген): если, например, восточный мир не имеет иного выбора, кроме как принять «очевидный зов», «единственный выбор», «неизбежную судьбу», состоящую в приспособлении к Западу, то это будет означать трагическую гибель восточных цивилизаций. Если снять излишнюю, как представляется, драматизацию, то данный тезис сводится к идее саморазрушения культур, безоглядно сориентированных на трансформацию на иных культурных основаниях, потери ими самоидентичного существования, вокруг которого была построена оригинальная высокая смысловая конструкция, обрекаемая теперь на потерю смысла, на отвержение и опровержение ее ценностей и идеалов. Культура оказывалась обрекаемой на потерю «кристаллической» смысловой формы и превращение в аморфное массовидное состояние, которое нельзя было бы не признать деградацией. Справедливости ради надо отметить, что подобного рода ограничения, которые должны быть выдвинуты по отношению к вестернизации как универсальной модели модернизации, могут быть применены и к универсально-глобализационной тенденции любого другого культурно-цивилизационного происхождения. Впрочем, тот тип культуры, который основывается на высокой смысловойой традиции, а не на технологизации и модернизации любой ценой, имеет все же больше шансов. В оценке перспектив современной глобализации-вестернизации, скорее всего ее сторонники не правы, правя алармисты. Не правы ни Ж.Аттали («новые номады»), ни А.Зиновьев («глобальный человейник»), ни С. Хантингтон («столкновение цивилизаций»), не правы, впрочем, и те, кто предрекает всецелый конец света вместе со скорой гибелью Запада; прав П. Бьюкенен118: тенденции современного массового общества гедонизма, все технологии которого нацелены на этот гедонизм освобожденного, таким образом спонтанного человека, приведут к депопуляции и катастрофическому сокращению количества носителей одного данного культурного типа быстрее, чем к какому-либо другому из возможных ожидаемых последствий. Цивилизация удовольствия это цивилизация без потомков – такова наглядная тенденция. И уже во второй половине 21 в. на территории Европы будут жить арабы, турки и черные африканцы, на территории США латиноамериканцы, на территории России китайцы и выходцы из средней Азии – и именно их традиционные культуры лягут в основу дальнейшего развития данных регионов. И дело здесь не в чистой демографии, а в культурной традиции. Дело в том, что именно и только культурная традиция способна восстановить зыбкий баланс между культурой как переосмысляющим преодолением натуральности человека и технологией как рационально опосредованной адаптацией в конечном счете натурального человека. На Западе этот баланс, похоже, безнадежно утрачен. А традиции восточных цивилизаций, как мы видим на примере 118 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М.: АСТ, 2004 - 444 с. 101 последних десятилетий, способны сохранять свои традиции в условиях модернизации. Единственный шанс есть здесь для России – это исконная православная в основе культурная традиция, способная на автохтонных началах предотвратить указанную катастрофическую тенденцию адаптационного гедонизма. Но этот шанс станет реальным и действенным только если в ближайшие 20-30 лет, то есть на протяжении активной жизни одного поколения данная культурная традиция восстановит свое положение в обществе и станет действительно влиятельной. Возможно ли это? Но повторю – это единственный шанс, который имеет только Россия. У Запада подобных шансов, скорее всего, нет. Смысл традиции в этом контексте – это поддержание идентичности субъекта социального и персонального культурного преобразования мира. А это единственная высокая смысловая, и в этом качестве неустранимая, основа для всех форм адаптации (технологий, включающих и социальные, и информационные); при этом формы адаптации модифицируемы и совершенствуемы – но всегда в соответствии с целями смыслового преобразования естественности, которое лежит в основе культуры как опыта осмысления. Процесс же модернизации как форма обогащения цивилизаций передовыми достижениями других вполне вписывается в систему цивилизаций как дополняющих друг друга культурных типов. Этот процесс, если внимательно вглядеться в историю, происходил всегда, правда, будучи трансформационным процессом, он не всегда был безопасен для идентичности и, соответственно, самостоятельного субъектного бытия цивилизаций, в которых распространялся. Он и распространялся по-разному – от насаждения образцов до выборочных заимствований и самостоятельного создания аналогов. Этот процесс логично дополняет и необходимо динамизирует и современную систему межцивилизационных коммуникаций. Но и сегодня он тоже не гарантированно безопасен для их существования. Очень ярко эти тенденции проявляются в современной России, где, как представляется, конструктивная и разрушительная функции модернизации (в виде вестернизации) находятся сегодня в состоянии ничего не гарантирующего зыбкого баланса, что отображается прежде всего в спектре взглядов на настоящее и будущее культурноцивилизационного развития России, на наличие противоположных векторов в их основе и порой острой полемичности. И все же, обращаясь к анализу этих взглядов, надо учитывать тот итог, который получен в этом разделе: модернизационные процессы только надстраиваются над фундаментальной логикой устойчивого развития цивилизаций, лежащей в основе их эволюции, те трансформации, которые они производят, носят не фундаментально-культурный, а технологический, дополнительно усливающий характер и становятся опасными как раз когда ведут к слому культурно-смыслового типа. 13. Россия ХХI: аргументы вестернизационного проекта В книге «Россия в поисках себя» Д.Биллингтон делает предположение, что нынешний поиск русской идентичности во многих отношениях является возобновлением прерванной творческой традиции «Серебряного века» эпохи последнего царствования в России119. Это в значительной степени действительно так. Коммунистический диктат не давал стране альтернатив – ни в теории, ни на практике, ни даже в рамках самой внутрипартийной 119 Биллингтон Д. Россия в поисках себя / пер. с анг. – М.:, 2006. – С. 162 102 эволюции. Руководимая малообразованными людьми, партия не могла ничего осмыслять, все более закрепляя стереотипы навязывания политической воли, замещающей осмысление. Но между эпохой «русского ренессанса» начала ХХ в. и окончательной «ростепелью» конца этого века, конечно, нет прямой преемственности. Теперь, можно сказать, всплыли все идеи сразу – от крайнего западничества, окрашенного ненавистью и презрением ко всему автохтонному, до национализма, действительно прослеживающего свою преемственность с черносотенным движением ХХ в.. Анализировать все эти идеи не входит в наш интерес, сфокусированный вокруг проблемы культурной идентичности. Но нам важно проанализировать аргументы, в подоплеке которых как раз кроется идентификация, как мы увидим, с тем или иным культурным типом – идентификация, отражающая осмысление отечественным обществом самого себя на современном этапе. Вопрос о культурной идентичности России как нации, страны или цивилизации важен не только сам по себе. Он важен при определении ориентиров дальнейшего развития. Большинство конфликтов и противоречий о том, как сегодняшние русские видят Россию прошлого, – пишет американский исследователь культуры и истории России Д. Биллингтон, – делают решение вопроса об идентичности центральным для формирования России будущего. Перед русскими, – считает он, – одновременно стоят проблемы медленного демонтажа унаследованных от прошлого советских структур и задержки с построением более ответственных и целостных новых структур власти. Эти условия создают некоторое нервное напряжение в сфере культуры, но одновременно высвобождают новую энергию в обществе. Они же открывают возможности для более быстрых, внезапных и далеко идущих изменений, чем те, которые осуществимы в нормальные времена120. В последние годы появляется ряд исследований, в которых анализируются проблемы культурной детерминации социальных отношений, состояние, противостояние и даже конфликт ценностей в развитии отечественного общества рассматривается содержание ценностных сдвигов в обыденной культуре, политике, идеологии, предлагается социокультурный прогноз. Надо признать, что, как правило, эти работы идеологически заострены и тенденциозны. Оценки и способы анализа изменений в соотношении традиционализма, утилитаризма и либерализма как нравственных оснований общественной динамики, в них, как правило, тяготеют к заранее заданным (аксиоматическим для исследователей) позициям. Одна из таких тенденций - рассматривать социокультурные изменения в обществе с абстрактных позиций модернизации, выстроенных на основании, безусловно понимаемых ценностей обновления и «эффективности» социальной деятельности в обществе121. Представители данного подхода исходят из того, что Россия принадлежит к особому промежуточному типу цивилизации, где значительные пласты традиционной, статичного типа культуры сталкивались с ростками динамичной, индустриальной122. При этом даются чрезвычайно драматические оценки - о том, что в России расколу удалось овладеть обществом до его глубины, поляризовать его, превратить ценностное многообразие в конфликт ценностей, дошедший до конфликта цивилизационных типов в стране123. Расколотая культура в таком прочтении ситуации связана с расколотой личностью. Природа же такой расколотости мыслится в довольно идеологическом ключе: «Это тема встречи архаичной личности с современной, тема противоречивости господствующего в обществе типа личности, застрявшего на пороге в современность, страдающего от разрушения традиционных ценностей, попытки демократических сил общества «пробиться» к культуре Биллингтон Д. Россия в поисках себя / пер. с анг. – М., 2006, С. 142 Яркий пример такого исследования, выполненного в первой половине 90-х годов - коллективная монография: Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993 122 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.14 123 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.18 120 121 103 либеральной цивилизации: гражданскому обществу, правовому государству, 124 общечеловеческим ценностям . Нам представляется, что интерпретация проблем развития и динамики культуры России на современном этапе обусловлена методологической расколотостью социальнокультурного знания: социально-интракционистская, функциональная трактовка культуры противостоит здесь трактовке культуры как сфере смысловой организации деятельности. При этом в одном случае инновация в культуре представляется неизбежной и желательно как можно более быстрой реакцией на изменения социальной ситуации; в другом случае как раз установки культуры выступают гарантом стабильности общества как коллективного субъекта и индентичности личности как субъекта индивидуального. Сторонники прагматически-интеракционистского подхода к трактовке общества считают, что «Социально значимая инновация в культуре всегда несет возможность инновации в социальных отношениях, изменений отношений людей в связи и по поводу некоторой совместной деятельности: производства вещей, людей, самих социальных отношений, идей и т.д. Это изменение составляет неотъемлемый элемент воспроизводственной деятельности человека, всех типов общественного воспроизводства. Человек воспроизводит все, что имеет отношение к нему, воспроизводит самого себя, создает новые способы общения, новые потребности и представления, новый язык и культуру, новые ценности и смыслы»125. Но воспроизводство всего и вся – отношений, навыков, вещей – совсем не то, что воспроизводство самого себя субъекта культуры – субъекта осмысления естественности бытия, преобразуемого в культуру. Создание нового языка и культуры, новых ценностей и смыслов отнюдь не такое частое явление, как явления эволюции в сфере приспособления общества к условиям природы и к естественным социальным условиям. При этом радеющие за новизну идеологи замечают, что инновациям в значительно большей степени преграждается путь в область средств деятельности и еще более в сферу ее целей. Такой тип воспроизводства предстает и как «тип воспроизводства одновременно также и тип культуры, который выступает как мощный механизм торможения социальноэкономического развития общества, сохраняющий унаследованную от прошлого меру ответственности, квалификации, напряжения труда, отношений к миру, обществу, людям, самому себе126. Тип культуры сходится здесь с типом воспроизводства, где в одном котле перерабатываются природа, вещи, способы, и сам человек как субъект не только деятельности, но и сознания. Но кто тогда этот субъект переформулирования субъекта? С позиций какой абстрактной эффективности он задает этот ракурс? Очевидно, что это субъект из иного ценностно-смыслового измерения – попросту представитель иной культурносмысловой идентичности. Только он может сменить рамку целеполагания (телеологическисмысловую) на рамку эффективности (то есть всего лишь модальности деятельности), имея при этом, конечно, за душой скрыто или открыто свою ценностно-смысловую модель, а вовсе не исходя из абстракции способа, ибо характеристика способа еще не означает субъектности как особой центрации преобразования мира. Высшей ценностью здесь является повышение эффекта воспроизводства, поток инноваций. Это обеспечивает рост эффективности общественного воспроизводства, деятельности субъекта. Здесь развивается типичная логика формационно-прогрессистского подхода, весь смысл цивилизационного процесса при котором выглядит как смысл эффективности воспроизводства. Культура – то есть сфера формирования самого субъекта деятельности – при таком подходе рассматривается как по-своему действенная надстройка – как сфера ценностей, благодаря которым субъект действует. При этом принципиальная разница между ценностями как смыслополагающими телеологическими горизонтами деятельности и технологически раскрываемыми моделями праксиса стирается. Ценностный Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.18 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.39 126 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.39 124 125 104 аспект тонет в праксеологическом подходе, имеющим технологический смысл, в рамках которого, конечно, именно эффективность выступает одной из важных ценностей. Но надо заметить, эффективность – не самостоятельная, вторичная ценность; она технологична по отношению к целям самого действия (преобразования), эффективность которого измеряется. Точно так же, как и прямой индекс эффективности – денежный эквивалент – не цель, а именно средство. Ценность это, прежде всего горизонт смысла – той системной целостности, благодаря которой деятельность субъекта обретает направление переосмысляющего преобразования существования. Такое понимание ценности только может лежать в основе цивилизационного подхода в том, в чем он принципиально отличен от формационного (эволюционного). Эти подходы отражают два полюса субъектной активности – смыслообразование, в котором задается сам принцип субъектности как смыслового преодоления естественности – принцип культуры, и приспособление субъекта в системном взаимодействии с этой естественностью – принцип технологии. Один из этих полюсов относительно статичен и выражает своеобразие системно-смыслового типа культуры и целевых установок деятельности, которая развертывается в этой деятельности. Это как бы центр, стержень, сердцевина субъектной деятельности. Другой полюс принципиально динамичен и выражает совокупность способов взаимодействия субъекта с миром, представляя собой как бы контактирующую с естественным окружением периферию субъектного преобразования бытия. Именно поэтому слом сердцевины для достижения эффективности как индекса деятельностной периферии неприемлем и всегда имеет деструктивное значение для бытия данной цивилизации как таковой. Так, несмотря на очевидный технологически-деятельностный прогресс погибли цивилизации мезоамерики и древнегреческая цивилизация как таковая утонула в совершенной иной уже культурной ауре византинизма. Так могут погибнуть в тотально понимаемом процессе модернизации африканские культуры, исламский мир и Россия (Восточная Европа) - и все эти культуры чувствуют настойчивую тревогу по поводу этого. Собственно и сторонники вестернизационного видения перспектив отечественной культуры признают это: одновременно может иметь место и деструктивное воспроизводство, как постоянно присутствующая угроза утраты достигнутого, антиценность, которую следует отодвигать, как негативный полюс, таящий в себе разрушительные смыслы. Правда, они разъясняют, что деструктивное воспроизводство имеет место в тех случаях, когда культура субъекта деятельности отстает от сложности общественного воспроизводства127. Технолого-праксеологический подход - радикально редукционистский. А механизм этой редукции как раз и выражается через категорию модернизации: каждый из типов воспроизводства связан с особой системой ценностей, а модернизация является в той или иной форме и степени попыткой перехода к интенсивному воспроизводству. И если это не означает интенсивности в рамках данного типа социального воспроизводства, то такая модернизация связана с коренным изменением господствующей системы ценностей в обществе. Многие бы поставили после этого тезиса знак вопроса, особенно зная особенности модернизационных процессов в Японии, Китае, Латинской Америке, да и в России. В логике культуры и технологии между ценностными аспектами культурной идентичности общества и ценностными аспектами технологических модальностей выстраивается отношение дополнительности. Поэтому трудно согласиться с оценкой С.Я.Матвеевой, что «Воспроизводство, /…/ постоянно включает в себя способность преодолевать внутренние противоречия культуры»128. Тезис эффективности воспроизводства, так же, как и тезис модернизации вводится как якобы нейтральный по отношению к специфической субъектности культуры и социальности. Однако он сам - выражение специфической субъектности, специфического Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.39 Матвеева С.Я. Противоречия в культуре. // Социалистическая культура и субъект творческой деятельности. М.,1989 127 128 105 культурного типа. Американский политолог Ф. Фукуяма в своем приобретшем всемирную известность эссе «Конец истории?» постарался обосновать тезис о конце истории, когда мир оказывается лишен идеологии и когда в нем доминирует экономический расчет, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. (Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. М., 1995.). Этот фукуямовский тезис о «конце истории» на место идеологической борьбы ставит соперничество за наиболее эффективное удовлетворение потребностей человека. Иными словами, в мире теперь нет стран, придерживающихся принципиально различных «идеологий», они отличаются друг от друга только стратегиями устройства общества потребления, то есть фактически речь идет о разнообразии экономических идеологий. Это камуфлированная деидеологизация: это идеологизация рационального критерия эффективности, столь характерного для смыслополагания прагматически эгоцентристского Запада. Знаток Запада А.А.Зиновьев пишет об этом эффекте данного идеологического феномена следующее: «Существование особой западной идеологии отрицается. Но это на самом деле есть одна из идей западной идеологии… Идеология спрятана, растворена, рассеяна во всем том, что предназначено для менталитета людей – в литературных произведениях, фильмах, специальных книгах, научно-популярных и научнофантастических сочинениях, газетных и журнальных статьях, рекламе и т.д. Она слита с внеидеологическими феноменами настолько, что вторые просто немыслимы без нее. Это делает ее неуязвимой для критики. Она везде и во всем, и потому, кажется, будто ее вообще нет… Люди там даже не замечают, что с рождения и до смерти постоянно находятся в поле действия идеологии. Они потребляют ее вместе со всем тем, что они потребляют для своего ментального питания. Делают они это без всякого усилия, без принуждения, свободно, без сборищ»129. Западное общество имеет свою мощную идеосферу, состоящую из множества индивидов, групп и организаций, чья задача заключается в постоянной поддержке единой имплицитной ему идеологии. Цель западных идеологов – формирование сознания членов общества таким, чтобы оно способствовало интересам самосохранения социума. Идеосфера, или идеологическая машина западного общества, нацелена на создание идеологически однородного социума со всеми вытекающими отсюда социокультурными последствиями. При этом, если понимать идеологию не только как намеренную манипуляцию сознанием с целью придания обществу мировоззренческой и целеполагающей однородности, но как ценностно-концептуальное выражение культрурно-смысловой идентичности, понятно, что она может не вполне осознаваться как намеренная разработка, что она должна постоянно циркулировать сквозь информационно-коммуникативную сферу как средство воспроизводства социально-культурного консенсуса, что этот процесс может быть особенно интенсивным именно в обществе, находящимся в фазе конструктивного подъема в реализации своей смысловой нацеленности, чем как раз и характеризуется, несмотря на все рассуждении я о «загнивании», активная фаза цивилизационного развития Запада. Справедливо отмечается, что именно идеология выступает средством ориентации в общественной среде, в формулировании жизненных целей и задач повседневной деятельности, в обретении горизонта ценностей и зримых идеалов. Идеология это не только волевая поляризация, но и содержание. И эффективность воспроизводства, равно как и модернизация - такие же идеологемы, довольно влиятельные, чтобы их надо было обсуждать, но не самоочевидные, чтобы их надо было принять как аксиомы. Представляется, что когда говорится о реформах, особенно в отношении России, не замечается серьезной подмены понятий или категориально неразборчивости: не делается различий между реформами, обобщенно подразумевающими всяческое обновление и революцией, то есть радикальной «переустановкой» всей системы предшествующего функционирования общества и культуры. Между тем, строго говоря, понятие реформ 129 Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. С. 311-313. 106 логически вписывается в логику эволюции – постепенных и нефундаментальных изменений, не связанных с предварительным или сопровождающим процесс разрушением базовых основ существования системы. Если изменения касаются основных принципов, на основе которых система существовала и развивалась ранее, речь надо вести уже не о эволюции, а об оппозиционной ей категории революции. Относительная статика системы при этом не является категориальной оппозицией понятию эволюции, поскольку подразумевает так или иначе и относительную динамику – развертывание (от лат. - evolution) заложенных в ней причинных оснований. При этом понятие реформ – политических, социальных, культурных – логически вписывается именно в категориальное поле эволюции. Само же понятие революции логически связанной с разрушением основ системы, с ее фундаментальной инверсией (лат. - revolution – перевертывание (переворот). Да, заметим, любые изменения, производимые в основном властью в России 90х – 2000х гг., именуются реформами. Между тем, радикальный, переворачивающих всю систему характер большинства из них очевиден. Те же радикальные силы, которые сетуют на недостаточно быстрое, малоэффективное, сворачивающее в сторону развитие процесса либеральных – политических, экономических, информационных, образовательных и в целом культурноценностных реформ в России в действительности под понятием реформ подразумевают перевертывание системы - революцию - разрыв существующего ранее и замену его другим радикальное обновление и замещение системы. И то, что мы наблюдали в политике и экономике 90-х годов ХХ века, конечно, было революцией – попыткой полного разрушения существующей системы и замену ее иной. И, конечно, сторонникам этих «реформ» нельзя было надеяться, что они будут проведены удачно и до конца: революции - как сломы системы с целью замены ее на другую, как правило, всегда и везде провоцируют мотивы реставрации, то есть восстановление системы - провоцируют «маятниковое» движение. Эволюционные изменения, в которые вписываются строго категориально понимаемые реформы, подразумевают изменения способов существования системы, приводящие к появлению новых качеств данной системы; революционные же изменения - это изменения самой системы как паттерна организации взаимодействующих между собой гетерогенных факторов, из которых складывается жизнь общества. Понимание эволюции как постепенно процесса, а революции как резкого качественного рывка (марксистское понимание, основанное на гегелевской логике перехода количества в качество) подразумевает представление о принципиальной линейности единого процесса - о движении по «магистральной дороге» в одном направлении, на которой могут быть остановки и быстрые броски. Системно-синергетическая же парадигма понимания события как взаимодействия многих разнонаправленных определяющих факторов заставляет мыслить их организацию в новое целое, их движение от состояния бифуркации к новому состоянию устойчивости как вариантный вектор. Вариантность цивилизационных программ, как и вариантность синергетических аттракторов, вносит в логику эволюции - революции совсем иной смысл. И здесь различие между революцией и эволюцией мыслится, прежде всего, как различие между изменением способов существования системы и изменением самого регулирующего паттерна системы. Логика революции при этом всегда радикальна и ориентирована на экстремум достижения (обновления). Логика же реформ - это не логика экстремальности, а логика оптимума, прослеживаемая в чутком ощущении баланса между конструктивным и деструктивным началами в преобразованиях. Поэтому реформы, как правило, носят постепенный характер, а динамика революции всегда связана со встречными мотивами реставрации, то есть с маятниковым движением от одного экстремума к другому в спонтанном стремлении уравновесить крайности разнонаправленных системных преобразований Если посмотреть на российскую историю внимательно, то крупными реформами в ней можно назвать лишь реформы Александра II в 60-70 гг. XIX века и попытки усовершенствования советского строя в 50-60 гг. ХХ века. Все же остальное фактически выглядело как социально-культурные революции. Потому так сложно историкам обсуждать 107 значение реформ Петра I, что они не были реформационными преобразованиями, а были преобразованиями революционными, то есть новации должны были радикально заменить прежнюю систему в целом. Это была именно социально-культурная революция - со всеми, неизбежными при этом позитивными и негативными последствиями. Даже если бы это не касалась переворота политического. (Впрочем, не пришел ли Петр I к власти в результате государственного переворота? Ведь свержение царевны Софьи и изоляция царя Иоанна как раз это и означала; а отмена патриаршества при этом означала и церковный переворот и невиданную в истории абсолютизацию политической власти в обществе. Восстание стрельцов и его подавление путает здесь карты историку, чтобы увидеть истинный смысл произошедшей перемены, точно так же как выступление ГКЧП в 1991 г. и его разгон путают карты наивным наблюдателям в понимании политического переворота, совершенного тогда в России Б.Н. Ельциным не без участия западных спецслужб.) Однако, социальнокультурные революции – и петровская, и ленинская, и ельцинская – как мы видим из истории, все же никогда не приводили к катастрофам цивилизационного порядка; они маркировали собой только фазы кризиса цивилизации. Итак, логика революций почти всегда сопровождается логикой реставраций. Многое из того, что сделал И. Сталин в годы своего правления, было реставрацией утраченных в результате революции конструктивных основ жизни общества. Реставрация во Франции началась не после свержения Наполеона, а во многом осуществилась уже им. Если мы трактуем деятельность Петра I как революционную в социально-культурном отношении, то видим, что, будучи радикально-экстремистски нацеленной, она не могла не смениться периодом реставрации. Элементы такой реставрации прослеживаются на протяжении ряда последующих царствований: Екатерина II позволяет дворянам - наиболее активному сословию общества не только бороды носить, но и не служить вообще; Елизавета Петровна пресекает процессы частного предпринимательства, инициированные Петром, и переводит заводы и прииски в государственную собственность. Даже в царствовании Анны Иоанновны есть элементы реставрации: она ссылает активных «революционеров», таких как Меньшиков и Ганнибал, и переносит столицу назад в патриархальную Москву. В культурной же области волна реставрации - восстановления духовно-смысловой системы и культурноцивилизационной идентичности России приходится на ХIХ век – век живо прочувствованной цивилизационной оппозиции России Западу. Культура как сфера смыслообразования в формировании социальной и персональной субъектности в большей степени выражает связь общества с фундаментальными паттернами системы - представляет собой осознанное и «предвидящее» освоение системных аттракторов, которые в натуральных взаимодействиях и процессах возникают спонтанно и неосознанно. Ее эволюция в меньшей степени подлежит революционным скачкам, нежели процессы в технике, экономике политике. Она больше сориентирована на оптимум, а не на максимум. Хотя культуру часто пытаются идеологически «взорвать». Но за таким взрывом, как правило, стоит политический порыв или экономический интерес (о «новой России» мечтают, как правило, те, кто хотел бы ее возглавить или извлечь выгоду на основе данного вектора обновления). Политика может действовать рывками. Культура же так развиваться не может. И если такие рывки все же происходят, то они неизбежно ведут к фазам восстановления паттернов, а с другой стороны, ведут к невосполнимым потерям не только в области наследия, но и в сфере состояния культурного потенциала общества, включая и кризис культурной идентичности личностей, из которых это общество состоит. В литературе присутствуют верные характеристики такого колебательного процесса: «Россия уже в ХVIII веке стала на путь промежуточной цивилизации, в результате чего ее развитие приобрело странное зигзагообразное движение. Попытки модернизации раз за разом отбрасывались, шли трудно, со скрипом и на совершенно иной основе, чем, например, на Западе. Модернизация в России осуществлялась «сверху», по имперской модели, выборочно, то есть модернизировались, в основном военная техника и необходимые для этого отрасли. Развитие промышленности не сопровождалось ростом гражданских свобод, 108 но напротив, еще большим закабалением населения, свободомыслие неукоснительно изгонялось, принуждение к труду осуществлялось внеэкономическими средствами и т.д. Новшества чаще принимались и распространялись для утверждения старых структур и ценностей, что превращало модернизацию в традиционализирующий ее тип»130. Нет, это, конечно неверно. Стоит вспомнить реформы церковной жизни, происходившие в 18 в. – лишение церкви самостоятельности в рамках абсолютной – светско-духовной – монархии по английскому образцу и монстырские реформы Екатерины Великой, приведшие к падению значения духовного сословия в обществе; стоит вспомнить радикально вестернизированные реформы всех уровней власти, радикальную переустановку всей системы образования, вндрение западных стилей искусства и стиля всей жизни высшего света; стоит вспомнить развитие частного предпринимательства под гарантией и патронажем царской власти чтобы понять, что программа той модернизации была тотальной, хотя и не додуманной в деталях и последствиях и, главное, не охватившей всего общества – оставившей в стороне наиболее многочисленную его часть – крестьянство. Вероятно, это-то непоследовательность и неполнота преобразований и сделала возможной последующее возвратное цивилиазционное движение – от вестернизационного вектора к вектору самобытности. Подобный маятниковый процесс некоторые исследователь склонны объяснять колебанием России между архаикой традиционности и новациями: «Многие особенности развития России подтверждают, что она является промежуточной цивилизацией переходной формой от традиционной статичной к нетрадиционной динамичной цивилизации, оказавшейся неспособной завершить этот переход. Эта неспособность связана с расколом. Промежуточная цивилизация конфликтна, так как в ней постоянно происходят столкновения между обоими типами цивилизаций, раз за разом предпринимаются попытки выстроить формы перехода между ними, примирить, сгладить глубокие противоречия между противоположными ценностями, образцами, нормами, идеалами, свойственными традиционному и нетрадиционному обществам»131. Но эту фатальную непроходимость грани между традиционным и новационным обществами, очень трудно объяснить, если исходить из логики прагматического интеракционизма в трактовке жизни общества и из редукционистой (социально-функциональной) концепции культуры. Ее можно объяснить только исходя из понимания системообразующей роли культуры как носителя аттрактивного паттерна устойчивости социально-субъектного целого - если исходить из логики культуры как принципиально варантного типа смыслообразования. Логика размышлений о России как некоей промежуточной сфере влияния иных культурных миров - Запада и Востока - находит претворение и в логике ее извечной переходности: Своеобразие здесь может мыслиться как неразборчивое и парадоксальное состояние перехода от одних социокультурных форм к другим. Специфика отечественной ситуации в культуре в том и состоит, что общество остается переходным, и только ищет пути к модернизированной культуре, правовому государству, гражданскому обществу132. Такое состояние можно считать временным, но для России это время как бы затянулось слишком надолго. Но ищет ли действительно культура перехода к правовому государству, если право считается продуктом человеческой воли, а не инстанция, стоящей над нею? Ищет ли культура перехода к гражданскому обществу, если социальная деятельность понимается в смысловой перспективе служения, а не координации частных интересов и инициатив? Правильнее говорить именно об особом культурно-смысловом типе, характерном для России как цивилизации, наличие которого и делает модернизационные переходы вестернизационного толка столь затяжными, непоследовательными и противоречивыми. Особенности драматического конфликта ценностей определяются длительным сосуществованием в обществе идей типологически различных цивилизаций. Это приводит к длительному, иногда непрерывному идейному противостоянию в обществе, а иногда и к Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.83 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.83-84 132 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.101 130 131 109 соуиальному расколу. Но эта конфликтность захватывает и личность; напряженный социальный дискурс переносится во внутренне экзистенциальное поле сознания. Существуя в ситуации раскола, разлома культур, личность осваивает внутренне противоречивую культуру, формирует напряженный конфликтный внутренний мир, но, с другой стороны тяготеет к обретению культурно-типологической идентичности - находится в постоянном поиске собственной культурной идентификации в качестве смыслообразующего центра субъектной деятельности. При этом возникает проблема релятивизации критериев соизмеримости социальнокультурного развития разных цивилизаций. Появляется искушение ввести единую мерку: «Для определения подлинно прогрессивного есть критерий, выработанный самой историей. Критерий этот - гуманизм в двояком аспекте: как обозначение специфических свойств человеческой природы и как оценка этих свойств в смысле высшего, разумного и вместе с тем этического начала человеческого поведения и всей общественной жизни»133. Этот критерий преподносится здесь как надежный ориентир, позволяющий избежать релятивистских позиций при сравнении различных культур. Но единственный ли это критерий? И в чем все-таки логические основания такого рода критериев, если не считать, что они выбираются как произвольные аксиомы? Категория субъектности, рассуждая методологически строго, глубже категории человечности, включающей в себя обширные психологические, телесные контекстуальные связи. Субъектность - это квинтэссенция человека как личности, человечность же в качестве глубинного основания понимания субъектного бытия слишком расплывчата. Но и субъектность не есть последняя инстанция логического анализа трансцендентальных оснований человеческой социальной деятельности, поскольку сама субъектность есть особая структура самоопределения бытия. Это - рефлексивная структура, которую мы описываем в терминах смыслообразования. Культура же, как сфера формирования субъектности на фоне изначальной спонтанности и естественности, это опыт осмысления – не столько продукт человека, сколько его конституция, программа, устаналивающая само человеческое. Здесь-то и содержится основание для введения общего критерия сопоставления (но не сравнения – этот термин, предполагающий соизмерение по некоторой единой шкале, здесь не подходит) разных культурных типов – уровень смыслового преодоления и преобразования натурального бытия, лежащий в основе организации общества и целестремительности личности. Критерий преодоленной натуральности кажется более логичным и точным, чем расплывчатый критерий гуманного, в рамках которого организующе-осмысляющее начало растворено в естественном, культурное – в природном, так что условную границу между этими сторонами человеческого каждый может прокладывать произвольно. Но если напрямую применить критерий преодоленной натуральности, то, к примеру, носитель популярной культуры массового общества Запада выглядит менее культурным и больше похож на варвара, нежели представитель традиционной культуры исламского или восточно-азиатского мира. Впрочем, цивилизация Запада как культурная идентичность не сводится к распространению массовой культуры, это одновременно и высокая культура рационального дискурса, отнюдь не утрачивающая главных черт своей идентичности; и здесь уже – в этом аспекте переосмысления – Восток будет отставать от Запада. Кроме того, надо прийти к выводу, что такого рада сопоставление вообще должно иметь не оценочно-количественную характеристику уровня, а постигающей направленности на выявление качественного своеобразия культур. А критерий осмысленности как раз и позволяет это делать, не в падая в релятивизм интерпретаций. Однолинейность критериев прогресса приводит самих авторов такого подхода к недоуменным вопросам: «Возможно ли высокоразвитое индустриальное производство в условиях господства доэкономических отношений, исключения частного предпринимательства, рынка, товаров, труда, капиталов, иными словами без личности, 133 Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи. М.,1972. С.482. 110 считающей естественным и законным свободную творческую деятельность во всех сферах жизни, то есть господство частной инициативы?»134. Ну понятно, что логические связки «иными словами» и «то есть», означающие тождество тезисов, здесь внсены с намеренной теоретической неточностью – с желанием выдать идеологию за логический анализ. Индустриальное производство и соответствующие ему экономические отношения, частная инициатива и свободная творческая личность – это совершенно разные аспекты культуры и цивилизации. Творческая личность свободна именно в той мере, с какой сама задает целеполагающие горизонты своей деятельности, а делает она это на основе той смыслообразующей модели, благодаря которой устанавливается, складывается ее сознание. Да, понятно, что одни модели смыслообразования (рациональные) ближе к тому, чтобы на их основе воспроизводился экономический уклад частного предпринимательства; другие дальше от этого. С этими культурными основаниями действительно связана неравномерность социально-экономического развития, и эта логика взаимосвязи культурноэтических и экономических детерминант великолепно раскрыта М. Вебером. Но высокоразвитое индустриальное производство, конечно, возможно при любых социальных отношениях: ядерные технологии и ракетная техника разрабатывались в Советском Союзе в ведомстве Л.Берии, экономическая структура деятельности которого сводилась по сути к эксплуатации рабского труда. Но технологический уровень этого производства даже близко нельзя сопоставить с капиталистическим производством времен классиков буржуазной теории личности - Дж.Локка и Б. Франклина. Даже современные постидустриальные информационные технологии разрабатываются в Японии, например, не на всецелой основе либерально-партикулярной культуры личности. Я. Рейковски на основе анализа «коллективистической» и «индивидуалистической» ориентации подводит к выводу, что «общество, основанное на коллективистических принципах, не имеет шансов на процветание в современном мире»135. Правда, он делает исключения из этого обобщения для дальневосточных стран, в особенности Японии. Однако, это положение противоречит совершенно иному, но не менее значимому аспекту – аспекту массовости современного «эффективного» общества. Западный исследователь Д. Макдональд пишет: «Современное индустриальное общество /…/ идет в направлении превращения личности в человека массы /…/ Человек массы – это отдельный атом, схожий с миллионами других атомов, составляющих вместе «толпу одиноких» /…/ Парадоксально, но личность в сообществе и теснее связана с группой, чем человек массы, и, в то же самое время, свободней в развитии присущей ей индивидуальности /…/ Тоталитарные режимы, сознательно старавшиеся воспитать человека массы, систематически разрушали любые общинные связи /…/ перековывали их таким образом, что каждая атомизированная личность оказывалась на прямую связана с центром власти», «эта аморфность массы индивидов в сравнении со структурностью обществ, организованных на основе внерационального смыслообразования - неизбежное, хотя и не быстрое следствие автономизации сознания»136. Эффективное общество – это системный эффект натурального ряда – естественный эффект кооперирующей суммы, делающий усилия каждого члена кооперации потенциально более вознагражденными – эффект, который расплавляет в себе личности как системы. Человек в массовом обществе оказывается частичным человеком, напрямую связанным с этим эффектом суммы и при этом более человеком-потребителем, нежели человеком-творцом – ведь эффект кооперирующей суммы состоит не во вкладе, а в вознаграждении. Современное массовое общество – это общество нового коллективизма – коллективизма потребления, в котором стираются четкие грани личностей, сами личности растираются до элементного состава функций-желаний, а не коллективизма отдачи, в котором гигантский конвейер отнимал у личностей их автономии, но не разрушал личности как таковые. И именно это общество – массовое общество потребления наиболее Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.99 Рейковски Я. Движение от коллективизма // Психологический журнал. 1993. Т. 14. С. 29. 136 Макдональд Д. Масскульт и мидкульт // Российский ежегодник-90. М., 1990. Вып. 2. С. 245-246 134 135 111 эффективно, если за эффективность принять не эффекты решения социальных сверхзадач, а именно соотношение социальной отдачи и персонального вознаграждения – ту самую меру эффективности, которая измеряется деньгами. Такое общество менее сложно, чем личность. Оно похоже на машину эффективности, в которой актуализировано только человечески-витальное и проигнорировано человеческикультурное. (Общество это животное, которое состоит из людей.) Между тем, эффективное общество это абстракция; оно может складываться в той или иной модификации только в конкретном человеческом сообществе – в системе социальных коммуникаций и личностных идеальных типов, организованных как смысловое целое культуры. Оценивая ситуацию последних российских реформ, справедливо указывается на их несоотносимый с культурой и цивилизационной идентичностью характер: «Величайшая ошибка российских реформаторов 1991—1992 годов заключалась в их вере в возможность проведения экономических преобразований безотносительно к тому, имеют ли они опору в виде общественной нравственности и дееспособного государства. Отсутствие ясности в понимании перспектив развития, трезвой оценки сложившейся ситуации закономерно приводит к образованию огромного вакуума в мировоззренческой и нравственнопсихологической ориентации широких масс населения, особенно молодежи»137. Скажем прямо, те реформы были совершенно неуместны и поэтому подлежали, подлежат и еще, видимо, будут подлежать коррекции. Очередное движение маятника в направлении вестернизации, очевидно, инспирированное Западом, сокрушившим советскую систему через организацию серии переворотов – «дворцового» (1985), уличного (1991) и административно-военного (1993), – неизбежно компенсируется уравновешивающим движением в обратном направлении относительно оси смыслообразующего дискурса российской культуры, относительно оси ее цивилизационной идентичности. Культура как фактор социальной стабильности и идентичности – как фактор системно-смысловой организации сообщества задает главную систему координат, в которую так или иначе должны вписаться любые модернизационные проекты для того, чтобы они могли рассчитывать на успех. Это признают даже сторонники понимания универсальности социального прогресса как обновления всего человечества на основе гуманизма, либерализации и эффективности: «Инновации, которые не санкционированы в культуре, не воспринимаются в ней как "свои", как нечто привычное, комфортное, могут вызвать в обществе мощное массовое дискомфортное состояние»138. При этом признается, что именно культуре как главному фактору цивилизационной идентичности здесь принадлежит ведущая активная роль: «В идеале реформа не может навязываться обществу, но лишь стимулировать уже имеющие место процессы, в крайнем случае, возродить те, которые ранее имели место»139. Совершенно справедливо. Вырщиков А.Н., Никонов К.М. Российская национальная идея. Некоторые суждения о государственности, демократии и культуре, свободе и человеческом достоинстве. Волгоград, 1998, с.5 138 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.349 139 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.350 137 112 14. Россия в поисках пути к себе В поисках альтернатив индивидуалистически-прагматическому образу культуры как условию успешной модернизации, приемлемых для России, выдвигаются различные идеи. Одна из них - логически противоположная идее вестернизации - следование восточноазиатской модели модернизации. Так сторонники евразийства выдвигают экономическое обоснование необходимости использовать опыт некоммунистических стран Азии140. В сборнике «Россия в центро - периферическом мироустройстве» (2003) как образец возможного развития России описаны модели азиатского варианта капитализма в Южной Корее, на Тайване и в Сингапуре, утверждается, что перспективы развития взаимоотношений треугольника Россия – Индия – Китай реальнее в экономической, нежели в политической сфере141. Модернизации в соответствии с китайской моделью – при широких технологических заимствованиях и протекционистской роли государства – вызывает резонное симпатии многих142. По мнению В.В.Бушуева, возрождение России будет способствовать сочетание технологического мастерства и «соборной семейственности», присущей русскому и другим евразийским народам143. А. Гудзенко считает, что Россия представляет оригинальную модель европеизации «третьего мира»144. Евразийские идеи в современном варианте - это идеи отталкивания России от Европы. Так, например, А.И.Зимин в своей работе «Европоцентризм и русское культурно-историческое самосознание» критически оценивает историческое влияние европоцентричных и особенно христианских взглядов на русскую идентичность145. Один из перспективных проектов культурного развития России как цивилизационной идентичности связан с понятием «консервативный либерализм». В эту логику вписывается целый ряд вариантов, в том числе и модель «управляемой демократии». Так, А.П. Прохоров полагает, что Россия обретет себя, осознав и скорректировав традиционный способ управления деятельностью146. М.Ю. Алексеев и К.А. Крылов рассматривают перспективы бизнеса, выступая за «управляемую демократию» как лучший способ согласовать скрытый потенциал России с некоторыми ограничивающими возможности чертами русской действительности147. При этом отмечается, что существенным отличием между двумя формами либерализма – радикальным и консервативным – является отношение к проблеме самобытности России. Логика консервативного либерализма противостоит и традиционному консерватизму, осмысляющему проблему самобытности культуры в терминах божественного промысла, судьбы, вневременной универсальной сущности. Но она противостоит и либеральному радикализму, вообще избегающему темы самобытности, не признающему, что таковая в принципе существует или заслуживает особого внимания. Как пишет С.Я.Матвеева, «ценность консервативного либерализма в другом: он пытается прорабатывать либеральную парадигму, ее основные идеи и принципы на почвенном материале, с учетом конкретных нравственных идеалов, исторически сложившегося регионального и профессионального опыта»148. Нам же кажется, что речь здесь идет вовсе не о вариации либерального проекта, а как раз о способе «улучшить» за счет элемента Россия в центро - периферическом мироустройстве / Под. ред. Д. Глинского. М., 2003 Лунев С. Глобальные тенденции и перспективы развития отношений в треугольнике «Россия – Индия – Китай». С. 190-205 142 В частности, см.: Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001. М., 2003 143 Бушуев В.В. Я-мы-они. Россиянство. М., 1997 144 Гудзенко А. Русский менталитет. М., 2001 145 Зимин А. И. Европоцентризм и русское культурно-историческое самосознание. М., 2000 146 Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2002 147 Алексеев М.Ю., Крылов К.А. Особенности национального поведения. М., 2001 148 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с. 308 140 141 113 демократии традиционную модель управления-подчинения, характерную для России как культурного типа. Само это оригинальное сочетание понятий: консервативный либерализм – попытка соединить общеэволюционные и самобытные факторы в предсказании направления социокультурной динамики. Но нельзя преувеличивать либеральные трансформации, происходящие в российском обществе на рубеже 20-21 вв. Этого не делают даже вдумчивые энтузиасты либеральной теории: «Либерализм не стал основой повседневного содержания культуры, образа жизни, социальных отношений, всей воспроизводственной деятельности общества, включая хозяйственную. Это практически означает, что либерализм как господствующая нравственная система находится под постоянным критическим нажимом, исходящим буквально из каждой точки общества, что под покровом либерализма в действительности скрыты иные, возможно нелиберальные и даже антилиберальные пласты культуры»149. Не только не стал, но и не мог стать, ибо он вообще не присущ тому типу смыслообразования, на котором построена русская культура. В свое время Н. А. Бердяев утверждал: «В России никогда не было либеральной идеологии, которая бы вдохновляла и имела влияние». Эта мысль отражена и в обобщающей работе Ф. Коплстона «Философия в России. От Герцена до Ленина и Бердяева», в рассуждениях современного московского философа Э. Ю. Соловьева и др. Как правило, признается, что и в царской России, а затем и в СССР модернизация была вызвана скорее экзогенными, нежели эндогенными факторами. Место страны на мировой арене главным образом, а не стремление к богатству и благополучию внутри нее стали источником модернизационных импульсов. Эти процессы были вызваны осознанием отставания страны в ряде сфер жизни – а именно в рационально-технологических аспектах производства, институциализации и социальной организации. Здесь действовала логика компенсации, причем, естественно, носившая хронический характер. Немаловажным фактором было и стремление к поддержанию привлекательного, благоприятного образа страны в европейском культурном пространстве (включавшем в советские годы и страны социалистической ориентации, и страны с высоким уровнем авторитета и влияния социалистических идей), что всегда было важным политическим преимуществом. И сегодня, как кажется, многие реформы вызваны порой несколько абстрактным, но всегда прагматически важным стремлением политической власти к гомогенизации российского пространства с европейским. Иногда этой внешней, геополитической прагматике в жертву приносятся реальные внутренние интересы российского общества. Интеграция с Европой крайне выгодна России политически: ведь если такая интеграция зайдет далеко, это сделает единую Евро-Россию бесспорным центром мировой цивилизации и это сделает Москву, а не Лондон и Париж подлинным стратегическим центром этой Суперевропы. Цели этого стремления к интеграции понятны (хотя они и не совпадают с интересами многих стран Запада, прежде всего Америки и Англии), но культурно-цивилиазционные последствия, как представляется, при этом просто не берутся во внимание. А они как раз будут состоять тогда в постепенном нивелировании культурной идентичности России, в поэтапном превращении ее территории в колонизуемую периферию Европы, а ее населения в расслоенную массу а) почти признанных «европейцев» и б) недоевропейцев. Национальное наследие при этом будет квалифицироваться так же двуслойно; его оригинальный смыслообразующий пафос окажется невостребуемым. Таким образом, в объяснении специфики импульсов модернизации в России по западному образцу действует логика цивилизационной компенсации и логика контактности в противовес изоляции – что само по себе прагматически верно, и эта прекрасно вписывается в теоретическое видение российской культурно-цивилизационной идентичности как особого смыслового типа, как раз и нуждающегося в таких компенсациях за счет заимствований. Ведь то, что пишет А.С.Панарин, совершенно верно: «Всякое цивилизационное 149 Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я. Матвеева). М.,1993, с.308-309 114 самосознание противостоит натурализму - иллюзии "естественных состояний", с одной стороны, и безмерному ценностному релятивизму - с другой. Всякое натуралистическое благодушие в духе того, что человек по самой своей природе добр и его не следует стеснять, чуждо цивилизационному самосознанию, цивилизованность противоположна наиболее вероятным, стихийно воспроизводимым состояниям мира, что она есть, одновременно, высокая и хрупкая искусственность. С другой стороны, цивилизационное самосознание актуализируется в присутствии другого - при столкновении с другими культурноисторическими типами, обладающими иными нормами, принципами жизнестроения. Антитеза "мы - они" играет решающую роль не только в социальной психологии, но и в культурно-историческом "метаопыте", касающемся различий глобального типа. Здесь мы сталкиваемся со сложной проблемой смысла жизни. В основе смысловых определений, согласно семиотической и структуралисткой методологии, лежит оппозиция, различение. Смысл обретается посредством чувства отличия и в ряде случаев - превосходства нашего мира по отношению к иным мирам, посредством разрыва монотонности, которая ассоциируется не со смыслом, а с естественностью – с фоном для проявления смысла как преобразования спонтанности. Смысл жизни открывается как осознание беспрецедентности, уникальности задач, возможностей и перспектив, открывающихся именно перед нашим временем, нашей цивилизацией. Всякое прозрение относительно банальности этих задач ведет к утрате смысла, что в индивидуальном плане нередко приводит к попыткам самоубийства, а в опыте поколений - к деморализации, к ощущению "безвременья". Цивилизация, как и поколение, должна верить в свою миссию»150. В этом ощущении миссии (задачи, цели) как феноменов манифестации смысла – причина несводимости смыслообразующих начал к универсализации и унификации. Высшие цели человеческой жизни вариантны; иерархия целей и средств подвижна при переходе из одного культурного мира к другому, при том, что как за целями, так и за средствами лежат всегда и везде позитивные ценности, то есть, в общем-то, «универсалии культуры». Так, жизнь показывает, что западные ценности и ориентиры далеко не всегда гармонируют с идеалом русского народа, при этом сохраняя свой статус признанных ценностей. Для нас это просто ценности второго ранга – ценности-средства, а не ценностицели. В России было и есть иное представление о нормах человеческой жизни, ее ценностях, о значении свободы (воли) для человека, нежели на Западе. То, что на Западе выглядит как средство, в рамках российской культурной идентичности предстает как смыслообразующий центр, как цель – и, соответственно, наоборот. Отмечается, что свой особый смысл русские люди вкладывали и в понятие счастья, которое всегда связывалось со стремлением к высшей правде, непринятием узкоэгоистической морали. Социальный идеал, так или иначе, связывается с идеей справедливости устройства государственной жизни и жизни рядового труженика151. При этом «нам», носителям российской цивилизационной идентичности, искренне непонятно стремление к эффективности деятельности как таковой, к расчету и накоплению средств, абстрактно выражающих индекс такой эффективности. Эффективность воспринимается только как средство для чего-то реального, для самореализации в конечном счете. Так же и человеку Запада не понятно стремление к социальной справедливости как таковой без привязки к чьему-то конкретному интересу. Хотя при этом логическом различии и справедливость, и эффективность остаются ценностными универсалиями культуры, принимаемыми и в России. Понимание вторичности некоторых универсалий культуры по отношению к ее смыслообразующим спецификациям – «общечеловеческих ценностей» по отношению к персонально организованному ценностному миру заставляет заострить тезисы цивилизационного подхода в противовес формационности и прогрессизму. С позиций Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.15-16 151 Вырщиков А.Н., Никонов К.М. Российская национальная идея. Некоторые суждения о государственности, демократии и культуре, свободе и человеческом достоинстве. Волгоград, 1998 150 115 абстрактного линейного прогрессизма и глобально-эволюционного понимания истории, которое наиболее ярко наиболее ярко представлены теоретической парадигмой К. Маркса, основные политические конфликты в мире объясняются как эпифеномены социальноэкономических перемен глобально-эпохального значения (или, как в концепции Э.Тоффлера – социально-технологических перемен). Согласно такому пониманию движение армии Наполеона в Россию было бы досадно упущенным шансом ускорить социально-культурное развитие страны, опередив историю на полвека. Но мы прекрасно пониманием, что просвещенная и даже потом реакционная монархия была для существования и развития Российской цивилизации, как минимум, меньшим злом в таком сопоставлении, потому что именно она оградила страну от крайностей вестернизации – от возможности потерять идентичность и тем самым направить развитие событий к опасному состоянию бифуркации цивилизационной системы и даже к утрате аттрактора ее культурной идентичности. Эта историческая аналогия применима и к сегодняшней ситуации: сохранение идентичности социально-культурного субъекта цивилизации как системы сквозь все модернизационные идеи пробивается как приоритетная задача; все же, что может модернизироваться без риска потерять саму субъектность динамичной системы - это сфера приспособления к социальным, геополитическим и экономическим условиям, то есть сфера технологии - в ее широком, категориальном значении. Еще в XIX веке Кавелин, отмечая различие исторических путей России и Европы и подчеркивая необходимость взаимодействия двух родственных культур, приходит к выводу, что формы жизни у всякого живого и развивающегося народа складываются в определенные начала под воздействием всех условий и обстоятельств его существования. Этот общий закон, по мнению ученого, остается неизменным и в том случае, когда один народ перенимает формы жизни у другого: они определяют его жизнь лишь настолько, насколько им ассимилированы и усвоены, а усвоено и ассимилировано может быть только то, что отвечает существу и потребностям народа. Исходя из этого, Кавелин утверждает, что влияние Запада могло лишь ускорить собственное развитие России по пути общечеловеческой цивилизации. И, добавим, это могло произойти не путем тотального переноса заимствуемых форм, а путем межкультурного диалога, частью которого оказывается и гомогенизация заимствований. Как пишет Е.Б.Рашковский, «культурно-цивилизационный облик каждого региона формируется не просто сочетанием исходных данных его развития... и результатов внешних заимствований, но и /.../ самой динамикой /.../ межрегиональных, межэтнических и межстрановых коммуникаций»152. Но это не только динамика позитивных заимствований и эволюционной универсальности, которую она стимулирует, но и динамика разрушений, кризисов и даже катастроф - как раз тогда, когда это касается попыток переносов, перестроек и замещений культурно-смысловых типов. То есть касается самоощущения и «здоровья» самих субъектов культурно-осмысляющей деятельности. Есть глубинные структуры культуры и общества, разрушение которых подобна смерти. Такие структуры есть и у российской цивилизации – о них давно пытаются говорить, но теоретически строго они до сих пор не были выделены. Это структуры, образующие саму специфическую субъектность культуры как преодоления натуральности - субъектность персональную, равно как и социальную. Несколько риторически пафосно, но верно говорит А. С. Панарин: «Самоценность России означает в методологическом отношении, что ее историческую судьбу нельзя просто дедуцировать из неких "более общих" понятий, в том числе и таких как прогресс и демократия, а в аксиологическом отношении - что нет таких целей и ценностей, во имя которых можно пожертвовать Россией». Поддержание идентичности субъекта социального и персонального культурного преобразования мира - это неустранимая основа для всех форм адаптации (технологий, включающих и социальные, и Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX-XX века. М., 1990. С. 13 152 116 информационные), при том формы адаптации модифицируемы и совершенствуемы - но всегда в соответствии с целями смыслового преобразования естественности, которое лежит в основе культуры как опыта осмысления. Поэтому логика взаимодействия цивилизаций как движущая сила эволюции как раз и связана с творческим синтезом, с процессами синергии гетерогенных цивилизационных форм, дающих новую гармонию, не снижая конструктивного потенциала диалога. Итак, говоря о направленности и динамики эволюции, сегодня нельзя игнорировать культурно-цивилизационное многообразие мира, которое и впредь будет сохраняться, обретая новые формы; то, что творческое прочтение чужого опыта продуктивнее пассивного заимствования. Надо говорить о разнообразии путей, связанных «с наложением цивилизационных универсалий современного мира на унаследованные "коды" сложившихся культур и цивилизаций, нетривиальном решении, состоящем не в том, чтобы догонять и опережать Запад в заданном им самим направлении, а в том, чтобы предложить новые правила игры и новые цивилизационные приоритеты153. Такова ведь и общая методологическая стратегия постмодерна – видеть сложность и гетерогенность мира и общества, не стремясь свести его к единому и единственному истоку и, соответственно, не стремясь повести по единственной верной дороге. Мы видим, что в приложении к реальности эта стратегия боле верна, нежели любая редукционистская модель. Верно, отмечается, что до нашего времени цивилизационные синтезы никогда не были по настоящему глобальными – они больше соответствовали логике «плюрализма цивилизаций». Но и сегодня прогнозы о мире, руководствующимся логикой «столкновения цивилизаций», а не умиротворенном в последнем универсальном синтезе представляются наиболее вероятными. Именно потому, что каждая из цивилизаций – постольку, поскольку она представляет не сводимый к другим опыт культурно-смыслового преодоления человеком и обществом натуральной спонтанности существования – могла бы претендовать на свой альтернативный сценарий глобализации. Этих сценариев в принципе может быть несколько, и на тех или иных этапах истории то один, то другой кажется более привлекательным. И никогда ни один не кажется способным заменить все прочие – не кажется курсом, которым должны двигаться все. Так обстоит дело и сегодня, так видится межцивилизационное развитие и в футурологической перспективе. Ограниченность вестернизационной перспективы для многих очевидна, в том числе и для серьезных аналитиков на Западе. Но в чем состоит в этом контексте цель других цивилизаций, в частности, цель России. И.Л. Андреев находит следующие аргументы, что обосновать самобытность развития России: «Действительно ли национальной идеей России является несбыточная мечта о волшебном превращении в «Запад»? Или ей по силам и по интересам другой маршрут в мировое информационное сообщество, а значит, и иной формат международного сотрудничества? Одна из ключевых задач отечественной науки – поиск оптимальной и перспективной формулы российского пути к вершинам цивилизации. Это тем более актуально, поскольку нередко оправдывавшее себя в прошлом «догоняющее» развитие в жестко конкурентном многополярном мире заведомо ставит нашу страну в невыгодное положение»154. Да, и дело здесь не только в своем «коротком» пути, а в наличии своей цели – своих «вершин», которые уже находятся в России. Этот особый путь высвечивается в особом идейном плане. В 1990-е годы появлялось много работ, посвященных «русской идее»: Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995, Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Русские идеи // Политические исследования. 1997. № 2. С. 118-140; Боков Х.Х., Алексеев С.В. Российская идея и национальная идеология народов России. М., 1996; Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г.Идеологические ориентиры России: В 2 т. М., 1998; Маслин М.А. Русская идея. М., 1992; Розов Н.С. Национальная идея Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.242 154 Андреев И.Л. Еще раз об обустройстве России // Вестник Российской академии наук. 2001. Т. 71. № 1. С. 39 153 117 как императив разума // Вопросы философии. 1997. № 10. С. 13-28; Фомин С. О русской национальной идее // Москва. 2000. № 1. С. 215-224; Козлов В. История трагедии великого народа. Русский вопрос. М., 1986. В. Межуев по-своему убедительно доказывает, что «русская идея» представляет скорее продолжение, а не отрицание западной цивилизации155. В подобном же ключе звучит и преобразование «русской идеи» в Российскую», например, в рассуждениях В.А. Тишкова о преобладании гражданского национализма над этническим156. Порой сама концепция «русской идеи» рассматривается как источник идейной опасности157. Ряд авторов считают «русскую идею» фантомом: И.Клямкин и Т. Кутковец в 1996 г. высказали предположение, что постоянные разговоры об «особом пути» России являются по сути «психологической компенсацией» нынешних бед «страны, которая еще не рассталась со своим прошлым, но не хочет к нему возвращаться». Вряд ли эта точка зрения убедительна. С другой стороны, много работ – и статей, и монографий, и публицистики, и учебников – проникнуты идеей поднятия национального сознания России. Ярко эта мысль выражена, в частности, Вырщиковым А.Н. и Никоновым К.М.: «Россия прежде всего должна подняться, обрести себя, заявить о своей культурной самодостаточности. А вопрос о том, куда идти — к "западническому модернизму" или к "евразийским проектам реформирования" (предмет дискуссии), — это покажет время». «У России достаточно потенциальных сил для творения собственной истории». Критическое рассмотрение таких подходов приводит к вопросам: «Что значит обрести себя и что значит культурная самодостаточность, если никакого содержания в этом еще нет и его только потом надо будет найти, выбирая пути развития и прогресса?»158. Это всего лишь риторика, причем риторика не более оправданная, нежели риторика «западничества» или «евразийства». Гораздо более верной теорией, объясняющей процесс модернизации как процесс приспособления идентичной культурно-смысловой системы к условиям окружающего мира, является теория, высказанная А.С. Панариным: «Модернизация выступает как ответ на вызов со стороны динамичной западной цивилизации: предстоит либо достойно ответить на этот вызов, либо капитулировать, превратившись в периферию этой цивилизации. И, разумеется, нынешняя модернизация тем отличается от предыдущих, что протекает в контексте общемирового сдвига, связанного с переходом от индустриального общества к постиндустриальному», - пишет исследователь159. При этом понятно, что совершенствоваться и модернизироваться должны именно приспособительные механизмы, не приводя к системной трансформации самого социального (и персонального) субъекта, что бы означало не только утрату идентичности, но и разрушение субъектно-смыслового центра. То есть совершенствоваться и модернизироваться будут технологии – в самом широком понимании этой категории – в том числе и на основе заимствований, как это и происходило везде и всегда, а базовый паттерн и смысловой аттрактор культуры как системы должен будет оставаться основанием ее идентичности и гарантом ее существования. В связи с этим надо признать вслед за А.С. Панариным, что «представление об общественном прогрессе как о системе изначально универсалистских импульсов, автоматически действующих в любой национально-культурной среде, игнорировало Межуев В. О национальной идее // Вопросы философии. 1997. № 12. С. 3-14 Тишков В.А. Забыть о нации // Вопросы философии. 1998. № 9. С. 3-26 157 Острецов В. Русская идея как факт фальсификации // Русский вестник. 1992. С. 41-44), Солодский Б.С. Русская идея: концепция спасения или провокация конфликта // Русская цивилизация: соборность / Под ред. Е.Троицкого. М., 1994. С. 70-77 158 Вырщиков А.Н., Никонов К.М. Российская национальная идея. Некоторые суждения о государственности, демократии и культуре, свободе и человеческом достоинстве. Волгоград, 1998 159 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.6 155 156 118 культурную морфологию современного мира»160. Пожалуй, именно это представление о культурно нейтральных механизмах прогресса и породило попытки механического переноса институтов западной демократии на российскую почву без учета трудностей, сопутствующих социокультурным барьерам, без учета культурной идентичности самого социального субъекта – оригинальной российской цивилизации. Это стратегия отказа от риска самобытного исторического творчества в пользу присоединения России к готовой западной модели. Хочется повторить слова Н.Я.Данилевского: «Прогресс цивилизации состоит не в том, чтобы всем пройти одним путем, а в том, чтобы исходить все поле в разных направлениях». Теперь нам только лучше, чем полтора века назад, видна карта этого «поля» и конфигурации возможных путей, по которым идут цивилизации, каждая из которых имеет целью свое направление. 15. Диалог как фактор развития культуры После всего сказанного надо однако обратить внимание, что культурно смысловая целостность не является и итогом одной лишь традиционалистской замкнутости. Напротив – она – результат постоянного диалогового взаимодействия многих смыслообразующих моделей. Эта устойчивость все время прорастает и воссоздается как логическая альтернатива, вскрывающаяся в таком диалоге. Диалектика дифференциации и интеграции (универсализации) одновременно связана и с определяющим взаимодействием традиции, актуального опыта и влияний. А.С. Панарин пишет: «Историческое творчество /…/ одновременно, является и свободным для импровизаций, и "слепым" по части своих отдаленных последствий. Оно осуществляется в поле взаимодействия собственного исторического прошлого (давления национальных традиций), современного опыта и внешних влияний (главным образом, со стороны наиболее преуспевающих народов, играющих роль "референтной группы" - предмета зависти и подражания). Относительное влияние этих трех составляющих никогда не бывает постоянным и предопределенным - в этой неопределенности и таится источник свободы цивилизационного выбора. В то же время поведение народа в зоне исторического творчества (в особенности, в рисковые переходные эпохи) должно вписываться в систему цивилизованных норм и ожиданий - подобно тому, как личные социальные импровизации индивида не должны нарушать общезначимых кодексов поведения»161. Но к этому ансамблю причин надо добавить и роль системного аттрактора их взаимодействия - роль культурно смыслового типа, который является устойчивой по своей структуре конфигурацией организации опыта как смыслового преодоления (преобразовании) непосредственно спонтанного существования - как логически устойчивый вариант такого преобразования. Именно в условиях сложившихся культурно смысловых паттернов, носителями которых выступают различные контактирующие между собой цивилизации, диалог – это главный определяющий фактор культурной динамики. Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.7 161 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийсивом). М., 1994, с.15 160 119 Но условие конструктивности диалога – свободная мотивация к его ведению и симметрия его дискурсивных тем. Диалог должен быть «обоюдоострым». Только тогда он будет равноценно значимым для ведущих его сторон. На значимость особенностей культур Востока и Запада в их диалоге обращает внимание иранский лидер М. Хатами. Он считает, что в него должны быть включен целый ряд кризисов: кризис семьи, кризис во взаимоотношениях человека и природы, этический кризис в области научных исследований и другие, чтобы диалог между исламским миром и Европой был успешным. «Очень важно, чтобы диалог, - подчеркивает М. Хатами, - основывался на свободе и свободном волеизъявлении, а в ходе диалога ни одну идею нельзя было бы навязать другой стороне»162. Это означает приоритет принципов уважения независимости и самобытности каждой из сторон, смысловой и целостность их идеологий и культур (Тезис неприкосновенности ценностно-идеологических миров, который в связи с этим часто вспоминается, видимо придется не считать основополагающим: плюральный глобально-мультикультурный мир не дает уже таких гарантированных возможностей; неприкосновенность возможна только в условиях изоляции, которая противоречит как коммуникативным процессам современного мира, так, собственно, и идее диалога). Но такой диалог может оказаться и взаимной манифестацией несоизмеримых смысловых систем, а его конструктивность может раствориться в слабых тезисах плюрализма, релятивизма и толерантности. В мировом масштабе, - пишет французский исследователь А.Бенуа, - основное противоречие развертывается не между правыми и левыми, социалистами и либералами, фашизмом и коммунизмом, "тоталитаризмом" и демократией. Оно пролегает между сторонниками одновариантного в культурном отношении мира и защитниками плюралистического мира, основанного на разнообразии культур 163. В постиндустриальном обществе, базирующемся на всеобщем духовном производстве, на возможностях, вытекающих из мирового разделения труда, диалога цивилизаций и культур, необходимо утверждение нового образа демократии – демократии культур. Он связан с презумпцией неиерархичности мировых типов социокультурного опыта, с признанием самоценности культурного разнообразия мира. Впрочем, это вовсе не гармоничный образ идиллии, а динамичный образ конкуренции. В связи с этой логикой А.С. Панарин пишет: «История не ждет отстающих: гегемония переходит в руки пионеров, раньше других предложивших какие-то перспективные цивилизационные решения. "Отстающим" приходится прибегать к заимствованиям»164. Естественно при этом, что лидеры стремятся сохранить доминирование, находя способы усиления зависимости других стран от них. Английский исследователь Дж. Робертс в книге «Триумф Запада» акцентирует внимание на стремлении Запада играть первую скрипку в становящейся планетарной цивилизации, ибо история всей мировой цивилизации (рассматриваемой с 1700 г.) движется в направлении, заданном успехами Запада165. И при этом он же замечает, что над Западом нависла угроза — потеря привилегии выступать от имени других и во имя всех. Отказ от понимания цивилизационного опыта Запада как от универсального вовсе не означает, что его надо отвергнуть тем, чтобы избавиться как от навязчивого глобалистского проекта. Навязчивость глобалистского проекта может исходить и из других цивилизационных источников - его в принципе может предложить исламский мир - в виде исламизации мира, китайский мир, в недавнем прошлом такие предложения исходили и из Москвы как столицы всего «прогрессивного человечества». Признать ограниченность вестернизационного проекта это значит признать его ценность, которая и состоит в его уникальность, как это делает С.Хантингтон. Хатами М. Ислам, диалог культур и гражданское общество. М., 2001. С. 27-28. Benoist A. de. Europe, Tiere monde, meme combat. P., 1986. P. 17. 164 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийсивом). М., 1994, с.74 165 Roberts T. The Triumph of West. L., 1990. P. 427 162 163 120 Диалогичный характер социокультурного развития явно пробивается и в недрах самой глобалистской стратегии. Никакой «единый мир» – мир умиротворенно единый – представить нельзя – он все равно зависает в напряженном пространстве диалога. Но как раз диалог-то обновляюще плодотворен. Но межцивилизационный диалог это все же обмен не одной технологической информацией. Это и напряженная дискуссия о ценностях, цели и смысле культурного существования - это открытая конкуренция культурно-смысловых систем. И реально в этом обмене вовсе не легко отличить информацию технологического значения от информационной модели, направленной на преобразование базовых смысловых паттернов. Нелегко отличить социально-технологические рецепты от идей изменения субъектной идентичности. Это взвешивание происходит в реальной жизни культуры и цивилизации, часто обретая черты полемики и драматизма – именно так, как это выглядело в России 18-21 веков – веков интенсивного включения заимствований в собственный опыт цивилизации. Отмечается, что культура в ее динамике предстает продуктом межкультурного информационного обмена: если оставлять этот процесс неконтролируемым, он непременно породит асимметрию в пользу ускоренного заимствования общей социокультурной информации за счет прикладной166. То есть заимствование кардинальных базовых паттернов вместе с периферийными. С этим тезисом нельзя согласиться без привлечения каких-то дополнительных аргументов, поскольку история знает немало примеров обратного соотношения. Но согласиться можно с тем, что коммуницирующие системы в силу спонтанных тенденций энтропии стремятся к состоянию однородности, в котором уровень информации и энергии убывает. Свести высокую культурно-смысловую организацию к относительно экстенсивной адаптационно-технологической легче, чем произвести обратную трансформацию. Поддержание интенсивных смыслообразующих связей системы требует постоянного энерго-информационного напряжения постоянной переработки высвобождающееся энергии в информацию структурных связей системы. Самый простой выход, который многим приходит в голову – заизолировать систему. Но изоляционизм проблемы не решает, поскольку перетекание энергии высоких смысловых связей в адаптационные формы продолжается и в изолированной системе, причем коварно незаметно. Социокультурная система как бы медленно замирает в состоянии бытового традиционализма, где «испаряется» напряжение смыслового преодоления существования, генетически лежащее в основе культуры. Так религия превращается в изолированном обществе в бытовой ритуальный уклад, поэзия в традиционный фольклор, технические прозрения в привычные удобства, а эвристика познания - в мифологию само собой очевидных аксиом. Без постоянных усилий смыслообразования культура вырождается в технологию. А диалог цивилизаций как раз не позволяет ей перейти к такого рода стагнации. Он заостряет смыслообразующую доминанту собственной культуры, приводит ее из латентного состояния очевидности в поляризованное состояние активного дискурса. Другой ответ - это защита смыслового паттерна культуры в условиях открытых коммуникаций. «Одним из наиболее эффективных барьеров на пути неупорядоченных межкультурных заимствований, - пишет современный исследователь, - является мобилизация протекционистских идеологий. Яркой разновидностью этого типа является национализм. Ни одно общество, испытывающее потребность в мобилизации ресурсов для ускоренной мобилизации, не избежало национализма. И на Востоке (Тайвань, Южная Корея, Япония), и на Западе (Франция времен голлизма) мы наблюдаем примеры этого. Модернизационный национализм представляет особого типа мембрану, проницаемую для «прескриптивной информации» (заимствование производственных, военных, Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийсивом). М., 1994, с.313 166 121 организационно-управленческих технологий), но мало проницаемую для «дескриптивной информации», модернизирующей подсистему целей, но не средств167. Третий же ответ - интенсификация смыслообразующего поля культурной идентичности - не чуждающаяся открытого диалога и не сводимая к созданию идеологий по принципу «мы» - «они», по образцу славянофильства, Третьего Рима или коммунистической надежды человечества. В отличие от конструктивно-идеологического проекта, этот проект по преимуществу рефлексивный - он нацелен на выявление незаменимой уникальности смыслообразующей системы, на анализе неповторимости и непреходящей ценности опыта культуры – при глубоком понимании и откровенном признании его приоритетов и недостатков. Ведь понимание недостатков способно запустить компенсаторные механизмы, тем самым, содействуя развитию и совершенствованию системы без утраты ею идентичности. Именно таким образом может быть наиболее эффективно проведен принцип, согласно которому «любые социальные преобразования должны быть увязаны с осевой идеей этой цивилизации, без чего либо цивилизация разрушится, либо преобразования останутся мнимыми»168. При этом надо помнить, что смысловой космос культуры не однороден – он сам есть конструктивный диалог согласования разных смыслообразующих мотивов, ведущий к устойчиво-иерархической системе смысла и регулируемый ею. Собственно и современная цивилизация как таковая во всех сферах являет нам гетерогенные типы. Верно, отмечается, что и опыт современного Просвещения - это герменевтический опыт понимания и легитимации другого. И адекватная стратегия современных модернизаций «состоит не в том, чтобы заменить устаревшие модели какой-то единственно верной и эффективной. Именно здесь кроется принципиальная ошибка наших адептов западничества. Модернизация состоит в переходе от монологического типа личности, верующей в одновариантные решения, к личности "на рубеже культур", мобилизующей множество типов культурного опыта»169. Российская же цивилизация как культурно-смысловая идентичность представляет собой один из необходимых и незаменимых для человечества вариантов такой координации направления и типов культурного опыта. При этом хочется вновь отметить, что существуют два различных полюса организации взаимодействия сознательно активного субъекта - человека с натуральностью мира - 1) технология; 2) культура. При кажущемся и даже привычном единстве этих понятий, они способны выразить два разных принципа - 1) принцип приспособления; 2) принцип переосмысления. Под технологией здесь надо понять не только механизмы и деятельные схемы функционирования человеческого существа среди природы и общества, а все то, что выражает логику приспособления к натурально-социальному существованию, смысл которого при этом не меняется, и только место человека в этой системе становится более удобным и выгодным. При этом между двумя категориально выделяемыми принципами есть различие не только в направленности, но и в динамике преобразований, которые они испытывают. В частности, прогресс возможен только в сфере технологии и при этом он в принципе универсален. Установки же культуры тяготеют к смыслообразующей устойчивости - к определенному типу осознания, выход из которого означает утрату смыслового преобразования натуральности существования, переход к другому типу принципиально дискретен. Но эта устойчивость оказывается динамической устойчивостью – устойчивостью переосмысления, обретаемому как в оппозиции натуральности, так и в оппозиции к другим смысловым образцам, В силу универсальности технологических Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.313 168 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.390 169 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М., 1994, с.396 167 122 преобразований, возможна модернизация как общечеловеческий процесс, при котором новации распространяются на все цивилизации, хотя и исходят из тех, сам склад культуры в которых больше предрасположен к технологическому творчеству - но принимаются и другими, хотя и только в виде включения в их смысловую систему. В силу уникальности культуры возможен смыслопорождающий диалог, в том числе провоцирующий и соревнование в области технологий – как заимствование, так и разработку собственных аналогов. Это логически разрешает тот парадокс или проблемный узел, который заостренно выражается в виде дилеммы: или логика эволюции (прогресса, модернизации…), или логика типологического многообразия культур в их равноценности. Можно сказать более упрощенно, что принцип культуры как переосмысления натуральности человеческого существования функционально направлен на формирование самого субъекта культурной деятельности и цивилизационного единства, а принцип технологии - на адаптацию субъекта к среде его существования. Субъект как таковой в такой системе всегда относительно более дискретен и статичен, адаптационная же деятельность динамична. И эта динамика как раз и порождает эффекты «скорости» и «обгона» одних цивилизационных субъектов другими, равно как и динамичные волны влияний и заимствований. Значит ли это, что динамика не касается самих культурных типов, особенно если учесть их взаимодействие, общение и диалог? Но такая динамика как раз и касается эволюции и прогресса. Часто она выражает столкновение - а затем губительную трансформацию, а в лучшем случае замещение одного культурного типа другим. Но диалог может оказаться и конструктивным, если учитывать, что он ведется на основе равноценных и при этом различных смыслообразующих систем, образующих ядро культурной идентичности, если его нацеленность в качестве диалога не в подчинении одной системы другой, а в выявлении асимметричных приоритетов одной системы перед другой, делающих их незаменимо взаимодополнительными. Вместо заключения: Культура России в вихре непредсказуемой динамики Первое, что привнесла новая ситуация в развитие отечественной культуры в посттоталитарный период - это реальный плюрализм (политический, идеологический, методологический, стилистический и т д) «На смену единственно допускавшейся идеологии, - пишет И. В. Кондаков, - монополизированной научно-познавательной методологии, целостному (тоталитарному) мировоззрению (столь характерным для советского периода истории русской культуры) приходит период «разброда и шатания», по контрасту с еще недавно жесткой одномерностью и заданностью социокультурного развития кажущийся «хаосом», «распадом», «развалом» и т. п.»170. Но это скорее не плюрализм мозаики, а Кондаков И.В. Культура России. Часть 1. Русская культура: краткий очерк истории теории. –М.: Книжный дом «Университет», 2000 – с. 294 170 123 плюрализм активных взаимодействий – плюрализм непредсказуемых смешений и отталкиваний. Современная ситуация в культуре действительно может быть довольно адекватно охарактеризована в терминах диффузионизма: взаимопроникновения и смешения культурных образцов различного происхождения в рамках одного социального пространства, активных процессов взаимовлияния культур и культурных заимствований. Однако, если вспомнить истоки этого понятия диффузии в культурологии, надо заметить, что сам автор этой теории А. Кребер в свое время указывал на принципиальную относительность культурной диффузии: заимствованию подлежат, как правило, только некоторые элементы и сферы культуры, тогда как ряд важных установок сохраняет свою устойчивость. Но и сам процесс диффузии и процесс сопровождающего его смыслового диалога представляется фактором баланса и устойчивости культуры. Объяснения наличия и свойств такого фактора возможно в синергетической модели понимания исторического процесса. При анализе застойных явлений в развитии отечественной культуры и цивилизации последних советских десятилетий указывается, что препятствие инокультурным проникновениям (культурной диффузии) на долгие годы задержало перемены в специализированных сферах культуры - экономике, политике, праве, философии, науке, искусстве, религии. По сути дела, на этом уровне происходило упрощенное воспроизводство официально санкционированных классических образцов. Разрушению связей с мировой культурой того времени в сферах философии, науки, искусства сопутствовало возрастание ценности примитивных, предельно упрощенных схем. Эта оценка во многом верна. На первый взгляд она покажется противоречащей выстраиваемой в этом исследовании концепции типологии культурной идентичности. В основе данной оценки – выделение значения культурной диффузии как фактора, определяющего развитие. Но противоречия здесь нет. Логика культуры как системы смыслообразования действительно предполагает развитие, и механизмы его действительно связаны определенным образом с диффузией. Эта логика предполагает взаимодействие нескольких смыслообразующих тезисов (мотивов, тенденций) в их иерархическом взаимосогласовании при образовании целостного смыслового космоса культуры. Но само это взаимодействие не статично, а представляет собой балансирующий процесс и внутренний диалог - он проявляется в различно направленных усилиях разных форм культуротворческой деятельности - науки, философии, искусства, религии. Именно эта разнонаправленность не только создает пространство плодотворного диалога, но и создает совершенствующий опыт культуры контекст согласований между разными мотивами смыслополагания. Каждая из сфер призвана при этом: 1) восполнять интегрируемую целостность смыслового космоса, 2) быть согласованной с другими сферами в процессе такой интеграции, воспроизводящей устойчивые модели структуры особого смыслового целого. Логика же автономии и компенсаторной роли этих форм связана с постоянным выходом за пределы системы - в том числе с выходом к образцам иных цивилизаций – с заимствованием и диффузией. Изоляционистская политика препятствует этому процессу. Но главное, ему препятствует непризнание многогранности сфер культуротворческого смыслообразования тенденция замены интегрированного смыслового космоса культуры на монолог или «монолит» смыслополагающих тезисов – замены смыслообразующего дискурса на иерархически выстроенный текст, нарратив смысла. Именно это случилось с Россией в эпоху большевизма: от целых сфер творчества культуры, таких, как религия, предлагалось избавиться, наука и искусство были предельно политизированы и идеологизированы и, по сути, призваны играть роль «служанок» единственно верной философии, неизбежно превращающееся в этом обмелевшем пространстве диалога и смысловой интеграции в идеологию, имеющую немало черт сходства с мифом. Внешний изоляционизм играл при этом вторичную, но органично вытекающую из внутреннего монологизма, роль. Впрочем, искусственный характер такой трансформации не позволял ей осуществиться полностью. Диалогизм и интегративный характер культуры 124 сказывался в тех сферах, где контроль доминирующего нарратива был слаб - в фольклоре, в маргинальных сферах, куда практически была вытеснена религия, где в форме диссидентства продолжалась автономная социальная рефлексия, в искусстве, продолжавшим свой оригинальный творческий поиск вне официального магистрального пути, в научных изысканиях, основанных на связях с мировым опытом. Так что реально наблюдавшееся отклонение от правила только подтверждало это правило: культура - диалогичный, интегративный смысловой космос, динамичный в аспектах автономии его сфер, компенсации и взаимосогласования, но при этом относительно устойчивый в целостной модели такого согласования на основе координации смыслообразующих приоритетов. Альтернативы цивилизационной ориентации России в современном мире порой понимают в ограниченном спектре. Так Г.Рормозер и А.А.Френкин пишут: «Либо Россия вступит на путь европеизации и станет тем самым составной частью нового европейского порядка, какую бы политическую форму он ни принял, играя в нем конструктивную роль. Либо Россия повернется в сторону Азии, и будет искать свое будущее в союзе с Китаем, Индией и др. Или возобладают идеи русского шовинизма, и Россия поставит себя в изоляцию»171. На самом деле, сохранение российской цивилизации как культурной идентичности вовсе не означает изоляции – ни политической, ни культурной. Если вести речь действительно об особом культурном типе и не сводить проблему к ненаучной в своих основаниях, скорее метафорической оппозиции Запад – Восток, то расширение культурных контактов, как с исламским миром, так и с Европой, как с Южной, так и с Восточной Азией, возможно не в плане каких-либо альтернатив, а предстает естественной формой межкультурного диалога и межцивилизационной интеграции. Что же касается политических союзов, то этот аспект определяется, как и всегда, прагматическим решением ситуации и вовсе не должен означать возведения каких-либо культурных «занавесов» вдоль границ. Прагматический союз России с Западом, представляющийся многим исследователям наиболее вероятным и желательным для самого Запада, прежде всего для Европы. Еще более выгоден он России, ведь Россия в едином европейском пространстве невольно окажется его весомым центром. Но возможность такого союза вовсе не надо связывать с гомогенизацией культурного типа России и Европы. Именно то, что смысловая конструкция российской культуры иная, нежели западноевропейская, делает ее устойчивой цивилизационной общностью и без экстремального фактора изоляции способного воспроизводиться, развиваться и обогащаться на преемственной и самобытной основе. Справедливо указывается, что «Россия вернулась из своего вавилонского отчуждения и порабощения снова на арену истории в качестве собственно национальной и исторической величины. Силы, которые сделали возможным это возрождение России, это духовная сила осмысления своей собственной истории, обращение к старым традициям, идущим не только от времен до–царской России /…/ Новая российская идентичность исходит из верности отечеству, апеллирует к исторически более глубоким источникам»172. Эти источники не сводятся ни к политическим идеям, ни к экономической необходимости; они видятся в своеобразии цивилизации, понимающей свою смысловую уникальность как культурную миссию. Один из таких источников – привитая и прижившаяся в русской культурноцивилизационной среде государственность. Несмотря на присущий национальному характеру «анархизм», о котором много писал Н.А.Бердяев, государственная власть оказалась необходимым фактором, фокусирующим энергию служения, которой живет и организуется русская душа. По мнению Ю. Афанасьева, укрепление русской социальнополитической идентичности произошло в результате «русско-монгольского» синтеза, приведшего к сильной концентрации власти и собственности в руках одного правителя173. Будучи далеки от того, чтобы «освободить от татаро-монгольского ига самих себя», русские, Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. М., 1996 Биллингтон Д. Россия в поисках себя / пер. с анг. – М., 2006 173 Афанасьев Ю. Россия на рубеже тысячелетия. М., 2000. С. 10 171 172 125 считает Ю. Афанасьев, приняли монгольский принцип концентрации власти как свое собственное наследие. В результате «отношения не договорного, а силового характера на Руси вызвали к жизни властную пирамиду с господством и подчинением по вертикали»174. Этот основной принцип согласно данной концепции продолжает действовать и при номинально демократическом правлении Б.Н. Ельцина (а теперь В.В. Путина и Д.А. Медведева). Вместе с тем, рассматривая сценарии для 2015 г., Ю. Афанасьев предсказывает «сценарий потерянного времени», когда реальные реформы осуществляются слишком поздно, и «сценария Мегасербии», при котором Россия делает последний «имперский рывок», перед тем как распасться175. К этим негативным сценариям можно добавить позитивный – устойчивое существование культурно идентичной цивилизации, методично заимствующей прогрессивные формы, откуда бы они ни происходили, с Запада или с Востока. Он представляется и более вероятным. К тому же вряд ли история с ее случайными контекстами – лучший подсказчик. Лучший подсказчик – культурология: русское самодержавие, очевидно, производно от византийского, а не от монгольского, и осмысляется самой культурой именно как «Третий Рим», а отнюдь не как «второй Сарай». Будущее России как цивилизации определенного типа это вопрос взаимодействия 1) философии и образования, 2) идеологии и массовой коммуникации, 3) политической идеи и социально-экономических целей, 4) культуры, как наследия, обращение к которому открывает потенциал преемственности и традиции, 5) религиозно-нравственной традиции, которая – тоже не столько как результат сохранения, сколько как результат бережного воссоздания – воспроизводит ментальный склад сознания и ритуально обосновывает жизнь как воплощение этого склада, на основе которых возможно устойчивое развитие, эволюция без потери идентичности. За всеми этими пунктами – разный способ понимания проблемы и им соответствуют разные способы распространения достигаемых результатов такого понимания. Вопрос о культурной идентичности российской цивилизации и современного российского общества, находящегося в процессе реконструирования этой цивилизации, это вопрос теоретического осмысления, одним из вариантов которого как раз может служить понимание своеобразия культуры как особого смыслового типа. Но возможны и другие варианты. В любом случае результаты такого осмысления напрямую могут повлиять на общество через классическую систему образования – через классическую культуру книжной рефлексии, которая лежит в основе современной системы образования, но только если на этой почве завяжется узел взаимодействия всех других сфер производства информации в общетсве от религиозной традиции до массовой культуры. По крайней мере классическая книжная культура и все, что находится под ее непосредственным влиянием, сегодня наиболее близка для того, чтобы стать проводником восстановления смыслового образца типологической идентичности российской цивилизации. Оценивая этот путь решения вопроса, надо признать, что современная отечественная философия культуры (а так же социальная наука, этнопсихология и другие дисциплины), несмотря на пестроту взглядов, в целом тяготеют к адекватному решению вопроса об идентичности культуры – так или иначе обосновывая ее. Единственно, что, вероятно, степени фундаментальности таким обоснованиям порой не хватает и этот процесс еще далек от завершения. Распространение идей культурной идентичности через систему образования представляется сегодня наиболее успешной, хотя и не означает, что система образования всецело может строиться на этой идее. Контакты между религиозной традицией, восстанавливающей свои образовательные центры и служащей образцом для жизни и миропонимания многих людей, и философской, научной и образовательной системой осмысления социальной реальности в принципе перспективны, но пока, как кажется, не столь масштабны и даже затруднительны. При этом 174 175 Афанасьев Ю. Россия на рубеже тысячелетия. М., 2000. С. 12 Афанасьев Ю. Россия на рубеже тысячелетия. М., 2000. С. 39 126 определенная дистанция между этими сферами как раз и состоит в том, что одна из них восстанавливает традицию как предание – то есть в принципе как непосредственную передачу, которая основывается только на принятии и строгом воспроизведении, а вторая делает это на пути противоречивого переосмысления, дискурса, не всегда однозначного – на пути творческой реконструкции смыслового типа. До сих пор в контактах между носителями церковной традицией и научно-образовательным сообществом присутствует доля неконструктивного высокомерия – причем как с той, так и с другой стороны. Это высокомерие основано на аксиоме самодостаточности каждой их сфер культуры. Но так ли независимы они друг от друга? Могут ли они проинтерпретировать друг друга так, чтобы растворить без остатка смыслообразующий потенциал одной сферы в другой? Привычные схемы мышления подсказывают: да. Понимание же культуры как смыслового космоса подсказывает: нет. Нет, ведь речь идет о взаимодополнительных сторонах события осознания – рациональной и мистической. При их неравнозначности и даже неравноценности одно не может полноценно существовать без допущения логических выходов в другое. Все три прочих сферы формирования коммуникационного пространства культуры – массовая коммуникация, политика и освоение культурного наследия – в той или иной степени проблемны как носители мотива культурной преемственности: наследие рискует оказаться застывшим архивом, искусственно подсвечиваемым, но не вполне востребованным в условиях все более заслоняющих их форм массовой культуры. Масс-медиа, обладающие самым большим коммуникативным потенциалом в системе современной культуры и наиболее активно формирующим стиль мышления среднего человека, сфокусированы сегодня в основном на рыночно-рекламной и развлекательной функциях, их идеологическая и просветительская функция, характерные для систем вещания многих стран Запада и Востока фактически пока не задействована в полную силу. СМИ, по прежнему, как и в 90 гг., находятся под сильным влиянием западных образцов и источников информации: отечественные информационные агентства не обладают мировым статусом, каким обладал в свое время ТАСС, голливудовские и прочие западные фильмы господствуют в сфере привлекательных шоу – в том виртуальном мире, в котором живет юное поколение. Отечественное приложение в этой сфере – хамски глумливое «камеди клаб», «наша раша» и др., образцы которых тоже сняты с американских оригиналов, как и практически всё в аттрактивно-развлекательной сфере СМИ. Как указывается, даже политическая суггестия характерна для современных отечественных СМИ сегодня только в краткие периоды предвыборных кампаний. Долгосрочные социально-экономические цели практически никак в стране сегодня не заявлены и идеология на этой почве, которая могла бы в принципе возникнуть и содействовать укреплению и модернизации цивилизации устойчивого преемственного типа, практически никак в обществе не присутствует. Точнее она ограничивается ситуативным выделением проблем и реактивным способом появления идей и программ, имеющих значение для социального развития. Но главная причина продолжающегося кризиса культурной идентичности в стране, как представляется, не в том только, что ряд каналов информационной и, шире, социальной коммуникации, отключены от процессов воссоздания культурно-смыслового типа и развиваются в собственном спонтанном режиме. (Это особенно характерно для СМИ – наиболее молодого канала коммуникации, развивающегося столь бурно, что общество не может пока контролировать происходящие там процессы, и это развитие предоставлено своей собственной стихии, создавая при этом среду, очень активно влияющую на состояние сознания общества.) Причина в том, что эти каналы функционируют в значительной степени изолированно друг от друга: СМИ оторваны от образования и культурного наследия; политика оторвана от образования, науки и философии и даже ее связь со СМИ представляется фрагментарной; социальная идеология не востребована в должной мере ни политикой, ни СМИ, ни религиозной традицией; религиозная традиция пока оторвана от широкого социально-культурного контекста и похожа сегодня скорее на субкультуру, чем на 127 доминирующую силу культурного возрождения. Культурно наследие тоже оказывается в состоянии социальной изоляции – в условиях засилья массовой культуры. В результате и повседневная жизнь оказывается оторванной не только от источников идентичности, но и не включается в рефлексивный процесс культурно-смыслового космоса, становится ситуативно-поверхностной. Такая разобщенность сосуществующих линий социальной коммуникации – парадокс в жизни общества, претендующего считаться культурным сообществом. Но разгадка этого парадокса проста: все они, кроме религиозной традиции, подключены к иному интегрирующему источнику – информационной системе США и Запада в целом. Ниточка этой зависимости истончилась пока только в одной сфере – в гуманитарной науке, из которой был устранен, например, один из внешних аттракторов – соросовский институт «Открытое общество». Но в образовании в целом, скорее такая зависимость нарастает – особенно в свете буксующего, но напористого «болонского процесса». И как раз одно из проявлений такой ситуации – это заглушающее вторжение СМИ, которые к тому же, по ряду оценок, некоторое время были прямым оружием информационной войны против отечественной культуры как самоидентичной системы (1990-е годы). Как бы то ни было, большинство активных каналов коммуникации пока не несут собой культурно-идентичного содержания; это содержание сохраняется в относительно пассивной форме тех самых структур языка, менталитета, психологических стереотипов. Между тем, эта ситуация может быть исправлена, поскольку воссоединение культурно-смыслового целого жизни общества – настоятельная потребность его устойчивого развития. У журналистов, в силу специфики их образования, просто нет иного выхода, как петь с чьего-то голоса. Вопрос только в том, чей голос будет убедительней и сильней. Выход – в интеграции между факторами воспроизводства информации в обществе – во включении каждым из данных «каналов» элементов других. Образование должно стать «указателем» в сфере СМИ; СМИ – указателем в области культурного наследия, а не только гидом в сказочной стране потребления и развлечения; религиозная традиция должна стать указателем в сфере образования (по крайней мере, гуманитарного), а не жить как отдельная замкнутая от остального общества субсистема. Это может показаться утопией – слишком конфликтными кажутся сегодняшние позиции этих линий социальной коммуникации. Но, между тем, именно таковы тенденции, которые можно проследить уже и теперь. И для такого воссоединения культурно-смыслового целого жизни общества на основе идентичности и культурной преемственности есть предпосылки: социально-политическая жизнь в России сегодня в значительной степени централизована, что соответствует традициям политической культуры общества нашего культурно-смыслового типа. Формирование социальных идей и общенациональной идеологии – актуальная задача общественного дискурса. Осмысление своеобразия и факторов устойчивости культурной традиции - в рамках философских и социально-культурных теорий идет активно и рано или поздно скажется на содержании образования и воспитания, равно как и на содержании информации, транслируемой через СМИ, медленно, но в итоге неизбежно (при чем так во всем остальном мире) ставимых под контроль общества. Сохраненный потенциал не разрушенной культурно-смысловой идентичности вполне может перейти в активные формы воспроизведения и культурного творчества, что будет означать гармонизацию социльнокоммуникативной среды и процессов модернизационного развития на основе такой идентичности. Во всяком случае, у России как особой цивилизации и как культурноцивилизационной целостности другого пути нет. («Другой путь» - это вестернизация культуры; он кажется кому-то привлекательным, но его радужные надежды несбыточны – это своего рода способ слишком крутого поворота корабля – такого поворота, после которого на плаву останутся только его обломки. Кто-то хочет уцелеть на этих обломках? Да, это те, кто и ратует за вестернизационный проект.) При этом якобы существующее кардинальное противоречие между традиционным культурно-смысловым типом и тенденцией модернизационного развития России может быть 128 логически урегулировано – за счет особого баланса социального консерватизма и либерализма – на основе дополнении концепта свободы нравственной характеристикой служения интересам целого, а консерватизма не как тенденции сохранения канонических форм, а в более мягком варианте – как сохранения базового культурно-смыслового образца, являющегося основой идентичности. Тогда и в условиях либерализации Российское общество может пойти по пути, где новации и традиции смогут уравновешивать друг друга по пути инноваций на основе культурно-смысловой преемственности. Мысль о том, что коллективистский менталитет, организованный по образцу служения, а не обладания и власти и, с другой стороны, либерально-демократическая перспектива экономического развития совершенно противоречат друг другу, не состоятельна. Надо заметить, что и петровские реформы в России в сфере экономики не были сплошь этатистскими, частная инициатива поддерживалась и даже подкреплялась государственными заказами и т.п. Современная ситуация в экономической политике тоже напоминает данный подход: государство не стремится создать самодостаточную бюрократию, при всем ее усилении; оно старается создать одновременно ситуацию благоприятствования частной инициативе. Это, как представляется, наиболее верная для России модель, так как чисто либеральная экономика невозможно в России, как в виду описанных особенностей культурного типа, так и в виду объективной геоэкономической ситуации – климатически неблагоприятной и инфраструктурно не развитой территории, частное инвестирование на которой всегда будет относительно неэффективным. Во всяком случае, эта модель может оптимально гармонировать с культурно укорененной идеей приоритета служения обществу над частным интересом; при этом именно государство олицетворяет объект служения, в роли которого не может полноценно выступить ни общество как таковое, ни корпорация как объект заботы. Чистый же этатизм (в том виде, например, как его демонстрировала советская социалистическая система) не приемлем, поскольку приводит к переформулированию идеи служения только как внешней ответственности, редуцируя ее как культурный фактор свободного служения. В случае хотя бы немного ослабевшего государства – внешне цивилизационного института дисциплины – социальная ситуация тогда сразу сводится к идее пассивного потребления, что и наблюдалось, например, в последние годы советской власти. Исходя из контектса современных процессов социальной и культурной трансформации жизни в России логически можно анализировать следующие сценарии (модели) цивилизационного развития России в 21 веке: 1. медленная эволюция отечественного общества к западному культурному типу. - Механизмы: стимулирование роста недоверия населения к власти вплоть до инспирированных акций протеста по типу «оранжевых революций», рост влияния западных и прозападных медиа-средств, рост числа культурных и религиозных миссий, высмеивание национального менталитета и характера, критика характерных основ и устоев сообщества национального типа, политическое давление и подкуп политиков, распространение европейского правового порядка. - Благоприобретения: рост количества людей, идентифицирующих себя с индивидуалистическим типом активного субъекта западного типа, увеличение рациональнотехнологических мотивов в социальных отношениях, рост влияния прессы в политике, формирование манипулируемого общества с фасадом демократии, сохранение и даже рост благосостояния за счет заметного сокращения населения, постепенное включения интергированных территорий в европейское культурное сообщество, относительная демилитаризация. - Негативы: распад России на отдельные территории, часть которых входит в Европу и в НАТО, часть остается полуколониальными сырьевыми территориями, рост коррупции власти, главная миссия которой – обеспечить приоритеты экономических интересов Запада вопреки официальному курсу на рост отечественного производства, рост числа социально отвергнутых людей, массовая эмиграция интеллигенции и специалистов за рубеж, 129 нравственно-культурный надлом у значительной части населения в связи с непонятностью для отечественного менталитета ряда западных ценностных установок (трактовка индивидуализма как противопоставления частного интереса обществу (вплоть до антиобщественной настроенности), понимание свободы как вседозволенности (свободы ко злу), корректности как софистической ловкости, рост настроенности на криминальную деятельность у данной категории нравственно надломленных лиц, изживание и трансформация русского языка, резкий экономический спад после нефтегазовой эры (с середины 21 века), включение ряда территорий в сферу влияния восточноазиатский стран с полным исходом русскоязычного населения оттуда, включение Кавказа в сферу влияния исламского фундаментализма при оттоке оттуда работоспособного населения, культурный упадок дезинтегрированных территорий, возможно ведение геополитических войн на этих территориях. 2. Формирование (восстановление) оригинального культурно-цивилизационного типа. - Механизмы: формирование адекватного культурной идентичности единства в действии производящих информацию «каналов» общества, стратегическое балансирование между западным, китайским и исламским силовыми полюсами, затраты государственных активов на приобретение технологий и технологические разработки внутри страны, формирование технического потенциала отечественной экономики в основном за счет государственных инвестиций и частичной приватизации создаваемых государством основных фондов. - Благоприобретения: воссоединение культурно-смыслового целого жизни общества, восстановление религиозно-нравственной традиции, воспроизведение оригинального культурного творчества, сохранение ментального склада сознания и т.д. - Негативы: возможные признаки стагнации и изоляции, повышение значения идеологического фактора в противовес либеральному беспределу, отказ от некоторых завоеваний демократии. Логически возможны и совершенно негативные сценарии и прогнозы: Колонизация территории выходцами из Азии и превращение исконных этносов в национальные меньшинства; участие в прямом межцивилизационном конфликте, ведущее к существенной деградации экономики, уровня жизни и т.п. Внимательный анализ показывает, что приоритетен второй сценарий, обеспечивающий российскому обществу устойчивое развитии в рамках сложившегося веками культурного типа цивилизационной идентичности. При анализе конкретных тенденций, которыми характеризуются происходящие на наших глазах процессы, интересен синергетический подход к описанию современных процессов социальной и культурной трансформации жизни в России, предпринимаемый рядом авторов. Рассуждая в терминологии этого подхода, в XX веке Россия пережила две социальные бифуркации. Вторая из них – это исчезновение насильственно внедренного в отечественную культуру системообразующего элемента, в роли которого выступала марксистско-ленинская идеология, ввергло страну в состояние хаоса. Сегодня идет процесс синергийного поиска нового «ядра конденсации», вокруг которого национальная культура сможет обрести целостность и динамизм развития176. Дальнейшая траектория культурогенеза российской культурно-исторической конфигурации зависит от того, что станет для неё «системообразующим элементом». Согласно синергетической теории, система может реагировать на некоторые «аттракторы», или силы, вынуждающие систему развиваться вдоль определенных «траекторий» (называемых также «временными последовательностями»). Выбор аттрактора зависит от множества факторов. При этом из почти бесконечного количества путей развития система может выбрать лишь тот путь, который соответствует ее природе, уровню развития, 176 ЛаслоЭ. Век бифуркации постижение изменяющегося мира//Путь-1995 - № 1 130 сформированному в ходе предыдущего развития. Добавим, аттрактор в сфере социальнокультурной, в отличие от аттрактора в спонтанных процессах природы – это осознаваемая смысловая (смыслообразующая) модель. Этот базовый «аттрактор» и предстает как устоявшийся в культуре тип смыслообразования – способ устремления динамично складывающегося культурного текста к типическим образом понимаемому смыслу (соотношению смыслообразующих (ценностных и постигающих) величин). Сегодня Россия, по мнению исследователей, вырвавшись из поля влияния жестких авторитарных аттракторов модернизма вошла в поле притяжения аттракторов постмодерна: свободная информации вместо фильтров «железного занавеса»; общества «всеобщего потребления» вместо общества «всеобщей экономии»; жизни «здесь и сейчас» вместо жизни на благо «светлого будущего». Но в этой плюральной сфере ей надо найти аттрактор, соответствующий ее собственной идентичности. Характеризуя специфику русского постмодерна М. Эпштейн замечает, что здесь в основе не пресловутое «псевдо-», а предвосхищающее «прото-». Это эстетическая интуиция, не повисающая в неопределенности настоящего, а обращенная к животворящему и милующему, хотя еще и трансцендентному будущему. Это та интуиция, которую лучше выразить не как «пост-», означающее настоящее, как бы отпущенное прошлым (Х.), а, действительно, как «прото-» - как состояние, которое М. Эпштейн комментирует как «предбудущее». Это доминирующий переход к новому взгляду на мир, к новому типу мышления, отвергающему идеи конечности и в этом смысле иронизирующие над вторичностью. Это всегда и запрос к другому сознанию о спасительной встрече в лабиринте ненадежного мира: «Построю лабиринт, чтобы в нем затеряться, - декларирует русский постмодернизм, - с тем, кто захочет меня найти» (В. Пелевин), - и при этом, заметим, не ограничивается приглашением в лабиринт, а подразумевает искомую встречу, которая аннулирует эту фатальную потерянность. Россия не сегодня вступила в эту стадию «предбудущего», а такова ее ключевая осознающая, смыслообразующая интуиция – доминирующая интуиция взгляда в будущее как встречно-активное грядущее – мистическая по своей феноменологической роли интуиция Другого, в свете которого только и обретает смысл «мое» («наше») настоящее и оценивается прошлое, не способное выступать в качестве опыта как рационального основания проекта. Это не вынашивание будущего-проекта, а встречание будущего-чуда. «Прото-», по М. Эпштейну, - «ожидание чего-то без попыток его предсказывания, определения»177. Это мистическое темпоральное ожидание – ключевая характеристика сознания другодоминантного типа, определяющего типологическую идентичность русской культуры, и задает ее характерную открытость изменениям – при сохранении воспроизводимого, тем самым, смыслового типа. Советская система, модернистская по своей сути, созданная на основе модернистского по своему проективно-преобразовательному типу социально-экономического учения, оказалась не способной к существованию в условиях мира постмодерна. Но нет, главный фактор – несовместимость духовного напряжения модернизма, нацеленное на сотворение будущего, с духовным настроем культурного типа – встречей Грядущего, несоместимость, которую, понято, так и не удалось преодолеть. Все прочие названные мотивы – это только признаки деградации самого модернистского идеала. Далее на роль смыслообразующего центра были выдвинуты «общечеловеческие ценности». Несостоятельность данного идейного проекта очевидна. Автономность любой системы определяется прежде самобытностью, отдельностью, независимостью ее системообразующего элемента. «Общечеловеческие ценности», будучи универсальным нравственным императивом всего человечества, рассуждая чисто теоретически, могли бы служить фундаментом глобальной социально-культурной системы. Но только выделить их именно в качестве ценностно-смысловой системы чрезвычайно трудно, и если логически 177 Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М., 2004. с. 23 131 применить наш подход, практически невозможно: система предполагает иерархию ценностей, а культурно-преобразовательный проект человечества представляет собой совокупность вариантов таких иерархий; их ценностные ряды совместимы, но именно в качестве иерархий смысловых заданий и целей они конкурируют, противоречат друг другу. Попытка же использования общечеловеческих ценностей для кристаллизации вокруг них отдельной культурно-исторической конфигурации не могло привести ни к чему иному, как к растворению этой конфигурации, к утрате ее самобытности, неповторимости. Кризис как коммунистического, так и посткоммунистического мировоззрения создает на рубеже тысячелетий уникальную ситуацию возможного формирования новых стратегий национального развития, в том числе - духовной модели, интегрированной в эту стратегию. В этой связи особое значение приобретает глубокое изучение ценностных ориентаций и признаков идентичности всего комплекса явлений, объединяемых в категорию «национальное культурное наследие», исследование тенденций эволюции; их восприятия и интерпретации современниками и выбор форм модернизации, не входящих в непримиримое противоречие с национальной цивилизационной спецификой. В этой ситуации духовных исканий особое значение приобретает точное определение духовного ядра национального менталитета, того источника, из которого произрастает древо национального духа, национального самосознания и национальной культуры. Россия, как всякая локальная цивилизация формировалась синергетическим наложением векторов различных по своему происхождению факторов – этногенетического, инокультурных влияний. В последнем случае важнейшим обстоятельством определившим судьбу русского духа и динамику социально-культурного роста, является восприятие Русью христианства в его восточной (византийской) форме. Для России православие выступает своего рода «геномом», существенным образом определившим «фенотип» российской цивилизации. Это обстоятельство предельно точно сформулировал еще Ф. М. Достоевский «Понятие русский определяется не национальной принадлежностью, а принадлежностью к православию».. Именно здесь - в иерархии ценностей православного христианства – магистральное устремление русской культуры к смыслу – к смыслу особого рода, пролегающее через ее творчество, мышление, язык и тексты, направляющие мысль. В этой иерархии духовное, то есть мистически понимание основание добра, смысла и правоты – центр устремленности культуры к осмысленности жизни и мира; эстетическое – важно, но второстепенно; рациональное исключительно служебно, периферийно. Анализируя ситуацию современных процессов социальной и культурной трансформации жизни в России, некоторые авторы высказываются уверенность, что будущее будут, в конечном счете, определять духовно-культурные, пожалуй, даже нравственно-религиозные силы, которые сегодня предстоит поднять заново. Здесь явственно звучит понимание приоритета факторов восстановления культурно-смысловой идентичности цивилизации над значением ее технологического и социально-коммуникативного переоснащения. И в этом есть безусловный резон, поскольку устойчивое развитие системы как целостности зависит, прежде всего, от рефлексивно-смысловой структуры этой целостности как таковой, от понимания целостности как особой конфигурации смысловых связей – от понимания целостности как явления смысла, отбрасывающего свой отсвет на все элементы организуемой таким образом системы. Литература: 132 1. Авксентьев В.А. Межэтнические конфликты. Социально-философский анализ. Ставрополь, 1997 2. Акопов Г.В. Российское сознание: историко-психологические очерки. Самара, 1999. 3. Алексеев М.Ю.и Крылов К.А. Особенности национального поведения. М., 2001 4. Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г.Идеологические ориентиры России: В 2 т. М., 1998 5. Андреев А. Этническая революция и реконструкция постсоветского пространства. ОНС. 1996. N 1 6. Андреев И.Л. Еще раз об обустройстве России // Вестник Российской академии наук. 2001. Т. 71. № 1. 7. Антология русской философии в 3-х т. Т. 3, Санкт-Петербург: «Сенсор» 2000 8. Арутюнов С.А. Этногенез, его формы и закономерности// Этнополитический вестник. 1993. № 1., с.17-41 9. Афанасьев Ю. Россия на рубеже тысячелетия. М., 2000. 10. Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Новосибирск. 1997 11. Ахиезер А.С. Социокультурные механизмы циклов культуры. / Искусство в ситуации смены циклов: Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. М., 2002 12. Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001. М., 2003 13. Беляев Г.Г. и Торгашев Г.А. Духовные корни русского народа. М., 2002 14. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955 15. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. 16. Бердяев Н.А. Судьба России. М.: АСТ, 2005 17. Биллингтон Д. Россия в поисках себя. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006 18. Боас Ф. Эволюция или диффузия? / Антология исследований культуры. Т.1 Интерпретация культуры. СПб.: Университетская книга, 1997, 728 с., - с. 343-347. 19. Боков Х.Х., Алексеев С.В. Российская идея и национальная идеология народов России. М., 1996 20. В каком состоянии находится русская нация // Наш современник. 1993. № 3 21. Большаков В.И. Грани русской цивилизации. М., 1999 22. Бушуев В.В. Я-мы-они. Россиянство. М., 1997 23. Васильев Л.С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблемы) // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000 24. Вернадский Г.В. Начертания русской истории // Очерк русской философии истории. М., 1996 25. Волков Ю.Г. Манифест гуманизма / Идеология и гуманистическое будущее России. М., 2000. 133 26. Вырщиков А.Н. и Никонов К.М. Российская национальная идея. Некоторые суждения о государственности, демократии и культуре, свободе и человеческом достоинстве. — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. 27. Вьюнов Ю. Слово о русских. М., 2002 28. Гегель Г. В. Ф. Философия истории//Соч.: В 14 т. М.; Л., 1935. Т. 8. 29. Гегель Г. В. Ф. Философия права//Соч.: В 14 т. М.; Л., 1934. Т. 7. 30. Глазьев С., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001. М., 2003 31. Гофмин А.Б. Традиции. / Культурология ХХ век. СПб, 1996 т.1 32. Гудзенко А. Русский менталитет. М., 2001 33. Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995 34. Гумилев Л. Русь и великая степь. М. 1994 35. Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли. М., 1995 36. Гумилев Л.Н. От Руси к России. М.,1992 37. Гуревич П.С., Шульман О.И. Ментальность. Менталитет. / Культурология. ХХ в. Энциклопедия, СПб, 1998 т.2.с.24-26 38. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: Книга,1991 – 574 с. 39. Данилова Е.Е. Информационное развитие социальных систем. М.: РИП-холдинг, 2002 40. Денисова Г.С. Социальная субъектность этноса (концептуальный подход). Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского государственного педагогического университета, 1997 41. Дианова В.М. Культурология: Основные концепции. СПб., 2005 42. Дилигенский Г. Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. - 2000. - № 5. 43. Дилигенский Г.Г. Индивидуализм старый и новый. Личность в постсоветском социуме // Полис - 1999. - № 3. - С. 5 – 15 44. Домников С. Мать-земля и царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002 45. Ерасов Б.С. Концепция самобытности как методологическая предпосылка цивилизационной компаративистики./ Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия (сост. Б.С.Ерасов). М.: Аспект Пресс, 1998 , с.280-285 46. Ерасов Б.С. О статусе культурно-цивилизационных исследований // Цивилизации и культуры. Вып. 1. М., 1994. 47. Ерасов Б.С. Самобытность. / Культурология. ХХ век. Спб, 1996, т.1 С. 188 48. Ерыгин А. Н. Восток — Запад — Россия (Становление цивилизационного подхода в исторических исследованиях). Ростов н/Д: Изд-во Рост, ун-та, 1993 49. Есаулов И.А. Категория соборности в Русской литературе. Петрозаводск, 1995. 50. Жданов Ю.А. Избранное. Т. 2. Ростов-на-Дону, 2001 51. Жизненные силы русской культуры: пути возрождения в России начала 21 века.. М.: Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2003 52. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии. Спб., 1994. 134 53. Замошкин Ю.А. За новый подход к проблеме индивидуализма. / О человеческом в человеке (ред. И.Т.Фролов) М.: Политиздат, 1991, с. 168-194 54. Зимин А. И. Европоцентризм и русское культурно-историческое самосознание. М., 2000 55. Зиновьев А.А. Глобальный человейник. М., 2006 56. Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. 57. Ильин И.А. О России. М., 1991 58. Ильин И.А. Соч. в 2-х т. Т.2. Религиозная философия. М., 1994 59. История культуры России. М., 1993. 60. Кантор К.М. Дезинтеграционно-интеграционная спираль всемирной истории / Вопросы философии. 1997 №3 61. Касьянова К. Русский национальный характер. М.,1992. 62. Качанов Ю.Л., Шматко Н.А. Как возможна социальная группа? социологии)//Социс. 1996. № 12 (к проблеме реальности в 63. Кистяковский Б.А. Сущность государственной власти. Ярославль, 1999. С. 39 64. Кожинов В. О русском национальном сознании. М., 2002 65. Козлов В. История трагедии великого народа. Русский вопрос. М.., 1986 66. Кондаков И.В. Культура России Часть 1 Русская культура краткий очерк истории теории – М.: Книжный дом «Университет», 2000 67. Кондаков И.В. Культурология: История культуры России. М., 2003 68. Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи. М.,1972 69. Коплстон Ф. Философия в России. От Герцена до Ленина и Бердяева. М., 1993 70. Коротец И.Д. Россия в ожидании. Грозный, 1993. 71. Кульпин Э. Россия в евразийском пространстве // Вестник Евразии. 1996. № 1. С. 145 72. Культурология ХХ в. Энциклопедия. СПб, 1996 т.1-2 73. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2000 74. Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Русские идеи // Политические исследования. 1997. № 2. С. 118140 75. Кучуков М.М. Национальное самосознание. Вопросы теории и истории. Автореф. на соиск. степени докт.филос.наук. Ростов-на-Дону, 1994 76. Лайдинен Н. В. Образ России в зеркале российского общественного мнения // Социс.-2001.№4.-С. 27-31 77. Ланкин В.Г. Типы понимания в культуре и логика их эволюции. Новосибирск. 2000. 78. Ланкин В.Г. Горизонты смысла в культуре. Бийск, БПГУ, 2001 79. Ланкин В.Г. Феноменологические грани понимания и границы исторического сознания //История Отечества: проблемы личности. - Бийск, 1995. 80. Ланкин В.Г. Явление смысла. Эстезис и Логос. Томск, Изд-во ТГПУ, 2003 81. Лапкин В. В., Пантин В. И. Русский порядок // Полис. - 1997. - № 3. - С. 74 - 88. 135 82. Ласло Э. Век бифуркации постижение изменяющегося мира//Путь-1995 - № 1 83. Лебедева Т. П. Либеральная демократия как ориентир посттоталитарных преобразований // Полис. - 2004. - № 2. - С. 76 - 84. 84. Леонтьев К. Византизм и Славянство. Избранное. М.: «Рарог», 1993 85. Листвина Е.В. Современная социокультурная ситуация: сущность и тенденции развития. Саратов, 2001 86. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1975 87. Лихачев. Д.С. История русской литературы. 10- 17 вв. М., 1978 88. Лосский Н.О. Характер русского народа. Кн. 1-2. М.,1990 89. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.,1994 90. Майор Ф. Культура и новые свободы./ Курьер ЮНЕСКО. 1993, Май. 91. Макдональд Д. Масскульт и мидкульт // Российский ежегодник-90. М., 1990. Вып. 2. 92. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры. М., 2003 93. Маклюэн М.. Понимание Media. М., 2006 94. Малинецкий С.Я.Синергетика - теория самоорганизации Идеи методы, -М.. Знание, 1983 95. Маркарян Э.С. О концепции локальных цивилизаций. Ереван, 1962 96. Марков А.П. Отечественная культура как предмет культурологии - СПб СПбГУП, 1996 97. Матвеева С.Я. Противоречия в культуре//Социалистическая культура и субъект творческой деятельности. М.,1989 98. Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии. 1997. № 12. 99. Межуев В.М. Позиция 4.4. Российская цивилизация. / Теоретическая культурология. М., Екатеринбург, 2005 с. 203-204 100. Меняева М. П. Культурная идентичность современной России . / Культура – искусство – образование: новое в методологии, теории и практике. Челябинск., 2005 101. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры В З т. Т 2, ч 1 -М 1994 102. Михайлова Л. Я. Социология культуры. Учебное пособие М ФАИР-ПРЕСС 1999 103. Модернизация в России и конфликт ценностей (Ред. С.Я.Матвеева). - М., 1993 Моисеев Н. Кто мы в современном мир». М., 2000 104. Момджян К.С. Социум. Общество. История. М., 1994 105. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры 9-17 вв. М., 1984 106. Мясникова Л Российский менталитет и управление / Вопросы экономики 2000 №8 107. Нестеренко А. Переходный период закончился. Что дальше? // Вопросы экономики. -2000. № 6. -С. 4-17. 108. Мыльников А.С. О менталитете русской культуры: моноцентризм или полицентризм // Гуманитарий: Ежегодник. Спб., 1996. № 1 109. Николаев В. Г. Идентичность./ Культурология ХХ в. Энциклопедия. СПб., 1998 т.1 110. Николаев В.Г. Национального характера концепции. / Культурология ХХ век. Энциклопедия , СПб., 1998, т.2, 136 111. Новикова Л.И. Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса // Цивилизации. Вып. 1. М., 1992 112. Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. – М., 2000. – 400 с. 113. Олейников Ю. В. Природный фактор исторического бытия России// Свободная мыста 1990 114. Острецов В. Русская идея как факт фальсификации // Русский вестник. 1992. С. 41-44 115. Островский Н. Святые рабы. О русских и России. М., 2001 116. Очерки русской культуры 18 века. ч. 1-4. М., 1985-1990 117. Панарин А.С. Народ без элиты М.: Алгоритм, Эксмо, 2006 118. Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). - М.: ИФ РАН, 1994 119. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ.М.,1994. 120. Парусникова Ю. Молодежь России на рубеже XXI века // Диалог. - 2000. - № 7. -С. 12-15. 121. Паршев А.. Почему Россия не Америка? М., 1997 122. Покровский Н. Е. Российское общество в контексте американизации (Принципиальная схема) // Социс. - 2000. - № 6. - С. 3 - 9. 123. Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Идеология современной России (эссе). Ростов-наДону: Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 2002 – 112 с. 124. Почепцов Г. История Руссой семиотики. М., 1998 125. Прохоров А.П. Русская модель управления. М., 2002 126. Пугачев Б. М. Судьба либерализма и демократии в России // Вестник Моск. ун-та;сер, 18. Социология и политология. - 1995. - № 2. 127. Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992 128. Рашковский Е.Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX-XX века. М., 1990 129. Розов Н.С. Национальная идея как императив разума // Вопросы философии. 1997. № 10. С. 13-28. 130. Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. — М., 1996 131. Россия в центро-периферическом мироустройстве / Под. ред. Д. Глинского. М., 2003 132. Россия глазами русского. Чаадаев. Леонтьев. Соловьев. Спб. 1991 133. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М.,1993. 134. Русская идея. Сост. и вст. статья М.А. Маслина. М.,1992. 135. Русская идея. (ред.-сост М.А.Маслин). М., 1992 136. Русская идея. М.,1992. 137. Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского зарубежья. В 2-х т. М.,1994. 138. Русская цивилизация и соборность. Сост. А.Троцкий. М.,1994. 139. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.,1987. 137 140. Рывкина Р. В. Образ жизни населения России: социальные последствия реформ 90-х годов // Социс. - 2001. - № 4. - С. 32 - 39. 141. Синергетика и политика// Вопросы философии - 1993 - № 6 - С 58 I Век бифуркации" постижение изменяющегося мира // Путь -1995 -№ 1 142. Скрыпник В. Российская национальная идея целостного гармоничного общества. М., 1997. С. 22 143. Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. Минск: Харвест, 1999 144. Соловьев В.С. Русская идея. // Соловьев В.С. Россия и вселенская церковь. Минск: Харвест, 1999 с.161-206 145. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Из-во полит. лит.,1991 146. Солодский Б.С. Русская идея: концепция спасения или провокация конфликта // Русская цивилизация: соборность / Под ред. Е.Троицкого. М., 1994. С. 70-77 147. Сорокин П. Социокультурная динамика. В кн. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992, стр.425-504. 148. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 149. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. (ред.-сост. Ерасов). М., 1996 150. Степун Ф. Идея России и формы ее раскрытия. Новый град. — 1934. — № 8. — С. 25-26. 151. Струве Н.Православие и культура. М.,1992. 152. Тойнби А. Постижение истории. М.: Республика, 1993 153. Троицкий Е. Русская этнополитология: в 3 т. М., 2001 – 2003 154. Тростников В. Православная Цивилизация. Исторические корни и отличительные черты. М.: Издательский дом Н.Михалкова, - 2004 155. Трубецкой Е. Два мира в древнерусской иконописи. // Философия русского религиозного искусства 16-20 вв. М.: «Прогресс» «Культура» , 1993 С. 220-246 156. Трубецкой Е. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. // Философия русского религиозного искусства 16-20 вв. М.: «Прогресс» «Культура» , 1993 С. 195-219 157. Тульчинский Г.Л. Драйв трансцендентного. Российский духовный опыт: апофатика как потенциирование бытия. // Человеческий потенцил России. Ред. Ашмарин. М., СПб, 2005 158. Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004 159. Уваров С. С., Лазарева А Н Интеллигенция и религия К историческому осмыслению проблематики «Вех». -М ИФРАН, 1996 160. Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. // Языки как образ мира. М. Изд-во АСТ, ППб.: Terra Fantastica, 2003- с. 157-201 161. Федоров Г.П. Судьба и грехи России.Т.2.СПб.,1992. 162. Федосеев Ю.Г. Русские среди других. М., 2002 163. Федотов Г. И есть и будет. Размышления о России и революции. Изд. "Новый град". — 1932. 138 164. Федотова Н. Н. Возможна ли мировая культура? // Философские науки. - 2000. - № 4.-С. 58-68. 165. Фейблман Дж. Типы культуры. /Антология исследований культуры. Т.1 Интерпретация культуры. СПб.: Университетская книга, 1997, 728 с.- с.203-224 166. Флиер А. Цивилизация и субцивилизация России.//Общественные науки и современность. № 6, 1993. 167. Флоренский П. Христианство и культура. – М., 2001. 168. Фомин С. О русской национальной идее // Москва. 2000. № 1. С. 215-224 169. Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. 170. Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Филос. науки. 1990. № 5. 171. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990 172. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. М., 1995. 173. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Изд-во АСТ, 2003 – 603 с. 174. Хатами М. Ислам, диалог культур и гражданское общество. М., 2001. 175. Хенд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Д. Глобальные трансформации: политика, экономика и культура. М., 2004 176. Хёсле В. Кризис индивидуальной философии.— 1994.— №10.— с. 112—123 и коллективной 177. Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988 178. Хомяков А.С. Сочинения в 2-х томах. М., 1994. Т. 2. идентичности. / Вопросы 179. Худушина И.Ф. Царь. Бог. Россия. Самосознание русского дворянства (конец XVIII первая треть XIX вв.). – Москва, 1995 180. Чаадаев П. Я. Философические письма; Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Соч., М., 1989. 181. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1, Т.2, М.,1992. 182. Экономцев Иоанн. Православие. Византия. Россия. М.,1992. 183. Энгельман П. Являются ли претензии на универсальность источником тоталитаризма? / Судьбы гегельянства: философия, религия и политика прощаются с модерном. М., 2000 184. Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. М. ,2004. 185. Эпштейн М. Посмодерн в России. Литература и теория. И. ,2000 186. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991 Benoist A. de. Europe, Tiere monde, meme combat. P., 1986 187. Benoist A. de. Europe, Tiere monde, meme combat. P., 1986 188. Conference mondiale sur les politiques culturelles: Problemes et perspectives. Mexico, 1983. 189. Coulborn R. Structure and Process in the Rise and Fall of Civilized Societies. // Comparative Studies in Society and History. 1966 V. VII, №4 190. Eisenstadt S. Modernisation: Protest and Change. N.Y. 1966 191. Ellul J. Trahison de l'Occident. P.91 139 192. Helleman W. The Russian Idea: In Search of a New Identity, 2003 193. Huntington S. The Clash of Civilization and Remaking the World Order. N.Y., 1996 P. 78 194. Political Culture and National Identity in Russian – Ukrainian Relations. College Station, Texas, 2002 195. Roberts T. The Triumph of West. L., 1990. 196. Shaygen D. The Challenges of Today and Cultural Identity. // East Asian Cultural Studies/ Tokyo, 1977. V. VI. №4. P. 31-44 197. Strategies of Remembrance: The Rhetorikal Dimensions of National Identity Construction. Columbus, South Carolina, 2002 198. Theorien des sozialen Wandels/Hrsg. von Zapf W. Konigstein,1979. S.382 140